Николай Иванович Павленко, Ольга Юрьевна Дроздова, Ирина Николаевна Колкина Соратники Петра
Памяти академика Алексея Павловича Окладникова
Введение
В истории дореволюционной России едва ли сыщется время, равное по своему значению преобразованиям первой четверти XVIII века. За многовековую историю существования Российского государства было проведено немало реформ. Особенность преобразований первой четверти XVIII века состоит в том, что они носили всеобъемлющий характер. Их воздействие испытали на себе и социальная структура, и экономика, и государственное устройство, и вооруженные силы, и внешняя политика, и культура, и быт.
Общеизвестно, что степень проникновения новшеств в толщу старомосковского уклада жизни была различной. В одних случаях, как, например, в быту, преобразования коснулись узкого слоя общества, оказав влияние прежде всего на его «верхи». Многие поколения крестьян и после реформы не расставались ни с бородой, ни с сермяжным зипуном, а башмаки окончательно вытеснили лапти только в советское время. Но в области строительства вооруженных сил, структуры государственного аппарата, внешней политики, промышленного развития, архитектуры, живописи, распространения научных знаний, градостроительства новшества были столь глубокими и устойчивыми, что позволили иным историкам и публицистам середины XIX столетия возвести петровские преобразования в ранг «революции», а самого Петра считать первым в России «революционером», причем не ординарным, а «революционером» на троне.
Разительные перемены, бросавшиеся в глаза всякому, кто соприкасался с временем Петра Великого, дали основание дворянским историкам разделить историю нашей страны на два периода. Они называли их то Русью допетровской и Россией послепетровской, то Русью царской и Россией императорской, то, наконец, Русью московской и Россией петербургской.
Но преобразования не являлись революционными прежде всего потому, что они не сопровождались ломкой существовавших общественных отношений: экономическое и политическое господство помещиков, крепостнический строй не только не исчезли, но и еще более укрепились. В стране продолжали функционировать феодальные общественные отношения со всеми институтами, присущими этой формации как в области базисных, так и в области надстроечных явлений.
И тем не менее можно отметить три важнейших следствия преобразований, обеспечивших нашей стране новое качественное состояние: во-первых, значительно сократилось отставание экономической и культурной жизни передовых стран Европы; во-вторых, Россия превратилась в могущественную державу с современной сухопутной армией и могучим Балтийским флотом; возросшая военная мощь позволила России в ходе Северной войны сокрушить шведскую армию и флот и утвердиться на берегах Балтики; в-третьих, Россия вошла в число великих держав, и отныне ни один вопрос межгосударственных отношений в Европе не мог решаться без ее участия.
Дворянская и буржуазная историография связывала успехи, достигнутые Россией в годы преобразований, с кипучей деятельностью Петра. Панегиристы еще при жизни царя в печатном слове и с амвонов не уставали твердить, что всеми переменами и новшествами Россия обязана Петру.
П. П. Шафиров, автор сочинения «Рассуждение о причинах Свейской войны», которое увидело свет в 1717 году и в редактировании которого участвовал сам Петр, затруднялся найти в мировой истории монарха, равного по талантам русскому царю: «…не токмо в нынешних, но и в древних веках трудно сыскать такова монарха, в котором бы толикие добродетели и премудрости искусства в толиком множестве обретались, яко в пресветлейшем государе родителе нашем».[1]
Шафирову вторил Феофан Прокопович. «Много ли же таковых государей во историах обрящем? – задавал он слушателям риторический вопрос и отвечал: – А Петр наш есть и будет в последние веки таковая то историа, а чудная во истину, и веру превосходящая».[2]
В таком же духе высказывался представитель иной социальной среды, купеческой, – И. Т. Посошков. Он заявлял, что «нет у великого государя прямых радетелей». Ему же принадлежит известное высказывание об одиноких усилиях царя, которому противодействовали «миллионы»: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного, он на гору аще и самдесят тянет, а под гору миллионы тянут, то како дело его споро будет».[3]
Колоссальную роль Петра в преобразованиях, его исключительную настойчивость в достижении поставленных целей отрицать не приходится. Его яркие и разносторонние дарования, темперамент и воля видны повсеместно. Но вместе с тем очевидно, что победа под Полтавой ковалась и в Туле, и на Урале, что роковое поражение шведам на поле брани нанесли рязанские, калужские, нижегородские, вологодские крестьяне, одетые в солдатские мундиры, а также жители Москвы, Ярославля, Твери и других губерний и городов страны. Это их подвиг славила солдатская песня:
Распахана шведская пашня, Распахана солдатской белой грудью. Посеяна новая пашня Солдатскими головами; Поливана новая пашня Горячей солдатской кровью.[4]
Нет нужды также доказывать ошибочность тезиса Посошкова об одиночестве Петра, с удесятеренной энергией тянувшего воз преобразований в гору, в то время как «миллионы» тянули его под гору. В действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, дипломатическом, административном и культурном поприщах.
Как и всякая знаменательная эпоха, время преобразований выдвинуло немало выдающихся деятелей, каждый из которых внес свой вклад в укрепление могущества России. Называя их имена, следует помнить о двух обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и социальной среды.
Среди сподвижников Петра Великого помимо русских можно встретить голландцев, литовцев, сербов, греков, шотландцев. В «команде» царя находились представители древнейших аристократических фамилий и рядовые дворяне, а также выходцы из «низов» общества: посадские и бывшие крепостные. Царь долгое время при отборе помощников руководствовался рационалистическими критериями, нередко игнорируя социальную или национальную принадлежность лица, которого он приближал к себе и которому давал ответственные поручения. Основаниями для продвижения по службе и успехов в карьере являлись не «порода», не происхождение, а знания, навыки и способности чиновника или офицера.
Сказанное не исключает, что Петр на протяжении всего царствования испытывал острый недостаток в людях, располагающих к доверию и способных претворить в жизнь то, что многократно повторяли тщательно разрабатываемые им указы, регламенты и наставления. На этот счет имеется прямое свидетельство царя. В августе 1712 года он писал Екатерине: «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я левшою не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо, а помочников сколько, сама знаешь».[5]
В первых изданиях книга, предлагаемая вниманию читателей, называлась «Птенцы гнезда Петрова». Автор попытался показать события той эпохи сквозь призму жизни и деятельности ряда сподвижников Петра: Александра Даниловича Меншикова, Бориса Петровича Шереметева, Петра Андреевича Толстого, Алексея Васильевича Макарова и Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. Каждого из них природа одарила неодинаковыми способностями, разными были и сферы их приложения. Но при всех различиях меры таланта и знаний у них были и общие черты. Все они тянули лямку в одной упряжке, подчинялись одной суровой воле и поэтому должны были сдерживать свой темперамент, а порой и грубый, необузданный нрав. В портретных зарисовках каждого из них можно обнаружить черты характера, свойственные человеку переходной эпохи, когда влияние просвещения еще не сказывалось в полной мере. Именно поэтому в одном человеке спокойно уживались грубость и изысканная любезность, обаяние и надменность, под внешним лоском скрывались варварство и жестокость. Другая общая черта – среди видных сподвижников царя не было лиц с убогим интеллектом, лишенных природного ума. Наконец, бросается в глаза общность их судеб: карьера почти всех героев книги трагически оборвалась.
Заголовок той книги был заимствован у Пушкина. Вспомним строки из его знаменитой «Полтавы»:
И он промчался пред полками, Могущ и радостен, как бой. Он поле пожирал очами. За ним вослед неслись толпой Сии птенцы гнезда Петрова — В пременах жребия земного, В трудах державства и войны Его товарищи, сыны: И Шереметев благородный, И Брюс, и Боур, и Репнин, И, счастья баловень безродный, Полудержавный властелин.[6]Как видим, в «птенцы гнезда Петрова» Пушкин зачислил Меншикова, Шереметева, Брюса, Боура и Репнина. Что касается Боура и Репнина, то Пушкин, видимо, имел в виду их роль в Полтавской битве.
Александру Даниловичу Меншикову автор посвятил отдельную книгу, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей»,[7] и потому очерк о нем исключен из настоящего издания. В новом же издании книги прослежен жизненный путь четырех сподвижников Петра от рождения до смерти. Биографии Толстого присуща захватывающая интрига, у Шереметева, Макарова и Рагузинского напряженность жизненной канвы скрыта от постороннего взгляда и она менее динамична. Но независимо от того, в какой мере жизнь героев насыщена драматическими событиями, читатель, как надеется автор, обнаружит в книге немало нового. Новизна эта обусловлена широким привлечением неопубликованных источников. Впрочем, степень их использования в книге неодинакова.
Богаче всего опубликованными источниками (если не считать биографии А. Д. Меншикова) обеспечена биография Б. П. Шереметева. Что касается биографий П. А. Толстого, А. В. Макарова и С. Л. Рагузинского, то они написаны преимущественно на основе архивных материалов, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов, в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота, в архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории, Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и в Архиве внешней политики России. Среди архивных фондов РГАДА самым важным является фонд «Кабинет Петра I», в нем отложились письма многочисленных корреспондентов царю и кабинет-секретарю Макарову, в том числе многословные послания Рагузинского. В этом же архиве, в фонде «Сношения России с Турцией», отражена дипломатическая деятельность Петра Андреевича Толстого, а Саввы Лукича – в фонде «Сношения России с Китаем», хранящемся в Архиве внешней политики России.
Особый вид документов представляют дела следственных комиссий. Макаровым занимались три комиссии, Толстым – одна. Следственные материалы содержат массу колоритных подробностей бытового плана, а также выпукло характеризуют личные качества как следователей, так и подследственных. Особую ценность этим документам придает то обстоятельство, что подследственные оказались в экстремальных условиях, раскрывших и слабые, и сильные стороны личности.
Однако характер сохранившихся источников не всегда позволяет написать полнокровную биографию. Первостепенное значение в данном случае могли бы иметь эпистолярное наследие героев в их, так сказать, частном аспекте, а также мемуарная литература – свидетельство о них современников. К сожалению, львиную долю документов, находившихся в распоряжении автора, составляли служебная переписка и делопроизводственный материал. Хотя оба вида источников незаменимы для раскрытия существа деятельности героев, но в них приходилось выискивать крупицы сведений, характеризующих их личность, объясняющих побудительные мотивы поступков и действий.
Литература о жизни и деятельности Б. П. Шереметева, П. А. Толстого, А. В. Макарова и С. Л. Рагузинского скромна. Б. П. Шереметев удостоился двух книг. Одна из них написана так давно, что безнадежно устарела – автор повествует о жизни и деятельности своего героя в апологетическом ключе, характерном для сочинений этого жанра начала XIX века. Множества похвальных слов заслуживает блестящая монография А. И. Заозерского «Фельдмаршал Б. П. Шереметев».[8] Работу над ней он завершил в конце 30-х годов XX века, но опубликована она была только спустя полстолетия, в 1989 году. Автор помимо имевшихся в его распоряжении ко времени написания монографии печатных источников использовал также неопубликованные материалы. В итоге читатель получил мастерски выписанный портрет видного полководца времен Северной войны, а также крупного вотчинника. Портрет Б. П. Шереметева интересен еще с другой стороны – в нем ярче, чем у прочих соратников Петра Великого, сочетались черты характера представителя боярского рода, уходящего в XVII век, с воздействием новых веяний, связанных с преобразованиями.
Биография А. В. Макарова еще не написана, а о жизненном пути П. А. Толстого имеется несколько публикаций документов, а также статей, среди которых наибольшей основательностью отличается работа Н. П. Павлова-Сильванского.[9] Внимание исследователей привлекали дипломатическая деятельность Толстого в Османской империи и его участие в деле царевича Алексея. Первый сюжет освещен в монографии С. Ф. Орешковой и в ряде статей Т. К. Крыловой, а второй – в «Истории царствования императора Петра Великого» Н. Г. Устрялова.[10] Служба А. В. Макарова в Кабинете Петра в известной мере изучена в коллективной монографии, посвященной истории Кабинета Его Императорского Величества за 200 лет его существования.[11]
Особое место в отечественной истории занимает С. Л. Владиславич-Рагузинский. Серб по национальности, он стал известен Петру I и его соратникам тем, что, проживая в Османской империи, создал разведывательную сеть, снабжавшую правительство России ценной информацией о состоянии Османской империи, замыслах и планах султанского правительства относительно России. Большую часть сознательной жизни Савва Лукич провел в России, занимаясь торговлей внутри страны и за ее пределами. Его имя связано с крупнейшей внешнеполитической акцией России – он возглавил русское посольство, заключившее в 1727 году Кяхтинский договор с Китаем.
В Сербии Рагузинского чтут как деятеля культуры, горячего сторонника сближения ее с Россией и борца за освобождение славянских народов от османского ига. На его родине источников не сохранилось и единственное из известных нам сочинений, посвященных ему, написано на базе фольклорных материалов. В России, где сосредоточены основные источники о жизни и деятельности Рагузинского, до него, как говорится, не дошла очередь.[12]
Не автору судить, как выполнены его намерения, но он стремился изобразить своих героев живыми людьми – без нимбов, с присущими им добродетелями и пороками. Встречающаяся в тексте разговорная речь не выдумана автором, а заимствована из источников.
В настоящее издание книги включены еще два очерка – биография Ф. Я. Лефорта, написанная О. Ю. Дроздовой, и биография Я. В. Брюса, написанная И. Н. Колкиной. Героев этих очерков роднит одно – оба они были иностранцами, в остальном же Лефорт и Брюс совсем не похожи друг на друга. Первый подвизался в молодые годы царя, когда тот совершал лишь первые шаги по пути преобразований; второй – в годы расцвета реформаторской деятельности Петра. Влияние первого ограничивалось сферой воспитания царя, приобщения его к европейским манерам и европейскому обхождению; второй внес неоценимый вклад в проведение реформ. Первого можно назвать другом царя; второго – лишь слугой, но слугой ревностным, честным и добросовестным.
Оба очерка включены в книгу отнюдь не случайно. В их основе лежат дипломные работы, выполненные авторами под моим руководством и успешно защищенные в Педагогическом государственном университете в 1992 году. По содержанию и литературному оформлению обе работы представляют научный и познавательный интерес, что и дало основание включить их в настоящий сборник.
В заключение считаю своей приятной обязанностью выразить искреннюю признательность товарищам, оказавшим мне помощь при работе в архивах: Н. М. Пегову, Л. А. Ястребцовой, М. И. Автократовой, Н. М. Васильевой, Н. С. Агафонову, В. И. Мазаеву, И. Н. Соловьеву. Благодарю за советы и ценные замечания Л. А. Никифорова, Е. П. Подъяпольскую и В. А. Артамонова.
Н. И. Павленко
Франц Лефорт
Предисловие
Фигура Лефорта всегда вызывала к себе неоднозначное отношение. Многие современники, а впоследствии и историки считали его не более чем авантюристом и фаворитом Петра, не заслужившим ни почестей, ни особенного к себе внимания. Высказывалось и прямо противоположное мнение: Лефорт – личность выдающаяся; соратник и советник Петра, именно он побудил его начать великие преобразования.
Чем же, собственно, Лефорт заслужил себе место в истории нашей страны? Он не одержал ни одной победы как полководец, хотя был генералом и участвовал в походах; он никогда в действительности не командовал флотом, хотя был первым в истории страны адмиралом; он не заключал важных соглашений, хотя был Великим послом. Его жизнь закончилась еще до того, как Петр начал свои реформы. Лефорт участвовал только в самых первых начинаниях молодого Петра. Его имя устойчиво ассоциируется с веселыми пирами и праздниками в Немецкой слободе, любовными похождениями царя. Оно навсегда закрепилось в названии большого района Москвы – москвичи гуляют по Лефортовскому парку, проезжают по Лефортовской набережной и Лефортовскому мосту, заходят на Лефортовский рынок… Есть еще Лефортовский переулок и вал, а также небезызвестная Лефортовская тюрьма, хотя последнего названия знаменитый швейцарец, видит Бог, не заслужил.
При монархе всегда бывают фавориты, так или иначе влияющие на него. Но чем выделяется Лефорт среди них? Что он представлял из себя? Имел ли он в действительности такое влияние на Петра, что ему в заслугу можно поста вить «европеизацию России, начавшуюся с европеизации Петра»? Конечно, Лефорт был дилетантом почти во всем. Но, как справедливо писал С. М. Соловьев, «иностранец, могший выучить Петра геометрии, могший показать ему употребление астролябии и ограничившийся этим, не мог иметь влияния на знаменитого ученика». Такое влияние и доверие мог иметь только близкий друг, которым Лефорт смог стать для царя несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте.
И именно Соловьев лучше всего, на наш взгляд, сформулировал то, чем в нашей истории явился Лефорт: «Очевидно, что Петр как преобразователь в известном направлении, окончательно определился в тот период времени, к которому, бесспорно, относится близкая связь с Лефортом, то есть от 1690 года до возвращения из-за границы; в это время он ушел из Москвы в Немецкую слободу, из Немецкой слободы в Западную Европу».[13]
Путешествие из Женевы в Москву
Франц (или, правильнее, Франсуа) Лефорт прожил 43 года. Он родился в Женеве 2 января 1656 года и был седьмым, младшим сыном в богатой и уважаемой в городе семье. Лефорты были выходцами из Пьемонта и жили в Женеве с середины XVI века. Уже через сто лет семья занимала довольно видное место в политической жизни республики. По традиции, старший из рода Лефортов получал должность в Женевском совете. Другим мужчинам этой семьи предстояла карьера торговцев, банкиров, богословов или ученых.
Мы не знаем, как проходило детство Франсуа. Известно, что он, как будущий гражданин «протестантского Рима», учился в Коллегиуме, основанном Кальвином. Окончив Коллегиум, Лефорт получил не только добротное среднее образование, но и твердо укрепился в кальвинизме. Твердость веры Лефорта проявится затем в Москве, в Немецкой слободе, где вокруг него будет множество людей различных вероисповеданий, а его женой станет католичка. Лефорт будет вполне соответствовать веротерпимой обстановке, но когда дело зайдет о воспитании единственного сына Анри, он настоит на том, чтобы и тот отправился в Женевский коллегиум.
Коллегиум давал хорошее образование. После него, если избираешь карьеру ученого или богослова, можно продолжать образование в Академии. А если тебя ждет карьера коммерсанта – то этого образования вполне достаточно. Франсуа Лефорта прочили в продолжатели семейного дела, торговли москательными товарами. Поэтому после окончания Коллегиума отец, Якоб Лефорт, отправляет 15-летнего Франсуа в Марсель, «на практику». Однако сидение в лавке было не то, о чем мечтал этот молодой человек. Хотя многие юноши, начитавшись рыцарских романов, представляли себя в другом месте и томились на службе, смирившись со своей участью, молодой Лефорт решается на побег. Он бежит от своего наставника и несколько месяцев проводит в Марсельском гарнизоне в качестве кадета. Якоб Лефорт заставляет еще несовершеннолетнего сына вернуться домой. Но и под присмотром отца Франсуа не оставляет своей мечты. Счастливый случай сводит 18-летнего Франсуа с молодым курляндским принцем Карлом-Якобом. Интересы обоих были очень близки – оба видели себя офицерами, на войне… Карл-Якоб, кроме того, имел старшего брата, наследного герцога Фридриха-Казимира, героя, который в то время находился со своим войском на службе Голландии и участвовал в войне с Людовиком XIV. Лефорт снова решается покинуть дом. Родные на этот раз не могут остановить его. Отец дал ему 60 гульденов на дорогу, но отказал в рекомендательных письмах и поступка этого так никогда и не простил.
Огорченные родители, жалевшие, что уступили упрямству Франсуа, вскоре начали получать от него вести. Он осознавал, что поступил довольно жестоко по отношению к ним. Покинув родину, он часто и подробно пишет домой. Известно 56 его писем в Женеву, которые адресованы матери и братьям. В первом, от 9 июля 1674 года, он сообщает родителям: «Благодарение Господу! Под его божественной охраной прибыл я сюда в добром здоровье, испытав всякого рода труды и опасности».
Пребывание Лефорта в Голландии в 1674–1675 годах – недолгий, но поворотный момент его жизни. Он сделал шаг к осуществлению своей мечты – прославиться на воинском поприще. Он участвовал в осаде и штурме Уденарда и Граве. В письмах домой он с удовольствием описывает эпизоды, когда ему приходилось рисковать. «Однажды, – пишет он, – вечером были мы, рота нашего принца, посланы вперед одни. Всего было 80 человек, но вернулось только семь: принц, один поручик, один дворянин, я и трое солдат». При штурме Граве в октябре Лефорту пулей пробило шляпу и он был легко ранен в ногу. «Я уже думал, – сообщает он домой, – что сложу здесь голову, однако Бог спас меня».
Лефорт, не имея официальной должности, находился в свите 24-летнего принца, который оказал на него сильнейшее влияние. Фридрих-Казимир стал кумиром для молодого Лефорта во всем: он восхищался и его военной доблестью, и его манерами, и вкусами. «Фридрих-Казимир любил жизнь роскошную, – писал он, – танцы, музыку, французский театр и итальянскую оперу; он любил собак, лошадей, блистательную свиту, а больше всего – многочисленное общество». Все это полюбил и Лефорт.
Голландский эпизод стал решающим в судьбе Лефорта потому, что именно там он принял решение отправиться в Россию. В августе Франсуа получил известие о болезни отца и намеревался вернуться домой, но опоздал: в ночь с 17 на 18 августа Якоб Лефорт умер. Это известие Лефорт получил только в конце октября, после того, как закончилась осада Граве. Оно стало для Франсуа тяжелым ударом, поскольку он считал себя виновником такого исхода. «Помолимся милосердному Богу, чтобы он простил нас, ибо все мы грешны перед ним, а в особенности я», – пишет он старшему брату Ами. Лефорт обещает брату (и Богу в своих молитвах) «вести впредь жизнь тихую и мирную».[14]
С этим обещанием, однако, расходятся его истинные устремления. Летом 1675 года Лефорт едет в Россию. Он так и не получил обещанной должности в свите герцога. Лефорт расстается с Фридрихом-Казимиром и вскоре знакомится с голландским подполковником ван Фростеном. Ван Фростен набирал отряд офицеров на российскую службу и предложил Лефорту чин капитана. Тот сразу же принял решение: «Через две недели корабли отправляются туда».
Что заставило его отправиться в страну, о которой он мог иметь в лучшем случае весьма смутные представления? Обещанный чин капитана, без сомнения, был очень привлекательным. В Европе получить его так быстро было невозможно: Фридрих-Казимир мог обещать ему всего лишь чин прапорщика.[15] Авантюризм и страстное желание быть отважным воином возобладали над рассудительностью. Автор жизнеописания Лефорта XVIII века И. Голиков пишет об этом шаге: «Воин ищет славы повсюду, где только надеется найти».[16] Вряд ли, конечно, в Голландии было много известно об учреждаемых в России полках «нового строя» и о том, чем они отличаются от старого войска, однако его убедили, что в России европейцам, уже имевшим военный опыт, удастся достигнуть многого.
В конце июля Лефорт уезжает в Россию, не сомневаясь в удаче: «Одним словом, матушка, могу уверить вас, что вы услышите или о моей смерти, или о моем повышении».[17] Через шесть недель этим радужным надеждам, похоже, пришел конец. Иноземцы высадились в Архангельске и столкнулись с русскими порядками.
По установленному порядку архангелогородский воевода Ф. П. Нарышкин принял вновь прибывших иноземцев, назначил им временное содержание и отправил в Москву донесение вместе с «расспросными листами». Вся команда, в том числе и Лефорт, в своих «листах» записала себя в капитаны и уроженцы Данцига. Это, по-видимому, была хитрость, как и то, что все назвались давними «братьями по оружию»: «И от Прусской де земли были они в Ишпанской и Галанской землях и служили от ишпанцев и от галанцов со францужаны на многих боях с полковником Фан Фростеном».
25 августа Нарышкин отослал документы в Москву. Иноземцам был установлен «корм», полтина на всех 14 человек (на долю Лефорта приходилось три копейки), до тех пор, пока Посольский приказ не примет решения.[18] Ответ, причем неблагоприятный для иноземцев, пришел только в ноябре: «Полковника Фан Фростена с товарищи выслать за море, а к Москве не отпускать и корм им прекратить».[19]
Компания составляет челобитную Алексею Михайловичу: «Великий Государь! Дозволь нам приехать к Москве на наших проторех и подводах, а если мы на твою службу годимся, вели, государь, нас принять, а если не годимся, укажи нас в немецкий рубеж отпустить, чтобы нам здесь с женишками и детишками голодною смертию не помереть. Царь-государь, смилуйся!» Алексей Михайлович внял просьбе и 16 декабря распорядился отпустить несчастных к Москве.[20] Положение отряда в Архангельске было незавидным. Лефорт считал, что в этом была вина губернатора, относившегося к ним без всякого сочувствия. По мнению Лефорта, Нарышкин был «хуже черта» и собирался отправить весь отряд не в Москву, а в Сибирь. Впечатления Лефорта об Архангельске остались ужасные: «Не в состоянии описать Вам подробно, – пишет он другу своей семьи голландцу Туртону, – здешнюю жалкую страну и здешний образ жизни. Во Франции был бы в диковинку дом, в котором живем мы». Но все же он не отчаивался и не жалел о том, что приехал. Он вспоминал совет Туртона: «не мешает потерпеть немного». К тому же в Архангельске Лефорт познакомился с итальянским купцом Франческо Гуасконе, который помог ему пережить зиму. 19 января наконец отряд ван Фростена отправился в Москву. По прибытии в столицу офицеры узнали, что Алексея Михайловича уже нет в живых. В Посольский приказ вновь были поданы челобитные, а 4 апреля 1675 года получен окончательный отказ. Несостоявшиеся офицеры должны были покинуть страну, однако все остаются и пробуют устроиться самостоятельно. Большинству, в том числе самому ван Фростену, удается сделать это. Что касается Лефорта, то он, кажется, уже оставил эту затею, но не уезжает из Москвы, а предлагает свои услуги датскому резиденту Гьое. Он обосновался в Немецкой слободе, даже не предполагая, что это на всю жизнь.
Немецкая слобода возникла в 1652 году на правом берегу Яузы, у ручья Кокуй. К 1665 году Новонемецкая слобода насчитывала 204 двора. Население ее было довольно пестрым: здесь жили и католики, и протестанты, которых было большинство. Здесь, как нигде в Европе того времени, царил дух веротерпимости: московские католики, долгое время не имевшие своего храма, молились в лютеранских кирхах. Занятия иноземцев были самыми разными, что, конечно, было характерно для любой московской слободы, где проживали ремесленники и торговцы самых разных специальностей, но большинство дворов принадлежало военным специалистам.[21] До 1690-х годов население Слободы было практически изолировано от москвичей.
Итак, Лефорт попадает в Немецкую слободу, которая станет его вторым домом. В первом же письме оттуда, 5 сентября 1676 года, он обстоятельно, но без особого восторга описывает Слободу родным: «Тут живут немцы, англичане, шотландцы. Французов почти нет, кроме трех, прибывших с нами, нет и швейцарцев, кроме одного, золотых дел мастера его величества, базельского уроженца по имени Густав… После офицеров, два года назад павших в сражении с татарами и поляками, осталось много богатых и прекрасных вдов; есть много и полковничьих дочек».[22]
Лефорт ждал благоприятного момента для поступления на военную службу: «Война против турок и татар объявлена, император приказал готовиться к скорому походу». Однако для того чтобы экипироваться, нужны средства, за которыми Лефорт обращается к старшему брату Ами, главе семьи после смерти отца: «ибо иначе дела мои будут плохи, а деньги много помогли бы мне относительно чести и службы: тогда я надеюсь быть произведенным в майоры еще до начала кампании».[23]
Известно, однако, что Лефорт поступил на службу намного позже, летом 1678 года. Объясняясь потом властям, он писал, что «в те де времена лежал он болен и для того де великому государю в службу, а также об отпуске за море челобитья его не бывало».[24] После болезни он снова подумывает о том, как бы уехать из России, но опять остается на месте. По-прежнему не имея постоянного занятия и содержания, в 1678 году он приходит к решению, что ему пора жениться.
Мать Лефорта Франсуаза тяжело пережила поездку младшего сына в Россию. Она предпринимала всевозможные усилия, чтобы отговорить его от этой затеи: друзей семьи и знакомых, с которыми общался Лефорт в Голландии, она просила присматривать за ним и уговорить остаться. Из этого ничего не вышло, и отношения с матерью стали довольно холодными. Лефорт нечасто получал от нее ответы на свои письма, особенно на те, где просил благословить его на брак. Франсуаза понимала, что после женитьбы возвращение сына в Женеву будет невозможным. Но он пишет ей: «Вы не найдете здесь ни одного молодого человека, который, имея 16 лет от роду, не был бы женат; иначе надобно ожидать насмешек полковников».[25] Этому обычаю, вероятно, способствовали демографическая ситуация, сложившаяся в Слободе, обособленной от остального города, а также недоброжелательное и подозрительное отношение московитов к иноземцам. Прав у служилых иноземцев было мало, власти пользовались этим, не отпуская их за границу.[26] При этом всех, особенно холостых, подозревали в желании уехать. К женатому человеку отношение было несколько иное: даже если он на время покидал Россию, семья оставалась в качестве заложников.[27] Соответственно, у женатого было больше шансов продвинуться по службе. «Возникает общее предубеждение, что того, кто не хотел жениться, считали человеком непостоянным, ненадежным или таким, который, будучи недоволен, не думал оставаться в России. Поэтому женщины и их приятельницы употребляли все средства побудить мужчин к женитьбе», – пишет в своем дневнике один из «столпов» Немецкой слободы, генерал Патрик Гордон.[28]
О женитьбе Лефорт думал с самого начала своего пребывания в Слободе. Уже в 1676 году за него сватали дочь полковника Крайфорда, одного из самых влиятельных лиц в Слободе. Свадьба не состоялась: пока Лефорт ждал согласия матери, невеста умерла. В 1678 году он решается жениться, не получив благословения. «Огорчения, что я не получил ответа, заставляют меня вновь взяться за перо и со слезами на глазах просить Вас, любезная матушка, не гневаться на меня за то, что я женился здесь вопреки приказаний Ваших, членов нашей фамилии и родственников», – пишет он 23 июля 1678 года. Очередной свой самостоятельный шаг он оправдывает не только тем, что это выгодно скажется на его положении, но и горячей и взаимной любовью: «Здесь была дочь полковника Крафера, которую сватали за меня, но я никогда не питал к ней таких нежных чувств, как к этой. Я решился, впрочем, совсем не думать о том. Однако ее чистая и постоянная любовь ко мне заставила меня сложить оружие». Имя счастливицы – Элизабет Суге (Вошгау). Ее семья тоже была одной из респектабельных в Слободе: покойный отец, выходец из Франции, был полковником, имевшим друзей и знакомых среди влиятельных людей, которые заботились о семье после его смерти. Так что Лефорту снова повезло. Он уверяет мать: «Теперь я вступлю на почетное поприще, и от меня зависит быть произведенным в майоры и подполковники, если я пожелаю».[29]
О самой Элизабет Суге известно немного. После свадьбы она просила свекровь простить ее. «Жена моя, – пишет Лефорт матери, – не успокоится до тех пор, пока не получит хотя одного слова Вашей руки. При сем Вы получите несколько строк от нее». Дальнейшая карьера Лефорта часто разлучала его с женой, однако с 1680 по 1691 год у них родилось восемь или девять детей, из которых выжил только Анри, родившийся в 1685 году. Сведений о том, как складывалась семейная жизнь Лефорта, мало. Известно, что он настоял, вопреки воле Элизабет, на том, чтобы дать сыну кальвинистское образование в Женеве, а не в Москве, боясь, что в его отсутствие католические родственники могут «испортить» его. Разлука с единственным сыном, конечно, не могла не сказаться на отношениях Элизабет с мужем, однако нет свидетельств тому, что они были разорваны (к тому же о кальвинистском воспитании будущих детей Лефорт и Элизабет договорились еще до свадьбы). Напротив, обнаруженные в архиве письма говорят о том, что компания Лефорта была не чужда Элизабет, которая называет Петра «нашим командором», а друзей Лефорта – своими друзьями. Она тосковала в его отсутствие и сетовала на то, что он редко пишет домой.[30] В это время она активно занималась хозяйством, которое будет обеспечивать и занимать ее после смерти мужа и сына: Анри Лефорт, вернувшийся в Россию в 1701 году, умер от горячки на руках Петра при осаде Нотебурга в 1704 году.
Но вернемся в 1678 год. Вскоре после своей женитьбы Франц Лефорт действительно зачисляется на русскую службу: в июле 1678 года он подает челобитную в Иноземский приказ, а 10 августа датируется царское повеление о приеме «на службу иноземца Франца Лефорта с чином капитана».[31]
Его служба фактически начинается с 1679 года, когда он прибывает в киевский гарнизон под начало князя В. В. Голицына и генерала П. Гордона. Последний был его свойственником: их жены имели родство. К этому времени Лефорт уже успел завоевать расположение Голицына. Поэтому в Киев он отправлялся в надежде на удачную карьеру: «Если Бог по милости своей позволит мне возвратиться здоровым в конце года, то надеюсь на добрый успех по службе, ибо Seigneur (то есть Голицын. – О. Д.) обещал мне это, а Гордон очень расположен ко мне. В Киеве я буду жить и иметь стол у него».[32]
О своей службе в Киеве Лефорт почти ничего не пишет родным, за исключением того, что «беспрестанно командируемый во всякого рода экспедиции, я не мог сослаться на свою болезнь, ибо варвары не спрашивали, есть лихорадка или нет». Может, поэтому писем на родину не было до сентября 1681 года, когда, по заключении Бахчисарайского мира с турками, стало спокойнее и он мог сообщить: «Я живу здесь во всякой почести и любим всеми». Поводом для письма в сентябре 1681 года послужил предстоящий отпуск Лефорта на родину, поэтому в послании больше радости по случаю предстоящего свидания, чем новостей. Отпуск ему предоставил сам князь Голицын: «Князь сказал, что увольнение со службы получить не могу, но, так как мир с турками заключен, то он дает мне отпуск, только не на долгое время, а если я, с Божьей помощью, возвращусь, обещал мне повышение по службе». Гордон, комендант Киева, снабдил своего «племянника» рекомендательным письмом: «Свидетельствую я, Патрик Гордон, генерал-майор артиллерии и инфантерии, комендант Киева, что благородный и храбрый господин Франц Лефорт, капитан его царского величества, всегда, и на марше, и на сторожевых постах, равно и в различных делах и сражениях оказывал себя честным и добросовестным офицером».[33]
Лефорт едет в Женеву 9 ноября 1681 года, после семи лет отсутствия дома. Его чувства в связи с предстоящим свиданием с семьей можно себе представить: отношения с родными оставляли желать лучшего: в своих письмах он не раз сетует на то, что они редко пишут ему и не верят его письмам. Он понимает, конечно, что виноват во всем сам: не считаясь с ними, он уехал из дома, более того, отправился в Россию и женился там вопреки воле матери. Он продолжает оправдываться перед ней: «Забудьте заблуждения моей юности и верьте, что если Бог сохранит мою жизнь, то через мое доброе поведение Вы узнаете, что имеете сына, не дорожившего жизнью для своего возвышения. Единственное желание мое в здешней жизни – еще раз, по милости Господа, обнять вас, равно всех своих братьев и сестер и на коленях испросить прощения за причиненное вам всем горе… Если я буду столь счастлив, что получу от Вас письмо, то оно будет для меня так же дорого, как и полученное мною в прошлом году». Ему хотелось увидеться с близкими, однако он понимал, что встреча не будет долгой: в Москве его ждали жена и, что тоже немаловажно, уже реальные перспективы. «Могу уверить Вас, – пишет он брату перед отъездом, – что князья любят меня, сожалеют о моем отъезде и думают, что я не вернусь. Но Боже сохрани меня от такой мысли: жена моя остается здесь и получает мое жалование».[34]
Лефорт приезжает в Женеву только 16 апреля 1682 года, задержавшись в пути из-за болезни: лихорадка постоянно преследует его, начиная с 1676 года. Дома он был принят, по словам его племянника Людовика, «самым радушным образом». Длившееся чуть более месяца пребывание в Женеве было весьма насыщенным: он сумел переменить мнение о себе родственников и многих людей, с которыми успел пообщаться. Людовик Лефорт пишет: «Все соотечественники заметили в нем большую выгодную перемену… В разговоре он являл себя строгим и серьезным, но с друзьями был шутлив и весел. Можно сказать утвердительно, что он наделен от рождения счастливейшими талантами как тела, так ума и души». Записки Людовика свидетельствуют, что после этой поездки отношение родных к Франсуа меняется в лучшую сторону. Родственники, конечно, воспользовались случаем, чтобы уговорить его остаться или отправиться на службу в любую из европейских стран, однако «на все эти знаки расположения Лефорт отвечал, что сердце его лежит к России, и благодарность обязывает его посвятить жизнь монарху, от которого получил многие благодеяния. Он питал надежду, что, если Бог сохранит ему здоровье и дарует жизнь, то свет заговорит о нем, и он достигнет почетного и выгодного положения». Более того, Лефорт, в свою очередь, предлагал своим родственникам и друзьям отправиться в Россию, поскольку там, по его мнению, были хорошие шансы составить себе карьеру.[35]
Вернувшись в Москву 19 сентября 1682 года, Лефорт начинает продвигаться по службе. Чины он получает в Москве, то есть фактически не исполняя своих обязанностей. 28 июня он майор, а через два месяца – подполковник. И если производство в майоры кажется вполне закономерным после двухлетней службы в Киеве, то причина столь быстрого назначения подполковником не ясна. В это время Лефорт начинает устраивать в своем доме знаменитые собрания, куда приглашаются и русские вельможи, и иностранные дипломаты, и соседи по Слободе. Первое известное крупное празднество Лефорт устроил вскоре после возвращения. 12 декабря он собрал гостей по случаю годовщины «Женевской эскалады», национального праздника в память о том, как в 1602 году республика окончательно отразила претензии герцога Савойского и обрела независимость. Этот праздник был довольно скромным по сравнению с теми, что будут устроены позже, однако среди его гостей – наиболее значительные лица Московского государства, например дядька Петра князь Борис Алексеевич Голицын.[36] С ним у Лефорта складываются довольно близкие отношения.
Осенью 1684 года Лефорт снова уезжает в Киев, на сей раз в должности батальонного командира и вместе с ожидающей ребенка женой. Это обстоятельство способствует частому общению с генералом Гордоном, который стал крестным отцом их сына, умершего в младенчестве: 25 января он записывает в своем дневнике, что «принял от купели сына Лефорта Даниила».[37]
Практически ничего больше о втором пребывании Лефорта в Киеве не известно. В 1687 году ему предоставляется возможность проявить себя в большой кампании: он участвует в первом Крымском походе в качестве командующего батальоном в составе дивизии генерала Змеева. Как известно, поход закончился плачевно: отряды под предводительством В. В. Голицына столкнулись с огромным степным пожаром, который вынудил их отступить без боя. Летом 1687 года Лефорт увидел, что на войне люди могут погибать не столько в бою, сколько от лишений и болезней. Он описывает свои впечатления в письме к родным: «Пройдя еще несколько речек, добрались мы до реки Конская Вода, скрывавшей в себе сильный яд, что обнаружилось тотчас же, как из нее стали пить. Эта вода для многих была пагубна: смерть произвела большие опустошения. Ничего не могло быть ужаснее мною здесь увиденного. Целые толпы несчастных ратников, истомленные маршем при палящем зное, не могли удержаться, чтобы не глотать этого яда, ибо смерть была для них только утешением». Нелепость ситуации была в том, что измученное войско прошло много верст, так и не встретив врага: «Мы потеряли голову. Искали повсюду неприятеля или самого хана, чтобы дать ему сражение. Захвачены были несколько татар… Пленные сказали, что хан идет на нас с 800 000 татарами. Однако и его полчище пострадало, потому что до Перекопа все было выжжено». Степной пожар привел Голицына в отчаяние. Во всем был обвинен гетман Самойлович, который был арестован и заменен Мазепой. Подводя итог кампании, Лефорт пишет: «Действительно, никогда подобного похода предпринимаемо не было, но могу уверить вас, что никогда ни одна армия не страдала столько, сколько здесь».[38] Несмотря на очевидную неудачу, Голицына и его командиров приняли в Москве с почестями. Лефорт, в числе других, был отмечен: на следующий день по возвращении он удостоился аудиенции у Софьи и Иоанна Алексеевича. Голицын, представивший Лефорта Софье, «высказал о нем много лестного», а затем произошла первая документально зафиксированная встреча с Петром в Преображенском. «Мы были у целования руки юного Петра Алексеевича, живущего в полумиле от города»,[39] – сообщает он родным.
Встреча с 15-летним Петром не отразилась на судьбе Лефорта. Своим повышением в звании и другими милостями он, безусловно, обязан В. В. Голицыну. Под его началом Лефорт готовится выступить во второй поход, командуя полком в 1900 солдат. Поход 1688 года был таким же изнурительным и бессмысленным, как и первый. Отряды дошли до Перекопа и даже дали несколько небольших сражений, но вскоре татары ушли, а русские остались без воды и повернули обратно. На этот раз Лефорт не оставляет подробного описания похода. Для этого летом 1689 года совершенно нет времени: в его жизни наступает новый этап.
«Учитель» из Немецкой слободы
Итак, к 33 годам в жизни Лефорта все наладилось: карьера, о которой он мечтал, состоялась, он достиг даже некоторой известности. Все могло бы идти своим чередом. Но для того чтобы прославиться по-настоящему, он выбрал «правильную» страну: в 1689 году здесь все меняется. После неудачи второго Крымского похода противоречия между 17-летним Петром и его сестрой обострились до предела. На стороне Софьи выступили стрельцы. Слух, что они собираются напасть на Петра в Преображенском, заставил его в ночь с 7 на 8 августа бежать в Троице-Сергиев монастырь. Противостояние могло закончиться вооруженной борьбой и большим кровопролитием. Петр был одним из законных царей, и на его стороне было моральное преимущество. Б. А. Голицын, направлявший его действия, воспользовался этим преимуществом и сумел поставить Софью в положение обороняющейся стороны.[40] Силы, поддерживающие ее, таяли, тогда как к Троице прибывали новые и новые отряды. Положение прояснилось к концу месяца, когда Софья, отправившись к Троице 27 августа, вынуждена была вернуться в Москву, подчинившись требованию младшего брата. 6 сентября она выдала ему Шакловитого как виновника бунта. В промежуток между ее возвращением в Москву 31 августа и 6 сентября к Троице подошли значительные силы, в том числе полки, которые возглавляли иноземные офицеры. Генерал Гордон отмечает в своем дневнике дату их выступления – 5 сентября.[41] Мы не знаем наверняка, был ли среди них Лефорт со своим полком. Ни он, ни Гордон об этом не сообщают. Однако самая красивая и наиболее принятая версия знакомства Лефорта с Петром связана именно с этими событиями. Иоганн Корб, секретарь австрийского посольства, находившегося в России в 1699 году, когда Лефорт доживал свои дни в самом расцвете славы, излагает ее в своем дневнике: «Лефорт с горстью солдат, составлявших большую защиту по их верности, чем по их численности, первый прибыл в Троицкую обитель, чем и снискал большую пред прочими милость царя, так как с тех пор государь осыпал его беспрерывными милостями».[42] Конечно, Корб как источник в данном случае не вызывает доверия. С. М. Соловьев, останавливаясь на этом эпизоде и рассказе Корба, замечает, что вымысел в данном случае – не его вина, а история о спасении царя к тому времени «и в глазах самого Петра, и в глазах других, даже завистников Лефорта, служила самым лучшим оправданием того значения, какое приобрел он при Петре; каждому новоприбывшему иностранцу на вопрос: за что такие милости Лефорту, какие были его заслуги? – отвечали на приход Лефорта к Троице».[43]
Факты, однако, не позволяют нам с определенностью сказать, был ли Лефорт там вообще. Мы не можем установить достоверно также обстоятельства их знакомства. Первая их встреча, которая, напомним, произошла осенью 1687 года, была церемониальной и не имела никаких последствий ни для женевца, ни для царя. Однако уже в 1690 году Петр – гость в Слободе и доме Лефорта.
После переворота 1689 года Петр отстранил от власти Софью, но в Кремль не перебрался, а остался в Преображенском. Немецкая слобода, на которую он стал обращать свое внимание, находилась неподалеку. Дядька Петра, Б. А. Голицын, приятель многих ее обитателей, знакомит с ними царя. Среди них были Гордон и Лефорт. Патриарх Иоаким в своем завещании, написанном 17 марта 1690 года, предостерегает юного монарха от пагубности его новых увлечений: «Коим убо образом целость государства своего в лепоте содержатися и во угождении быти Богу? Егда вси люди истинствуют, о добрых делах прилежат и содержат благие и постоянные нравы и да не навыкнут иностранных обычаев непотребных и неутвержденных в вере, и Писания не сведущих, а с иноверными о вере не глаголют, и лестного учения их весьма да не слушают».[44] При жизни патриарха Петру приходилось с ним считаться, однако после его смерти царь полностью пренебрег его заповедями. 30 апреля 1690 года Патрик Гордон записывает: «Его величество с боярами и со знатными придворными ужинал у меня и был очень весел». Затем Петр посещает Слободу все чаще, знакомится с новыми людьми, ставшими потом его наставниками и соратниками, – Ф. Тиммерманом, А. Бутенантом и другими. 3 сентября, отмечает Гордон, царь посетил дом Лефорта. После этого Петр заходит к нему обедать и остается до вечера все чаще: Гордон пунктуально отмечает даты: 16 октября, 25 октября, 7 и 27 ноября, 7 и 8 декабря, 4 января 1691 года. Уже в январе Лефорт дает повод датскому резиденту А. Бутенанту написать в Женеву его старшему брату Ами: «Он пользуется благоволением нашего монарха и дружбою всех вельмож при дворе… Ему будет стоить большого труда уехать отсюда, ибо благородный государь, почтивший его своей любовью, не отпустит такого достойного офицера и слугу, как Ваш брат».[45]
Таким образом, к началу 1691 года Лефорт уже считается другом и фаворитом Петра. Его жизнь становится очень насыщенной: в этот период он даже не пишет на родину, хотя, казалось бы, ему есть чем похвалиться. Бутенант делает это за него, сообщая новости о его жизни в письмах к Ами. В декабре 1691 года Бутенант объясняет ему долгое молчание младшего брата чрезмерной занятостью: «Лефорт неотлучно находится при нашем государе и, по его желанию, постоянно занят до такой степени, что не имеет времени взяться за перо».[46] В другом письме: «Возвышением своим на весьма почетную ступень Ваш брат обязан более своей добродетели и благородству своей души, нежели нашему ходатайству; ибо все, что мы могли сделать для него, состояло в том, чтобы высказать его величеству и первым особам, к какой почтенной фамилии принадлежит он, и что, в этом отношении, Ваш брат достоин занимать высокие должности без ущерба их значению».[47]
Чем был так занят Лефорт? Он сопровождал Петра в его военных потехах, а Петр, в свою очередь, был постоянным гостем его дома. «Они неразлучны, – пишет женевец Ф. Сенебье, который поступил на русскую службу и получил чин капитана по протекции Лефорта. – Его величество посещает его часто и обедает у него два или три раза в неделю».[48] Пиршества эти прославили Лефорта более, чем все остальные его заслуги. Князь Куракин, который был участником многих из них, дает им и хозяину дома довольно нелестную характеристику: «И тут, в доме первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземными обходиться, и амур начал первый быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова. Правда, девица была умная и изрядная… И к тому же непрестанная бытность его величества началась быть в Слободе Немецкой не только днем, но и ночевать, как у Лефорта, так и по другим домам, особливо у Анны Монсовы».[49] Впрочем, времяпрепровождение Петра в Слободе Куракин освещает односторонне, хотя бы потому, что все общество нередко перемещалось от дома Лефорта к Гордону или наоборот, а заподозрить генерала в том, что он участвовал в чем-то аморальном, трудно. Часто царь вызывал своих сотрапезников в Преображенское для упражнений с потешными войсками. Эти войска, несмотря на свое название, занимались серьезной военной подготовкой под руководством лучших офицеров, в том числе Гордона и Лефорта. Военные потехи чередовались с пирами. В это время «потешные» совершенствовались в военном искусстве, а царь вместе с друзьями строил великие планы. Петр начал мечтать о море. За «Боирё» у Лефорта могли обсуждаться самые важные и серьезные дела. Об этом неоднократно пишет Гордон.[50] Один из наиболее показательных эпизодов – Кожуховские маневры 1694 года, последняя «потеха» перед Азовскими походами, в которой участвовало свыше сорока тысяч человек. Военные действия разыграны почти как настоящие: армия Ромодановского осаждает крепость, в которой находится «противник», армия Бутурлина. Осадные работы ведутся четыре дня, происходят перестрелки. Сооружение редутов прерывается праздником: 4 октября Лефорт отмечает свои именины, день святого Франциска. Праздник, однако, завершается весьма необычно: через некоторое время все гости во главе с именинником внезапно отправляются на штурм крепости, и через два часа Бутурлин сдается.[51] В «потешных» походах Лефорт возглавляет первый отборный полк, который позднее получит название Лефортовского. Полк этот был наиболее элитным подразделением формировавшейся регулярной армии, поэтому назначение его командиром означало огромную честь и ответственность. Лефорт довольно быстро проявил себя если не качестве боевого командира, то в качестве реформатора армии: получив полк в 1692 году, он просит у Петра землю для устройства плаца и средства для строительства новой слободы для солдат и офицеров, которых насчитывалось около пятнадцати тысяч человек. Слобода, состоящая из мазанок, а не обычных деревянных изб, вскоре была построена. Уже в мае 1693 года А. Бутенант пишет: «Генерал весьма любим солдатами, потому что он собрал их всех в одно место и выхлопотал у его царского величества большое поле, чтобы выстроить здесь солдатские дома, вследствие чего возникло уже большое предместье».[52]
1691–1694 годы – это время, когда Петр приобщается к военному и отчасти морскому искусству. В конце 1691 года он в компании Лефорта впервые поехал на Переславское озеро, а затем отправился на Кубинское. Бутенант пишет в Женеву в декабре 1691 года: «В настоящее время его (Лефорта. – О. Д.) нет в Москве: он сопутствует Петру, который уехал за пятьсот часов пути для осмотра своей страны».[53] Лефорт действительно сопровождает Петра в его частых поездках в Переславль, а затем и в Архангельск. Во время второй поездки в Архангельск летом 1694 года Лефорт назначается капитаном корабля «Святое Пророчество», присланного Петру из Голландии. Возможно, капитанская должность – не только дань дружбе, но и награда за то, что Лефорт принимал участие в оснащении и отправке корабля: пользуясь своим знакомством с амстердамским бургомистром Н. Витсеном, он заказал корабль на верфи. Витсен писал, когда корабль был готов: «Уже теперь развевается флаг его величества перед этим городом. Я велел погрузить на борт три тысячи пудов пороху, несколько хороших ружей, сабли, пистолеты, ядра и цепные ядра и вообще все, что должно быть на военном корабле». Более подробно Витсен останавливается на хозяйственной и декоративной стороне, где, подобно Лефорту, был большим специалистом: «Я велел штурману в нижнем пространстве кормы сделать запас салфеток, скатертей, посуды и других вещей… а также запастись рейнскими и французскими винами и, согласно Вашему распоряжению, захватить с собой обезьян и маленьких болонских собак».[54] Все эти детали говорят о вкусе Лефорта, который он хочет привить молодому царю, а также о том, что для капитана путешествие будет скорее увеселительной прогулкой.
21 июля корабль, снаряженный в соответствии с правилами и пожеланиями капитана, прибыл в Архангельск. Естественно, должность капитана была формальной – на корабле распоряжался штурман Ян Флам, который прибыл на нем из Амстердама. Десятидневное путешествие закончилось успешно, и его участников ожидало большое будущее на морском поприще. Прежде всего это касается Лефорта, который начинает стремительную морскую карьеру в дополнение к карьере сухопутного офицера. В сухопутной армии Лефорт уже давно генерал: в сентябре 1690 года он стал генерал-майором, а чин полного генерала получил 29 июня 1693 года по случаю именин Петра.[55] Генеральским званием Лефорт обязан участием в потехах Петра. Реляции о потехах – практически официальные сводки – не свидетельствуют о выдающихся полководческих качествах Лефорта. В Семеновском походе 1691 года, например, Лефорт командовал левым крылом армии Ромодановского. Предприняв безуспешную атаку на «неприятеля», Лефорт повернул свой полк назад. «А неприятель, видя, что наши скоро поворотили, назад с правого крыла ударил вслед за нашими. Однако ж наши, поворотясь, крепко стояли, с правого крыла, также и с левого на помочь тому нашему войску несколько рот послали, от которых неприятель разбит и разогнан возвратился, не получив никакой пользы».[56] Гордон расшифровывает это сообщение: именно он пришел на помощь Лефорту, как это часто будет и в дальнейшем. В Кожуховских маневрах, как мы уже знаем, Лефорт «отличился», став «виновником» штурма. Однако в этом приятном для его горячей головы деле сам он сильно пострадал, причем именно головой: «В меня бросили горшок, начиненный более четырьмя фунтами пороху, – пишет он брату, – попав мне в плечо и в ухо, он причинил мне ожог, именно: обожжена была кожа на шее, правое ухо и волосы, и я более шести дней ходил слепым». Конечно, такое может случиться с любым командиром, но все же это нелепое ранение характеризует Лефорта: для полководца он был слишком рисковым и часто принимал необдуманные решения. Петр, однако, принял случившееся всерьез: поужинав у раненого, он сказал ему следующее: «Ты сдержал свое слово, что скорее умрешь, чем оставишь свой пост».[57]
Еще одним делом Лефорта было приглашение в Россию мастеров из Европы. Он пользуется для этого своими связями в Женеве: в мае 1693 года он просит брата прислать в Москву хорошего фейерверкера и сведущего инженера, о которых он сам позаботится, если они окажутся на высоте. Примерно через год он обращается к Ами: «Не можете ли Вы найти мне хороших медиков, которые пожелали бы служить здесь?… Жалование врачам большое… кроме других выгод и подарков; но медики должны вполне разуметь свою профессию». Просьбы Лефорта повторяются: до Великого посольства иностранцы не столь активно ехали в Россию, как ни убеждал их Лефорт в том, что «по милости Божьей мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам».[58]
Связь Лефорта с родиной в это время не ограничивалась семейной перепиской. В 1692 году Женевский сенат по инициативе Ами Лефорта направил на имя обоих царей адрес, в котором благодарил их «за милости и благоволение, оказываемые одному из сограждан наших, который своим соотечественникам дорог столько же по прекрасным, от природы полученным качествам, сколько по благородству и древности его фамилии». Адрес, таким образом, подтверждал, что Лефорт – человек благородного происхождения, что, впрочем, было совершенно безразлично Петру, но могло иметь значение для других. Тем не менее Петр, по словам Лефорта, носил адрес в кармане и иногда его перечитывал.[59] Лефорт написал в Сенат благодарный ответ: «Хотя я нахожусь вдали от родины, я никогда не забуду вашего благорасположения и всегда буду молиться за сохранение ваших сиятельств и за всех ваших близких, за то, чтобы Бог избавил вас от несчастий и не дал вам пасть от руки врагов ваших, за то, чтобы жизнь ваша и дела ваши были отмечены славой».[60] Желание отплатить и послужить родине исполнилось в 1693 году: в ноябре Женевский сенат сообщил ему, что в республике из-за неурожая не хватает хлеба. Лефорт немедленно передал это известие Б. А. Голицыну и Петру. За ужином было принято решение. «Его величество, – сообщает Лефорт в Женеву, – изволил сказать, что вам хлеб перешлют по Голландии».[61]
Главной обязанностью Лефорта в эти годы было создание вокруг Петра непринужденной, легкой, но в то же время рабочей атмосферы, привлечение в свой круг новых людей для новых проектов и просто приятного общения. Лефорт, сам долгое время живший чужим покровительством, теперь мог оказывать его другим. Он не забывал об этом и был готов оказать услугу человеку, который нравился ему. В его доме, где завсегдатаем был царь, собиралось множество людей. Эти люди были полезны Петру, потому что могли научить его чему-нибудь. Князь Куракин пишет: «И по склонности своей его величество к иноземческому всему тогда ж начал учиться всех экзерциций и языку голландскому. А за мастера тому языку был голанец Андрей Виниус…
а для экзерциций на шпагах и лошадях – датчанин сын Андрея Бутенанта, а для математики и фортификации и других артей, как токарного мастерства и огней артофициальных один гамбурчанин Франц Тиммерман… а танцовать по-польски с одной практики в доме Лефорта помянутого».[62] Однако развлечения чередовались с самой серьезной работой. Еще один участник балов, барон Хансен, говорит: «Его величество присутствует на обедах главным образом потому, что чувствует себя здесь не стесненным, может говорить с умными людьми о делах и разных предметах, а иногда и отдавать приказания». О том, что для Петра был важен не только хозяин, но и сам дом, говорит тот факт, что Петр неоднократно выделял средства для его строительства и обстановки. В 1692 году Лефорт пишет в Женеву о том, что собирается построить новый дом, «для чего их величества жалуют меня самым необходимым». Прежде всего в доме была устроена «красивая и обширная зала» для приема; по свидетельству женевца Ф. Сенебье, она могла вмещать до 1500 человек. Сам Лефорт пишет, что в зале «за столом могут поместиться двести пятьдесят человек».
Отношение Лефорта к обязанностям хозяина своего рода клуба самое серьезное. Обстановка здесь, судя по всему, была довольно либеральной. Иногда собрания длились сутками: «Одна половина компании высыпается, а другая танцует, я же должен быть распорядителем, маршалом. Благодарение Богу, я здоров; да если бы и заболел, то этого не потерпели бы, ибо их царские величества дают мне столько дела, что иногда в течение трех суток я не сплю и двух часов, особенно в дни забав». Дом Лефорта все больше становится похож на дворец вельможи: он окружен парком, где даже «содержатся дикие звери».[63] Почти все важные решения этого времени принимались здесь в непринужденной обстановке, с музыкой, танцами и вином. Все, на кого полагался Петр, собирались здесь. Здесь же, видимо, возник план Азовских походов.
Азовские походы
В начале 1695 года был наконец объявлен поход на Крым. Однако у Петра были иные планы: он собирался нанести удар не по татарам, а по Азовской крепости, то есть непосредственно по туркам. Чем было вызвано изменение направления удара? Кто из окружения уговорил Петра отступить от традиции сражаться с татарами? С. М. Соловьев утверждает, что это сделал именно Лефорт. Доказательств тому у нас нет, однако все выглядит довольно правдоподобно: Лефорт, как и Гордон, был участником Крымских походов и, естественно, обсуждал с Петром причины неудач и минусы этого направления. Если вспомнить, какое впечатление Крымские походы произвели на Лефорта, то легко представить, как эмоционально он мог живописать их царю. В конце концов, для истории России совершенно неважно, кто именно посоветовал Петру идти на Азов. Лефорт, несомненно, участвовал в обсуждении, высказывал свои замечания. Кроме всего прочего, к Азову вел водный маршрут, а Петр с 1694 года предполагал путешествие по рекам. В этом году Лефорт пишет родным: «Через два года поговаривают о путешествии в Казань и Астрахань, но, может быть, через два года это пройдет». Что имеется в виду под «пройдет», не вполне понятно. Соловьев понимает это так, что Лефорт намекает на изменение маршрута путешествия: вместо Астрахани он предполагал отправиться (и действительно в 1695 году отправился) к Азову. Это путешествие было выгодно всем: и России, и европейским странам, и, главное, самому Петру и его окружению. Идея поездки за границу, которая прочно засела в голове царя, играла далеко не последнюю роль. «Как показаться Европе, не принявши деятельного участия в священной войне против турок?» – пишет Соловьев.[64]
Итак, в начале 1695 года цари объявили поход на Крым. Однако уже в феврале различные источники сообщают о намерениях русских войск двигаться под Азов. Гордон в своем дневнике записывает, что 6 февраля на Пушечном дворе состоялся военный совет, на котором «приняты различные решения относительно нашего похода под Азов».[65] Об этом же пишет и Лефорт в письме в Женеву 16 февраля: «Сейчас я могу вам сказать следующее: вся страна готовится и собирает полки, чтобы, когда вскроются реки, отправиться с его царским величеством Петром Алексеевичем. У нас четыре армии. Первая отправится водным путем до турецкого города Азова, который его величество будет осаждать». Из письма Лефорта можно узнать, что были учтены преимущества водного маршрута, а также в наличии был план, во всяком случае четыре генерала уже получили распоряжения. «Первого вы знаете, – пишет Лефорт, – это я, ваш покорный слуга».[66] Остальные генералы – П. Гордон, А. М. Головин и командующий кавалерией Б. П. Шереметев. Единого главнокомандующего не было, все генералы, имевшие в своем распоряжении по 12 тысяч человек, занимали равноправное положение.[67] Это, как мы убедимся, не пошло на пользу делу, поскольку в действиях генералов не было согласованности.
Полки двинулись под Азов не одновременно: 4 марта выступили 12 полков генерала Гордона, а полки Лефорта и Головина вместе с Петром последовали за ними только в начале апреля.
4 мая Петр сообщает в письме Ромодановскому: «Генералы Автомон Михайлович и Франц Яковлевич с пристани пошли в обоз и станут ночевать, отошед версты с три, а утре, Бог изволит, пойдем под самой Азов и будем промышлять, сколько Господь помощи подаст».[68] 5 июня Головин и Лефорт заняли свои позиции и тут же подверглись нападению. Позиция Лефорта оказалась наиболее уязвимой.
Отряды Лефорта действительно страдали от набегов чаще других. Сам он считал предметом гордости, что сумел отразить эти вылазки. «Уверяю Вас, дорогой брат, – пишет он 6 декабря 1695 года, – что во время 14 недель, которые я провел под Азовом, атаки были сильные, особенно на моем фланге… со стороны моря».[69] Однако особенно гордиться Лефорту не следовало: частые набеги были следствием не только расположения лагеря, но и его собственных упущений – враги почувствовали уязвимость этого фланга по сравнению с центральным. 6 июля приступили к осадным работам. Лефорт, как сообщает «журнал», не успев укрепиться, «бил из пушек по городу». На следующий день последовал ответ конницы, и лишь подкрепление, посланное Гордоном, заставило врага отступить.[70] Лефорт, однако, описывая этот эпизод, даже не обмолвился о Гордоне: «Бой продолжался недолго, татары стремились взять мой лагерь силой. После двухчасового сражения они были принуждены к отступлению».[71]
В ночь с 9 на 10 июля Гордон снова выручил Лефорта: по сообщению «журнала» и австрийского инженера Плейера, вылазка на лагерь Лефорта была пресечена тем, «что турки были замечены караулом генерала Гордона. Им навстречу вышел сам генерал Гордон со своим караулом, и так как после этого в лагерях поднялась тревога, то турки повернули обратно». После двух таких случаев Гордон предложил Лефорту приблизить свои траншеи к центру, чтобы его фланг был менее изолированным. Однако Лефорт отказался, и набеги на его лагерь продолжались.
С 14 июля у осаждавших, казалось, началась светлая полоса: казаки взяли каланчи – башни, охранявшие город со стороны устья Дона. Они стояли по обоим берегам, между ними были протянуты цепи, препятствующие продвижению судов. 14 июля была взята одна каланча, а в ночь с 15-го на 16-е турки покинули вторую. На радостях Петр пишет: «И слава Богу, по взятии оных, яко врата к Озову щастия отворились».[72] Радость эта, однако, была омрачена уже на следующий день: 15 июля турки, по наущению переметнувшегося к ним голландца Якоба Янсена, напали на лагерь Лефорта как раз в то время, когда охранявшие его стрельцы прилегли вздремнуть после обеда. Это стоило Лефорту многочисленных жертв, однако на помощь снова подошел Гордон.[73]
Между тем осада продолжалась. Ни один из генералов, за исключением Гордона, не имел в этом деле реального опыта. Потешные осады, несмотря ни на что, не могли считаться полноценными – у «противников» были одинаковые знания и опыт. Когда-то Лефорт даже отличился в одном из таких походов: повел всех на неожиданный и успешный штурм «городка» Бутурлина. Под Азовом Лефорт тоже призывал к скорейшему штурму. Опытный и осторожный Гордон сетовал: «Все шло так беспорядочно и медленно, что как будто было для нас несерьезно». Уже начала сказываться несогласованность генералов: для обстрела Азова на противоположный берег Дона был отправлен отряд Долгорукова, безопасная переправа которого должна была обеспечиваться объединенным отрядом. Но Лефорт отказался выделить для этого 1000 человек из своего корпуса, Головин поддержал его, и Гордон вынужден был обходиться своими силами.
Через месяц после начала осады у русских начало проявляться нетерпение, и 28 июля осажденным было предложено сдаться. Турки ответили, что будут сражаться до последнего. Это сулило продолжение осады, но, как пишет Гордон, «все были в нетерпении и сильно желали, чтобы этому был положен конец». Заговорили о штурме. Лефорт, а с ним и большинство, был «за», Гордон – решительно против. «Все только и говорили, что о штурме, – писал он, – хотя и не представляли себе, что для этого нужно». Спорить с большинством, а главное, с Петром было бесполезно, и Гордон «получил приказание готовить штурмовые лестницы и мосты». Но даже подготовка к штурму велась поспешно и небрежно. Вера в успех была непоколебимой, и напрасно на военном совете 2 августа Гордон пытался уговорить своих коллег отсрочить штурм: «они с большим рвением настояли на том, чтобы предпринять штурм в ближайшее воскресенье».[74]
Силы, которые должны были штурмовать город, предполагалось составить из «охотников» из всех трех корпусов. Это решение было довольно безграмотным: после долгого сидения добровольцев оказалось слишком много и к тому же они не захотели брать с собой никаких приспособлений.
На заре 5 августа начался штурм. «Журнал» сообщает о нем коротко: «Поутру рано был приступ великий к городу и бой был, и опять отступили, и на генерала Лефорта на обоз приступала конница».[75] Гордон немного расшифровывает: его отряд первым начал атаку, которая, по его мнению, не была вовремя поддержана силами Лефорта и Головина, причем последний вообще изменил направление. «Левофланговые, – пишет Гордон, – не сделали ничего, даже самомалейшего, до тех пор, пока наши, будучи утомлены, начали отступать. Тогда они предприняли атаку, но не с лучшим успехом, чем другие». Лефорт, естественно, видел все по-другому: «Немногого недоставало, чтобы город был взят, если бы только генерал (интересно, на кого он сваливает всю ответственность? – О. Д.) имел войска наготове во время, когда следовало. Из моих 1500 охотников 900 было убито или ранено». Задержку своего выступления Лефорт оправдывал тем, что потом «они оставались на валах в течение часов двух после других, чтобы спасти три знамени, упавшие в турецкие рвы вместе с убитыми офицерами. Они, – пишет Лефорт о своих добровольцах, – предпочитали умереть, чем потерять свои знамена. Они вернули их».[76] Потеря знамен в представлении Лефорта важнее больших людских жертв, вызванных задержкой его выступления. Впоследствии он так оценивал свои успехи по сравнению с успехами Гордона: «Все мои пушки целы, а также мои знамена, и, сверх того, я захватил у неприятеля одно из красных знамен. Моему кузену Гордону не повезло… Он потерял девять пушек, несколько знамен и несколько больших пушек. Все было бы хорошо, если бы не эта неудача».[77]
Неудача штурма очень расстроила всех, прежде всего Лефорта: «Если бы еще было 10 000 солдат, город был бы взят приступом». Настроение после 5 августа было подавленное. На военном совете «видны были только гневные взгляды и печальные лица». На следующий день было решено продолжать осаду. Гордон пишет: «После долгого обсуждения все, хотя и неохотно, согласились со взглядом и решением его величества продолжать осаду, продвигать дальше траншеи и закладывать мины».[78]
Энтузиазм осаждавших быстро иссяк, и 15 августа гарнизону было вновь предложено сдаться. Турки в ответ обстреляли парламентеров, а затем напали на лагерь Лефорта.[79] Осада продолжалась, а вместе с ней и упадок настроения. Лефорт и Головин говорили только о штурме. Все предложения Гордона об улучшении осады уже не выслушивались, и он был вынужден жаловаться на «плохое соседство при продолжении траншей и оборонительных линий» царю. То, что он высказал, «было выслушано без удовольствия».[80]
В напряженную жизнь осаждавших некоторую радость внесла весть о том, что казаки во главе с Мазепой и конница Шереметева взяли приднепровские города Тавань и Казы-Кермен. Сообщение об этом пришло 18 августа, а 19 августа у Лефорта по этому поводу состоялся пир: пили за здравие царя, Мазепы, Шереметева, а затем за «всех верных слуг в армии, причем при каждом тосте был даваем залп во всех трех лагерях и в траншеях, что беспокоило турок». Штурма, правда, не последовало.
Во второй половине сентября было решено пробить брешь в турецких укреплениях при помощи мины. Мина была взорвана 16 сентября, но результат оказался плачевным: она оказалась не там, где предполагалось, турки не пострадали, но «когда мина взлетела на воздух и бросила землю с досками, балками и камнями на наших же людей», было убито более 30 человек, а ранено более ста. Эта трагедия только усилила уныние и вызвала недовольство иноземцами, виновниками взрыва злосчастной мины. Неудивительно, что вновь заговорили о штурме. Только это могло вселить какой-то оптимизм. 17 сентября Петр пишет А. Виниусу: «А здесь, слава Богу, все здорово… И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози нам…» Решение вторично штурмовать Азов приветствовалось всеми, за исключением Гордона. «Несмотря на все мои доводы, – досадует он, – в представлении других генералов потребность видеть город завоеванным взяла верх над остальными затруднениями, причем они не приводили достаточно основания тому, что они говорили, и даже всякое сомнение в победе было истолковано как нежелание, чтобы он был взят».[81] Гордону вновь пришлось уступить. Подготовка ко второму штурму велась еще более поспешно, чем к первому.
Штурм 25 сентября, тем не менее, был не так безнадежен, как первый. Все собрались с силами и решили во что бы то ни стало взять Азов. Сначала силы Головина, а затем и Лефорта поднялись на валы, в то время как небольшой отряд Апраксина сумел закрепиться со стороны реки. Но гарнизон вновь оказал жесточайшее сопротивление. «Журнал» сообщает: «Был бой жестокий, только уступили наши».[82] Лефорт снова имеет свое объяснение неудаче: «Если бы его величество знал о такой численности гарнизона, то взял бы с собой больше войска. Будь у нас 10 тысяч, город бы пал наверное».[83]
Как бы то ни было, вторая неудача оказалась менее огорчительна. Уже было ясно, что кампанию пора сворачивать.
«Большие холода были поводом для снятия осады, – писал Лефорт, – а расстояние от Азова до Москвы большое».[84] 26 сентября было принято долгожданное решение снять осаду с 1 октября и возвращаться домой.[85]
Возвращение заняло около 13 недель, почти столько же, сколько длилась осада. Оно было тяжелым. «Возвращаясь, – пишет Лефорт, – мы провели 13 недель в степях, где страдали от больших холодов и снега».[86] Этот путь стоил Лефорту здоровья: он так неудачно упал с лошади, что получил серьезный внутренний ушиб, от последствий которого так и не оправился до конца жизни.
Встреча в Москве была довольно скромной. 22 ноября царь «вместе со всем царским сингликтом» въехал в Кремль, где поблагодарил генералов за службу.[87]
Причины «невзятия» Азова очень серьезно обсуждались в Москве. Царь на удивление переменился: под Азовом он почти не проявлял себя, теперь же делает самостоятельные выводы из случившегося. «С неудачи азовской начинается царствование Петра Великого», – пишет С. М. Соловьев.[88] Подготовка ко второму походу не откладывается. «Азов, надеюсь, – пишет Лефорт в Женеву 6 декабря, – не продержится долго. В море под Азовом будет стоять флот».
Сам будущий адмирал, несмотря на болезнь, рад вернуться к привычному образу жизни. Плохое здоровье, пишет он, «не помешало тому, чтобы в прошлый вторник его величество оказал мне честь и обедал со всей знатью. Много стреляли из пушек, много было разной музыки».[89]
Вскоре, с учетом прежних ошибок, началась подготовка ко второму походу: для полной блокады крепости к ней отправлялся флот, который предстояло немедленно создать, а для устранения разногласий между генералами были назначены два главнокомандующих: боярин А. С. Шеин назначался командующим всеми сухопутными силами, а Лефорт – адмиралом флота. Наконец, для успешного осуществления осады в Москву спешно приглашались опытные инженеры.
Возникает вопрос: почему Петр пожелал видеть в качестве первого русского адмирала уроженца Швейцарии? Для ответа нужно представить, кем и чем был для него Лефорт. Это был человек, который открыл для него новый мир. Лефорт кое-что повидал на своем веку, но больше создавал впечатление бывалого человека. Таким он выглядел не только в глазах Петра. Флот начинался прежде всего с разговоров о нем с иноземцами, из которых ближайшим другом царя был Лефорт. Он, как мы помним, имел непосредственное отношение к появлению в Архангельске голландского судна.
Историк российского флота С. И. Елагин замечает по поводу роли Лефорта: «Флот в конце XVII века был созданием насущной необходимости и не нуждался в специальных начальниках, которых, впрочем, негде было и взять. Здесь требовались здравый смысл и неуклонное выполнение даже малейших подробностей дела без враждебного на него взгляда».[90] Сам Лефорт сообщает об этом в Женеву 28 февраля 1696 года: «Его величество удостоил меня быть адмиралом, и я командую галерами. Их около тридцати, не считая других судов. Его величество является первым капитаном. Будем держаться у устья реки в море, чтобы отрезать возможность помощи городу».[91] Впрочем, и Лефорт, и Шеин были номинальными командирами. В этом походе настоящим командующим стал сам Петр, который официально занимал скромную должность.
После того как командиры были назначены, а инженеры вызваны из-за границы, дело оставалось за немногим – нужно было построить флот, который и решит исход операции. В январе-феврале 1696 года в Преображенском были построены галеры по голландскому образцу. В Воронеже началось строительство стругового флота, который должен был доставить войска к Азову. Петр отправляется в Воронеж в феврале. Что делает в это время адмирал? В начале года он все еще чувствует себя очень плохо. 28 февраля он сообщает: «Слава Богу, что нарыв вырвался наружу; в течение пятнадцати дней я надеюсь выздороветь и поехать в Азов».[92] Он пишет Петру о том, как он рвется к нему в Воронеж, но болезнь не позволяет ему: «В Москве дурно жить: везде пусто и кручины многие». Нельзя, правда, сказать, что болезнь совершенно оторвала Лефорта от дел. Пребывание адмирала в Москве имело свои выгоды: он находился в курсе дел, касающихся набора экипажа, найма иностранных специалистов, которые следовали в Воронеж через Москву. Отсюда же отправлялись выстроенные в Преображенском галеры. «А галеи, – пишет Лефорт Петру 10 марта, – с Москвы до твоего письма пошли. А про Майера (инженера. – О. Д.) изволишь ты писать, что не бывал, и я к нему непрестанно посылал, чтоб он с Москвы ехал».
Февраль и март Лефорт интенсивно лечился и в то же время следил за тем, чтобы все специалисты и суда вовремя отправлялись в Воронеж. Царь жаловался ему, что давно посланные из Москвы галеры никак не могут добраться до места. Лефорт отвечал: «Позволишь приказать шаутбенахту Балтазару Емельяновичу (контр-адмиралу Б. де Лозеру. – О. Д.), чтоб он с тех капитанов спросил: где они остались и для чего каторги (то есть галеры. – О. Д.) покинули? Достойны они, чтоб их наказать за то, что они покидают то, что им приказано; и изволишь ему сказать, чтоб он имена их у себя записал, приеду я, знаю, какое им наказание учинить».[93] В конце этого послания суровый Лефорт-адмирал как будто отдает царю приказ: «Я с ними справлюсь». Это единственное известное нам письмо Лефорта, написанное в подобном тоне.
Сам он выехал в Воронеж 31 марта. Рана еще не зажила, он пишет Петру накануне отъезда, что «в болезни моей доктора, как могли, свое добро чинили: однакож не могли ту рану растравить, по-прежнему мала, и материя худо идет, а вокруг нее твердо, что камень».[94] Дорога в Воронеж давалась тяжело: в коляске трясло – его пересадили в сани, но и тут боль не давала ему лечь и уснуть. Лефорту пришлось более двух недель ехать сидя, страдая от болей.[95] 16 апреля он, совершенно разбитый, добрался до Воронежа, чем несказанно обрадовал своего «командора». 17 апреля Петр устроил пир в его честь, а 19-го адмирал дал ответный прием у себя. После этих торжеств нужно было делать последние приготовления к отплытию. Основные силы вышли из Воронежа еще в конце апреля. 2 мая Петр пишет Ромодановскому: «Завтрашнего дня пойдет рано господин адмирал, да с ним восемь галей… воевода и генералы уже неделя с больше, как вышли».[96] Сам Петр хотел отправиться вместе с Лефортом 3 мая, но тот задержался еще на день, ожидая, когда для него будет изготовлен специальный струг «со светлицею и с мыльнею брусяными и печьми». В этой импровизированной больничной палате Лефорт поехал под Азов. В Черкасск, где собирались войска, он прибыл 23 мая, на следующий день после того, как без него была одержана важная победа: казаки напали на турецкие корабли, отчего многие из них пострадали, а остальные удалились. После этого русский флот мог беспрепятственно выходить в Азовское море. 26 мая флот подошел в Новосергиевск (так было названо место в устье Дона, где стояли захваченные в прошлом походе турецкие каланчи), а на следующий день вышел в море.
С сообщения о том, что адмирал вывел эскадру в Азовское море, и до сообщения о пире, который он устроил по случаю победы, о Лефорте нет упоминаний ни в журнале похода, ни в хронике «Поход боярина Шеина», ни в дневнике Гордона. Впечатления самого адмирала от своей первой победы тоже весьма скудны. Все это дает повод предположить, что больной Лефорт, находясь на своем комфортабельном струге, нисколько не влиял на ход событий, которые в это время разворачивались следующим образом.
Город был окружен как со стороны суши, так и с моря. Гарнизон Азова ожидал высадки десанта. Действительно, турецкий флот подошел к Азову, но быстро повернул обратно. Петр так описал этот решающий эпизод кампании: «Сего месяца 14 числа прислан к Азову на помощь анатолский турночибаша с флотом… который намерен в Азов пройтить; но увидя нас… принужден намерение свое оставить; и стоит вышепомянутый баша в виду от нашего каравана и смотрит, что над городом делается. Народын (комендант Азова. – О. Д.) просил у него людей на берег, чтоб ему пропустить сухим путем; но он ему сказал, отговаривался, что если мне де людей убавить, то де московский караван, пришед, караван мой разорит, и в ту пору что мне делать? ты не поможешь».[97]
Попытку высадить десант турки все же предприняли, но русским было достаточно поднять паруса, чтобы турки вернулись на свои корабли. 29 июня, в день святых Петра и Павла, Азову было предложено сдаться на выгодных условиях, но осажденные отказались. Тогда было решено штурмовать город 22 июля. Началась подготовка, но до штурма дело не дошло: 18 июля Народын объявил о сдаче. 19 июля русские вошли в крепость, которая, по словам Гордона, «представляла собой гору мусора».[98] Вероятно, эти разрушения были вызваны двукратной попыткой штурма в 1695 году. Лефорт писал тогда: «На Азов мы бросили более 15 тысяч бомб; город совершенно разрушен и сгорел».[99] Второй поход обошелся значительно меньшими жертвами, но после того, как Азов оставил турецкий гарнизон, город надо было отстраивать заново.
Но для начала нужно было отпраздновать победу. 20 июля гостей принимал у себя генералиссимус Шеин, а 21-го – адмирал Лефорт, который, кажется, и не сомневался в скором успешном исходе операции. Еще в июне он пишет: «Помощь (турецкому гарнизону. – О. Д.) пришла. Она остановилась в трех лье от Азова, в виду наших кораблей, но ей невозможно пройти».[100] После победы и скромных праздников по этому случаю Лефорт мог спокойно ехать домой долечивать свою рану, что он и сделал. Он выехал из-под Азова первым, по одним источникам (Гордон), 24-го, по другим (журнал) – 25 июля.
Итак, адмирал мог похвастаться своей первой морской победой, которая, кстати, была вообще первой победой русского флота, поэтому его, формального командующего этим флотом, по возвращении в Москву ждали большие почести. Не зря он пишет матери: «Я много вытерпел в походе, но радость, что все удалось так хорошо, заставляет меня забывать все претерпленное». Речь идет о сильных физических страданиях, которые немного утихли только в начале сентября. Тогда он пишет Петру: «Благодарение Богу, я чувствую себя гораздо лучше».[101] Однако и при этом он мог передвигаться по городу только в санях. Накануне он готовился к празднику, основная (неофициальная) часть которого должна была проходить у него дома. «У меня, – пишет он брату, – будет устроено большое празднество, как у командира флота, который был причиной победы».[102]
В честь победы под Азовом в Москве впервые была сооружена триумфальная арка, через которую прошла вся процессия, возглавлявшаяся Никитой Зотовым. Лефорт ехал в санях «о шести возниках цветных», в окружении многочисленных всадников и карет. У арки Лефорт вышел из саней и был встречен А. Виниусом стихами:
Генерал, адмирал! Морских всех сил глава! Пришел, увидел, победил прегордого врага![103]Лефорт с гордостью пишет: «Мне были устроены овации, а у триумфальных ворот преподнесены в подарок красивые ружья и пистолеты. Вся пехота стреляла из ружей троекратно, также стреляли из всех московских пушек. Все генералы следовали в процессии. И это длилось с утра до вечера».[104]
Пребывание в Москве снова не предполагалось долгим. После победы под Азовом можно было приступать к главному – заграничному путешествию Петра, которое осуществлялось под видом Великого посольства, возглавлявшегося Лефортом. Адмирал был щедро награжден: ему подарены золоченый кубок с именем царя, соболиный кафтан и парча, большая сумма денег и поместье под Тулой. Кроме того, Лефорт получил должность новгородского наместника, очень почетную и важную для его функции Великого посла. А самый главный подарок – каменный дворец, который на средства Петра должны были построить в его отсутствие. «Здесь нет здания, равного тому, что будет построено, – пишет Лефорт домой. – Стоимость его обойдется в 40 тысяч экю».[105]
Великое посольство
Великое посольство 1697–1698 годов – знаменательное событие русской истории, оказавшее большое влияние на дальнейшее развитие России. В том, что оно состоялось и приобрело такое значение, заслуга прежде всего Петра. Как пишет П. П. Шафиров, во всем «повинен разум царя», «острый, от натуры просвещенный». Первое определение бесспорно, но очевидно, что просвещенность – качество не врожденное. Также очевидно, что одним из важнейших «просветителей» Петра был Лефорт. Именно он сумел заронить в сознание юного царя желание «видеть европейские политизированные государства, которых ни он, ни предки его ради необыкновения по прежним случаям не видали».[106] Путешествие московского царя за границу нужно было соответствующим образом оформить. Кто именно подсказал Петру идею отправиться за границу в составе Великого посольства, можно только догадываться, но, несомненно, идея сама собой напрашивалась. О задуманном путешествии Лефорт пишет после первого Азовского похода: «Что касается меня, то его величество обещал, что после кампании отправит меня в путешествие по главным дворам».[107]
Назначение Лефорта великим послом не кажется странным. Кто как не он побуждал царя предпринять это путешествие, имел большие связи, знал несколько языков и хотя бы основы европейского дипломатического этикета? Кроме того, Лефорт действительно умел договариваться с людьми, что немаловажно, если учесть неофициальные задачи Посольства. У Петра в данном случае вряд ли были сомнения. Однако существовали Посольский приказ и официальные цели Посольства, сформулированные так: «для подтверждения прежней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов Креста Господня – салтана турскаго и хана крымскаго и всех бусурманских орд, к вящему приращению всех государей христианских».[108] Для разговора на таком языке были нужны опытные люди из Посольского приказа, поэтому вторым и третьим послами назначены Ф. А. Головин и П. Б. Возницын. Сам Лефорт отзывается о них доброжелательно: «Вторым (послом. – О. Д.) является храбрый генерал, служивший послом в Китае. Он служил генерал-комиссаром у меня во флоте под Азовом. Третий посол – великий канцлер (то есть глава Посольского приказа. – О. Д.), или думный, который служил посланником раз 20 в различных местах; имя его Прокофий Богданович Возницын». Русские коллеги Лефорта были во всем не похожи на него, но в целом три посла прекрасно дополняли друг друга.
Штат Посольства был велик – около 250 человек. В свите только одного Лефорта, по его собственным словам, было 12 дворяниностранцев, шесть пажей, четыре карлика, около 20 ливрейных слуг, пять трубачей, музыканты, пастор, лекари, хирурги и рота хорошо снаряженных солдат.[109] Кроме этой свиты Посольство сопровождала еще одна – отряд из 35 волонтеров. Отряд был разделен на десятки, и под именем второго десятника П. Михайлова скрывался царь.
9 марта 1697 года Посольство выехало из Москвы. Первоначально маршрут был составлен так: «К цесарскому величеству римскому, к папе римскому, к английскому да к датскому королям, к венецейскому князю и ко всей Речи Посполитой и к голландским статам и курфистру бранденбургскому»,[110] то есть: Вена – Венеция – Рим – Германия – Нидерланды – Дания – Польша. Однако подлинный маршрут был иным.
До первого зарубежного государства, принадлежащей Швеции Ливонии, Посольство добиралось три недели. 31 марта послы въехали в Ригу. Первый оказанный Посольству прием оставил всех недовольными. «Статейный список», официальная хроника Посольства, сообщает: «От Свейского рубежа до Риги и в Риге во все бытие… съестных кормов и вместо кормов денежной дачи… ничего не дано и вспоможения никакого не учинено».[111] В чем причина подобного негостеприимства? Официально – случившийся годом ранее неурожай. На другую, гораздо более важную причину намекает сам Петр в письме к Виниусу: «Здесь мы рабским обычаем живем и сыты были только зрением».[112] «Зрительные насыщения» в Риге скорее были не следствием обычного голода, но, напротив, главной причиной недоверия к Посольству в Риге. Прибыв сюда, в хорошо укрепленный город, принадлежащий традиционно недружественной Швеции, Петр стал проявлять свое настойчивое любопытство, которое несколько вышло за рамки: он внимательно осматривал рижские укрепления, делал заметки и наброски до тех пор, пока его не прогнал с укреплений караул. Возник скандал, который пришлось улаживать главе Посольства, Лефорту. Приставленный к Посольству капитан Лилиенстриен пришел к нему извиниться за поведение караула в отношении знатной особы (инкогнито царя пока соблюдалось), которую силой пришлось прогонять с укреплений и при этом даже стрелять, и застал виновника скандала в «очень серьезном разговоре с господином первым послом». Последний, выслушав извинения, «принял их благосклонно и ответил, что караул поступил правильно, и он даст указания, чтобы ничего подобного впредь не было».[113] Лефорт в данном случае был верен обещанию строго соблюдать инкогнито царя и желанию вести посольство так, «чтобы на нас не жаловались, как на других».[114] Он сумел успокоить рижского генерал-губернатора Дальберга, обещав ему, что запретит своим людям осматривать укрепления. Дальберг пишет, что Лефорт, «сам будучи опытным генералом, прекрасно знает, что таких вещей не потерпят ни в одной крепости Европы».[115] Но хотя конфликт был улажен, осадок остался. При случае этот инцидент был помянут П. П. Шафировым в «Рассуждении о причинах Свейской войны», который рассматривает непочтительное по отношению к царю поведение караула как «новую законную причину» войны: «Его царское величество не мог оставить как для пользы и интересу государства своего, так и для отмщения учиненных высокой персоне его обид и бесчестий, на которые никакой сатисфакции от короля свейского получить не мог».[116]
Посольство выехало из Риги 10 апреля и вступило во владения курляндского герцога Фридриха-Казимира, старого знакомого Лефорта. Здесь послы могли надеяться на лучший прием и не ошиблись. 14 апреля Посольство добралось до герцогского замка Экфоркен и было размещено в «княжеских хоромах». В тот же день на 87 подводах, предоставленных герцогом, Посольство двинулось в Митаву. Фридрих-Казимир казался послам «самаритянином, который излил вино и елей на их раны», полученные в Риге. Прием герцога был действительно радушным. Приставленный к Посольству барон Бломберг пишет: «По приказанию герцога все посольство было принято со всевозможной обходительностью и великолепием: их от мала до велика содержали, платя за их помещение, за стол и в особенности за вино и водку». Помимо увеселений и пиров послы провели с герцогом переговоры о военном союзе России и Курляндии. Последняя, правда, находясь в подчинении Польши (Фридрих-Казимир считался вассалом польского короля), и так считалась союзницей России, но положение в Польше было таково, что добрые отношения хотелось закрепить. «Статейный список» сообщает, что уже с 15 апреля «посещали великих и полномочных послов маршалок княжеский и иные началные люди офицеры и с великими и полномочными послами имели разговоры о воинских и гражданских делах». 16 апреля состоялась торжественная аудиенция у герцога, после которой послы и герцог имели «разговор тайно». Перед отъездом состоялась еще одна приватная встреча с герцогом, о содержании которой «Статейный список» умалчивает.
В чем был смысл тайных встреч Фридриха-Казимира с московскими послами? Вероятно, велись разговоры о польской проблеме: в это время решался серьезный для обеих сторон вопрос – кто будет следующим польским королем.
Несомненно, Лефорт представил своему давнему покровителю нынешнего, то есть царя. Первый посол произвел в Митаве впечатление человека, который «прочно утвердился на той высоте, которой достиг, что его государь всецело предоставил ему руководство всеми делами, даже руководство собственным поведением». Герцог, по старой дружбе, запросто взял его руку при встрече, барон Бломберг считал его одним из самых важных лиц в государстве. Других послов Бломберг называл «питухами», потому что они чрезмерно пили. Лефорт и здесь оказался на высоте: «Это настоящий швейцарец по честности и храбрости и особенно по умению выпить. Однако никогда он не дает вину одолеть себя и всегда сохраняет обладание рассудком».[117]
Из приветливой Курляндии, где «потчиваны великие и полномочные послы по вся дни от княжих приставов, и церемония во всех столах была по все дни против того ж, как и в первой… их приезда в Митаву день», Посольство 22 апреля выехало в Пруссию. Там их ожидала такая же теплая, но короткая встреча, и, удовлетворенные, послы двинулись дальше.
6 мая Посольство пересекло границу Бранденбургского герцогства. На границе послы объявили, что «по указу великого государя… имеют к его курфистрову пресветлейшеству посольство и наказанные дела»,[118] после чего были со всем почетом приняты. Пребывание Посольства в Кенигсберге затянулось на два месяца, в течение которых послы следили за развитием событий в Речи Посполитой, где в это время развернулась борьба за трон между французским принцем де Конти и саксонским курфюрстом Августом. В случае победы первого Польша подпадала под влияние Франции, а это означало для России потерю союзника в борьбе с Портой. Поэтому Посольство как могло пыталось вмешаться в события и не покидало Кенигсберг. Пользуясь этим, бранденбургский курфюрст Фридрих хотел заключить с Россией выгодный для себя договор.
21 мая состоялась аудиенция у курфюрста. На ней Лефорт, как глава Посольства, произнес традиционную речь, в которой перечислил все титулы царя, сообщил о его добром здоровье и поздравил курфюрста от его имени.[119] Через день начались переговоры относительно заключения союза. Послы согласились вести их при условии, что в них будет участвовать лично Фридрих, либо «через статьи на письме».[120] В результате был выбран второй вариант. Фридрих, от которого исходила инициатива, хотел заключить с Россией военный союз, для нее не выгодный: это противоречило условиям
«Вечного мира» с Польшей. Лефорт и другие послы, которых донимали даже во внеурочное время, прилагали все усилия, чтобы не заключать договор и в то же время не вызвать недовольства принимающей стороны, поскольку гостеприимством Фридриха им пришлось пользоваться довольно долго. Лефорт употребил все свое обаяние, убеждая приставленного к Посольству Рейера в том, что он имеет большие полномочия от Петра и «не менее почитание к курфюшеской светлости высокой персоне». Этих уверений оказалось недостаточно: Рейер продолжал настаивать на своих условиях. Под конец Лефорт уже отказывался обсуждать этот вопрос. Даже «Статейный список» отразил общее настроение, зафиксировав такой эпизод на обеде у комиссара Дан-Келмана, где «великие и полномочные послы говорили, что они к нему по его приглашению приехали обедать, а не для разговору дел».[121]
Так проходили переговоры, причем русские не собирались ни уступать, ни покидать Кенигсберг раньше, чем сочтут нужным. Царь, правда, настаивал на скорейшем отъезде. Он спешил в Голландию. Поскольку время потеряно, дальнейшие планы Посольства меняются – вместо Вены оно едет в Амстердам и Гаагу.[122] Отъезд, однако, задерживается: чтобы оправдать свое пребывание в Бранденбурге, Посольство должно заключить с Фридрихом договор, но на своих условиях. Важность его была не такой уж великой в глазах Петра, он считал долгое пребывание здесь пустой тратой времени. Наконец договор был подписан. Он не содержал статей ни о военном союзе, ни об изменениях в официальном дипломатическом протоколе, вопросе, чрезвычайно важном с точки зрения второго и третьего послов. Но на всякий случай, поскольку ситуация в Польше еще не разрешилась, царь заключил с Фридрихом «тайный словесный договор».[123]
Наконец Посольство выехало из Бранденбурга в Голландию. В дороге царь и послы продолжали напряженно следить за событиями в Речи Посполитой. Царь лично вел переписку с датским королем, Лефорт как новгородский наместник, ответственный за дипломатические сношения со Швецией,[124] переписывался с шведским министром Оксенштерном. В письме от 1 августа он предупреждает Швецию о серьезных последствиях, которые могут произойти, если польский престол займет де Конти, и, несмотря на обиды, причиненные русским в Риге, обещает возможное прибытие Посольства в Стокгольм: «И буде его королевское величество к тому намерение… а Деконтий с допущения Божия на королевство польское избран будет ж, тогда я, яко имея от царского величества полную мочь… из Галанской земли для постановления и утверждения тех дел с посолством буду в Стеколно к государю вашему…»[125]
Пятимесячное путешествие по небольшим европейским странам было лишь прологом для основной работы Посольства, которая началась в Голландии. Эту страну, по первоначальному плану, Посольство должно было посетить на обратном пути. Однако по инициативе Петра план был изменен. Неудивительно, что его влекло именно сюда: вероятно, о Голландии, море и трудолюбивых голландцах Петр был наслышан больше всего. Он даже оторвался от Посольства, прибыл туда раньше и остановился в Саардаме, где под именем Петра Михайлова нанялся на верфь.
Посольство отправилось в Амстердам и прибыло туда 16 августа.[126] В Голландии предстояло решить нелегкую задачу: просить Генеральные Штаты о помощи оружием и кораблями. Кроме этого, послы получили указания нанимать на русскую службу офицеров, матросов, корабельных мастеров и закупать все необходимое для строительства собственного флота.[127] Выполнение этих задач сулило долгое пребывание в Голландии, а значит, обеспечивало условия для того, чтобы царь и его волонтеры могли учиться без спешки. В результате Посольство провело в Голландии девять месяцев.
Посольство было встречено в Амстердаме огненными потехами и показательным морским боем. В нем участвовал и Петр, который успел научиться кое-чему, пока послы двигались к Амстердаму. Первые дни послы отдыхали, посещали по приглашению бургомистров ратушу, комедию, «галанские кирхи», побывали даже «в двух жидовских синагогах, и в тех показаны были великим и полномочным послам… на еврейском письме завет и пророчества».[128]
Посольство разместили в самой дорогой гостинице «Герн-Ложемент». Затраты на прием были большими, но Генеральные Штаты решили держать Посольство в Амстердаме, а не в Гааге, пока не решат свои проблемы на мирных переговорах с Францией. До середины сентября Посольство ожидало аудиенции, занимаясь дипломатической перепиской, закупкой оружия и припасов и принимая у себя посланника от только что избранного на польский трон Августа II – Христофора Бозена. Племянник Лефорта Пьер, приехавший к нему еще в 1694 году и теперь выполнявший обязанности секретаря Посольства, писал, что после достаточно беззаботной жизни в Амстердаме послам будет трудно снова привыкать к работе.[129] Тем не менее пребывание здесь было скорее вынужденным. Посольство покинуло Амстердам только на один день ради встречи с Вильгельмом Английским, которая состоялась 1 сентября в Утрехте. Статейный список сообщает об этом важнейшем событии коротко: «Вшед в покой имел (король. – О. Д.) разговор, а в разговоре говорил королевское величество, чтоб они великие и полномочные послы изволили завтра быть у него на обеде. И великие и полномочные послы били челом и от стола поотговаривалися. И быв от послов поехал, а великие послы из Утрехта тою же ночью поехали в Амстердам».[130] Понятно, что послы ехали в Утрехт не для того, чтобы отказаться от предложенного обеда. Вместе с ними на встречу ездил Петр. Он имел с Вильгельмом важный разговор, который состоялся в присутствии только одного Лефорта, выступившего в роли переводчика.[131] Тогда же, вероятно, Петр получил и с радостью принял предложение посетить Англию.
С 2 по 16 сентября Посольство снова в Амстердаме. Наконец послы собираются в Гаагу для аудиенции у Генеральных Штатов. 17 сентября на сорока каретах, в окружении эскорта трубачей, гайдуков, солдат и лакеев Посольство торжественно въехало в Гаагу, где было встречено депутатами Генеральных Штатов. Аудиенция, которая должна была открыть официальную часть посольства, состоялась только 25 сентября: девять дней ушло на споры о том, какова должна быть ее процедура. У русских дипломатов не было привычки уступать кому-либо в таком важном вопросе, тем более от них требовали, чтобы они «воздали им (Штатам. – О. Д.) честь такову ж, как и протчих великих государей христианских великие послы им честь воздают». Послы отвечали, что «им таких встреч чинить не пристойно».[132] Только 24 сентября Н. Витсен от имени Генеральных Штатов и Лефорт от имени Посольства наконец определили порядок церемонии. Голландцы пошли на ряд уступок, отчаявшись убедить русских уважать республиканский орган. 25 сентября Лефорту пришлось облачиться в русское платье для аудиенции. Ее церемония расписана в «Статейном списке» на десяти страницах, а между тем все ее содержание сводилось к следующему: «Как приехали к ним, на дворе стояло сорок человек солдат. Встречали два человека Стат, все были, и за столом сидело тридцать семь человек. Наших послов посадили посреди стола; прежде речь говорил Большой посол, потом другой, после Прокофий Возницын; грамоту дали и поехали».[133] После этого Посольство могло приступать к выполнению своей миссии, а Петр мог возвращаться на верфь.
Переговоры начались 29 сентября. В этот день послы известили депутатов о том, что царь ведет войну против турок, и напомнили о помощи, которую оказывал Голландии Алексей Михайлович в войне против Швеции, а в заключение обещали в следующий раз «предлагать и о иных делах».[134] На второй встрече 2 октября разговор получился более конкретным: послы рассказали о намерениях царя «готовить для походу на Черное море воинской морской караван, в котором будет воинских кораблей и галер со сто», и попросили Генеральные Штаты поддержать создание этого каравана, причем желательно не денежными средствами, а непосредственно оружием и кораблями: «Естьли невозможно казною, то бы всякими воинскими и корабельными припасы, чего у них много и доволство в том есть большое, а в Российском царстве таких к морскому каравану корабельных припасов за незвычием нет, и вскорости изготовить невозможно». За это послы обещали Генеральным Штатам по окончании войны их «наградити» и «за все воздати такими же мерами».[135] Депутаты не ответили сразу, но отказ был вполне предсказуем: только что Голландия вышла из очередной войны с Людовиком XIV и не была заинтересована в ухудшении отношений с Францией. Ответ послы получили 6 октября: «вспоможения воинскими и корабелными припасы учинить невозможно». Отказ мотивировался истощением казны и тем, что корабли пострадали в недавней войне.[136] Русские продолжали настаивать, приводя в пример истинно христианского государства Швецию, которая не осталась в стороне от общего дела, прислав в Россию триста (а по словам послов, пятьсот) пушек.[137] Контакты с шведским двором, как уже говорилось, велись от лица Лефорта. 19 сентября Лефорт получил от Оксенштерна ответ на свое послание, в котором министр заверял новгородского наместника в дружественных намерениях Карла XII по отношению к России, а также выражал поддержку России по польскому вопросу. В письме от 27 октября Лефорт сообщает своему шведскому коллеге о непрочности положения на троне Августа и предупреждает о коварных замыслах французского посла при шведском дворе: «Есть ли бы со стороны францужской или с польской от князя Деконтия и от желаемых ему, показалось им великим государем и государствам их и королевскому величеству польскому вредительные промыслы, то таких не токмо должно не принимать, еще яко непотребное и всему христианству вредное отсекать, истреблять и искоренять».[138]
Но вернемся к основному сюжету – переговорам с Генеральными Штатами. Послы продолжали давить на необходимость «помощи общему делу»,[139] не присоединившись к которому Голландия обрекает себя на позор. Но это заявление успеха не имело. 8 октября Лефорт пишет Петру в Амстердам: «А мы рады адсуды посскора в Абстердам быть, можно быть, еще одна конференци на тум неделе будет, и отпуск нашу. Будет ли добра, Бог знать. Ани не хотят ничаво давать».[140] Письмо полно пессимизма, однако огорчение вызвано не столько неудачей переговоров, сколько ощущением бессмысленности траты времени, которое для Лефорта предпочтительнее проводить не так и не в компании послов. Тем не менее Посольство не сдавало свои позиции. 10 октября, узнав о заключении мира с французами, послы, поздравляя Штаты, попытались еще раз склонить их к выгодному для себя решению, но и на этот раз безрезультатно.[141] Последняя встреча, завершившая бессмысленное выяснение отношений, состоялась 14 октября. Штаты подтвердили свой отказ, обещая предоставить помощь в будущем: «А что ныне вспомоществования никакого… они не учинили, и в том просят у царского величества прощения, а впредь, когда в состояние придут, тогда его царскому величеству услужность свою и в чем возможно вспомочествование чинити должны». После этого Посольству уже нечего было делать в Гааге, поэтому послы просили не задерживать их с прощальной аудиенцией и назначить ее на 16 октября. Но она состоялась только 18-го и описывается в «Статейном списке» всего на двух страницах.[142]
На этом официальная программа Посольства в Голландии была завершена, но это не означало, что оно собиралось покидать страну. Не решив своих проблем на государственном уровне, послы начали действовать частным образом: закупать крупные партии оружия и припасов у голландских компаний, проявивших заинтересованность в новом рынке.
По окончании своей миссии Посольство оставалось в Амстердаме с 21 октября 1697 года по 15 мая 1698 года без какого-либо официального предлога. Содержание его обходилось голландской казне очень дорого, Государственный совет осуществил даже дополнительное обложение провинций налогами.[143] Поэтому, после того как Посольство вернулось из Гааги, оно должно было содержать себя самостоятельно.[144] Быт рядовых членов Посольства был достаточно скромным, хотя великие послы, конечно, не отказывали себе в удовольствиях. Лефорт, уже отвыкший от скромной жизни, да к тому же занимавший главную представительскую должность, тратил в десять раз больше, чем второй и третий послы: его содержание обходилось около 16 рублей в день, тогда как Головин и Возницын получали по полутора.[145] О расточительности своего дяди сообщает в Женеву Пьер Лефорт: «Что касается расходов, то они действительно велики… В настоящее время мы живем в своем кругу на свои средства, но это обходится ужасно дорого, так как мой дядя расходует каждый день более ста экю только на своих гостей, не считая гостей других послов».[146]
Чем занимались послы во время без малого семимесячного пребывания в Амстердаме? После отказа Голландии оказать России помощь Петр изложил послам специальный наказ. Впрочем, Лефорт и до этого знал, чем ему предстоит заняться в Амстердаме. Еще из Гааги он пишет домой: «У меня есть задание нанять двести или триста человек, но в основном я ищу морских офицеров. Флот, которым я должен командовать, будет состоять из 120 судов и галер… по этой причине я останусь в Амстердаме для отправки всего необходимого». Это и было основным занятием послов и свиты, которое не отнимало много времени. Пьер Лефорт пишет в Женеву: «В настоящее время мы здесь ничего не делаем, и говорят, что мы останемся здесь до мая».[147] Все дела, конечно, можно было бы решить быстрее, но Посольство задерживалось, давая возможность Петру учиться в Амстердаме и съездить в Англию. Кроме того, находясь в центре Европы, послы были в курсе всей европейской политики. Наиболее частыми гостями послов были польский посланник Бозен, который являлся к ним почти ежедневно, шведский посол Фабрициус и имперские дипломаты.[148]
Пребывание в Амстердаме можно разделить на два периода. До 7 января 1698 года с Посольством был царь, а остальные четыре месяца Лефорт и его товарищи были лишены его общества и руководства. Петр, отбывая в Англию с отрядом волонтеров, дал послам указания продолжать нанимать на русскую службу офицеров и матросов и закупать оружие. Выполняя наказ, послы, «многим своим прилежным радением и трудами, приговорили и наняли на черноморский воинский флот, к генералу и адмиралу, вице-адмирала, шоутбейнахта, капитанов, комендоров, поручиков, шкиперов, штюрманов, боцманов… с тысячу человек».[149] Помимо основного занятия, послы вели переписку с Москвой, Веной и Лондоном и готовились к дальнейшему пути. Вена была не просто обязательным пунктом программы Посольства. Как стало известно, с апреля там снова зашла речь о мирных переговорах с Портой, к которым император был склонен больше, чем царь. Надежд на то, что Священная Лига будет продолжать свое существование и оказывать России поддержку в борьбе с турками, оставалось мало.[150] Посольство должно было торопиться в Вену, пока дело не решилось без его участия. О переговорах послы узнали 13 апреля, но двинуться с места до приезда Петра они не могли и надеялись, что «цесарь его, великого государя, в миротворении не оставит».[151] Цесарь подтвердил свое намерение заключить мир и обещал, что договор не будет сепаратным.[152]
Отсутствие Петра тяготило послов, особенно Лефорта. Все эти недели между ним и царем велась переписка. К сожалению, письма Петра Лефорту не сохранились, но письма последнего очень много говорят о характере их отношений. Лефорт писал в Лондон часто, иногда по нескольку раз в день.[153] Деловой информации в них довольно мало, в основном это проявления дружеских чувств. Бургомистр Витсен, давний друг семьи Лефортов, наблюдавший сцену прощания Лефорта с царем, пишет в Женеву: «В жизнь мою не видел я ничего более трогательного, как прощание его величества с господином генералом: они обнялись так крепко, что оба заплакали».[154]
В Англии Петру, вероятно, было уже не до слез, а вот Лефорт, выполняя довольно будничные обязанности, имел и время, и повод дать волю своей грусти. Казалось, Лефорт жил в Амстердаме, не отказывая себе ни в чем. Его брат Якоб, посетивший Лефорта в январе, так описывал ужин у посла: «На двух буфетах стояла серебряная посуда, ценность ее по крайней мере 60 000 ливров. Во время ужина играла музыка, а когда были питы тосты, играли трубачи в ливрее». На следующий день Якоб снова обедал у брата: «Все подается на серебре. Постоянно готовы 15 кувертов, а обедают у генерала от девяти до двенадцати человек».[155] Но светская жизнь, частично по привычке, частично по обязанности, не приносила Лефорту того удовлетворения, как это было в Слободе, когда в его обществе был царь. До этого Лефорт не разлучался с ним так надолго: в России, преодолевая сильные физические страдания, он следовал за ним в Воронеж и Азов. В январе Лефорт отправляет в Лондон не менее семи писем, причем от 20 января сохранилось два письма, а от 27-го – три. До 27 января все письма примерно одного содержания: «Я еще не получил ни одного письма от тебя. Ветер противный. Надеюсь, ты в добром здоровье. Что касается нас, то мы еще по обыкновению. Я желаю, чтобы ты скоро возвращался к нам здоровым».[156] 27 января была получена почта. От радости Лефорт отправил Петру три ответных послания, и в каждом – одни эмоции, он даже перешел на «Вы»: «Тысячу раз благодарствую, что Вы ко мне письмо написали. Радуюсь сердечно, что Вы здоровы. Да продлит Бог Ваши лета…»[157]
В феврале Лефорт совсем приуныл, потому что не получал из Англии никаких известий. Его письма кратки, новостей в них мало: «Потста из Москвы пришла… Изволишь нам указ послать проти его письма: время будет приготовитьсь войско проти бусурманы».[158] Письмом от 26 февраля Петр задал скучающим послам небольшую дополнительную работу, приказав подготовить договор о поставках в Россию английского табака. Лефорт с энтузиазмом отвечает: «Грамота, которую ты приказываешь твоей милости послать, готова будет с первою почтой. Воистину, по-моему, дело доброе».[159]
Уже в начале марта он начинает уговаривать Петра возвращаться, напоминая царю об официальной миссии Посольства: «Я дожидаю указа твоя, который время отсюды подниматьсь в Вьену город».[160] Тогда же он отпускает в Москву всех лишних людей с припасами, чтобы никто и ничто не задерживало Посольство, когда к нему присоединится царь. Отправка заняла немного времени, но Петр не возвращался. Лефорт посылал в Англию письма одно печальнее другого: «Я, по милости твоей, здесь помаленьку живу, не без кручины; а как Бог изволит, увижу милость твою в добром здоровье, забуду несчастные дни, которые здесь потеряю».[161]
В середине апреля стало понятно, что в Вену действительно пора спешить. Послы начали собираться и отправляли из Амстердама багаж. Из росписи покупкам мы узнаем, что приобрел для себя Лефорт: 16 сундуков с посудой, семь – с рухлядью, четыре бочки сухарей и одна с сырами, а также восемь бочек «пития».[162] Тогда же наконец вернулся Петр. Напоследок на русскую службу было принято еще несколько капитанов, инженеров и врачей, а также вице-адмирал Корнелий Крюйс и контр-адмирал Ян Форейс с «началными людьми».[163] Можно было выезжать в Вену, откуда шли все более неблагоприятные для России сообщения: резидент А. Никитин докладывал, что император ждет русскую делегацию для заключения мира, условия которого уже наверняка выработаны. Это не устраивало наших дипломатов, которые после покорения Азова рассчитывали получить по договору Крым.
15 мая Посольство наконец покинуло Амстердам и в дороге не задерживалось: Лефорт, обещавший родственникам посетить Женеву по пути, посылает домой племянника, чтобы тот передал всем поклон, а главное, взял с собой Анри Лефорта для встречи с ним в Ульме.[164] Состоялась ли последняя встреча отца и сына, мы не знаем: Пьер Лефорт прибыл в Женеву только 18 июня, в то время как Посольство было в Вене уже 16-го.[165]
Много времени заняла подготовка достойной встречи Посольства: послы встретились с такими же принципиальными в этом вопросе министрами и, несмотря на нехватку времени, потратили его именно на выяснение деталей церемонии. В конце концов они добились своего: их приняли с должным почетом и поселили в загородном дворце Гундендорф.
Вскоре начались переговоры. 21 июня послы подали свои статьи, в которых запрашивали условия будущего мира.[166] 24 июня пришел ответ, что «цесарь нетвердо склонен к любому миру и можно обнадеживати быти, что сего без получения честнаго и безопасного мира… война… продолжена будет». Наиболее приемлемым условием Леопольд I считал принцип «Uti possidetis», при котором за каждой стороной остается то, что она уже имела.[167] 26 июня для обсуждения этих условий в Посольство явился канцлер граф Кинский. С ним разговаривал Лефорт, который от имени всех послов выразил недоумение по поводу того, что «основание мира положено по воле его цесарского величества, а надобно б было то учинить с общего совета всех союзных». Кинский заверял, что все условия будут еще обсуждаться на конгрессе. Лефорт склонял Кинского к тому, чтобы Вена поддержала Москву на предстоящем конгрессе, согласившись на ее претензии не только на захваченный Азов и приднепровские города, но и на Крым.[168] После долгого разговора Лефорт передал Кинскому русские статьи, в которых содержалось требование передать России Керчь. «Если ж сим удовольствовати неприятель, при творении мира, к стороне царского величества не хочет, то б изволил цесарское величество продолжать наступательную войну со всеми союзниками».[169]
Еще до беседы с Кинским состоялась выходящая за официальные рамки встреча Петра с Леопольдом I. Эта встреча была организована Лефортом, который с первого дня намекал на то, что находящийся инкогнито при Посольстве царь желает встретиться один на один со своим «братом». Венская сторона долго разрабатывала протокол этой беспрецедентной встречи, однако ее усилия оказались тщетны: Петр не посчитался с протоколом. Лефорт, единственный свидетель и переводчик этого разговора, не говорит ни слова о его содержании: «Его царское величество и его императорское величество увиделись, их беседа продолжалась добрых четверть часа; я был у них переводчиком. Сенаторы и наши послы находились в стороне в продолжение всей беседы. Никогда ранее не присутствовал я при столь дружеских отношениях этих двух монархов». Пьер Лефорт со слов дяди добавляет ряд деталей: во время беседы монархи ни разу не присели. Петр просил Леопольда простить его за то, что он не приехал раньше.[170] Дружеская беседа монархов, однако, не принесла Посольству никаких преимуществ при продолжении переговоров. Для участия в них было решено оставить в Вене своего комиссара, чтобы остальное Посольство могло отбыть в Венецию.
Из наиболее приятных событий пребывания в Вене следует отметить празднование именин Лефорта 29 июня. В этот день русские послы совершили молебен и даже побывали в костеле, после чего «обедали у генерала и адмирала Франца Яковлевича Лефорта. Вечером были фейерверки, остальные потехи и стрельбы из пушек», которые продолжались часа два.[171]
После праздника послы стали собираться в Венецию и готовиться к прощальной аудиенции у Леопольда. Как обычно, на это ушла масса времени: то послы не соглашались первыми снимать шапки, то требовали предоставить им больше карет. Пришедшая 15 июля почта заметно ускорила ход дела: в письмах из Москвы сообщалось о «воровстве бунтовщиков стрельцов».[172] Петру пришлось отменить свое намерение ехать в Венецию, а Посольству не имело смысла продолжать путешествие без него. 18 июля состоялась аудиенция, а на следующий день Петр в сопровождении Лефорта и Головина отбыл в Москву, оставив П. Возницына в Вене для ведения переговоров.[173]
По дороге пришли известия о том, что бунт подавлен, поэтому царь и его свита получили возможность остановиться в Речи Посполитой. В Раве произошла знаменитая встреча Петра с Августом II. «Не могу вам описать, – пишет Пьер Лефорт, – какими объятиями обменялись эти два государя».[174] Франц Лефорт был переводчиком, а сама встреча, как известно, стала основой для будущего союза против Швеции.
Итак, Посольство завершилось. С точки зрения официальной, оно не имело значительных успехов. Но официальная миссия Посольства и не была его целью. Все, что осталось за рамками Статейного списка или лишь кратко упоминается в нем, было той реальной деятельностью, которая имела для России огромные последствия. Можно сказать, что поездка сильно изменила царя, дала ему импульс для преобразований. Какую роль сыграл в этом Лефорт? Во-первых, он уговорил Петра решиться на само предприятие. Во-вторых, он возглавил Посольство, выполнял все необходимые функции для того, чтобы, сохраняя инкогнито царя, дать ему возможность, не привлекая к себе внимания, заниматься тем, чем он считал нужным. В особых случаях Лефорт делал все, чтобы организовать встречи Петра с другими монархами: Вильгельмом, Леопольдом, Августом – и был единственным свидетелем их бесед. Конечно, Лефорт был не столько послом, функционирующим по традициям Посольского приказа, сколько «гидом» Петра по Европе. Не случайно он страдал в отсутствие царя и выделял себя из триумвирата послов тем, что «их забота не идет дальше их трех глаз, а их ответственность не простирается выше, чем за точное и возможное осуществление посольских дел», его ж ответственность простирается «гораздо выше, а именно, как бы то великое, что ему доверено… как бы его благополучно доставить».[175] Так Лефорт сам сформулировал свои собственные задачи в Посольстве. Он справился с ними – помог Петру увидеть своими глазами жизнь европейских государств, чтобы тот своим примером возбудил подданных к переменам. А кроме того, европеец Лефорт, будучи высоким официальным лицом, представлял Россию при многих дворах, создавая о ней новое впечатление.
Финал
25 августа 1698 года Великое посольство возвратилось в Москву. В Немецкой слободе первого посла и новгородского наместника ждал новый дворец, который был построен в его отсутствие. Постройкой руководил каменных дел мастер Д. Аксамитов, который в письмах сообщал Лефорту о ходе строительства. В 1698 году Аксамитов писал: «Изволит государь ведать про палатное строение и палаты все под подволоки и под кровли готовы все в отделке… А кровли еще не подряжены… А о большой палате изволь, государь Франц Яковлевич, писать к Москве: левкашить ее или тесом стены убивать».[176] Лефорт, по каким-то причинам, не спешил с ответом. Элизабет Лефорт, наблюдавшая за строительством, в своих письмах напоминала ему о том, что нужно обратить внимание на свое будущее жилище: «Я писала Вам множество раз, что архитектор подготовил его, и ему теперь нечего делать, осталось лишь покрытие, но он не знает, какое Вы хотите – деревянное или железное. Вы не сделали еще ничего, чтобы ответить ему.
Он хотел покрыть его деревом сейчас, но не может без Вашего желания».[177] Более мелкие вопросы она решала сама и делала заказы находившемуся за границей Лефорту: «Стекла для окон надо будет привезти из-за границы; здесь нет хороших».[178] Для себя она добилась постройки маленькой часовни рядом с комнатой.[179]
Дворец был действительно невиданным до этого сооружением, предвосхищавшим архитектуру будущего Петербурга. Здание его сохранилось (здесь размещается Военно-исторический архив), но в значительно измененном виде: после смерти Лефорта он неоднократно перестраивался. Первоначальный объем дворца представлял собой корпус, обращенный к Яузе и состоящий из трех квадратов на сводчатых подклетах. Высокие кровли и теремки, характерные для русской архитектуры, подчеркивали членение композиции, но она уже отличалась четким геометризмом и симметрией.[180]
В конце XVII века дворец стал не только местом средоточения нарождающейся в Москве светской жизни, но и центром дипломатической и политической жизни страны. О его значении говорит тот факт, что вслед за ним на Яузе возник целый ряд новых дворцово-парковых ансамблей, которые долгое время делали этот район наиболее престижным в Москве и определили развитие прилегающих территорий.
Дворец поражал не только москвичей, но даже европейцев. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб писал о нем как о великолепном здании, отличавшемся «царской пышностью».[181] Другой иностранец, певец Филиппо Балатри, был не просто поражен, а растроган. «Мне казалось, – писал он в своих записках, – что Слобода – сестра Флоренции, что я опять на родине».[182] Сам Лефорт очень гордился своим новым жилищем, центральное место в котором занимал зал для приемов: «Прежде всего упомяну о большой зале, по отзывам многих, превосходно меблированной. Другие четыре комнаты убраны не менее прекрасно, но в разном виде: одна из них оклеена позолоченною кожею и снабжена дорогими шкапами, во второй помещены весьма редкие китайские изделия, третья обита шелковою тканью, и в ней кровать в три локтя вышины… четвертая увешана, по желанию царского величества, сверху донизу морскими картинами и убрана, начиная с потолка, моделями галер и кораблей. Есть еще четыре комнаты, из которых четыре ждут своего богатого убранства».[183] Несмотря на то, что дворец был построен и обставлен в отсутствие хозяина, все было в его вкусе, и он остался доволен. Доволен был и истинный вдохновитель строительства дворца – Петр, для которого была специально устроена так называемая «белая палата» – комната, обтянутая целиком белой материей. Ее украшали модели кораблей и географические карты.
По приезде из Европы Петра и его соратников ожидало множество дел. Что касается Лефорта, то он, зарекомендовав себя в Европе как первый министр при Петре и заработав определенный авторитет как дипломат, продолжал оставаться неофициальным руководителем внешней политики и в Москве. В это время здесь как раз находились посольство от Леопольда I и другие иностранные миссии. Приемы и переговоры с ними велись преимущественно в Лефортовском дворце. Это экономило массу времени, которое, если бы все происходило в Кремле, могло бы быть потрачено на выяснение церемониальных деталей. Приемы в доме Лефорта проходили торжественно и в то же время непринужденно. Они чередовались с балами, обедами и другими увеселениями.
4 сентября, через десять дней после возвращения в Москву, Лефорт дал в своем дворце большой прием. На него, по свидетельству Корба, были приглашены все находящиеся в Москве представители иностранных держав, а также русские вельможи. Расходы оплачивал царь, но распорядителем был хозяин.[184] На этом приеме он помог датскому послу решить возникшее из-за его невнимательности недоразумение. «Датский посол, – рассказывает Корб, – неосторожно выдавший прежде Министерству верительную грамоту… несмотря на свое ходатайство, не получил у царя отпускной аудиенции. Но он так вкрался в доверие к Лефорту, что в его покоях, прежде нежели сели за стол, был допущен к целованию царской руки».
Надо сказать, что влияние Лефорта на 26-летнего царя уже не было таким, как раньше. Корб был свидетелем нескольких случаев, когда хозяин дома не смог сдержать гнев своего царственного друга. В одном случае царь, разгорячившись во время пира, рассердился на боярина Шеина, узнав, что в его отсутствие он производил в офицеры за взятки. В этот вечер Петр был настроен весьма агрессивно: до этого он успел обозвать дураками датского и польского резидентов. Никто не смел возражать ему, но вскоре гнев царя стал угрожать безопасности гостей: он «до того разгорячился, что, махая обнаженным мечом во все стороны, привел всех пирующих в ужас». Спасая Шеина, Ромодановский, Зотов и Лефорт бросились к царю. Первые два отделались легкими ранами, «а воеводе готовился далеко опаснее удар, и он, без сомнения, пал бы от царской десницы… если бы только генерал Лефорт (которому одному лишь это дозволялось) не сжал его в объятиях и тем не отклонил руки от удара». Однако объятия не превратились в дружеские, как могло быть раньше: царь поднял руку на друга: он «напрягал все усилия вырваться из рук Лефорта и, освободившись, крепко хватил его по спине». Лишь после вмешательства Меншикова царь успокоился, и пир продолжился.
Несколько позже Лефорту досталось еще сильнее: рассердившись на кого-то в доме полковника Чамберса, Петр, «схватив генерала Лефорта, бросил его на землю и попирал его ногами».[185] Вот еще другой пример: Лефорт давал праздничный обед по случаю европейского Нового года. За столом, куда были приглашены «двести самых знатных лиц», кто-то из гостей разгневал Петра тем, что стал клеветать на «одну особу, занимающую при царе первое место». Реакция была неадекватной: Петр обещал отрубить голову наиболее виноватому из двух завистников. Лефорт снова хотел вмешаться, но «царь оттолкнул его от себя кулаками».[186]
Как видим, Лефорт не раз рисковал, подставляя себя под удар. Он знал, чем вызвано подобное состояние царя: у проявляющегося деспотизма Петра были причины. Напомним, что он вернулся из Европы из-за стрелецкого бунта, который был уже подавлен до его приезда. Петр прибыл в Москву спустя месяц после того, как следствие было закончено. Его результаты не удовлетворили царя: Петр считал, что проводивший следствие Шеин не выяснил до конца ни причин, ни намерений бунтовщиков, не доказал причастности к мятежу Софьи.[187] Отсюда его гнев и угрозы Шеину, которые едва не стоили тому жизни. 17 сентября Петр сам приступил к розыску, обещав Гордону: «Я допрошу их построже вашего». Казни начались уже 30 сентября и продолжались до февраля 1699 года. Петр составил свои вопросные статьи для подследственных. Среди прочих в них содержался вопрос: «Хотели ли Немецкую слободу разорить и иноземцев, а на Москве бояр побить хотели ли?»[188] Пытки заставляли стрельцов признаваться в своих страшных намерениях и выдать значительную роль Софьи. 27 сентября Петр лично отправился в Новодевичий монастырь со свидетелями – стрельцами, которые, по их словам, получали от нее письма с призывом восстать против царя. Писем и других улик в руках следствия не было, доказать виновность Софьи было невозможно, чем Петр был разгневан. Он приходил в настоящую ярость, понимая, что не может предъявить Софье обвинение, в то время как ее вина для него очевидна. По словам А. К. Нартова, Петр хотел убить ее, но царевну спас Лефорт. «Франц Лефорт, – утверждает Нартов, – удержал его от этого, напомнив, что она сестра ему и что только турки убивают своих родных. Тогда государь отправился к сестре и долго разговаривал с нею. Она поразила его своим умом и смягчила слезами. Выйдя от сестры, Петр сказал Лефорту: она имеет великий ум, но жаль, что столько зла».[189] Не будем утверждать, что рассказ Нартова вполне достоверен, однако его можно сопоставить со свидетельством Корба: тот рассказывает о споре, который происходил в доме Лефорта 18–20 декабря. Речь шла о мере наказания, которое должна понести женщина, убившая мужа. Петр был за смертную казнь, «но генерал Лефорт был противного мнения, сказав, что недостойно воина стрелять в женщину, и притом еще виновную в смертоубийстве. Сими и подобными словами произвел Лефорт на царя такое впечатление, что он оставил несчастную ожидать своей смерти».[190] Вполне возможно, что реальным объектом этого спора была Софья, которая в результате была оставлена доживать свой век в Новодевичьем монастыре.
Во время расправы со стрельцами Петр собственноручно казнил виновных, заставляя делать то же и других. Меншиков, например, 17 октября отрубил головы 20 стрельцам.[191] Что же Лефорт? Корб свидетельствует об этом дне: «Генерал Лефорт, приглашаемый царем взять на себя обязанность палача, отговорился тем, что в его стране это не принято».[192] Вряд ли, конечно, то была достаточная для царя отговорка: будь на месте Лефорта другой, его бы это не спасло. У Лефорта все же оставался определенный иммунитет: быть палачом «учитель хороших манер» не мог. Причем основания для ненависти к стрельцам у Лефорта были довольно веские: на вопрос о намерениях стрельцов относительно Немецкой слободы были получены красноречивые ответы, в которых, между прочим, часто упоминалось имя Лефорта. Не все точно знали, кто он такой, но имя его вызывало крайнюю ненависть. На допросе один из стрельцов заявил, что именно Лефорт дал повод к мятежу. Сам стрелец не знал, действительно ли тот виновен, он верил подметным письмам, которые обвиняли Лефорта в том, что он увез царя за границу. Петр спросил этого стрельца, «что бы он сделал в том случае, если бы их предприятие удалось и если бы царь и сам Лефорт попались ему в руки», и стрелец немедля ответил: «Зачем меня об этом спрашиваешь? Сам, чай, лучше можешь рассудить, что бы тогда было!»[193] Действительно, если бы мятежники ворвались в Слободу, она была бы уничтожена, как была уничтожена в 1578 году первая Немецкая слобода за Яузой. Жители Слободы, среди которых была
Элизабет Лефорт, пережили много неприятных дней. 1 июля, когда мятеж уже был подавлен, она писала мужу в Вену: «Мы находимся здесь в ожидании смерти. Все дни – под угрозой нечестных людей, которые только и хотят нас убить».[194]
Мятеж был сильнейшей вспышкой ненависти, которую общество питало к иностранцам. В среде придворных это недовольство приходилось скрывать, с положением Лефорта мирились, пока он был жив и силен. Приходилось привыкать к новому времяпрепровождению, которое навязывал боярам Петр. Но, конечно, получать удовольствие от забав, к которым принуждают, было невозможно. Филиппо Балатри описывает случай, когда на одном балу по приказу Петра никто не мог выйти из Лефортовского дворца: «Царь решил, что праздник должен продолжаться двадцать четыре часа, чтобы за это время присутствовавшие здесь московские дамы и многие кавалеры сблизились с иностранцами из слободы и завязали с ними знакомство, чтобы у московитов мало-помалу исчезали суеверные понятия, что они унижают свое достоинство, общаясь с бусурманами».[195] Корб отмечает, что в отсутствие бояр обстановка была значительно менее напряженной. Об одном из таких обедов он пишет: «Никогда еще царь не выказывал более непринужденной веселости, как здесь, может, потому, что здесь не было ни одного боярина или другого какого лица, которое могло бы возмутить чувство удовольствия своим неприятным видом».[196]
Лефорт продолжает оставаться близким Петру человеком. Пока царь находится в Москве, а не в Воронеже, он проводит почти все время в компании Лефорта, а также Гордона и генерала Карновича. Чаще всего Петр обедает у Лефорта. Обстановка в Москве была не праздничной, но, несмотря на это, праздники продолжались. Немногие из них обходились без инцидентов: Петр не утруждал себя сдерживаться. На именинах Лефорта он набросился на дьяка Украинцева с обвинениями в злоупотреблениях; все гости стали просить царя о милосердии, но бесполезно, до тех пор, пока сам именинник не отвел его в сторону и не стал ходатайствовать. Петр остыл, но «ничем не обнаружил, что думный опять у него в милости». Через несколько дней Петр снова обедал у Лефорта в узком кругу, и на этот раз все прошло спокойно. Еще через несколько дней, 16 октября, накануне казни стрельцов, Петр и Лефорт обедали в австрийском посольстве. Царь был сильно возбужден, но старался казаться особенно беззаботным. Однако напряжение сказалось: он почувствовал озноб и спазмы в желудке. «Все ужаснулись при мысли, что под этим кроется какое-то зло», – пишет Корб. Лефорт, «встревоженный мыслью, что опасность угрожает жизни государя», сообразил послать за врачом.[197] А спустя несколько дней после страшной казни царь устроил праздник – пародию въезда Великого посольства в Вену. В этой странной церемонии, разыгранной на грани абсурда, принимали участие все, кто недавно вернулся из Европы, в том числе два первых посла. Ромодановский был назначен «правителем», которому Пьер Лефорт, секретарь, вручил верительную грамоту от короля Утопии, а в качестве подарка преподнесли обезьяну.[198] В чем был смысл этой комедии? Наверное, в том же, что и в многочисленных других увеселениях, которые царь устраивал в это страшное время, – казни чередовались с балами и пирами, где веселились те, кто только что вершил расправу над другими. Лефорт должен был развлекать палачей, сам от этой роли отделавшись. Поэтому на этих праздниках лежит зловещий оттенок. В ноябре Петр отбыл в Воронеж, и все получили некоторую передышку, но в середине декабря царь вернулся – и все началось с новой силой: и казни, и балы. На одном из таких балов пел 14-летний Филиппо Балатри, запомнивший этот вечер на всю жизнь и подробно описавший его в своих мемуарах. На вечер были приглашены все – и иноземцы, и русские со своими женами. Когда слуга объявил, что прибыли боярыни, все гости были поражены: «они будут находиться среди жен людей, нанявшихся на царскую службу, и жен торговцев, которых они считали окаянными и проклятыми!» Царь встретил боярынь со всей галантностью, на которую только был способен, но дамы все равно были заметно смущены. Неудивительно: они одни были одеты по-русски. Когда начался обед, бояре и боярыни не захотели сидеть за одним столом с иностранцами, но были насильно посажены туда царем, и им пришлось «кушать вместе с людьми низшего по сравнению с ними положения, которых они считали бусурманами». После обеда начались танцы, в которых Петр принудил участвовать боярынь. «Медленно двигаясь, они протанцевали три круга», царь проводил свою даму на место, и остальные с радостью последовали его примеру. Затем началась любимая потеха Петра – фейерверк, за ним ужин, а потом снова начался бал. Боярыни решили, что уже можно, сославшись на поздний час, распрощаться. Однако охрана не выпустила их из Лефортовского дворца, заставив повернуть назад. Дамы пожаловались царю, который, решив подшутить над ними, пошел провожать их сам. Шутка заключалась в том, что солдаты-стражники заявили царю: «Здесь никто не пропускается, даже самого царя не пропустим», на что Петр пожал плечами и сказал, что кто-то отдал этот приказ не для того, чтобы шутить, и им придется подчиниться.[199]
Надо сказать, что приемы происходили в доме у Лефорта и в отсутствие царя. Они все же доставляли ему удовольствие, тем более что, когда царь находился в Воронеже, в гости к Лефорту приходили без всякого принуждения. Часто в его доме принимали иностранных дипломатов. Об этом мы знаем из дневника Корба, сообщившего как минимум о пяти приемах в отсутствие царя. Последний в жизни Лефорта большой прием состоялся 20 января.[200] Он был дан в честь отъезда бранденбургского посла, с которым Лефорт был знаком «еще по прежним сношениям». На следующий день посол вместе со своим датским коллегой вновь навестили Лефорта, чтобы в узком кругу попрощаться с ним. Как сообщает Корб, они «много пили на открытом воздухе». Это роковым образом сказалось на здоровье Лефорта. Уже 24 февраля Корб запишет: «Родственник господина Лефорта, заступивший на его место, угощал сегодня обедом всех полковников».[201]
Но вернемся к дням, когда Лефорт был еще полон сил. Приемы были, конечно, основным содержанием его жизни, но он был не только первым послом, но еще и генералом и адмиралом, что также накладывало на него определенные обязательства. На верфи в Воронеже Лефорт уже не побывал, но для того, чтобы следить за постройкой флота, он и не годился: Петр знал теперь гораздо больше, чем он, к тому же с царем работали нанятые в Европе специалисты. Именно эти люди, а не корабли были предметом забот адмирала. Корб, слегка преувеличивая заслуги Лефорта, писал, что именно по его совету иноземцам было велено приезжать в Россию и свободно ее покидать, что прежде «было запрещено суровым законом». Никакого закона, как мы знаем, на этот счет не существовало, так же как никто не принуждал иноземцев силой принимать русскую веру – в Слободе, как известно, жили и католики, и лютеране, и кальвинисты. Настоящей заслугой Лефорта была забота, которую он оказывал приезжавшим в Россию иноземцам. Это даже доставляло ему удовольствие: помня свое прошлое, он не мог отказывать тем, кто нуждался в помощи. Однажды он заступился за двух голландских капитанов, приговоренных «за явное ослушание к смертной казни». В чем в действительности состояла их вина, неизвестно, но судились они по российским законам. По ходатайству Лефорта голландцы были освобождены и предстали перед Петром, который, надо полагать, сам разобрался в случившемся, потому что оба не только остались живы и свободны, но и были восстановлены в своих званиях и должностях: Петр собственноручно возвратил им шпаги. Другой случай, о котором рассказывает Корб, еще более любопытный. Некоторые голландские матросы, приехав в Россию, женились, оставив на родине своих законных жен. Узнав об этом случае, Лефорт запретил священникам всех исповеданий «обручать и венчать кого бы то ни было из его подчиненных без его ведома и особого на то позволения».[202] Вспомним также его заботу о солдатах и офицерах своего полка. Конечно, Лефорт – не выдающийся полководец, но его деятельность – назовем ее кадровой – внесла значительный вклад в создание русской армии.
Хотя Пьер Лефорт писал в Женеву в октябре: «Господин генерал просит извинить его: важные дела, касающиеся его морского экипажа, отвлекают его совершенно от частных дел»,[203] похоже, что это все же преувеличение. Свою связанную с флотом миссию Лефорт к тому времени уже выполнил, да и здоровье его с начала 1699 года стало заметно ухудшаться.
О болезни Лефорта стоит сказать особо. 3 февраля Пьер пишет Ами Лефорту: «Мне грустно известить Вас, что дядя мой, генерал, снова болен своими прежними ранами: они опять начинают мучить его, и есть вероятность, чтобы раны не открылись».[204] Раны, как мы помним, Лефорт получил по нелепой случайности после окончания первого Азовского похода и с тех пор уже никогда не был совершенно здоров. Ушиб о камень был слишком серьезным и вызвал поражение желудка. В декабре 1695 года он писал брату: «Я не в состоянии написать другим из-за опухоли в правой стороне желудка. Врачи и хирурги прикладывают мне пластыри ночью и днем; кроме того, я принимаю лекарства».[205] Спустя два месяца особых улучшений не наступило: Лефорт мог писать, только стоя на коленях. Из-за болезни поездка адмирала под Азов имела мало смысла, путешествие только расстроило его здоровье еще больше. В октябре 1696 года он снова пишет о плохом самочувствии и сообщает, что за ним ухаживают «четыре врача и около тридцати хирургов… Дай Бог им успеха. Что касается меня, я до невозможности страдаю».[206]
Петр был очень огорчен болезнью друга. Он следил за его лечением, иногда заставлял врачей делать перевязку в его присутствии.[207] После второго Азовского похода, когда болезнь Лефорта обострилась, Петр говорит ему, что предпочел бы потерять важные дела, чем его, и приставляет к нему врачей, приказав им не оставлять его ни на миг. «Врачи и хирурги получают выговор, – пишет Лефорт, – если они оставят меня без надзора; повсюду, куда я иду, за мной следуют и смотрят, чтобы я ничем не злоупотреблял, что вредно моему здоровью». Что было вредно для его здоровья, с точки зрения врачей и Петра, не совсем понятно, ведь Лефорт не имел возможности вести умеренную жизнь, даже если бы и хотел этого. Он, правда, пишет о том, что соблюдает строгую диету. «Уже год, – пишет он в октябре 1696 года, – как я веду умеренную жизнь, и вино мне запрещено». Однако уже на следующий год он поражал иностранцев своим великолепным умением пить, тосковал из-за отсутствия на его столе «Лакрима Кристи или доброго сека». В Посольстве, очевидно, диета сошла на нет, да и раньше он признавался: «Иногда, несмотря на все, я выпиваю стаканчик для утоления болей».[208] В Амстердаме масштабы были уже другие. «Вчерашний день, – пишет он Петру в Лондон, – были у меня товарищи и по указу твою грамоту не отпирали, покамест три кубка великие выпили, а после читали и три раза еще пили. А вы извольте хоть немножко пить про здоровье, которое мы пили».[209] Во время длительного пребывания в Амстердаме Лефорт явно вел неумеренный образ жизни. Слухи об этом доходили до Женевы и до Москвы.[210] Б. А. Голицын, давний друг и, надо сказать, собутыльник Лефорта, даже написал ему: «Спился ты, миленькой, с ума, ни о чем дельно не пишешь?»[211] По-видимому, во время путешествия болезнь на время отступила, во всяком случае, за все это время он на нее не жаловался. Зима 1699 года заставила вспомнить о диете, но было уже поздно. Ежедневными пирами и попойками Лефорт, казалось, сознательно укорачивал свою жизнь. Болезнь усугублялась сильным нервным напряжением, которое он не мог не испытывать в те дни, находясь рядом с Петром.
Лефорт слег в начале февраля, но еще находил в себе силы принимать гостей. 21 или 22 февраля он даже выходил с датским и бранденбургским посланниками на воздух, после чего на следующий день, почувствовав жар, слег окончательно. Петр в то время находился в Воронеже, ничего не подозревая о состоянии Лефорта, которое с каждым днем становилось все опаснее. 28 февраля Лефорт начал терять рассудок, поскольку боль не давала ему «ни отдыха, ни сна». Иногда он впадал в бред. Врачи были бессильны и просили музыкантов играть у постели больного, чтобы усыпить его.[212]
1 марта Лефорт несколько раз приходил в себя и призывал то пастора, то музыкантов. В тот день Пьер уже писал отцу: «Не могу Вам выразить своей скорби». Надежды не было, и действительно, в ночь с 1 на 2 марта Лефорта не стало. До последней минуты он почти все время бредил. Пастор находился при нем, но Лефорт, пытаясь что-то ему сказать, не мог произнести внятно ни одного слова. За час до кончины он попросил прочесть молитву.[213] Это все, что сообщает о последних минутах Лефорта его племянник. Корб, при этом не присутствовавший, передает в дневнике то, что слышал, а слухов после смерти Лефорта появилось много. «Говорят, – пишет Корб, – когда пришел к нему реформатский священник Штумпф и стал много объяснять ему о необходимости обратиться к Богу, то Лефорт только отвечал: „Много не говорите“. Перед его кончиной жена его просила у него прощения, если когда-нибудь в чем-то провинилась. Он ей ласково ответил: „Я никогда против тебя ничего не имел, я тебя всегда любил и уважал“, при этом несколько раз кивнул головою, и так как он более ничего не сказал, полагают, что он намекал на какие-то посторонние связи».[214] Все эти слухи демонстрируют только репутацию, которую сумел завоевать Лефорт. По другим же источникам, Лефорт «на смертном одре черпал все утешение из одной горациевой оды и отошел в вечность при звуке труб и литавр».[215] Вот строки из этой оды:
Хранить пытайся духа спокойствие Во дни напасти; в дни ж счастливые Не опьяняйся ликованьем, Смерти подвластный, как все мы, Деллий.(Гораций, Оды, II, 3)
В Воронеж к царю немедленно был отправлен нарочный с письмом Б. А. Голицына: «Здравие твое да хранимо Богом! Писать боле, государь, и много ноне оставил для сей причины, либо сам изволишь быть. С первого числа марта, в восьмом часу ночи Лефорт умре; а болезнь была фибра малигна (злокачественная лихорадка. – О. Д.)».[216] Петр прибыл в Москву 8 марта. По свидетельству Корба, царь заливался слезами и рыдал, «как будто его извещали о смерти отца». Он произнес тогда: «Уж более я не буду иметь верного человека; он один был мне верен. На кого теперь могу положиться?!»[217] Похоронить друга Петр решил со всей пышностью, на которую был способен.
Похороны состоялись 11 марта. До этого еще ни одна печальная процессия, наверно, не была описана в таких подробностях, в том числе и неприглядных. Сохранился сделанный по приказанию Петра список с надгробной речи пастора Стумпфа. Итак, с утра «все представители иностранных держав, – пишет Корб, – приглашенные участвовать в погребении покойного господина Лефорта, явились в его дом в печальном платье». Пришли бояре. Вынос тела был назначен на восемь утра, но из-за каких-то недоразумений «солнце дошло до полудня и оттуда взирало на готовившуюся печальную процессию». Столы тем временем накрывались, и гости уже бросали на них свои взоры. «Меж тем пришел царь. Вид его был исполнен печали. Скорбь выражалась на его лице». В этот день люди, любившие и не любившие Лефорта при жизни, продемонстрировали свое настоящее отношение к нему. Царь снова «залился слезами и перед всем народом, который в большом числе сошелся смотреть на погребальную церемонию, напечатлел последний поцелуй на лице покойника». Траурное шествие напоминало триумфальное: впереди шел Преображенский полк во главе с Петром, за ним Семеновский и Лефортов в сопровождении музыкантов и знаменосцев. За ними пять человек несли «на пяти подушках некоторые драгоценности». За гробом шли иностранные посланники и бояре, затем женщины во главе с Элизабет Лефорт. Царь сам следил за тем, чтобы никто не нарушал печальной торжественности момента. Однако в церкви бояре начали «по нелепой гордости» протискиваться к гробу, создав сумятицу. «Это собаки, а не бояре мои», – сказал на это царь.[218] В церкви была произнесена надгробная речь пастора Стумпфа, которая так растрогала Петра, что он велел записать и сохранить ее.
Гроб был опущен в склеп, но где именно, сейчас неизвестно. Анри Лефорт, навещавший могилу в 1701 году, пишет даже, что тело отца сохранилось, «как будто не лежал там недели, а уже прошло три года».[219]
После погребения тела все вернулись в Лефортовский дворец, где были накрыты столы. В память о печальном событии Петр раздал всем присутствующим кольца, на которых были выгравированы дата смерти Лефорта и аллегория смерти. На траурном обеде произошел случай, который показал подлинное отношение бояр к Лефорту. Проведя с остальными какую-то часть времени, царь вышел на воздух, чтобы побыть одному. Едва за ним закрылась дверь, «как бояре тоже поспешно начали выходить, но сойдя несколько ступеней, заметили, что царь возвращается, и тогда они вернулись в дом». Петр был в ярости: «Быть может, вы радуетесь его смерти? Почему расходитесь? Статься может, потому, что от большой радости не в состоянии более морщить лица и принимать притворный вид?» Петр был прав, немногие бояре любили покойного и его дом, который спешили покинуть, проводив в последний путь хозяина.
Через несколько дней произошло еще одно ужасное событие: по словам Корба, кто-то пытался ограбить могилу Лефорта, считая, что тот был необычайно богат.[220] Между тем, несмотря на свое высокое положение и неограниченные возможности к обогащению, Лефорт, живший в роскоши, оставил жене и сыну практически одни долги – 5957 рублей 25 алтын 4 деньги, которые уплатил за него Петр. Правда, вдова имела собственный источник дохода – она получила большое наследство от своих родителей и всегда распоряжалась им сама, ей же перешли подаренные Лефорту деревни. Элизабет пережила мужа на 27 лет.
Борис Петрович Шереметев
Начало пути
Борис Петрович Шереметев – полная противоположность Меншикову. Всякий раз, когда мы сравниваем черты характера и детали биографий этих сподвижников Петра, у нас появляется все больше оснований для их противопоставления. Меншиков не мог похвастаться предками – ему пришлось изобретать себе родословную, достойную уважения. Родословие Шереметева было блистательным. Меншикова природа наградила талантами полководца и администратора. Шереметева мы не можем назвать бездарным, но его способности были значительно скромнее. Светлейший был подвижен, энергичен, отважен и даже бесшабашен; ему ничего не стоило очертя голову броситься в пекло сражения либо совершить лихой и неожиданный налет на неприятеля. Шереметев, напротив, отличался медлительностью и крайней осторожностью. Он – сама рассудительность, остерегающаяся неожиданных поворотов; наперекор рассудку он не шел. Первый любил рисковать – второму риск противопоказан. Шансы свои и своего противника Шереметев досконально взвешивал и чувствовал себя уверенно, когда располагал превосходством в силах. Он не из тех полководцев, кто под воздействием эмоций мог бросить судьбу вверенного ему войска на волю случая.
Но вместе с тем в чертах характера обоих деятелей нетрудно обнаружить некую общность. Их роднили тщеславие, страсть к стяжательству, оба были неравнодушны к лошадям. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта общность была чисто внешней. Они руководствовались в своих начинаниях разными побудительными мотивами и потворствовали своим слабостям разными средствами.
Так, Меншиков умножал свои богатства тем, что запускал руку в казенный сундук, не различая личное достояние и государственное. Не брезговал светлейший и скользкими финансовыми операциями, если они сулили изрядные барыши. Борис Петрович бескорыстием не отличался – иначе бы он не был сыном своего времени, но не отваживался красть в масштабах, которые дозволял себе Меншиков. Представитель древнейшего аристократического рода если и воровал, то настолько умеренно, что размеры украденного не вызывали зависти у окружающих. Во всяком случае крупных хищений за ним не значилось. Шереметев умел попрошайничать. Он не упускал случая напомнить царю о своей «нищете», и его стяжания являлись плодом царских пожалований: вотчин он, кажется, не покупал.
Подоплека интереса к лошадям тоже была различной. Для Меншикова порода лошадей конюшни имела престижный характер – княжеское тщеславие не позволяло ему довольствоваться скромным выездом. Борис Петрович проявлял подлинную любовь к лошадям и знал в них толк. Только человеку, безгранично симпатизирующему коню, могли принадлежать слова, напоминающие крик души. В 1710 году он изливал свое горе Якову Вилимовичу Брюсу в связи с гибелью лошадей: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади: чубарые и чалые и гнедые цуги? Всех марш истратил: лучший мерин, светло-серый, пал».[221]
Свою родословную Шереметевы ведут с XIV столетия. Основателя рода называли Кобылой. Фамилия Шереметевых возникла от прозвища Шеремет, которое носил один из их предков в конце XV века. Потомки Шеремета встречаются в качестве военачальников уже в документах XVI века. С этого же времени род Шереметевых стал поставлять бояр.
Борис Петрович родился 25 апреля 1652 года. Поначалу его карьера ничем существенным не отличалась от карьеры других родовитых отпрысков: в 13 лет он был пожалован в комнатные стольники. Этот придворный чин, обеспечивавший близость к царю, открывал широкие перспективы для повышения в чинах и должностях. У Шереметева, однако, стольничество затянулось на долгие годы. Только в 1682 году, то есть в возрасте 30 лет, он был пожалован в бояре. В дальнейшем он подвизался на военном и дипломатическом поприщах. В 1686 году в Москву прибыло посольство Речи Посполитой для заключения договора о мире. Русских дипломатов на переговорах возглавлял фаворит царевны Софьи князь Василий Васильевич Голицын. В числе четырех представителей русской стороны находился и Борис Петрович. Успешные переговоры завершились подписанием 26 апреля 1686 года «Вечного мира». Шереметев был пожалован позолоченной чашей из серебра, атласным кафтаном, получил прибавку жалованья и крупную единовременную награду – 4 тысячи рублей.
Летом того же 1686 года Шереметев продвинулся на дипломатическом поприще еще на одну ступеньку: он возглавил посольство, отправленное в Речь Посполитую для ратификации «Вечного мира». В Варшаве он выказал галантность – испросил аудиенции у королевы, чем польстил ее самолюбию и обеспечил поддержку своим начинаниям.
Из Польши Шереметев направился в Вену, где он должен был заключить договор о совместной борьбе против общего неприятеля – Османской империи. Однако император Леопольд I решил не обременять себя союзническими обязательствами, и поэтому переговоры не привели к желаемому результату. Во время встреч с австрийскими дипломатами энергия сторон тратилась на изнурительные споры о церемониале приема русского посольства, о титуле царя и т. д. Впрочем, одного успеха Шереметеву все же удалось достичь: он был первым русским представителем, вручившим грамоту непосредственно австрийскому императору. До этого такие грамоты принимали министры.
В Москве результаты посольства Шереметева были оценены положительно, и боярин получил в награду крупную вотчину в Коломенском уезде.
В 1688 году мы встречаем Шереметева на военной службе: ему было поручено командование войсками в Белгороде и Севске, которые должны были преградить путь набегам крымских татар. В те времена дипломатическая служба перемежалась либо сочеталась с военной, ибо считалось, что чин боярина мог обеспечить успех как на поле брани, так и за столом переговоров.
Пребывание вдали от Москвы избавило Шереметева от необходимости участвовать в событиях 1689 года. Если бы он жил в столице, то перед ним непременно встал бы вопрос: к кому примкнуть и на чью чашу положить авторитет ближнего боярина – Петра, заводившего в потешных войсках иноземные порядки и дружившего с иностранцами из Немецкой слободы, или Софьи, ориентировавшейся на аристократические фамилии. Сословная принадлежность Бориса Петровича должна была склонить его симпатии к Софье. Вместе с тем Шереметев, будучи не в ладах с фаворитом царевны Голицыным, оказался на вторых ролях и как бы в почетной ссылке. В этих условиях захват власти царевной не сулил боярину никаких выгод.
Характерно, что, после того как Софья была повержена, Шереметев долгие годы не был призван ко двору. Продолжительное пребывание на Украине предоставило ему возможность изучить польский язык. Знал он его настолько прилично, что в случае нужды даже брался переводить с русского на польский. Об этом говорит письмо, отправленное Борисом Петровичем Меншикову много позже – 9 апреля 1705 года. Будучи в Дубровне, он писал ему: «В переводе универсала досконалова человека не сыскал, что б умел на польский язык тем же сенцыем (смыслом. – Н. П.) слово в слово перевесть. В Дубровне таких людей ученых, також школ нет, и, сколько мог, трудился сам и переводил».[222]
В первом Азовском походе 1695 года он участвовал на отдаленном от Азова театре военных действий: царь поручил ему командование войсками, которые должны были отвлекать внимание османов от главного направления русского наступления. Уже сам факт, что Шереметев не находился в числе трех главнокомандующих (Лефорт, Головин, Шеин) армией, двигавшейся для овладения Азовом, свидетельствует о том, что Борис Петрович не пользовался особым расположением царя. Это расположение надлежало завоевывать делом, и Шереметев не жалел сил, чтобы добиться успеха: он без особого труда разорил османские крепости по Днепру. В следующем году Азов пал. Османы попытались компенсировать потерю Азова захватом ранее отнятых на Днепре крепостей, а также вновь построенной крепости Таван, но Шереметев пресек эти попытки.
Овладение крепостью в устье Дона не обеспечивало Россию морским путем сообщения со странами Европы. За право свободного плавания русских кораблей по Черному и Средиземному морям предстояла длительная и напряженная борьба с Османской империей, контролировавшей Керченский пролив, а также Босфор и Дарданеллы. В поисках союзников для совместной борьбы с южным соседом в марте 1697 года на Запад отправилось так называемое Великое посольство, в составе которого находился сам Петр.
Три месяца спустя после отъезда из Москвы Великого посольства двинулся в путь и Шереметев. Какие обязанности возлагались на Бориса Петровича? Почему выбор пал именно на него? Эти вопросы задавали и современники, и историки, но известные в настоящее время источники не позволяют дать на них удовлетворительный ответ. Один из современников, секретарь австрийского посольства И. Корб, рассуждал так: «Нет ничего обыкновеннее, как высылать под личиной почета из столицы тех лиц, могущество которых или всеобщее к ним расположение внушают опасение». Поручение, выполнение которого было связано с выездом за границу, Корб объясняет стремлением Петра обезопасить трон на время своего отсутствия от возможных покушений на него со стороны Б. П. Шереметева.[223]
Вряд ли, однако, догадка Корба имела под собой прочные основания. Переворот в пользу новой династии при живом царе, временно покинувшем пределы страны, исключался. Столь же сомнительным является его предположение, что Борис Петрович мог действовать в интересах Софьи. Конфликт между ее фаворитом и Шереметевым был настолько глубоким, что позволил одному из современников назвать боярина «смертельным врагом» Голицына.[224]
Находящиеся в распоряжении историков документы придают путешествию Шереметева даже некоторую загадочность. В указе Шереметеву цель его поездки формулировалась так: «…ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей Креста Святого военных поведений, которые обретаются во Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в воинстве кавалеры». Во время аудиенции у польского короля и саксонского курфюрста Августа II Шереметев заявил, что его позвала в путь благодарность к апостолам Петру и Павлу, которые патронировали его победы над неприятелем. Вслед за победоносными сражениями он дал клятву отправиться в Рим, чтобы поклониться мощам апостолов. В Вене Борис Петрович заявил, что его путь лежит на остров Мальту, в лоно мальтийских кавалеров, «дабы, видев их храброе и отважное усердие, большую себе восприяти к воинской способности охоту».[225]
Таким образом, если верить документам, то поездка Шереметева в дальние страны была продиктована отчасти религиозными мотивами, отчасти познавательными целями. Согласно версии «Записок путешествия», инициатива исходила от самого Шереметева, которому поездка обошлась в 20 500 рублей.*
Все эти рассуждения вызывают глубокие сомнения, которые подкрепляет и колоссальная по тому времени сумма издержек на вояж. Присмотревшись к «Запискам» внимательнее, нетрудно обнаружить, что и при выборе маршрута путешествия, и при выборе кандидата в путешественники царь руководствовался деловыми соображениями. Забегая вперед, отметим, что Шереметев посетил Речь Посполитую и Австрию, где встречался с польским королем и австрийским императором, дальнейший путь его лежал в Венецию. Совершенно очевидно, что маршрут Шереметева предварял маршрут царя и являлся частью общего плана русской дипломатии по сколачиванию антиосманского союза европейских держав. Петр тоже имел встречи с польским королем и австрийским императором. Намеревался он посетить и Венецию, но тревожные сведения о стрелецком бунте, полученные им, когда он находился в Вене, вынудили его прервать поездку и вернуться в Россию.
Для выполнения дипломатической миссии в этих странах у Петра не было более подходящей кандидатуры, чем Шереметев, в особенности если учесть, что весь цвет русской дипломатии был включен в состав Великого посольства. Преимущество Шереметева состояло в том, что за его плечами был опыт дипломата и ему, как отмечалось выше, уже довелось побывать в некоторых из стран, куда он держал путь. Шереметев был, кроме того, военачальником, причем он успешно руководил военными действиями против неприятеля, являвшегося противником номер один и для дворов, которые он намеревался посетить, – Варшавы, Вены, Неаполя. Имела значение и внешность Бориса Петровича. Голубоглазый блондин с открытым лицом и изысканными манерами, он обладал качествами, необходимыми дипломату: в случае надобности он мог быть и непроницаемым, и надменным, и предупредительно-любезным. Петр при выборе кандидата, видимо, учитывал еще одно качество Бориса Петровича: он был не чужд восприятию западной культуры, во всяком случае ее внешних проявлений.
Интересна реакция князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского на известие из Вены о том, что руководитель дипломатической службы России Федор Алексеевич Головин обрядился в европейский костюм. Если положиться на свидетельство Корба, то Ромодановский будто бы воскликнул: «Не верю такой глупости и безумству Головина, чтобы он мог пренебречь одеждой родного народа».[226] Правда, некоторое время спустя самому Ромодановскому пришлось расстаться и с бородой, и с древнерусским кафтаном, но сделано это было под давлением царя: князь-кесарь был вторым лицом, которого Петр собственноручно лишил бороды. Шереметев без всякого принуждения сам обрядился в европейский костюм и щеголял в нем на банкете в Вене. Появление боярина в немецком платье было столь необычным явлением, что его сочли необходимым отметить в «Записках путешествия».
Шереметев оставил Москву 22 июня 1697 года. По России он ехал не спеша и без приключений. Три дня Борис Петрович провел в своей коломенской вотчине, куда съехалась на проводы вся родня. Навестил он и кромскую вотчину, где пробыл свыше недели. Неприятности подстерегали путешественника с того дня, когда он пересек русско-польскую границу. Накануне его предупредили, что в Речи Посполитой начался очередной «рокош», сопровождавшийся, как сказано в «Записках», «мятежами и убийствами». Благожелательные к России представители католического духовенства рекомендовали Шереметеву продолжать путь «с великим опасением». Боярин решил ехать под именем ротмистра Романа, причем свита, состоявшая из царедворцев и слуг, была объявлена «равными товарищами». Полностью сохранить инкогнито ему не удалось: поляки заподозрили, что едет не «равное товарищество», а боярин со свитой. В связи с этим Шереметеву пришлось провести сутки в тюрьме.
«Записки путешествия» регистрировали каждое перемещение Шереметева. В них читатель обнаружит немало любопытных описаний того, что доступно обозрению всех, – например, рельефа местности, городских сооружений, явлений природы, церемоний и т. д. Напротив, автор «Записок» крайне скуп, когда надлежало сообщить подробности о существе происходившего, и в частности о содержании разговоров с коронованными особами, или перейти к анализу увиденного и услышанного. Такая манера изложения дает основание полагать, что записи вел не сам Шереметев, а кто-либо из его свиты, и скорее всего Алексей Курбатов, будущий прибыльщик, сопровождавший боярина в этом заграничном путешествии. Сказанное, однако, не колеблет высокой ценности «Записок» как источника для изучения биографии Бориса Петровича, ибо текст конечно же составлялся не без его ведома, а вполне возможно, и по его подсказке.
Автор «Записок» не упускал случая отметить детали аудиенций, имевшие престижный характер. Он, например, не преминул упомянуть, что польский король прислал за Шереметевым карету, «зело богато позолоченную». Не ускользнул от его внимания и факт проводов боярина Августом II «до самых дверей». Зато надежда прояснить суть переговоров оказалась тщетной. Автор утаил их содержание, ограничившись интригующей фразой: «Король говорил с боярином много тайно». О чем?
О содержании переговоров в Вене, Риме и Венеции «Записки» тоже ничего не сообщают. Их автор становится словоохотливым, лишь когда заходит речь о церемониях, подчеркивавших уважительное отношение иностранных дворов к боярину. На торжественном приеме, устроенном цесарем, Шереметев стоял «на особливом месте при столе». Во время пребывания в Венеции Бориса Петровича, «отдавая почесть», угощали сахарами и конфетами «на ста осмидесяти блюдах», а вином – в 60 бутылках. Знаки внимания ему оказал и папа римский, приславший на подворье «рыб многих и сахаров и вин разных множество, блюдах на семидесяти». Упор на обилие угощений как на свидетельство уважения к гостю сделан и при описании церемонии вручения Шереметеву мальтийского креста и посвящения его в кавалеры ордена: «… в кушанье и питье многое было удовольствие и великолепность, также и в конфектах».
Интересны зарисовки того, что изумляло русского человека, оказавшегося далеко за пределами родной страны.
Жителей равнины, естественно, удивили горы, которые автор «Записок» назвал «великими, превысокими» и «предивными». Незабываемое впечатление на путешественников произвели последствия землетрясения, от которого «многие палаты совсем попадали, иные попортились», а также действующие вулканы Везувий и Этна. Об Этне на Сицилии сказано, что она «горит великим пламенем» и, кроме того, выбрасывает на поверхность «огненные превеликие камни», а по склонам вулкана текут «источники огненные».
На обратном пути путешественники стали свидетелями таинства природы, потрясшего их. В красочном и эмоциональном описании извержения Везувия передана гамма чувств автора «Записок» – страх, беспомощность, обреченность, изумление: «В бытность боярскую в Неаполе тутошние жители два дни были в великом страхе и ужасе от горы Везувий, горящей непрестанно, потому что в те два дни превеликой из оной горы исходил огонь, был гром, треск и шум и кидало вокруг горы мили на три и на четыре большие огненные каменья, многие же с той горы протекли огненные лавы, причем живущих около сей горы пожгло, побило и переранило каменьями многих людей, так же и всякие пожгло заводы, от чего в город Неаполь збежалося народу с тритцать тысяч».
Менее содержательны описания городов, госпиталей, церквей и т. д. О монастыре святого Франциска в Риме сказано, что в нем живут «всех знатных особ дочери-девицы». В монастыре – церковь, она «весьма украшена марморами (мраморными статуями. – Н. П.), резьбами и обитьями, и келии преизрядные». Как было организовано обучение «дочерей-девиц», какие «марморы» предстали взору путешественников – об этом ни слова, как ни слова об архитектурных достопримечательностях Неаполя. Об облике города написано так: «…строение в нем палатное хорошее, а паче церкви преизрядные украшением всяким, предорогими живописьми, а больше марморами». Столь же лаконична запись о Падуе: «…город великий, и строение в нем старинное… академии докторские преславные».
Даже описание крепости на Мальте, представлявшей для человека военного, каким был Шереметев, особый интерес, не отличалось подробностями и дано в том же ключе, что и описание городов или храмов. Крепость, осмотренная Борисом Петровичем в сопровождении мальтийских кавалеров, «зело искусно зделана и крепка и раскатами великими окружена, а паче же премногими и великими орудиями снабдена».
В Риме путешественникам показали госпиталь и приют. И тем и другим они были удивлены и в то же время не проявили интереса к организации этих учреждений, их финансированию и т. п. Их поразило то, что в госпитале «всякому особливые учинены постели мягкие и всякая нужда больным и за всяких ходит особливый человек». В приюте находилось более 2 тысяч «девок больших и малых», у каждой из них «особая постеля с белыми простынями». Все здесь трудились: девочки вязали чулки, а взрослые ткали сукно.
Любопытны дорожные происшествия посольства. Альпы довелось преодолевать в неблагоприятное время, когда путь преграждали снежные заносы. Для расчистки дороги пришлось нанимать до сотни людей, они же тащили на себе и кладь. Сам боярин, как повествуют «Записки», «пошел пеш чрез те великие горы и чрез те великие опалые с гор сугробы, и шли они с великою трудностию и опасностию от снега с гор верст с семь и ночевали в деревнишке Доня, в которой и есть добыть не могли».[227]
Едва ли не самым опасным отрезком пути был морской путь от Италии до Мальты. Накануне прибытия Шереметева в Мессину четыре османских корабля напали на два купеческих судна и одно из них захватили в плен. Поэтому Шереметев проявил осторожность: в Неаполе он нанял два корабля, один из которых был разведывательным, а на втором находилось посольство. В море фелюгу Шереметева встретили семь мальтийских галер, командование которыми хозяева любезно предложили гостю. У Шереметева появилась мимолетная надежда отличиться в морском сражении – вдали маячили четыре османских корабля. Началась погоня, впрочем, безрезультатная, ибо настичь их и вступить с ними в сражение не удалось.
К дорожным приключениям следует также отнести способ въезда боярина в Венецию. Одолеваемый любопытством Шереметев решил поглазеть на устроенный в городе карнавал и поэтому прибыл туда ранее назначенного времени, «тайным способом». К сожалению, автор «Записок» в отличие от Петра Андреевича Толстого, о котором речь впереди, не поделился впечатлениями от увиденного зрелища.
2 мая 1698 года был достигнут конечный пункт путешествия – Шереметев вступил на Мальту. В Москву он возвратился 10 февраля 1699 года. Корб так отметил прибытие Бориса Петровича в столицу: «Князь Шереметев, выставляющий себя мальтийским рыцарем, явился с изображением креста на груди; нося немецкую одежду, он очень удачно подражал и немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и почете у царя».[228]
За более чем полуторагодичное отсутствие Шереметева в России произошло два важных события. Одно из них было внутренним – в Великих Луках взбунтовались стрельцы четырех полков и двинулись к Москве, чтобы вместо Петра посадить на трон Софью, находившуюся в заточении в Новодевичьем монастыре. В июне 1698 года стрельцы были разбиты верными правительству войсками. Начался жесточайший стрелецкий розыск с участием возвратившегося из-за границы Петра и его окружения, а затем последовала кровавая расправа с участниками бунта. Первая казнь состоялась 30 сентября, когда на виселицах погиб 201 стрелец. Казни продолжались и в последующие месяцы 1698 и даже 1699 года – они унесли в общей сложности 1598 жизней. Заметим, что Шереметев оказался не причастным ни к стрелецкому розыску, ни к стрелецким казням. Другое важное событие носило внешнеполитический характер.
Попытка Великого посольства привлечь морские державы, прежде всего Голландию и Англию, к совместной борьбе против Османской империи не привела к желаемому результату: оба государства сами лихорадочно готовились к войне против Франции. Потерпев неудачу в организации антиосманской коалиции, Петр достиг значительных успехов в сколачивании антишведского союза, в который помимо России вошли Дания и Саксония. Такой поворот событий означал крутое изменение в направлении внешней политики России: вместо борьбы за выход к Черному и Средиземному морям предстояла война со Швецией за морской путь по Балтике. Речь шла о возвращении России исконно принадлежавшей ей части Балтийского побережья (Ижорской земли), отторгнутой Швецией в конце XVI – начале XVII века.
Переговоры об организации антишведской коалиции Петр начал еще во время заграничного путешествия, а завершились они в Москве летом 1699 года оформлением так называемого Северного союза. По условиям заключенных договоров первыми должны были начать военные действия против Швеции Дания и Саксония. Что касается России, то она обязалась выступить сразу же после подписания мирного договора с Османской империей. Этот договор по замыслу русской дипломатии должен был обеспечить безопасность южных границ и освободить Россию от необходимости вести войну на два фронта.
Первые победы
Начало Северной войны не предвещало никаких катастрофических последствий для союзников. Как только османы согласились уступить России Азов и были получены вести из Константинополя о заключении мира, русская армия двинулась к шведским рубежам добывать Нарву – древнерусский Ругодив. Преодолевая бездорожье, первые конные и пешие полки, сопровождаемые огромным обозом, достигли Нарвы 23 сентября 1700 года. Сосредоточение армии под стенами крепости было завершено к середине октября.
Гарнизон Нарвы был невелик: 1300 человек пехоты и 200 – конницы. Хотя он был обеспечен годовым запасом продовольствия, а толстые стены крепости с девятью бастионами, окруженные рвом, надежно укрывали защитников, в русском лагере тем не менее считали, что крепость не способна долго сопротивляться: достаточно было пробить брешь, чтобы завершить дело штурмом.
Начавшаяся бомбардировка не наносила сколь-либо значительного урона осажденному гарнизону: в войсках недоставало осадной артиллерии, ядер и бомб. Ниже всякой критики находилась и боевая выучка войск: сильную крепость осаждали полки, большая часть которых не имела опыта ведения войны. Армия, кроме того, испытывала нехватку продовольствия и фуража.
Пока русская армия двигалась к Нарве, король Карл XII, в свои 18 лет уже проявивший себя как незаурядный полководец, успел вывести из строя союзника России – Данию: он во главе войска внезапно высадился под Копенгагеном и вынудил датского короля капитулировать. Эта новость стала известна Петру еще в дни продвижения русских войск к Нарве. А во время осадных работ в русском лагере была получена весть хуже прежней: шведский король, не мешкая под Копенгагеном, посадил свое войско на корабли, пересек Балтийское море и высадился в Ревеле и Пярну. Относительно намерений короля не могло быть двух мнений: Карл XII спешил на помощь осажденному гарнизону Нарвы.
Царь решил отправить навстречу шведским войскам разведывательный отряд нерегулярной конницы численностью 5 тысяч человек. Командовал конницей Борис Петрович Шереметев. Три дня Шереметев двигался на запад, углубившись на вражескую территорию на 120 верст. Здесь ему встретились два небольших шведских отряда, по терминологии того времени, «партии». Сначала шведы, имея дело с русским авангардом, нанесли ему урон, но затем подоспевшие главные силы окружили неприятеля и разбили его. Пленные показали, что к Нарве движется шведская армия в 30 тысяч человек. Шереметев отступил. 3 ноября 1700 года он донес о своем решении царю: «В такое время без изб людям быть невозможно, и больных зело много, и ротмистры многие больны». Петр выразил недовольство отступлением Шереметева. В несохранившемся письме царь, видимо в резких выражениях, велел ему возвратиться на прежнее место. Боярин оправдывался: «И я оттуда отступил не для боязни, для лучшей целости и для промыслу над неприятели; с сего места мне свободно над ними искать промыслу и себя остеречь».
Шереметев выполнил указ царя. «Пришел назад, – писал он Федору Алексеевичу Головину, – в те же места, где стоял, в добром здоровьи. Только тут стоять никакими мерами нельзя для того: вода колодезная безмерно худа, люди от нее болят; поселения никакого нет – все пожжено, дров нет. Кормов конских нет».[229]
Между тем шведские войска 4 ноября 1700 года двинулись из Ревеля на восток. Первым вступил в соприкосновение с неприятелем Шереметев, причем действовал он, как и во время первой встречи со шведами, не лучшим образом. Он занял удобную для обороны позицию: оседлал единственную дорогу, проходившую между двумя утесами; ее никак нельзя было обойти, ибо кругом лежали болота. Однако, вместо того чтобы разрушить два моста через речушку и изготовиться для сражения со шведскими войсками, Шереметев предпринял спешное отступление к Нарве. Прибыл он туда рано утром 18 ноября, сообщив, что по его пятам двигается к крепости армия Карла XII.
Петр оставил лагерь под Нарвой до прибытия туда Шереметева. Командование армией он поручил недавно нанятому на русскую службу герцогу фон Круи. Шереметеву царь писал: «Приказал я ведать над войски и над вами арцуху фон Крою; изволь сие ведать и по тому чинить, как написано в статьях у него, за моею рукою, и сему поверь».[230]
Сражение началось в 11 утра артиллерийской перестрелкой. Сразу же заметим, что дислокация русского войска ослабляла силу его сопротивления. Полки в соответствии с канонами осадных работ тех лет расположились у стен Нарвы полукольцом общей протяженностью семь верст. Это облегчало собранным в кулак шведам прорыв тонкой линии русской армии. Другим условием, благоприятствовавшим шведам, был густой снег, поваливший в два часа дня. Видимость не превышала 20 шагов. Этим воспользовался неприятель, чтобы незамеченным подойти к русскому лагерю, засыпать ров фашинами и овладеть укреплениями вместе с расположенными в них пушками.
Среди русских войск началась паника. Крики «Немцы нам изменили!» еще больше усилили смятение. Спасение видели в бегстве. Конница во главе с Шереметевым в страхе ринулась вплавь через реку Нарову. Борис Петрович благополучно переправился на противоположный берег, но более тысячи человек пошло ко дну. Пехота тоже бросилась наутек через единственный мост. Началась давка, мост рухнул, и Нарова приняла множество новых жертв паники.
«Немцы» действительно изменили. Главнокомандующий фон Круи первым отправился в шведский лагерь сдаваться в плен. Этот вояка-наемник, к своим 49 годам успевший сменить четыре двора Европы, которым он бездарно служил, был обласкан Карлом XII, вполне оценившим его измену. Тем не менее фон Круи после Нарвы донимал царя и Меншикова просьбами о выдаче ему вознаграждения и пытался доказать свою невиновность. Примеру фон Круи последовали другие офицеры-наемники, которых было немало в русской армии.
Не все, однако, поддались панике и бежали. Три полка: Преображенский, Семеновский и Лефортов – не дрогнули, проявили стойкость и умело оборонялись от наседавших шведов.
С наступлением темноты сражение прекратилось. Карл XII готовился возобновить его на следующий день, но надобность в нем отпала. Поздно вечером начались переговоры. Шведский король дал обещание пропустить русское войско на противоположный берег Наровы со знаменами и оружием, но без артиллерии.
Всю ночь русские восстанавливали мост через реку, а утром начался выход из окружения. Шведский король вероломно нарушил условия перемирия. Беспрепятственно с оружием и знаменами прошли гвардейцы: шведы не рискнули их трогать. Но как только начали перебираться на другой берег прочие полки, шведы напали на них, обезоружили и разграбили обоз. Более того, в шведском плену оказалось 79 генералов и офицеров.
Итак, катастрофа под Нарвой нанесла значительный урон русской армии: она утратила всю артиллерию, лишилась командного состава и потеряла не менее 6 тысяч солдат. Много лет спустя, вспоминая случившееся, Петр писал: «Но когда сие нещастие (или, лучше сказать, великое щастие) получили, тогда неволя леность отогнала и ко трудолюбию и искуству день и ночь принудила». Действительно, история того времени сохранила множество фактов, подтверждающих, как «неволя», то есть крайняя нужда, вынудила царя развить бешеную энергию по устранению последствий Нарвы, а страну – мобилизовать ресурсы для продолжения борьбы с могучим и коварным противником.
Нарва не прибавила славы полководческой репутации боярина Шереметева. По крайней мере дважды его действия вызывают порицание: он отказался от сражения со шведами, когда командовал пятитысячным отрядом конницы, чем лишил войско, осаждавшее Нарву, возможности подготовиться к встрече с основными силами шведского короля, а затем вместе с конницей в панике бежал с поля боя.
Правда, поражение под Нарвой являлось данью общей отсталости России. Послушаем, как объяснял причины неудачи сам Петр: «Итако, шведы над нашим войском викторию получили, что есть безспорно; но надлежит разуметь, над каким войском оную учинили, ибо только один старый полк Лефортовский был (который перед тем назывался Шепелева); два полка гвардии только были на двух атаках у Азова, а полевых боев, а наипаче с регулярными войски, никогда не видали. Прочие ж полки, кроме некоторых полковников, как офицеры, так и рядовые, самые были рекруты, как выше помянуто, к тому ж за поздним временем великий голод был, понеже за великими грязьми провианта привозить было невозможно, и, единым словом сказать, все то дело яко младенческое играние было, а искуства ниже вида. То какое удивление такому старому, обученному и практикованному войску над такими неискусными сыскать викторию?»[231]
«Неискусным рекрутом», по сути дела, был и Шереметев. Он успешно действовал против османов и крымцев, но не мог устоять против великолепно вымуштрованной и столь же великолепно вооруженной регулярной армии Карла XII.
У Петра, потерявшего под Нарвой почти весь офицерский корпус, выбора не было, и он вновь прибегнул к услугам Шереметева. Две недели спустя после Нарвы царь поручает ему принять командование конными полками и с ними «итить в даль для лучшего вреда неприятелю». Тут же последовало предупреждение: «…не чини отговорки ничем». Петр считал: войск достаточно, да и реки и болота замерзли – следовательно, препятствий для марша не было.
Справедливости ради отметим, что Шереметев конечно же не располагал ни силами, ни средствами, чтобы «итить в даль» и начать активные боевые действия в широких масштабах. Требовалось время для восстановления морального духа армии, деморализованной неудачей под стенами Нарвы. Еще больше времени надобно было для того, чтобы армия овладела современным военным искусством. Поэтому единственной возможной формой ведения боевых операций была так называемая «малая война» – действия небольшими отрядами, наносившими локальные удары.
На ведение «малой войны» в Восточной Прибалтике молчаливо согласились обе стороны. Петру генеральное сражение не сулило никаких надежд на успех, ибо предстояло восстановить артиллерийский парк, укомплектовать новые полки, а главное, превратить необстрелянных новобранцев, пока еще представлявших толпу вооруженных людей, в подлинных воинов. Не стремился к генеральному сражению и Карл XII. Король уверовал в крайне низкие боевые качества русской армии, выведенной из строя, как он полагал, на долгие годы. После победы под Нарвой он считал главным своим противником саксонское войско Августа II, против которого и двинул свои основные силы. В пограничных с Россией районах Прибалтики Карл XII оставил корпус полковника Шлиппенбаха, поручив ему оборону этих районов, издавна являвшихся житницей Швеции, а также овладение Гдовом, Печорами и в перспективе Псковом и Новгородом. Поход на восток король откладывал до той поры, когда он разгромит саксонскую армию и тем самым обеспечит безопасность своих тылов.
Борис Петрович, получив царский приказ «итить в даль», не спешил его выполнять. Внутренне он, надо полагать, не был готов немедленно откликнуться и на второй призыв царя, обращенный к нему 20 января 1701 года: действовать активно, «дабы по крайней мере должность отечества и честь чина исправити потщились».[232]
Обращение Петра к патриотическим чувствам боярина было обусловлено тем, что после Нарвы престиж России и царя в глазах Европы пал настолько, что они стали предметом зубоскальства остряков. Петру не терпелось реабилитировать реноме своей армии. У нас нет оснований полагать, что Шереметев не разделял этого желания царя. В одном из писем Бориса Петровича, отправленном, правда, чуть раньше описываемых событий, есть слова, звучащие как клятва: «…сколько есть во мне ума и силы с великою охотою хочу служить; а себя я не жалел и не жалею».[233] Однако на риск ради сиюминутного успеха он не шел.
В конце 1700 и в первой половине 1701 года инициатива в Прибалтике принадлежала шведам. Правда, выгод из этой инициативы Шлиппенбах не извлек: он пытался овладеть Гдовом, но успеха не достиг; его отряд атаковал Печору, но был отброшен. Шведам пришлось довольствоваться опустошением окрестных деревень.
В свою очередь Шереметев тоже наносил шведам малочувствительные уколы: его полки, пытавшиеся в декабре 1700 года захватить Алысту (Мариенбург), вынуждены были отступить. Успешнее действовали небольшие отряды, совершавшие рейды ради опустошения окрестностей. Урона живой силе они не наносили, но чувствительно ослабляли продовольственную базу шведов.
Первую более или менее значительную операцию Шереметев предпринял в начале сентября 1701 года, когда двинул на неприятельскую территорию три отряда общей численностью 21 тысяча человек. Командование самым крупным из них, насчитывавшим свыше 11 тысяч человек, Борис Петрович вручил своему сыну Михаилу. Этот отряд был нацелен на Ряпнину мызу. Его действия принесли успех: шведы потеряли три сотни убитыми, две пушки, свыше ста фузей; русских полегло всего девять человек. Военное значение этой операции было невелико, однако ее прежде всего оценивали в плане повышения морального духа русских войск. После Нарвы это была первая победа над шведами. В Печорском монастыре победителям была организована пышная встреча. Современник описал ее так: «Наперед везли полон, за полоном везли знамена, за знаменами пушки, за пушками ехали полки ратных людей, за полками ехал он, Михайла Борисович. А в то время у Печорского монастыря на всех раскатах и на башнях распущены были знамена, также и во всех полках около Печорского монастыря, и на радости была стрельба пушечная по раскатам и по всем полкам, также из мелкого ружья».[234]
К командирам двух других отрядов военная фортуна была менее благосклонна. Один из них, несмотря на многократное численное превосходство, не одолел противника, причем под пером Шлиппенбаха в донесении королю сражение у мызы Рауге было подано как победа огромного значения. Карл XII, склонный к мистификации и охотно веривший всему, в том числе и небылицам, лишь бы они прославляли шведское оружие, произвел полковника в генерал-майоры. Новоиспеченный генерал донес королю, что он предпочел бы повышению в чине получение подкреплений в 7–8 тысяч солдат.
В связи с эпизодом при мызе Рауге в голландской газете появилось сообщение, что на 1200 шведов напало около 100 тысяч русских. Они были отброшены, оставив 6 тысяч трупов. В действительности в отряде Корсакова, совершившего нападение на Рауге, насчитывалось 3717 человек, а потери исчислялись несколькими десятками солдат.[235]
Вслед за сентябрьским походом наступила передышка. Оба полководца готовились к решительному сражению «малой войны». По указу царя еще 2 октября Шереметев должен был предпринять генеральный поход «за свейский рубеж». Борис Петрович, как и всегда, медленно, но основательно готовил свою армию к предстоящему походу – понадобилось почти три месяца, чтобы она двинулась в путь.
От предшествовавших боевых действий поход Шереметева в конце 1701 года отличался многими особенностями, которые были обусловлены появлением в войсках некоторых черт регулярной армии. Сентябрьские вылазки отрядов Шереметева по своему характеру и целям более напоминали действия партизан, нежели регулярных войск. Они были столь локальными и ограниченными по задачам, что ни успех, ни поражение не оказывали влияния на ход войны, «понеже, – как сказано в „Гистории Свейской войны“, составленной кабинет-секретарем А. В. Макаровым по поручению Петра и лично им выправленной, – более опасались наступления от неприятеля, неже сами наступали».[236]
Новому походу предшествовал основательный сбор данных о противнике. Шереметеву было точно известно, что Шлиппенбах сосредоточил у мызы Эрестфер 7–8 тысяч конницы и пехоты. Знал он и о намерении противника атаковать Печорский монастырь и прочие пункты, где на зиму расположились русские полки. Шереметев решил упредить противника и взял инициативу наступательных действий в свои руки.
Наконец, изменился качественный состав русских войск. В осенних операциях драгуны и пехотинцы составляли только треть занятых в них войск – 7 тысяч человек, тогда как в декабре из 18 800 человек, участвовавших в походе, на их долю падало две трети. Русская армия уже начинала пожинать плоды своей реорганизации: за год после Нарвы было создано 10 новых драгунских полков.
Корпус под командованием Шереметева выступил из Пскова в поход «за свейский рубеж» 23 декабря 1701 года. Три дня спустя он оставил обоз и далее продвигался «тайным обычаем» в надежде напасть на противника врасплох. Шведы, не ожидая прихода русских по глубокому снегу, беспечно предавались разгулу, празднуя Рождество, и обнаружили приближение противника только 27 декабря.
Сражение, начавшееся в 11 утра 29 декабря у мызы Эрестфер, на первом этапе складывалось не совсем удачно для русских, ибо в нем участвовали только драгуны. Оказавшись без поддержки пехоты и артиллерии, не подоспевших к месту боя, драгунские полки были рассеяны неприятельской картечью. Однако подошедшие пехота и артиллерия резко изменили соотношение сил и ход сражения. После пятичасового боя Шлиппенбах, полностью разгромленный, вынужден был спасаться бегством. С остатками кавалерии он укрылся за стенами крепости в Дерпте. В руках русских оказалось около 150 пленных, 16 пушек, а также провиант и фураж, впрок заготовленные противником в Эрестфере.
Шереметев пытался было организовать преследование беглецов и поимку дезертиров, укрывшихся в лесах, но потом отказался от этого намерения. Изменение решения он объяснил Петру так: «…нельзя было итить – всемерно лошеди все стали, а пуще снеги глубоки и после теплыни от морозов понастило; где лошед увязнет – не выдеретца; ноги у лошедей ободрали до мяса». Задачу свою Шереметев считал выполненной, ибо, как он доносил царю, шведы от поражения «долго не образумятца и не оправятца».[237]
4 января 1702 года войска возвратились в Псков, где в честь победителей «после молебного пения из пушек и из мелкого ружья за щастливую викторию стреляли».[238]
Успех отметили и в столице. Извещение о победе Борис Петрович отправил 2 января «с сынишкою своим Мишкою». В Москве впервые с начала Северной войны в честь победителей раздались пушечная стрельба и звон колоколов, народ угощали вином, пивом, медом. На кремлевских башнях развевались захваченные у шведов знамена и штандарты. Современник Иван Афанасьевич Желябужский записал: «А на Москве, на Красной площади, для такой радости сделаны государевы деревянные хоромы и сени для банкета; а против тех хором на той же Красной площади сделаны разные потехи и ныне стоят».[239] Эрестферская победа, таким образом, дала повод организовать первый в России общедоступный театр.
В Псков скакал поручик Меншиков с наградами. Шереметеву он привез орден Андрея Первозванного, а также весть о пожаловании его чином фельдмаршала. Примечательно, что этим званием царь отметил подлинные заслуги Бориса Петровича на поле брани.
Доморощенные поэты поднесли царю тяжеловесные вирши, смысл которых состоял в том, что Орел, символ России, одолел шведского Льва:
Гордый Лев, мня Орла поглотити, Восхотя на ся пред временем лавров венец возложити, Но Орел премудре знает крыла и кохти употребляти, Что оный близ Дерпта понужден храбрость потеряти. Европа удивися и рече: я есмь прельщенна И поистинне о львовой храбрости лживым известии отяхченна.Последние строки виршей предназначались для ушей иностранных наблюдателей, которые, как рассчитывали, должны были сообщить европейским дворам о поражении шведов. Европа, однако, еще долгие годы продолжала находиться под впечатлением нарвской катастрофы русской армии. Молву о непобедимости шведов ловко поддерживали Шлиппенбах и сам король. Шлиппенбах оправдывал свое поражение колоссальным превосходством русских войск: по его донесению, их будто бы было 100 тысяч человек. Бодрился и король. Раз русские отошли к Пскову, значит, шведская армия сохранила боевой дух и способность держать в страхе неприятеля.
Численность русских войск, непосредственно сражавшихся у Эрестфера, превосходила численность шведов примерно в 3 раза – соответственно 10 тысяч и 3200 человек. Боеспособность русской армии еще уступала шведской. Но на этом этапе войны важен был конечный результат. Значение победы царь оценил лаконично и выразительно, как это он умел делать, восклицанием: «Мы можем наконец бить шведов!»
Появился и первый полководец, научившийся их побеждать, – русский фельдмаршал Шереметев.
Россия в то время не располагала необходимыми ресурсами для ведения непрерывных наступательных операций. Царь, как и его фельдмаршал, понимал, что русские войска до сих пор имели дело не со всей шведской армией (самая боеспособная ее часть находилась под командованием короля в Польше), а всего лишь с корпусом Шлиппенбаха. У северных союзников не было уверенности, что Карл XII станет последовательно осуществлять раз выбранный план борьбы с ними и не прибудет с главными силами к Пскову или Новгороду столь же неожиданно, как он оказался под стенами Нарвы, вместо погони за войсками Августа II.
Именно поэтому русскому командованию, до тех пор пока шведский король основательно не «увязнет» в Польше, надобно было не только держать в кулаке свои силы, но и не изнурять войска и в то же время обучать их военному ремеслу.
Фельдмаршал многократно спрашивал у Петра, «как весну нынешнюю войну весть, наступательную или оборонительную». Ответ царя гласил: «…с весны поступать оборонительно». Впрочем, оговаривался Петр, если представится возможность совершить успешную акцию, то такой случай не упускать. Так рассуждал Петр в конце марта 1702 года. Но два месяца спустя обстановка на ингерманландском театре изменилась: царю, находившемуся в то время в Архангельске, стало известно, что король двинулся к Варшаве и, следовательно, Шлиппенбах не мог рассчитывать на подкрепление. Наступил, как писал Петр, «истинный час» для нового похода в Лифляндию. Его подготовка достаточно выпукло выявила особенности характера фельдмаршала, на которые нам часто придется обращать внимание.
Основательность подготовки и крепко сбитую организацию дела Шереметев проявил еще во время зимнего похода. Он и теперь был озабочен подбором офицерских кадров. Послушаем, как аттестовал фельдмаршал некоторых своих подчиненных полковников: «Федор Новиков стар и увечен; князь Иван Львов стар и вконец беден, и несносно ему полком править»; у князя Никиты Мещерского «сухотная болезнь», а Михаил Жданов «несносно свое дело правит». Вместо негодных он назвал кандидатов, которым бы «не стыдно было полковниками называтца», но они находились под покровительством «своих добродеев» и, вместо того чтобы воевать, пристроились «в покойные дела и прибыточные».[240]
Другая забота фельдмаршала состояла в укомплектовании полков людьми и лошадьми. Шереметев соглашался с царем, что следовало ускорить подготовку похода, но его одолевали опасения, что поступление пополнений задержится: казаки, татары и калмыки еще не прибыли, не ожидалось в скором времени и получение драгунских лощадей. Между тем фельдмаршал был глубоко убежден – и этим убеждением он руководствовался неизменно, – что залогом успеха является достижение численного превосходства над противником. Ради этой цели он даже осмелился игнорировать царский указ. Петр велел ему выделить в распоряжение Петра Матвеевича Апраксина, действовавшего в районе Ладоги, три драгунских полка. Шереметев посчитал, что откомандирование трех полков ослабит его корпус, и передал только один. Апраксин жаловался царю, но безуспешно.
Но наряду с основательностью фельдмаршал проявлял и медлительность, и порой эти качества так тесно переплетались, что их невозможно отделить друг от друга.
Шереметев отправился в поход только 12 июля. В его распоряжении находилось около 18 тысяч человек, в то время как Шлиппенбаху удалось наскрести чуть больше 7 тысяч. Качественный состав корпуса Шереметева стал еще выше, чем в зимнем походе. Теперь уже не две трети, а пять шестых войска фельдмаршала состояло из регулярной конницы и пехоты.
Начало кампании 1702 года как две капли воды напоминало военные действия зимнего похода. Передовые части русских войск вступили в соприкосновение с противником у мызы Гуммельсгоф (по русским источникам, у Гумуловой мызы) 18 июля, когда Большой полк Шереметева находился на марше. Шведам удалось не только потеснить авангард, но и отбить у него несколько пушек. Подоспевшая пехота решила исход дела. Как и при Эрестфере, шведская конница, не выдержав напора, ринулась наутек, расстроила во время бегства ряды собственной пехоты и обрекла ее на полное уничтожение. Незадачливый Шлиппенбах бежал в Пярну, где ему удалось собрать остатки своих разгромленных и деморализованных войск в количестве 3 тысяч человек. Остальные полегли у мызы Гуммельсгоф. Потери русских были в 2–3 раза меньше. Эта победа превратила Шереметева в полновластного хозяина Восточной Лифляндии. Успех Шереметева был отмечен Петром: «Зело благодарны мы вашими трудами».[241]
В отличие от зимнего похода, продолжавшегося 10 дней, летом 1702 года Шереметев задержался на неприятельской территории почти на два месяца. В разные концы Лифляндии фельдмаршал отправлял отряды для опустошения края. Но кроме того, русские овладели двумя крепостями. Одна из них, у мызы Менза, представляла собой каменное строение, которое неприятель использовал для обороны. Гарнизон ее во главе с подполковником дважды отклонял требования о капитуляции и согласился сдаться лишь после подхода основных сил армии Шереметева. Фельдмаршал доносил царю: «…увидя меня, тот полуполковник замахал в окно шляпою и велел бить в барабан и просил милосердия, чтобы им вместо смерти дать живот».[242]
С мызой Менза удалось покончить в два дня. Зато с Мариенбургом, крепостцой со слабыми фортификационными сооружениями, осаждавшим пришлось возиться 12 суток. Трудность овладения Мариенбургом объяснялась его островным положением. Шереметев оставил описание крепостцы: «…стоит на острову около вода, сухова пути ни с которой стороны нет». Подъемный мост был разрушен. Шереметев уже было отчаялся овладеть городом и собирался отойти от него, но кто-то посоветовал соорудить плоты, на которых осаждавшие преодолели 200-метровое расстояние, отделявшее берег от острова. Под угрозой штурма осажденные сдались.
9 сентября фельдмаршал вернулся в Псков и принялся подсчитывать трофеи: было захвачено свыше тысячи пленных, в том числе 68 офицеров, 51 пушка, 26 знамен. Царь остался доволен действиями фельдмаршала. «Борис Петрович в Лифляндии гостил изрядно довольно», – писал он Федору Матвеевичу Апраксину. Самого Бориса Петровича царь вновь поздравил с викториями.[243]
Одному из мариенбургских трофеев волей случая суждено было войти в историю. Речь идет о пленнице, позже ставшей супругой царя, а затем императрицей Екатериной I. О ее происхождении ходили различные слухи. Согласно одному из них, мать ее была крестьянкой и рано умерла. Марту взял на воспитание пастор Глюк. Накануне прихода русских под Мариенбург она была обвенчана с драгуном, которого во время брачного пира срочно вызвали в Ригу. По другой версии, пленница была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки. Третьи считали ее уроженкой Швеции и т. д.
Достоверным является лишь факт, что девочка, рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где она выполняла обязанности служанки. С семьей пастора она попала в плен, ее взял к себе Шереметев, у того пленницу выпросил Меншиков, у последнего ее заметил Петр. С 1703 года она стала его фавориткой, а в 1712 году вступила в церковный брак с царем.[244]
Столь же достоверным является суждение о нерусском происхождении Марты. Похоже, что она родилась в шведских владениях. Свидетельства на этот счет, правда косвенные, исходят от самого царя.
Петр, как известно, ежегодно отмечал взятие древнерусского Орешка, по-шведски Нотебурга, переименованного им в Шлиссельбург. 11 октября 1718 года, находясь в Шлиссельбурге, царь писал супруге: «Поздравляю вам сим счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков открыто». В десятую годовщину Полтавской виктории, 27 июня 1719 года, Петр писал: «Чаю, я вам воспоминаньем сего дня опечалил». Оба письма недвусмысленно намекают на прибалтийское происхождение пленницы. Эту версию подтверждает также шуточный разговор царя с супругой, будто бы состоявшийся в 1722 году, то есть после заключения Ништадтского мира.
– Как договором постановлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобой будет, – начал царь.
Екатерина нашла что ответить:
– Я ваша служанка – делайте что угодно. Не думаю, однако же, чтоб вы меня отдали; мне хочется здесь остаться.
– Всех пленников отпущу, о тебе же условлюсь с королем шведским, – закончил разговор Петр.[245]
Он происходил в то время, когда бывшая пленница давно сама пленила сердце русского царя и стала его супругой. Но в 1702 году чернобровая красавица была прачкой фельдмаршала и затерялась в толпе гражданских пленников и пленниц, которые в источниках того времени, естественно, остались безымянными.
Две победы фельдмаршала, будучи по существу локальными, в ближайшем будущем оказали огромное влияние на военные действия в Ингерманландии. Разгром корпуса Шлиппенбаха создал благоприятные условия для осуществления плана возвращения земель по течению Невы, устранив угрозу нападения на русские войска с тыла. Походы, кроме того, были своего рода школой практического овладения военным ремеслом как для армии, так и для самого фельдмаршала. Обе кампании озарили Бориса Петровича лучами славы первого победителя шведов.
В жизни полководца эти кампании примечательны еще и тем, что Шереметев оба раза выступал в роли фактического главнокомандующего войсками. Он определял цели походов, он их и осуществлял. Петр, находившийся в то время вдали от театра войны, естественно, не мог вмешиваться ни в детали организации походов, ни тем более в боевые действия войск. Царь в данном случае ограничился лишь определением сроков вторжения на неприятельскую территорию. Сказанное нуждается в пояснении.
Петр, как известно, руководил операциями на театре военных действий через лиц, номинально значившихся командующими, предпочитая оставаться в тени. Во время первого Азовского похода русской армией, осаждавшей крепость, командовали Головин, Лефорт и Гордон. Царь, фактически руководивший этим неудачным походом, подвизался в роли «бомбардира Pitera». Во втором Азовском походе, закончившемся овладением крепостью, Петр тоже не возложил на себя обязанностей главнокомандующего, хотя, как и во время первого похода, все решения исходили от него, а не от генералиссимуса боярина Алексея Семеновича Шеина, занимавшего этот высокий пост. Характерно, что на его долю выпали и все почести, следуемые победителю: когда возвратившиеся из-под Азова войска проходили торжественным маршем через Москву, Шеин ехал верхом на богато убранной лошади в сопровождении 30 всадников в панцирях и музыкантов, а Петр шел в пешем строю в черном немецком платье с белым пером на шляпе. Впрочем, успешное завершение кампании отразилось и на царе: бомбардир был повышен в чине и стал капитаном.
В сражении под Нарвой Петр вручил командование русскими войсками наемнику фон Круи. Традиции действовать через подставных лиц царь не изменил и в последующие годы независимо от того, находился ли он при армии или за тридевять земель от нее.
В то время когда Шереметев громил Шлиппенбаха и гарнизоны двух крепостей в Лифляндии, царь находился в Архангельске. На этом путешествии царя на север страны и поныне лежит печать загадочности. Ради чего он туда направился в сопровождении двух гвардейских полков и пышной свиты, насчитывавшей около 50 персон? Прихватил он с собой и 12-летнего сына – царевича Алексея. Отправился в Архангельск и фаворит царя Алексашка Меншиков, накануне отъезда назначенный воспитателем царевича.
Официальная цель поездки состояла в том, чтобы оградить Архангельск – единственный морской порт России, соединявший ее с Европой, – от нападения шведов. О намерении неприятеля атаковать в мае 1702 года Город, как тогда называли Архангельск, Петр узнал в апреле. Это известие и заставило его 18 апреля покинуть Москву, чтобы организовать достойный отпор неприятельскому флоту.
Но не лишена некоторых оснований и высказанная в литературе мысль, что поход Петра в Город был не чем иным, как отвлекающим маневром, призванным замаскировать его подлинное намерение овладеть Нотебургом и течением Невы.
Намерение вернуть России древнерусский Орешек – крепость, запиравшую Неву у самого ее выхода из Ладожского озера, – возникло у Петра в конце 1701 года. В январе следующего года он поручил Шереметеву навести справки о времени, когда Нева бывала скована льдом, а также о состоянии двух крепостей – Нотебурга и Ниеншанца, стоявшего у места впадения Невы в Балтийское море. Интерес царя объяснялся его планами организовать нападение на крепости зимой, по льду.
Операция, однако, не состоялась, отчасти из-за рано наступившего половодья. От плана пришлось отказаться еще и потому, что к тому времени не удалось обеспечить безопасность тыла: сохранивший силы Шлиппенбах мог напасть на войска, осаждавшие Нотебург, и тем самым перерезать коммуникации. Угроза повторения Нарвы вынуждала царя и его генералов проявлять крайнюю осторожность.
Одно из условий успеха, заложенное в план операции, состояло в полной внезапности нанесения удара. В этом случае неприятель не успел бы оказать гарнизонам этих крепостей надлежащей помощи. Январский наказ Шереметеву царь заключил словами: «Все сие приготовление зело, зело хранить тайно, как возможно, чтоб нихто не дознался». Точно такой же призыв к сохранению тайны Петр выразил и в письме к Шереметеву, отправленном из Архангельска 5 августа 1702 года, то есть в день, когда он выехал из Города: «… и мы к вам не зело поздно будем, но сие изволь держать тайно».[246]
Расстояние от Москвы до Архангельска царь преодолел за 30 дней. В Городе он провел около трех месяцев. За это время он спустил на воду два фрегата, а затем, убедившись в том, что непосредственной угрозы нападения шведов на Архангельск нет, двинулся во главе гвардейских полков к Онежскому озеру. Это был поход беспримерной трудности, ибо совершался он по нехоженым местам: приходилось в дремучих лесах прорубать просеки, в болотах настилать гати, а через речки возводить мосты. 120 верст тяжелого пути от Нюхчи на Белом море до Повенца на Онежском озере были преодолены в короткий срок – менее чем за две недели. В середине сентября царь уже находился в Старой Ладоге.
Еще до прибытия в Ладогу Петр направил Шереметеву два приглашения явиться туда на военный совет. «А без вас не так у нас будет, как надобно», – писал он Борису Петровичу 3 сентября. Еще большее уважение к авторитету полководца звучало в повторном приглашении: «…зело нужно, и без того инако быти не может».[247]
На совещании в Старой Ладоге был выработан и принят к исполнению план овладения Нотебургом. Командование собравшимися войсками численностью свыше 10 тысяч человек царь передал фельдмаршалу Шереметеву.
Размеры крепости, которой надлежало овладеть, были невелики. Гарнизон ее насчитывал всего 450 человек. Но оборона крепости значительно облегчалась ее островным положением. Почти у самой воды были возведены стены в четыре сажени высотой и две сажени толщиной. Гарнизон был обеспечен достаточной артиллерией: в его распоряжении находилось 142 ствола.
Осадные работы русские войска начали 27 сентября, а через три дня, когда окружение крепости было завершено, Шереметев отправил к коменданту парламентера, чтобы разведать, «намерен ли он эту крепость на способной договор здать». Комендант потребовал четверо суток на размышления. Осаждавшие ответили на «сей комплимент» интенсивной бомбардировкой, так как усмотрели в нем хитрость. Обстрел продолжался непрерывно вплоть до сдачи крепости.
3 октября в лагерь Шереметева прибыл барабанщик с письмом от супруги коменданта. От имени всех офицерских жен она обратилась к фельдмаршалу с просьбой «ради великого беспокойства от огня и дыму и бедственного состояния» выпустить их из крепости. Отвечал на это письмо сам бомбардирский капитан, то есть Петр. Барабанщику было сказано, что ему, капитану, доподлинно известно нежелание фельдмаршала разлучить жен с мужьями. Поэтому капитан советовал женам, чтобы они, оставляя крепость, захватили с собой и «любезных супружников».
Дамы не вняли этому совету, и бомбардировка продолжалась. 7 октября начались приготовления к штурму: были выявлены охотники, розданы штурмовые лестницы, распределены лодки. 11 октября, когда в крепости начался очередной пожар, русские предприняли отчаянный штурм. Только через 13 часов сражения гарнизон крепости сдался. Потери победителей исчислялись 564 убитыми и 928 ранеными солдатами и офицерами. Это, однако, не омрачило неподдельную радость царя. «Токмо единому Богу в славу сие чюдо причесть», – делился Петр новостью с одним из своих корреспондентов. В письме к другому корреспонденту царь даже каламбурил, используя созвучие слов «орех» и «Орешек»: «Правда, что зело жесток сей орех был, аднака, слава Богу, счасливо разгрызен. Алтилерия наша зело чюдесно дело свое исправила».[248]
Оставив в Шлиссельбурге гарнизон под командованием Меншикова, царь отбыл в Москву, а Шереметеву велел на зиму расположиться в Пскове. Оттуда фельдмаршал собирался совершить новый «генеральный поход», но царь отсоветовал. Шереметев согласился: «…всесовершенно бы утрудили людей, а паче же бы лошедей».[249]
4 декабря 1702 года победы Шереметева в Лифляндии и овладение Нотебургом были отмечены торжественным шествием войск через трое триумфальных ворот, сооруженных в Москве. Сам Шереметев не принимал участия в празднествах, так как прибыл в столицу лишь в конце декабря – начале января.
На пути из Москвы к театру военных действий с Шереметевым приключилось дорожное происшествие, красочно описанное им в «цидулке» к Федору Алексеевичу Головину.
Подъезжая к Твери, он настиг обоз матросов-иноземцев, ехавших из Воронежа. Когда возница фельдмаршала стал кричать матросам, чтобы те уступили дорогу, один из них начал его избивать. Шереметев послал улаживать конфликт своего денщика. Дальнейшие события, по словам фельдмаршала, развертывались так: «Вижю, что все пьяни, и они начали бить и стрелять, и пришли к моим саням, и меня из саней тащили, и я им сказывался, какой я человек». Шереметев, видимо, назвался фельдмаршалом и боярином, но это не произвело на разбушевавшихся матросов никакого впечатления. Более того, один из них назвал его шельмой, приставил к его груди пистолет и выстрелил.
Смерти «без покаяния» не последовало: пистолет по счастливой случайности был заряжен не пулей, а пыжом.
Происшествие потрясло фельдмаршала: «Отроду такова страху над собою не видал, где ни обретался против неприятеля. А ехал безлюдно, только четыре человека денщиков и четыре извощика… А русские, которые с ними были, матросы и извощики, никто не вступился. А я им кричал, что вас перевешают, если вы меня дадите убить». Заканчивая «цидулку», Борис Петрович отметил: «Сие истинно пишю, безо всякого притворства. А что лаен и руган и рубаху на мне драли – о том не упоминаюся».[250]
Описание инцидента, едва не закончившегося трагически, не датировано. Определить более или менее точно время происшествия было бы затруднительно, если бы не письмо царя. Кто-то из корреспондентов Петра – быть может, тот же Ф. А. Головин – известил его о случившемся. В письме Петра к фельдмаршалу есть такие слова: «Слышал я, что некоторое зло учинил вам некоторой матрос, а кто именем и как было – не ведаю. Изволь меня о том уведомить».[251]
Не подлежит сомнению, что Петр имел в виду случай, о котором шла речь выше. Письмо царь отправил из Шлиссельбурга 20 марта 1703 года. Следовательно, дорожное происшествие произошло в конце февраля – начале марта этого года.
1 февраля Петр из Москвы отправился в Воронеж, где проверил ход строительства кораблей. В начале марта он уже в Шлиссельбурге руководил подготовкой к кампании по изгнанию неприятеля из устья Невы. Шереметев в это время делил свои заботы между Псковом и Новгородом. По плану его полки должны были сосредоточиться у Шлиссельбурга к середине апреля, причем два из них фельдмаршалу надлежало посадить на малые суда, специально для этой цели построенные. Однако строительство лодок задерживалось, следовательно, прибытие полков по первой воде запаздывало. Царь торопил фельдмаршала: «Здесь (в Шлиссельбурге. – Н. П.) за помощию Божиею все готово, и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после».[252]
Тужить на этот раз не пришлось. Шереметев хотя и запоздал, отправившись из-под Шлиссельбурга 22 апреля, но появился под стенами Ниеншанца во главе 20-тысячной армии совершенно неожиданно для неприятеля. Более того, передовой отряд мог бы на плечах застигнутых врасплох шведов ворваться в крепость и овладеть ею без осады, но, согласно версии Петра, «командир о том указа не имел, и послан был только для занятия поста и взятия языков». На следующий день, 26 апреля, в лагере русских войск появился Петр.
Подготовка к обстрелу Ниеншанца завершилась в полдень 30 апреля. В соответствии с обычаем тех времен Шереметев накануне бомбардировки отправил к осажденным трубача с предложением сдаться. Комендант отказался капитулировать, но начавшегося обстрела не выдержал – на рассвете 1 мая с крепостного вала дали знать, что гарнизон готов склонить знамена. В тот же день царь составил проект договора о капитуляции. Он исходил от «генерала фелтмаршала и кавалера святого Андрея и Малтийского господина Бориса Петровича Шереметева».
После овладения Ниеншанцем, близ которого Петр 16 мая 1703 года основал Петербург, Шереметев двинулся к Копорью. На обычное требование о сдаче комендант высокомерно известил: «Сами не уйдете».
Фельдмаршал полагал, что овладеть Копорьем будет трудно. «Если от бомб не сдадутся, – делился он своими сомнениями с царем, – приступать никоими мерами нельзя: кругом ров самородный и все плита». Опасения относительно стойкости шведского коменданта оказались напрасными. Его надменность обернулась трусостью, как только началась бомбардировка. На следующий же день он согласился капитулировать. В письме Петру фельдмаршал иронизировал: «Слава Богу, музыка твоя, государь, – мортиры бомбами – хорошо играет: шведы горазды танцовать и фортеции отдавать; а если бы не бомбы, Бог знает, что бы делать».[253]
Другой отряд русской армии овладел Ямом. Как и Копорье, Ям располагал хорошими естественными возможностями для успешной обороны. Чтобы покорить его гарнизон, потребовалось две недели, после чего два месяца целая армия трудилась над совершенствованием укреплений.
Вслед за этим новое задание царя – отправиться к Пскову, но не ближним путем, а через Лифляндию и Эстляндию для разорения края и изгнания оттуда войск Шлиппенбаха. В конце августа фельдмаршал во главе драгунских и рейтарских полков двинулся в путь.
Шлиппенбах, проведав о приближении русских войск, спешно отступил на запад, не проявляя никакого желания еще раз встретиться с Шереметевым. На пути своего бегства он разорял край, уничтожал мосты. То же самое в соответствии с правилами ведения войны тех времен делал и Шереметев, ибо одна из целей похода состояла в том, чтобы лишить шведов опорных пунктов и базы снабжения продовольствием. Описав дугу, обращенную своей выпуклой частью на неприятельскую территорию, Шереметев в течение месяца хозяйничал в Лифляндии и Эстляндии и в конце сентября прибыл в Печоры на зимние квартиры.
Итогами 1703 года могли быть довольны и царь, и его фельдмаршал. Петр умело воспользовался стратегическим просчетом Карла XII и, в то время как тот «увяз в Польше», сравнительно легко овладел землями, ради которых начал войну, – Ингрией с ее выходом в Балтийское море.
Судьба была благосклонной и к Борису Петровичу: он совершил несколько удачных операций. Под его командованием русские войска овладели Ниеншанцем, Копорьем и Ямом, а также осуществили успешный марш по вражеской территории. В трех из этих операций он действовал самостоятельно, без вмешательства царя. В итоге он не дал Петру ни единого повода для выражения недовольства или раздражительности.
Новое назначение
К началу кампании 1704 года армия настолько окрепла, что могла одновременно вести осаду двух мощных крепостей: Нарвы, под стенами которой четыре года назад она потерпела сокрушительное поражение, и Дерпта. Руководство осадой Нарвы Петр взял на себя, а к Дерпту направил корпус в 21 тысячу человек под командованием Шереметева.
Указом 30 апреля 1704 года Петр повелел Шереметеву: «Извольте, как возможно скоро, иттить со всею пехотою… под Дерпт». 12 мая последовало напоминание: «Конечно, не отлагая, с помощию Божию, подите и осажайте», а вскоре – новое: «Еще в третье подтверждая, пишу: конечно учини по вышеописанному и пиши немедленно к нам». Шереметев 16 мая ответил: «…в поход я к Дерпту збираюсь и, как могу скоро, так и пойду». Царь, явно недовольный медлительностью фельдмаршала, отправляет ему письмо с нотками раздраженности: «…немедленно извольте осаждать Дерпт, и за чем мешкаете – не знаю».[254]
Передовые отряды подошли к Дерпту в ночь с 3 на 4 июня. «Город велик, и строение полатное великое, ратуша вся крыта жестью», – делился Шереметев с одним из своих корреспондентов впечатлениями о крепости. Действительно, крепостные стены имели шесть бастионов и 132 пушки разных калибров. Число защитников крепости вместе с жителями города, которым было выдано оружие, достигало 5 тысяч человек.
Осадные работы велись под непрерывным огнем крепостной артиллерии. «Как я взрос, такой пушечной стрельбы не слыхал», – писал Шереметев. Впрочем, артиллерийская дуэль не наносила существенного урона ни осажденным, ни осаждавшим, хотя, как доносил Шереметев, «пушки их больши наших», да и по количеству крепостная артиллерия в 2,5 раза превосходила русскую.
Комендант крепости полковник Шютте – по отзыву шведских офицеров, «великой фурьян и безпрестанно шумен и буен» – решил усилить помехи осадным работам организацией вылазки. 27 июня неприятельские пехотинцы и драгуны напали на осаждавших и достигли временного успеха, но оправившиеся от внезапности удара русские войска отбили нападение. Неприятель не выполнил главной своей задачи – не сумел засыпать апроши землей.
2 июля из-под Нарвы к Дерпту прибыл царь. Какая необходимость вынудила Петра оставить Нарву? Прежде всего слухи о крупном подкреплении, которое якобы ожидал осажденный гарнизон Нарвы из Швеции. Угроза повторения первой Нарвы крайне беспокоила царя, и он решил побыстрее достичь успеха под Дерптом, чтобы освободившиеся силы бросить против Нарвы. Слух о подкреплениях, усердно распространявшийся комендантами обеих крепостей – Шютте и Горном, оказался ложным. Это была обычная в те времена форма дезинформации противника. В отличие от Петра Шереметев не поддался слухам. «Я о том веры нейму», – писал фельдмаршал Меншикову 27 июня.[255]
Но у Петра был еще один повод ускорить овладение Дерптом: под Нарвой ощущался недостаток в осадной артиллерии, без чего трудно было рассчитывать на успех. Ознакомившись на месте с ходом осадных работ, царь не скрыл своего недовольства. «Все негодно, и туне людей мучили» – такова была общая оценка осадных работ. Какие же действия фельдмаршала привели царя в состояние крайней раздраженности?
Прежде всего неправильный, по его мнению, выбор направления атаки крепости и, следовательно, неразумное определение места для подготовки к ней. Шереметев распорядился подводить апроши к наиболее мощным стенам крепости, усиленным бастионами, на том основании, что там было сухо. Петр же во время рекогносцировки обнаружил «мур» (стену), который «только указу дожидается, куды упасть». Изливая свое недовольство Меншикову, царь писал: «Когда я спрашивал их, для чего так, то друг на друга, и больше на первова (который только ж знает)».[256] Под «первым» подразумевался Шереметев.
Эстонский историк X. Палли, обстоятельно изучивший систему осадных работ, проводившихся Шереметевым, полагает, что к середине июня, когда они начались, болотистая местность, еще не освободившаяся от полых вод, исключала возможность рыть землю и возводить укрепления. Условия для таких работ в пойме реки Эмбах улучшились три недели спустя, то есть к приезду Петра. Впрочем, и сам Шереметев начал вести подкопы со стороны реки Эмбах, но, видимо, не считал это направление главным.[257]
Как бы то ни было, но в лагере осаждавших с приездом царя началась перегруппировка сил, связанная с изменением направления главного удара. Интенсивный обстрел крепости, возобновившийся с 6 июля, дал свои плоды: было пробито три бреши, через которые двинулись атаковавшие. «Огненный пир», так называл Петр штурм Дерпта, продолжался всю ночь с 12 на 13 июля. За грохотом сражения не слышно было ударов барабанщиков неприятеля, бивших «шамад» (сигнал к сдаче). Лишь сигналы трубы приостановили сражение, и осажденные обратились «со упросительными от всего дерптского гарнизона пунктами», составленными комендантом капитулировавшей крепости. Комендант просил разрешить гарнизону выход «с литаврами, с трубами и со всею музыкою», с распущенными знаменами, шестью пушками и всем огнестрельным оружием и месячным запасом продовольствия. Царь от имени фельдмаршала отправил коменданту иронический ответ: «Зело удивляется господин фельдмаршал, что такие запросы чинятца от коменданта, когда уже солдаты его величества у них в воротах обретаютца». Подобные условия были бы уместны до штурма, а не тогда, когда осажденные лишились выбора. Гарнизону было разрешено покинуть крепость с семьями, пожитками и месячным запасом продовольствия, но без артиллерии. Победителям достались огромные трофеи: 132 пушки, 15 тысяч ядер, запасы продовольствия.
Петр после овладения Дерптом спешил к Нарве. Туда он выехал 17 июля, захватив с собой трофейные знамена. Под Нарву был вызван и Шереметев. Царь отправил ему один за другим три указа о немедленном выступлении из Дерпта, но фельдмаршал не двинулся с места. Наконец, в четвертом указе, от 23 июля, Петр велел Шереметеву «днем и ночью итить». Приказ сопровождался угрозой: «А есть ли так не учинишь, не изволь на меня пенять впредь». На этот раз Борис Петрович все-таки привел войска. Они подошли к Нарве до начала штурма, но в деле не участвовали. Совершить поход к Нарве стоило Шереметеву больших усилий, ибо он был болен. Зная, что царь никаких отговорок не примет, он изливает жалобы третьему лицу. 24 июля Александр Данилович Меншиков прочитал следующие строки письма Шереметева: «А я останусь на день для крайней своей болезни и велю себя как ни есть волочь… Зело я, братец, болен и не знаю, как волотца, рад бы хотя мало отдохнуть».[258]
9 августа после 45-минутного штурма русские овладели Нарвой. Царь ликовал и каламбурил. Используя созвучие слов «Нарва» и «нарыв», он одному из своих корреспондентов писал: «Инова не могу писать, только что Нарву, которая 4 года нарывала, ныне, слава Богу, прорвало».
Десять дней спустя, 19 августа 1704 года, под стенами отвоеванной Нарвы был заключен русско-польский союзный договор, определивший на ближайшие годы главное направление военных действий русской армии. Союзники обязались воевать с неприятелем на суше и на море «истинно и непритворно» до заключения победоносного мира. Петр обязался выделить в помощь польскому королю 12-тысячный корпус русских войск, а также ежегодно до окончания войны выдавать Польше субсидию в размере 200 тысяч рублей.
Выполнение условий договора повлекло перемещение театра военных действий из Ингерманландии в Литву. Шереметев получает указ от 16 ноября 1704 года: «когда реки станут», отправиться во главе конницы против шведского генерала Левенгаупта. Борис Петрович отвечал 26 ноября: «Пойду изо Пскова немедленно». Одновременно он отправил слезливое письмо Меншикову. Фельдмаршал жаловался на утрату царского расположения: «Всем милость, а мне нет!» Овладение Дерптом и Нарвой сопровождалось раздачей вотчин, а он, Шереметев, обойден – ни вотчин, ни даже жалованья. Далее следуют фразы, свидетельствующие о взаимоотношениях между аристократом Шереметевым и безродным выскочкой Меншиковым: «У тебя милости прошу: если уж вотчин, обещанных мне, не дадут, чтоб мне учинили оклад по чину моему».[259]
Петр, видимо, был твердо уверен, что Шереметев, хотя и не обладал выдающимися полководческими дарованиями, зря не погубит армию. Одно из достоинств фельдмаршала – основательность. Отправлялся он в поход лишь тогда, когда убеждался в том, что последняя пуговица была пришита к мундиру последнего солдата. Но Борис Петрович, пожалуй, правильно уловил изменение к себе отношения со стороны царя. Эти отношения никогда не были близкими, их скорее можно назвать официальными.
У Петра была так называемая компания – группа его сподвижников, с которыми он поддерживал приятельские отношения. В состав компании входили А. Д. Меншиков, Ф. Ю. Ромодановский, Ф. М. Апраксин, Ф. А. Головин, Г. И. Головкин, А. А. Виниус, А. Вейде и другие.
Одной из примет близости того или иного сподвижника к Петру являются содержание и тональность переписки между ними. Только члены компании в письмах царю позволяли себе шутливые упоминания о Бахусе, или, на русский лад, об Ивашке Хмельницком. Иногда корреспондент ограничивался короткой информацией о своей встрече с Ивашкой типа «потпивали добре». В большинстве случаев корреспонденты описывали баталии с Хмельницким и поражения лиц, вступивших с ним в единоборство. Так, Адам Вейде, получив от Петра известие о его прибытии к Азову 15 июня 1699 года, отвечал, что по этому поводу состоялась встреча с Ивашкой, завершившаяся тем, что ее участники «принуждены были силу свою потерять и от того с полуночи по домам бежать». Другим показателем близости корреспондента к царю была форма обращения. Однажды Петр выговаривал Федору Матвеевичу Апраксину за то, что тот, обращаясь к нему, использовал титул. Он внушал ему: «Тебе можно знать (для того, что ты нашей компании), как писать».[260]
Действительно, в письмах и донесениях царю, исходивших от членов компании, фигурировали обращения, ничего общего с царским титулом не имевшие. «Господине бунбандире Петр Алексеевич» или «господин каптейн Петр Алексеевич» – так начинал свои послания царю князь-кесарь Ромодановский. Примерно такие же слова обращения употреблял и Г. И. Головкин: «мой асударь каптейн Петр Алексеевич», «благодетелю мой и господине». Как к частному лицу к царю обращался Андрей Андреевич Виниус: «приятнейший мой господине» или «господин мой прелюбезнейший». Тихон Никитич Стрешнев обращался так: «господин первой капитан Петр Алексеевич», «господин мой милостивой комендир». Со временем, однако, фамильярное обращение к царю постепенно исчезает, уступая официальному «премилостивейший царь государь». Лишь А. Д. Меншиков и в 1712 году позволял себе писать: «Высокоблагородный господин контра-адмирал».
Шереметев не принадлежал к числу тех людей, которые считали нормой фамильярное обращение к царю. Лишь единственный раз он осмелился начать послание Петру словами: «Превысочайший господин, господин капитан». Это была попытка изъясняться языком членов компании. Как правило, Борис Петрович, обращаясь к царю, писал «премилостивейший государь» либо реже, упреждая события, «самодержавнейший император, всемилостивейший государь», ибо в 1711 году, когда писалось это обращение, Петр еще не имел титула императора.
Петр, как отмечалось выше, в общении с членами компании не терпел упоминаний своего титула. Но он не терпел и велеречивых донесений, в которых из-за витиеватого стиля и словесной шелухи трудно было уловить существо дела. Однажды Савва Лукич Рагузинский был свидетелем царского гнева, когда тот читал донесение Петра Матвеевича Апраксина, брата адмирала Федора Матвеевича. Рагузинский деликатно намекнул адмиралу, чтобы тот посоветовал своему брату быть в письмах предельно лаконичным и избегать многословия, вызвавшего раздражение царя.
Письма Шереметева царю по их тону и содержанию существенно отличались от корреспонденции членов компании прежде всего тем, что их автор крайне редко выходил за пределы деловой информации и переступал грань официального. Лишь в исключительных случаях «раб твой Барись Шереметев», как подписывал свои донесения фельдмаршал, вкрапливал фразы, бывшие в ходу у членов компании. 28 марта 1703 года, то есть в год наибольшей близости к царю, он в несвойственной ему манере писал Петру: «Пожалуй, государь, попроси от меня благословения у всешутейшего (князь-папы Никиты Зотова. – Н. П.) и поклонися коморатом моим Александру Даниловичю, Гаврилу Ивановичи), и про здоровье мое извольте выпить, а я про ваше здоровье обещаюся быть шумен».[261]
Второй раз подобный тон Шереметев позволил себе 12 лет спустя, когда получил личное извещение царя о рождении наследника Петра Петровича. 27 ноября 1715 года он сообщил Петру, что приятной новостью поделился с генералами Репниным, Лесси, Шарфом, приглашенными им на военный совет. «И как о той всемирной радости услышали, – писал он, – и бысть между нами шум и дыхание бурно; и, воздав хвалу Богу и пресвятой его Богоматери благодарение, учали веселитися, и, благодаря Бога, были зело веселы».
Далее Шереметев живописал, как одного за другим Ивашка выводил из строя: «И умысля над нами Ивашко Хмельницкой, незнаемо откуда прибыв, учал нас бить и по земле волочить, что друг друга не свидали. И сперва напал на генерал-маеора Леси, видя его безсильна, ударил ево в правую ланиту и так ево ушиб, что не мог на ногах устоять. А потом генерала маеора Шарфа изувечил без милости». Затем наступил черед Аникиты Ивановича Репнина: «Репнин хотел их сикуровать (оказать помощь. – Н. П.), и тот – Хмельницкой воровски зделал, под ноги ударил – и на лавку не попал, а на землю упал. И я з Глебовым, видя такую силу, совокупившися, пошли на него, Хмельницкого, дескурацией и насилу от него спаслися, ибо, по щастию нашему, прилучилися дефилеи надежные. Я на утрее опамятовался на постели в сапогах без рубашки, только в одном галстухе и парике. А Глебов ретировался под стол и, пришедши в память, не знал, как и куда вытить».[262]
Кстати, это описание сражения с Хмельницким, пожалуй даже превосходившее по колоритности аналогичные упражнения членов компании, запоздало на много лет: оно было сделано в то время, когда компания практически распалась, на смену прежним отношениям между ее членами и царем пришли сдержанность, официальность и Хмельницкий вышел из обихода в их эпистолярных сочинениях. Приведенное описание, как и шутка, отпущенная фельдмаршалом в 1703 году, стоит одиноко в потоке скучных и заурядных писем его Петру.
Итак, Шереметев не входил в компанию близких к Петру людей. Вряд ли причиной тому являлась только разница в летах: фельдмаршал был старше царя на два десятилетия. Ромодановский тоже был старше Петра, что не помешало ему не только занять видное место в компании, но и стать главным действующим лицом в игре царя в князя-кесаря. Быть может, на отчужденность Шереметева от царя оказало влияние неумение фельдмаршала пить. Во всяком случае, источники не донесли до нас сведений об активных возлияниях фельдмаршала на пирушках. В веселой компании он, видимо, чувствовал себя чужаком.
Скорее всего Борису Петровичу не было уютно в компании Петра потому, что нравам аристократа претило многое: и то, что царь совершал поступки, не соответствовавшие царскому сану, и то, что он окружил себя подлородными выскочками, и, наконец, его непочтительное отношение к родовитым людям. И хотя фельдмаршалу пришлось сделать вид, что он смирился со всеми чудачествами и нелепыми выходками царя и его шутовского двора, но по-настоящему приспособиться к этим порядкам, поступиться с детства усвоенными привычками и взглядами было выше его сил. Шереметев был человеком другой эпохи, точнее, человеком, в котором черты аристократического воспитания причудливо переплелись с новшествами в поведении царя.
С конца 1701 до 1704 года – время наибольшей близости царя к фельдмаршалу. Правда, их взаимоотношения нельзя поставить рядом с отношениями между Петром и Меншиковым. В последнем случае налицо дружба, в первом – уважение к военному опыту, одержанным победам. За ратные подвиги Шереметев часто выслушивал от царя слова благодарности. «Зело благодарны мы вашими трудами», «Поздравляем вам толики виктории», – писал Петр Борису Петровичу в связи с его успехами в Лифляндии. «За уведомление добрых вестей благодарствую», – отвечал царь фельдмаршалу на известие об овладении Копорьем.[263]
Можно умножить число примеров поощрения царем усердия своего фельдмаршала. Но по мере того как Петр набирался полководческого опыта, как приходили к нему успехи в военных действиях, которыми он сам руководил, происходила переоценка ценностей. Главная слабость Шереметева – медлительность – носила хронический характер и не раз вызывала раздражение у царя. Поначалу он выражал недовольство в мягкой форме: в письмах почти отсутствуют резкие выражения. Но со временем выговоры стали сопровождаться угрозами и больно ударяли по самолюбию фельдмаршала.
Итак, Шереметев получил в конце ноября 1704 года повеление царя отправиться в поход против Левенгаупта, «когда реки станут». Реки «стали», но поход не состоялся. Шереметев выехал из Пскова в последних числах декабря и прибыл в Витебск три недели спустя. Здесь он обнаружил отсутствие фуража для конницы и посчитал выступление нецелесообразным: «…ныне застою в Витепске и никуды без указу не пойду».
Петр остался недоволен безынициативным поведением фельдмаршала. Последнему пришлось прочитать следующие иронические слова царя в свой адрес: «И сие подобно, когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справитца, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды вынуть». Для ускорения организации похода Петр отправляет в Литву Меншикова. Тот, прибыв в Витебск в конце февраля 1705 года, привез царский указ, страшно обескураживший фельдмаршала.
В распоряжении Петра с 1704 года находилось два фельдмаршала. Вторым был барон Георг Огильви, нанятый на русскую службу летом этого года. Под Нарву Огильви прибыл 20 июня, и Петр, отправляясь к корпусу Шереметева, осаждавшему Дерпт, назначил наемного фельдмаршала командующим русскими войсками под Нарвой. Огильви сумел себя подать и произвел благоприятное впечатление на русских вельмож. Руководитель Посольского приказа Федор Алексеевич Головин аттестовал Огильви так: «Господин Огильвий, кажетца, государь, человек изрядной». Головину вторил Меншиков: новый фельдмаршал «зане во всем зело искусен и бодро опасен есть».[264]
У Петра возникло намерение вручить Огильви командование пехотными полками, а Шереметеву оставить кавалерию. Царь исходил из того, что «пеший конному не товарищ». Поскольку генеральной баталии не намечалось и предполагалось производить боевые действия налегке, то, естественно, для таких наскоков целесообразнее было использовать мобильную конницу.
Новость настолько расстроила Шереметева, что он даже заболел. Фельдмаршал терялся в догадках: за что такая немилость? Дело удалось уладить. Меншиков посоветовал Петру оставить все без изменений. Царь обратился к фельдмаршалу со словами утешения: то «зделано не для какого вам оскорбления, но ради лучшего управления».[265]
Инцидент был исчерпан, и фельдмаршал возобновил подготовку к походу, так и не состоявшемуся в зимние месяцы. Цель похода оставалась прежней – отрезать корпус Левенгаупта от Риги и разгромить его. Поначалу дела у Шереметева складывались лучшим образом. Передовой отряд русских войск совершил удачное нападение на Митаву. Застигнутый врасплох гарнизон был почти полностью уничтожен. Предстояла встреча с главными силами Левенгаупта. Тот успел занять хорошо укрепленную позицию в окрестностях Гемауертгофа, по русским источникам – у Мурмызы.
15 июля 1705 года созванный Шереметевым военный совет решил воздержаться от лобовой атаки укрепленных позиций противника, сопряженной с большими потерями. Хитроумный план русского командования состоял в том, чтобы ложным окружением выманить противника из лагеря и ударить по нему с фланга спрятанной в лесу кавалерией. Подобную хитрость предусматривал и план Левенгаупта, причем шведскому генералу удалось обмануть некоторых русских полковников. Один из них, Кропотов, обнаружив перемещения в шведском лагере, прискакал к Шереметеву с сообщением, «что бутто неприятель уходит». Ему показалось, что победа, а вместе с нею и добыча ускользают из рук, и он, не дождавшись распоряжений Шереметева, двинул свой полк в атаку. За ним пошли и другие полки. Так стихийно завязался бой. Шереметеву ничего не оставалось, как принять в нем участие, ибо надо было оказывать помощь полкам, очертя голову бросившимся в атаку.
Бой изобиловал острыми сюжетами и протекал с переменным успехом. Был момент, когда русская кавалерия смяла неприятеля и казалось, что победа не за горами. Однако драгуны, вместо того чтобы развивать успех, принялись грабить неприятельский обоз. Тем самым шведам была предоставлена возможность перестроить свои порядки и выправить положение.
С наступлением темноты сражавшиеся оставили поле боя и укрылись в обозах. Шереметев под покровом ночи отступил. Русские оставили 13 пушек и 10 знамен, подобранных шведами лишь на следующий день, 16 июля. Отступление русских Левенгаупт истолковал как свою крупную победу. Шведы праздновали ее две недели спустя. Лазутчик Шереметева, бывший свидетелем торжеств в Митаве, сообщал фельдмаршалу: «…та веселость была не от сердца, для того, что они много добрых людей потеряли». Много дней подряд церкви Митавы были забиты трупами умерших от ран: их не успевали отпевать. Действительно, о сокрушительном поражении Шереметева не могло быть и речи – обе стороны понесли огромный урон, причем военные историки считают, что шведы потеряли убитыми и ранеными больше, нежели русские.
Сражение у Мурмызы было единственным, которое Шереметев проиграл за все долгие годы Северной войны. Оснований переживать неудачу было тем больше, что победу он уже держал за хвост и она ускользнула от него из-за нелепой случайности. Конечно же, известие о результатах сражения не доставило радости Петру. Еще не улегся гнев по поводу действий фельдмаршала под Дерптом, как он дал повод для нового недовольства. Царь, однако, сдержался и обратился на этот раз к удрученному фельдмаршалу со словами утешения, ставшими знаменитыми: «Не извольте о бывшем нещастии печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободривать».[266]
Урок из поражения был извлечен. Петру было ясно, что «нещастный случай учинился от недоброго обучения драгун». Царь велел фельдмаршалу довести до сведения каждого солдата и драгуна, что впредь не следует под страхом смертной казни «скакать за неприятелем» очертя голову, но преследовать с оглядкой, непременно шагом.
Неудача под Мурмызой имела значение досадного эпизода, вклинившегося в серию непрерывных побед, предшествовавших ей и наступивших после нее. Ближайшие из них – овладение Митавой (4 сентября) и Бауском (13 сентября) – были достигнуты войсками под командой царя. Шереметев не принимал непосредственного участия в этих операциях: по распоряжению Петра его корпус был размещен между Ригой и Митавой на тот случай, если бы Левенгаупт, находившийся в Риге, вздумал оказать «сикурс» (помощь) осажденным крепостям.
В дни, когда в ставке праздновали успешное завершение кампании, было получено известие, ошеломившее царя: в Астрахани вспыхнуло восстание. Из скупых строк донесения, отправленного из Москвы Борисом Алексеевичем Голицыным, следовало, что восставшие стрельцы и горожане перебили около 300 начальных людей и намеревались идти на Москву. Петр не скрывал крайней озабоченности: «Князь Борис сумасбродным письмом зело нас в сумнение привел».
Проследим кратко за астраханскими событиями, которые привели царя «в сумнение».
В начале XVIII века Астрахань была одним из крупнейших городов России. Город, как центр пограничной округи, имел кремль с мощными стенами и семью башнями. Так называемый Белый город тоже был обнесен каменной стеной. В кремле располагались воеводские и митрополичьи хоромы, пороховой погреб, Троицкий мужской монастырь. В Белом городе размещались административные здания, каменные гостиные дворы, харчевни. За Белым городом находился Земляной город, в котором, собственно, и размещались дворы жителей Астрахани.
Население Астрахани было пестрым как по социальному, так и по национальному составу. Едва ли не самую многочисленную часть горожан составляли стрельцы и солдаты. Среди первых было немало участников стрелецких бунтов 1682 и 1698 годов, высланных сюда из Москвы.
В городе и округе были развиты два вида промыслов: рыбная ловля и добыча самосадочной соли. Промыслами занимались не только местные жители, но и пришлые, которых было особенно много в летние месяцы. Значительную прослойку пришлого населения составляли бурлаки, сплавлявшие в Астрахань хлеб из городов Среднего Поволжья и тянувшие вверх по Волге барки, груженные рыбой, солью и восточными товарами.
Астрахань – важнейший центр России в ее торговле с Востоком. Именно поэтому там существовали довольно многочисленные колонии, населенные армянскими, гилянскими, бухарскими, индийскими купцами.
Астраханцы, как и все население России, несли бремя увеличившихся в начале XVIII века налогов и повинностей. Окраинное положение города открывало широкие возможности для безнаказанного произвола местной администрации и стрелецких полковников. Особенно усердствовал воевода Тимофей Ржевский, человек столь же алчный и жестокий, как и тупой. Он участвовал в спекуляции хлебом – продавал его по вздутым ценам в месяцы, когда по Волге прекращалась навигация. Все виды городской торговли, в том числе и мелочная, подлежали обложению, причем нередко сумма налоговых сборов превышала стоимость продаваемых товаров. Особенное возмущение астраханцев вызвало ретивое и суровое выполнение воеводой царских указов о брадобритии и немецком платье. Наряды из солдат и стрельцов под командованием офицеров ловили на оживленных улицах бородачей и тут же отрезали у них бороды, иногда прихватывая и кожу. Ножницами они пользовались и для укорачивания старорусской одежды.
Не отставали от воеводы солдатские и стрелецкие полковники. Они рассуждали так: «Воеводаде сидит в городе, хочет з города сыт быть, а я-де полку полковник, завсегда хочу с полка сыт быть и напредки, покуду поживу в полку, буду сыт и стану брать».[267] Опальное положение стрельцов превращало их в беззащитных людей. В 1705 году им уменьшили жалованье на 40 процентов и в то же время увеличили поставку дров на селитряные заводы близ Астрахани. Полковники и офицеры истязали стрельцов, присваивали их жалованье, накладывали штрафы, использовали для личных услуг и т. д.
Среди астраханцев возник заговор, его участники призвали горожан к восстанию. В ночь на 30 июля 1705 года собравшиеся по набату стрельцы и горожане убили воеводу, а также казнили ненавистных полковников и начальных людей общей численностью 300 человек. Власть в городе перешла к кругу, который избрал исполнительный орган – старшину во главе с ярославским купцом Яковом Носовым и астраханским бурмистром Гавриилом Ганчиковым.
Получив известие о восстании в Астрахани, царь велел ехать подавлять его Шереметеву. Почему именно ему? Разве в армии был так велик избыток опытных военачальников, что Петр мог спокойно снять единственного русского фельдмаршала с театра военных действий и отправить в глубокий тыл? Или царь придавал этому восстанию столь большое значение и считал его в такой степени опасным для трона, что, ни минуты не колеблясь, посчитал угрозу со стороны астраханцев более сильной, чем со стороны шведов?
Приходится согласиться с выбором царя. В его распоряжении действительно не было лучшей кандидатуры для руководителя карательной экспедиции, чем Шереметев. Для этой роли не подходили ни Меншиков, ни Головин, ни Апраксин, ни тем более Ромодановский. Все они являлись друзьями царя и людьми, непосредственно причастными ко всем новшествам, вводимым в стране. Сами восставшие считали виновниками нововведений жителей Немецкой слободы и Меншикова: «Все те ереси от еретика Александра Меншикова».[268] Поскольку астраханцы выступали за бороду и длиннополое платье, назначение карателем, скажем, Ромодановского не только бы лишило царя надежд на мирное урегулирование конфликта, но и подлило бы масла в огонь.
В этом плане Шереметев, всецело занятый борьбой с внешними врагами и стоявший как бы в стороне от преобразовательных начинаний Петра по гражданской линии, был самой подходящей фигурой. Но Борис Петрович обладал еще рядом преимуществ, ставивших его вне конкуренции при назначении на этот пост. К ним прежде всего относится репутация Шереметева среди населения как полководца, научившегося побеждать шведов. Имело значение и то, что руки фельдмаршала не были обагрены кровью казненных стрельцов: в казнях, как упоминалось выше, он не участвовал. Особой популярностью Шереметев пользовался у дворян: чин боярина и принадлежность к древнему аристократическому роду способствовали консолидации вокруг него дворянства.
Похоже, Петр, отправляя Шереметева против астраханцев, руководствовался еще одним соображением. Вспомним о намерении царя разделить командование русской армией между Огильви и Шереметевым и об отношении к этой затее русского фельдмаршала. Теперь царю представилась возможность осуществить этот замысел безболезненно, не раня самолюбие Бориса Петровича. Совершенно очевидно, что Петр, принимая это решение, предпочел опыт, знания и таланты иноземца опыту, знаниям и талантам отечественного фельдмаршала.
Шереметев отправился в Астрахань наперекор своему желанию, повинуясь царскому указу. Он получил указ не позже 12 сентября 1705 года, ибо в этот день царь отправил письмо одному из своих корреспондентов с извещением, что Борис Петрович «с конницею к вам будет в две недели». Фельдмаршал не спеша, как и все, что он делал, начал подготовку к походу. Царь его торопил: «Для Бога не мешкай, как обещался, тотчас пойди в Казань». Не очень надеясь на расторопность Шереметева, царь в тот же день, 21 сентября, отправил указ и Ф. Ю. Ромодановскому с предписанием: «…как прибудет господин фелтьмаршал к Москве, чтоб немедленно его со удовольством людей отправить в Казань».[269]
Попытки Петра форсировать поход оказались безрезультатными: Шереметев прибыл в Москву почти на месяц позже – 20 октября, причем вместе с ним вступили в столицу лишь батальон солдат да эскадрон конницы. Теперь уже спешить было некуда, ибо два полка, выделенные для подавления восстания, двигались и того медленнее и находились далеко от Москвы.
Выпроводить фельдмаршала из столицы оказалось делом нелегким. С одной стороны, наступило осеннее бездорожье. «Путь застал злой, – сообщал Шереметев Меншикову 2 ноября, – ни саньми, ни телегами итить нельзя».[270] С другой стороны, двигаться ускоренным маршем не было резона, так как время было упущено и надежда на прибытие правительственных войск под Астрахань до начала ледостава рухнула. К тому же активные действия астраханцев после их неудачной попытки овладеть Царицыном и тем самым расширить район восстания прекратились и, следовательно, район движения локализовался Астраханью, Гурьевом, Черным и Красным Яром и Терками.
В Москве Шереметев задержался до середины ноября и в Нижнем появился в конце месяца. 18 декабря он был уже в Казани. По всему видно: здесь он рассчитывал переждать зиму и полагал, что его присутствие в городе необязательно. Именно поэтому он стал настоятельно ходатайствовать о своем отзыве из Казани в Москву. Посредником в этих хлопотах он просил быть Федора Алексеевича Головина. «Только прошу, – писал Шереметев Головину 28 декабря, – учини и мне братцки, как возможно, домогайся, как бы ни есть меня взяли к Москве, хотя на малое время». Через неделю повторная просьба. В этом письме он сообщал: обращался «к самому капитану (к царю. – Н. П.), чтобы указал мне быть к себе».[271]
Настойчивые просьбы Бориса Петровича вызвали у царя явное раздражение: вместо разрешения отправиться на побывку в Москву Шереметев получил предписание двигаться к Саратову, переждать там зиму и «по весне рано итить до Царицына». Более того, царь, изуверившись в способности Шереметева проявить расторопность, пошел на чрезвычайную меру: к фельдмаршалу в качестве соглядатая и толкача, призванного стимулировать его активность, был приставлен гвардейский сержант. Со временем подобная мера мало кого будет удивлять, ибо по воле Петра гвардейские сержанты и офицеры будут держать «в железах» губернаторов и понукать сенаторов, но в годы, о которых идет речь, такая практика была в диковинку.
Борису Петровичу доводилось, даже чрезмерно часто, выслушивать упреки царя, но такого еще не бывало. Можно себе представить, как был удивлен, огорчен и удручен фельдмаршал, когда в его ставке в Казани 16 января 1706 года появился гвардии сержант Михаил Иванович Щепотьев с таким царским указом: Щепотьеву «велено быть при вас некоторое время; и что он вам будет доносить, извольте чинить». Фельдмаршал оказывался в положении подчиненного у сержанта. Один из пунктов царской инструкции предписывал Щепотьеву: «…смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и, буде за какими своими прихоти не станут делать и станут да медленно, говорить, и, буде не послушает, сказать, что о том писать будеш ко мне».[272] Старый служака конечно же считал для себя унизительным выполнять распоряжения желторотого сержанта.
Из-за отсутствия данных мы не можем дать обстоятельной характеристики Щепотьеву. Со слов Шереметева, Щепотьев был человеком грубым и необузданным. Как и всякий недалекий человек, волей случая получивший огромную власть, он не знал, как этой властью рационально распорядиться, пустился в разгул и становился «шумным» настолько, что терял контроль и над поступками, и над словами. Таким Щепотьева представил нам Шереметев. Его отзыв, естественно, был пристрастным.
Борис Петрович жаловался своему свату Ф. А. Головину: «Он, Михайло, говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал. И не знаю, что делать». В другом письме, отправленном в начале мая тому же корреспонденту, Шереметев повторил жалобу: «Если мне здесь прожить, прошу, чтоб Михайло Щепотева от меня взять… непрестанно пьян. Боюсь, чево б надо мною не учинил; ракеты денно и ночно пущает; опасно, чтоб города не выжег». Головин был того же мнения о Щепотьеве: «О Щепотеве я известен; знаю его все, какой человек».[273]
Что касается царя, то в его глазах Щепотьев заслуживал всяческого уважения. Об этом прежде всего свидетельствует его назначение. Перед ним благодаря царскому покровительству открывалась блестящая карьера, но сержант геройски погиб в 1706 году во время атаки шведского бота пятью лодками. Примитивные лодки с экипажем 48 человек были отправлены в море для нападения на неприятельские торговые корабли. Ночью они напоролись на адмиральский бот, вооруженный четырьмя пушками, с командой в пять офицеров и 103 солдата. Русские смело вступили в сражение и, несмотря на неравенство сил, одержали победу. На захваченном у шведов боте в лагерь вернулось лишь 18 человек, из них только четверо не имели ранений.
Находясь под впечатлением от подвига Щепотьева, царь писал: «А ныне посылаю некоторою реляцию о никогда слышанном партикулярном морском бою, которой господин Щепотеф, быф командиром, при сей не кончаемой славе живот свой скончал».[274] Отважный поступок Щепотьева описал сам царь в «Гистории Свейской войны».
В окружении царя знали, что медлительность фельдмаршала в любой момент могла вызвать вспышку царского гнева. 26 января 1706 года Головин предупреждал Шереметева о возможных последствиях его нерасторопности: «А самому, мой государь, по указу конечно надлежит быть на Саратов, чтоб тем его величество не раздражить». Шереметев отвечал: «…а что жалуешь меня, остерегаешь, чтоб я шел в Саратов, и я никогда того не отлагал, чтобы нейтить, и пошел, и, если каких препон не будет и случай позовет, пойду и далей».[275]
В феврале Шереметев прибыл в Саратов. Вопреки своему обыкновению фельдмаршал долго в Саратове не задержался и двинулся к Царицыну. С дороги он отправил астраханцам послание, оказавшее едва ли не решающее влияние на дальнейший ход событий.
Читатель помнит, что царь, получив известие о восстании в Астрахани, велел Шереметеву держать путь к месту событий, чтобы вооруженной рукой подавить движение. Но Петр не исключал и разрешения социального конфликта мирными средствами.
Для мирного урегулирования представился удобный случай: в Москве оказалась депутация астраханцев во главе с конным стрельцом Иваном Григорьевичем Кисельниковым. Астраханцы отправили ее на Дон с целью убедить казаков примкнуть к восстанию, но верхушка казачества осталась верной правительству – посланцы были схвачены и отправлены в столицу. Их ожидала суровая расправа, но спасло вмешательство Петра. Он велел доставить депутацию в Гродно, где в то время сам находился, чтобы вручить ей грамоту с призывом к восставшим выдать зачинщиков и обещанием помиловать всех остальных.
Это было третье по счету обращение царя к астраханцам с призывом проявить смирение и покорность, причем именно оно оказалось наиболее эффективным. Психологическое воздействие непосредственного общения с Петром столь укрепило царистские иллюзии у конного стрельца Кисельникова, что тот превратился едва ли не в самого рьяного сторонника прекращения вооруженной борьбы астраханцев с правительством.
Общение с Кисельниковым и доставленными в Москву членами депутации на Дон вселило в бояр и в самого царя надежду на мирный исход событий в Астрахани. Обращает на себя внимание следующая деталь: в распоряжении Ф. Ю. Ромодановского об отправке астраханцев к царю в Гродно они названы ворами. Точно так же их называл и Петр в указе от 21 сентября 1705 года: «Как вороф з Дону, которые бунтовались в Астрахани, привезут к Москве, изволь тотчас послать их за крепким караулом сюды». После того как Кисельников побывал в Астрахани и доставил в столицу повинную, мнение о нем в правящих кругах резко изменилось. Головин отзывался о Кисельникове и его товарищах так: «…все кажутца верны и мужики добры».[276]
Превращение «вороф» в благонадежных сторонников правительства зарегистрировано и в указах царя. 1 декабря 1705 года Петр после разговора с Кисельниковым отправил указ Ромодановскому, чтобы тот организовал возвращение депутации в Астрахань в сопровождении «добрых провожатых», оговорив при этом, «чтоб те провожатые их не как колодникоф, но как свободных правожали, понеже оные посланы ради уговору». В середине февраля следующего года, когда Кисельников со стрельцами возвращался в Астрахань после повторной встречи с царем, Петр вновь велел «вести их в почтении», правда лишив их возможности общаться с населением.
Короче, Петр и его окружение были твердо убеждены в том, что дело в Астрахани, начавшееся в столь неуместное время, когда неприятель намеревался вторгнуться в пределы России, завершится мирным исходом. Об этом свидетельствует и многократно повторенное предписание царя проявлять к повстанцам великодушие. На вопрос Щепотьева, как поступить с черноярцами, если они принесут повинную, царь ответил: «…кроме прощения и по-старому быть, иново ничего; также и везде не дерзайте не точию делом, ни словом жестоким к ним поступать под опасением живота». Шереметеву было велено поступать с астраханцами так: «…всеконечно их всех милостию и прощением вам обнадеживать; и, взяв город Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить».[277]
Мы столь подробно остановились на этом плане царя и правительства относительно ликвидации Астраханского восстания с той целью, чтобы явственнее выглядели действия Шереметева, шедшие вразрез с ним. Фельдмаршал сознательно провоцировал обострение обстановки и толкал восставших на противодействие правительственным войскам.
Еще в феврале 1706 года, когда Шереметев выступил из Саратова, астраханцы получили от него послание ультимативного содержания, свидетельствовавшее о его отнюдь не миролюбивых намерениях. Текст послания не сохранился, но, судя по передаче его содержания, оно не содействовало умиротворению повстанцев. Фельдмаршал потребовал прибытия в Царицын с повинной двух-трех астраханских старшин, предоставления ему сведений о численности сословных групп населения города, о наличных запасах фуража и провианта. Ультимативный характер требований Шереметев подкрепил сведениями о численности карательных войск, двигавшихся к Астрахани. Эти данные должны были внушить повстанцам мысль о тщетности сопротивления.
2 марта Шереметев вступил в Черный Яр. Несмотря на то, что черноярцы не оказали никакого сопротивления правительственным войскам, фельдмаршал обошелся с ними круто. Это видно из царского указа, упрекавшего Шереметева в том, что тот повинен в намерении астраханцев оказать сопротивление. «У астраханцев, – писал Петр, – сумнение произошло от некоторых к некоторым присланным их и черноярцам показанной суровости, в чем для Бога осторожно поступайте и являйте к ним всякую склонность и ласку».[278]
Другим свидетельством стремления Шереметева обострить обстановку в Астрахани явилось игнорирование им просьбы повстанцев о том, чтобы он воздержался от входа в город до возвращения делегации с грамотой царя, прощавшей им все вины. Фельдмаршал, напротив, форсировал занятие Астрахани под тем предлогом, что ему стало известно о замысле повстанцев разрушить и поджечь город, а затем уйти в Аграхань.
Сведения о карательных действиях Шереметева – штурме Астрахани – и сопротивлении, оказанном ему повстанцами, мы черпаем из его собственных донесений. Проверить их достоверность не представляется возможным, ибо другими источниками историки не располагают. Бесспорно одно: донесения Шереметева являются крайне тенденциозными. Их цель, в частности, состояла в том, чтобы убедить царя и его окружение в отсутствии шансов для мирного урегулирования взаимоотношений между астраханцами и правительством. С этой целью фельдмаршал либо сгущал краски, либо умалчивал о фактах, противоречивших его версии хода карательной операции.
Выше говорилось о том, что астраханцы просили Шереметева не вступать в город до прибытия туда депутации с грамотой царя, прощавшей им вины. Ясно, что царская грамота усилила бы позиции тех, кто соглашался впустить фельдмаршала в город без сопротивления. В своем донесении Шереметев сообщал, что он отпустил депутацию 9 марта. По другим сведениям, приводимым исследователями Астраханского восстания, следует, что фельдмаршал задержал в обозе выборных, возвращавшихся из Москвы, и те вошли в город вместе с правительственными войсками. Фельдмаршал далее доносил, что астраханцы выступили против него «с пушки и знамены», то есть со всеми своими силами. Это тоже передержка, явно нацеленная на то, чтобы оправдать военные действия против астраханцев (раз они ринулись в атаку, следовательно, надобно было от них отбиваться) и подчеркнуть свою воинскую доблесть. В действительности, как установила Н. Б. Голикова, «основная масса защитников города осталась на стенах».[279]
В целом события в Астрахани в последние дни, когда город находился в руках восставших, развивались не по плану, разработанному боярами и царем, а по сценарию фельдмаршала. Под его пером они выглядели так. Сначала правительственные войска одолели астраханцев, совершивших вылазку: «…их, изменников, побили, и в Земляной город вогнали, и пушки и знамена побрали». Затем войска «Земляной город взяли приступом и гнали за ними даже до Белова города». Укрывшихся в Белом городе восставших Шереметев подверг бомбардировке, после которой они сдались на милость победителя.[280]
Действия Шереметева не вызвали одобрения у Ф. А. Головина. В письме царю он считал, что «великую безделицу зделали», и сетовал: «Токмо тово жаль, что зделанное испорчено». Под «испорченным» делом подразумевались усилия его, Головина, и царя уладить конфликт мирным путем.
Какими мотивами руководствовался Шереметев, когда вел линию на обострение отношений с астраханцами и действовал в нарушение инструкций царя?
Источники на этот счет немы, и можно высказать лишь догадки. Представим себе, что астраханцы впустили бы Шереметева без всякого сопротивления, то есть поступили бы так же, как и черноярцы. Тогда Шереметев, вероятно, отправил бы донесение того же содержания, какое он отправил Головину с Черного Яра: «Пришел я на Черный Яр марта 2 дня с полками, и черноярцы вышли навстречю с ыконами, и вынесли плаху и топор, и просили милосердия».[281] Шереметеву, таким образом, была бы уготована роль человека, пожинавшего плоды усилий людей, подготовивших сдачу города без сопротивления. Подобная роль не сулила Шереметеву ни почестей, ни наград.
Риск вызвать недовольство царя штурмом Астрахани был невелик: победителей, как говорят, не судят. В конечном счете правительственной верхушке был важен конечный итог. Что касается способов его получения, то расхождения не носили принципиального характера. Шереметев мог накликать на свою голову беду, если бы штурм оказался неудачным и штурмовавшие понесли большие потери. Но такой ход событий был исключен: в победе правительственных войск фельдмаршал не сомневался, так как хорошо знал о противоречиях, раздиравших лагерь восставших.
Успешное завершение астраханской экспедиции было отмечено царем. В грамоте о пожаловании Шереметеву Юхоцкой волости и села Вощажниково наряду с перечислением его заслуг в Северной войне было сказано и об успешном руководстве карательной операцией в Астрахани. В мятежном городе к Шереметеву пристала то ли настоящая, то ли притворная хворь. «За грехи мои пришла мне болезнь ножная: не могу ходить ни в сапогах, ни в башмаках; а лечиться не у кого. Пожалуй, не оставь меня здесь», – просил он Головина. Стоило, однако, Меншикову объявить Шереметеву о пожаловании 2400 дворов, как тут же исчезли все симптомы болезни. Меншиков доносил царю, что фельдмаршал «зело был весел и обещался больше не болеть».[282]
Шереметев выехал из Астрахани вместе с участвовавшими в восстании стрельцами только в конце июня. Отъехав на некоторое расстояние от города, он, согласно указу царя, «пущих заводчиков» отправил в Москву, где над ними чинил жестокий розыск руководитель Преображенского приказа князь Федор Юрьевич Ромодановский. Остальные стрельцы должны были продолжить службу в солдатских полках.
Вновь в действующей армии
В конце 1706 года грузную фигуру фельдмаршала можно было вновь встретить в действующей армии. Здесь, в западноукраинском местечке Жолкве, на военном совете в присутствии царя был принят знаменитый план дальнейшего ведения войны со шведами.
Шесть лет, в течение которых армия Карла XII «увязла» в Польше, не прошли даром для шведского короля. Ему в конце концов удалось достичь своего: лишить Августа II польской короны и водрузить ее на голову своего ставленника Станислава Лещинского, а также вынудить Августа порвать союзнические отношения с Россией. Богатая Саксония, сохраненная за Августом, в течение года сыто кормила и вдосталь одевала и обувала шведскую армию, которая там отдыхала, набиралась сил перед своим броском на восток, чтобы разделаться с оставшимся в одиночестве последним участником Северного союза – Россией.
В одном из писем Ф. А. Головину Шереметев обнаружил глубокое понимание обстановки на театре войны и выразил свое мнение о ближайших намерениях Карла XII. «А я так разсуждаю, – делился фельдмаршал своими мыслями, – что швед… пошел в Шленскую границу и тут будет зимовать для тово, что ему в Польше не прокормить». В Саксонии король пополнит свои войска рекрутами, армия «набогатитца», отдохнет, и только после этого Карл XII «будет наш гость», то есть отправится в поход на Россию.[283]
Догадаться русскому командованию об этом намерении шведского короля было легче, чем здраво взвесить силы противника и свои собственные возможности, чтобы принять единственно правильный план действий. Он и стал предметом обсуждения на военном совете, или, как тогда говорили, конзилии, состоявшейся в Жолкве. Конзилия решила генеральной баталии в Польше не давать, «понеже ежели б какое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду». Русским войскам надлежало отступать до своих границ и только на своей территории, «когда того необходимая нужда требовать будет», отваживаться на генеральное сражение. Отступавшей армии, как сказано в постановлении военного совета, надо было «томить неприятеля», то есть устраивать засады, внезапные нападения на переправах, уничтожать запасы провианта и фуража, чтобы они не достались противнику.
1707 год прошел в ожидании шведского вторжения. Основные силы русских – так называемая полевая армия численностью 57,5 тысячи человек под командованием Шереметева – были нацелены на главную армию шведов, насчитывавшую 30–35 тысяч человек, во главе с самим Карлом XII. Помимо этого существовало еще две группировки войск. Шестнадцатитысячному корпусу Левенгаупта в Риге противостоял равной численности корпус русского генерала Боура, расположенный между Дерптом и Псковом. Действия финляндского корпуса Либекера (15 тысяч человек) должен был парализовать ингерманландский корпус Ф. М. Апраксина (24,5 тысячи человек).
Карл XII покинул Саксонию в августе 1707 года. Полевая армия Шереметева начала откатываться на восток. Отступление было нелегким. В конце февраля 1708 года фельдмаршал извещал Меншикова: «Нужда велика, взять негде; деревни, которые есть, все пусты; не токмо что провианту сыскать невозможно, но и жителей никого нет». Еще больше испытаний выпало на долю армии противника: она двигалась по территории, опустошенной отступавшими.
Карл XII страстно желал генеральной баталии. Русское командование, напротив, всячески уклонялось от нее: во-первых, потому, что неприятель, по мнению царя, еще недостаточно был подвержен воздействию «томления», а во-вторых, потому, что Петр в своей стратегии строго руководствовался правилом: «Искание боя генерального суть опасно – в единый час все испровержено, – того для лучше здоровое отступление, нежели безмерный газард».[284]
В начале февраля 1708 года шведская армия достигла Сморгони. Здесь Карл XII простоял свыше месяца. Петр рассуждал так: «Ежели до 10 марта неприятель не тронетца, то уже конечно до июня не будет».[285] Карл XII, однако, «тронулся» 17 марта, но находился на марше лишь сутки. На следующий день он вошел в Радошковичи, чтобы задержаться там еще на три месяца. На квартирах расположились и русские войска. Жизнь на театре военных действий как бы замерла. Наступило затишье, прерываемое лишь разведывательными операциями.
Куда направит король свою армию с наступлением летней кампании? Этот вопрос задавали не только в русской, но и в шведской ставке. Ни там, ни здесь на него не могли дать точного ответа: король не любил делиться с окружающими ни сомнениями, ни планами.
Один из возможных маршрутов шведской армии лежал к Пскову, а затем в Ингрию, чтобы там одним ударом вернуть то, что русские добывали в течение шести лет – Шлиссельбург, Нарву, а заодно и Дерпт. Этот план, хотя и не самый блестящий по своим конечным результатам, ибо даже успешное его выполнение не обеспечивало окончание войны, тем не менее был для шведов самым надежным и наименее рискованным. Есть основания полагать, что, находясь в Саксонии, король ориентировался на осуществление именно этого плана. В минуты, когда Карл XII бывал разговорчивым, он сказал своему генерал-лейтенанту Гилленкроку: «Мы можем иметь другой план: выгнать неприятеля из нашей земли и овладеть Псковом. На этом основании вы должны составить диспозицию к атаке». По свидетельству того же Гилленкрока, в ставке короля изучались крепостные сооружения Пскова и составлялись планы овладения им.
Но в голове короля созрел и другой план, более всего импонировавший складу его военного дарования и характеру: надо идти на Москву. Карл XII полагал, что здесь, в столице России, ему удастся продиктовать поверженному царю свои условия мира. Мысль эта настолько овладела королем, что ни предупреждения о возможных пагубных последствиях этого похода, ни доводы о его трудности, ни, наконец, рассуждения об огромном риске, которому подверглась бы армия, вторгшаяся на неприятельскую землю, не могли поколебать убеждений шведского полководца. В этой связи приведем в записи Гилленкрока его разговор с Карлом XII.
Гилленкрок. Неприятель употребит, вероятно, все средства к воспрепятствованию нашего похода.
Король. Неприятель не может остановить нас.
Гилленкрок. Полагаю, что неприятель не отважится вступить в сражение с вашим величеством. Но русские будут для лучшей обороны окапываться на всех трудных для нас местах.
Король. Все эти окопы ничего не значат, и они не могут мешать нашему движению.
Гилленкрок. Когда неприятель увидит, что не может остановить движение нашей армии, то непременно начнет жечь в своей земле.
Король парировал и этот довод: «Если он не выжжет своей земли, то я сожгу все».
Гилленкрок. Со временем ваше величество убедитесь, как опасно углубляться в неприятельскую землю, не имея прочных сообщений с отечеством.
Противопоставить этому предупреждению какие-либо разумные доводы Карл XII не смог. Он изрек: «Мы должны отважиться на это, покамест нам благоприятствует счастье». Слова Гилленкрока о том, что опасно полагаться на счастье, не возымели никакого воздействия на короля. «Тут нет никакой опасности. Будьте покойны!» – такими словами Карл XII подвел итог диалогу.[286]
Сам Петр в январе-феврале 1708 года был убежден, что Карл XII двинется на Псков. 29 января он делился своими суждениями с Меншиковым: «…хотя о неприятельском подвиге, в которую сторону к нашим рубежам будет, и неведомо, однако ж, чаю, совершенно ко Пскову». Этого мнения царь придерживался и в середине февраля, причем допускал, что шведский король мог свои намерения маскировать ложными движениями: пехоту направить на северо-восток, а конницу – на восток, в сторону Москвы; после того как король убедится, что ему удалось ввести в заблуждение русское командование, он немедленно соединится с пехотой. «Я и теперь больши в том мнении, что пойдет к Левенгаупту в случение», – писал Петр Меншикову 18 февраля.[287]
Известно, что Карл XII не пошел ни на северо-восток, ни на восток. Москву он решил добывать кружным путем – через Украину. Притягательность этого направления возрастала по мере притока в ставку короля новых данных о событиях на Дону и Украине. С Дона поступали бодрившие его сведения о вспыхнувшем там восстании, из которого он рассчитывал извлечь для себя немалые выгоды. Атаман Кондратий Булавин, его сподвижники Семен Драный, Никита Голый и другие подняли казаков на борьбу с правительством. Еще более обнадеживающие новости сообщили королю эмиссары украинского гетмана Мазепы – тот был близок к осуществлению своего коварного намерения изменить России и переметнуться в лагерь шведов.
Окончательное решение идти на Украину Карл XII принял в сентябре 1708 года, а до этого Петру и его генералам пришлось решать головоломное уравнение со многими неизвестными. Любое решение могло стать роковым, ибо концентрация русских войск в том или ином ошибочно предполагаемом направлении движения армии Карла XII к русским рубежам могла создать шведам оперативный простор и открыть им путь для беспрепятственного движения к цели; и напротив, если бы план короля был разгадан, она была способна создать огромные и даже непреодолимые препятствия для противника. Трудность решения этой стратегической задачи усугублялась также и некоторыми привходящими обстоятельствами.
Ранее отмечалось, что главнокомандующим полевой армией Петр назначил Шереметева. В месяцы, когда на театре войны присутствовал царь, он и осуществлял руководство боевыми действиями. Ни Меншиков, ни тем более Шереметев, разумеется, не осмеливались игнорировать его повелений. Но весну и половину лета Петр провел в Петербурге. На театре военных действий лицом к лицу оказались фельдмаршал Шереметев и генерал-лейтенант Меншиков, благодаря фавору позволявший себе действовать вопреки воле главнокомандующего и далеко не всегда выполнявший его предписания. В итоге размолвки между главнокомандующим и его подчиненным создалась ситуация, чреватая тяжелыми последствиями. В этой связи дадим краткий обзор их взаимоотношений в прошлом.
Проникнуть в суть отношений между Борисом Петровичем и Александром Даниловичем затруднительно прежде всего потому, что их взаимоотношения были достаточно сложными и не отличались постоянством. К тому же наличные источники отражают преимущественно внешнюю сторону этих отношений, так сказать, видимую часть айсберга, умалчивая о побудительных мотивах тех или иных поступков и лишая возможности уловить то, что они тщательно друг от друга скрывали.
Меншиков, как известно, был окружен разноголосым хором льстецов, всегда готовых ласкать ухо фаворита словесными изъявлениями любви и преданности. Среди них, разумеется, друзей не было. Стоило светлейшему оступиться и попасть в немилость, как отношение к нему круто менялось. Борис Петрович не составлял исключения в этом плане, хотя его, конечно, нельзя причислить к людям, готовым ради карьеры раболепствовать и терпеть любые унижения перед всесильным фаворитом. Шереметев себе цену знал, как, впрочем, хорошо знал и цену Меншикову. Пышные чины и звания, украшавшие по воле царя титул Меншикова, в глазах таких аристократов, как Шереметевы, Голицыны, Долгорукие, Куракины и другие, не могли заменить породы. Тем не менее Шереметев, не питая искренних симпатий к надменному выскочке, смирял боярскую спесь и скрепя сердце нередко заискивал перед ним.
Если судить об отношениях между Меншиковым и Шереметевым по их переписке, то они почти всегда выглядели ровными и взаимно уважительными. Кстати, из переписки сохранились лишь письма Шереметева к Меншикову и утрачены письма светлейшего к фельдмаршалу. Но и выдержавшие испытание на сохранность письма Бориса Петровича дают основания для некоторых бесспорных наблюдений.
Пересылались они письмами настолько часто и систематически, что более или менее продолжительное молчание воспринималось как чрезвычайное событие, требовавшее объяснений. В письме от 22 апреля 1705 года Борис Петрович так объяснял наступивший перерыв: «А на меня не имей гневу, что я ни о каких ведомостях не пишу, понеже ниоткуда сам не имею». И тут же сожаление о невозможности лично повидать Александра Даниловича: «…не допустила меня болезнь… А верхом, чаю, не доехать. Ей, государь, братец, кроме любви твоей и надлежащих нужд рад к тебе ехать от самой скуки». Майское письмо в том же духе: «Не погневайся, государь, что я к тебе не писал по се время… Ей, приболел. Ведомостей у меня ниоткуда никаких нет».[288]
Примечательна форма обращения Шереметева к Меншикову. В ней можно обнаружить элементы как близости, так и фамильярности. Последняя, надо полагать, не оскорбляла, а, напротив, льстила фавориту. «Государь мой и брат Александр Данилович» – так начинал свои послания фельдмаршал. Борис Петрович часто употреблял слово «братец», звучавшее в известной мере покровительственно: «Преж сего я писал к тебе, братец…» или «Пожалуй, государь мой, братец, дай мне знать…» Но вот в 1706 году Меншиков становится князем Священной Римской империи. С приобретением нового титула исчезло фамильярное «братец». Прежнюю форму обращения сменяет новая, повторяющаяся десятки раз: «Светлейший князь, мой крепчайший благодетель и брат».
Оба с готовностью оказывали друг другу услуги. Правда, они располагали неравными возможностями: многое из того, что делал светлейший, было просто недоступно Шереметеву. Поэтому услуги последнего чаще всего были ничтожными. Лишь однажды фельдмаршал одарил Меншикова натурой – трофейным скотом: «…челом бью тебе, братец, десять коров галанских да бык большой же галанский на завод». В основном услуги фельдмаршала выражались либо в форме добрых советов, либо в форме знаков внимания.
Шереметев, например, предостерегал Меншикова от опрометчивых решений. Когда Александр Данилович хотел использовать какого-то офицера для учета в Пскове артиллерии и припасов к ней, Борис Петрович высказал сомнение в его пригодности для этого дела: «А которой есть у меня порутчик остался во Пскове, ей, малоумен, не токмо что такое дело управить и себя одново не управит». В другой раз Шереметев писал: «Ведомо мне учинилось, что изволил твоя милость князя Волконского оставить у полку. Ей, великая твоя к нему милость, только истинно тебе доношу, что он болен и такова дела ему не снесть». Вместо Волконского он рекомендовал взять у него «самого доброго человека». А вот другого рода любезность. В январе 1708 года, перед приездом светлейшего на военный совет в Бешенковичи, Шереметев извещал его: «Домы для прибытия вашей светлости отведены, которых лутче нет, и я свой двор очистил».[289]
Меншиков одаривал Шереметева более существенно. Фельдмаршал понимал, что царские пожалования могут быть весомее, если о них станет хлопотать любимец царя. Борис Петрович, не стесняясь, часто докучал своему «брату и крепчайшему благодетелю» просьбами. Одарив Меншикова голландскими коровами и быком, он в этом же письме обратился к нему с просьбой: «Всем его, государева, милость и жалованье, а мне нет. И вины мне никакой не объявлено». Если верить Шереметеву, то он оказался в безысходной нищете и нуждался в срочной помощи: «Умилосердися, батька и брат, Александр Данилович, вступися ты за меня и подай руку помощи. А я, кроме Бога и пресвятые Богородицы и премилостивейшего государя да тебя, моево батька и брата, никово помощника не имею». Письмо содержит любопытное признание: «…прежнюю всякую милость получал чрез тебя, государя моего».
Следующее пожалование – Юхотскую волость и село Вощажниково Шереметев получил тоже при посредничестве Меншикова. Сразу же после подавления восстания в Астрахани, 16 марта 1706 года, перо Шереметева вновь искусно живописало о его «бедности». Он жаловался, что его «службишка забвенна учинилась», что ему приходится жить «нищенска», что фельдмаршалу не престижно: «…не мне то будет стыт, знают, что мне взять негде».
В иных случаях Меншиков мог сам, не обращаясь к царю, облагодетельствовать Шереметева. Борис Петрович не упускал и эту возможность. В сентябре 1705 года он плакался: «…покажи надо мною отеческую милость, не дай мне разоритца». Суть просьбы состояла в том, чтобы Меншиков велел приостановить перепись беглых, поселившихся в вотчине фельдмаршала близ Белгорода, в селе Борисовка: «А естли ее будут описывать, ей, все разбредутца и будет пуста».
Когда Шереметеву надлежало принимать какое-либо решение, он тоже обращался за советом к «крепчайшему благодетелю»: «Пожалуй, братец, вразуми меня, как мне обходитца з господином генералом Шанбеком». Этот генерал был только что нанят на русскую службу, но уже успел проявить высокомерие. В другой раз Шереметев, затрудняясь решить, какой полк отдать под команду генерал-поручика Розена, опять просил Меншикова: «И вразуми меня, как с ним обходитца».[290]
Среди писем Шереметева, кстати умевшего скрывать свои обиды, встречаются и такие, в которых вместо слов о любви и преданности можно обнаружить отражение подозрительности, соперничества и даже враждебности.
Вспомним в этой связи случай с указом царя об изъятии из-под команды Шереметева пехотных полков. Фельдмаршал расценил его как выражение царского гнева и так расстроился, что занемог. Меншиков, доставивший указ, взялся утешать Бориса Петровича, но тот сомневался в искренности своего «крепчайшего благодетеля» и поделился сомнениями с Ф. А. Головиным. В письме свату Шереметев писал, что, несмотря на долгие разговоры, Меншикову не удалось убедить его в своем доброжелательном к нему отношении. Фельдмаршал остался при своих сомнениях и после того, как Меншиков показал ему отправляемое царю письмо с теплыми словами в его адрес. Читая это письмо, Шереметев, видимо, вспомнил, как Меншиков несколько ранее поступил с Виниусом. Он принял от Виниуса взятку, взамен полученного куша показал ему свое письмо царю с благожелательным отзывом о нем и тут же с нарочным отправил другое, в котором с головой выдал взяткодателя.
На этот раз подозрения Шереметева относительно козней Меншикова оказались необоснованными. Утешать фельдмаршала пришлось и царю. Он разъяснил обиженному, что разделение армий было предпринято «не для какова вам оскорбления, но ради лучшего управления», и тут же добавил, что он приостановил исполнение указа. Петр не лукавил. Это видно из его письма Меншикову. Царь заверял фаворита, что у него нет намерений ущемлять фельдмаршала.
Описанный выше эпизод во взаимоотношениях двух военачальников носил, если можно так выразиться, личный характер. Три года спустя между ними возник конфликт, в основе которого лежали более существенные расхождения – несхожие взгляды на способы ведения войны со шведами.
В начале марта 1708 года военный совет в белорусском местечке Бешенковичи, что юго-западнее Витебска, обсуждал представленный Меншиковым план летней кампании. Светлейший полагал, что полевая армия независимо от того, в каком направлении двинется Карл XII, должна отступать, производя полное опустошение края. Особую роль в этом маневре князь отводил коннице: она должна была действовать изолированно от пехоты и следовать по пятам шведов. Задача регулярной конницы – нанесение противнику ударов с тыла, в то время как нерегулярная кавалерия должна была атаковать его фланги.
Против плана Меншикова решительно выступил Шереметев. Впрочем, в главном фельдмаршал был согласен с князем: русской армии надлежало отступать, то есть действовать в соответствии с жолквиевской стратегией. Но Борис Петрович считал крайне опасным раздельное расположение пехоты и кавалерии, ибо в этом случае невозможно было выручать друг друга из беды. Фельдмаршал далее задавал отнюдь не риторический вопрос: «Наша кавалерия как возможит по тем пустым и разоренным местам путь свой править?» Вопрос резонный, ибо кавалерии пришлось бы двигаться по территории, дважды опустошенной: сначала русской пехотой, а затем шведской армией.[291]
Мнение Шереметева о плане Меншикова как бы подводило черту их неприязненным отношениям – выползло наружу то, что подспудно накапливалось до военного совета. Отзвуки конфликта докатились до Москвы, и английский посол Витворт, как всегда хорошо осведомленный не только о придворных интригах, но и о событиях на театре войны, доложил своему правительству: «Раздор между любимцем царским и фельдмаршалом возрос до того, что Шереметев заявил при целом военном совете, будто готов отказаться от своего поста, так как и его репутации, и самой армии государевой грозит гибель, если князь не будет удален от начальства над кавалерией».[292]
Ссору мог погасить царь, отозвав светлейшего в Петербург. Но он этого не сделал, уповая на способность военных советов сглаживать острые углы. Два медведя были оставлены в одной берлоге. В командовании полевой армии Петр оставил все без изменения, хотя фактически он разделял взгляды Шереметева на план Меншикова. «Старший полковник», как называли царя в армии, допускал раздельные действия пехоты и кавалерии только зимой, когда кавалерия располагала простором для маневра: в случае надобности она без труда могла преодолеть скованные льдом реки и болота и соединиться с пехотой.
11 марта 1708 года Петр выехал из Бешенковичей в Петербург. Распри между Меншиковым и Шереметевым не способствовали согласованным действиям, что не ускользнуло от внимания современников. 19 марта генерал А. И. Репнин писал начальнику артиллерии Я. В. Брюсу: «Я сколько ни служил, а такого порядку не видал, как ныне». Брюс был вполне с этим согласен и со своей стороны добавил: «…хотя много читал, однакож, в которой кронике такой околесины не нашел».
Летом 1708 года русской армии предстояло оборонять два водных рубежа: сначала Березину, а в случае если шведы переправятся через нее, то и Днепр. Какими силами надлежало защищать Березину?
Меншиков полагал, что с обороной Березины лучше всего справится кавалерия, дополненная пехотой. Шереметев придерживался иного мнения, изложенного им 7 мая в донесении царю: отряд надлежало комплектовать из кавалерии и пехоты, посаженной на коней. Свое предложение фельдмаршал мотивировал тем, что конница в случае неприятельского наступления могла быстро отойти, в то время как менее мобильные пехотные полки могли стать легкой добычей неприятеля; не исключено, что, обороняя пехоту, армия постепенно втянется в генеральное сражение, не входившее в расчеты русского командования.
Меншикову не удалось помешать Карлу XII преодолеть Березину – король без особого труда обманул светлейшего. Шведы инсценировали активную подготовку к переправе у Борисова, где и сосредоточил свою кавалерию Меншиков, но 14 июня неприятель вопреки расчетам князя переправился намного южнее Борисова. Царь весьма снисходительно отнесся к оплошности своего фаворита и лишь слегка его пожурил, предупредив, чтобы он впредь не давал себя обмануть.
Оплошность князя дала фельдмаршалу повод для иронических замечаний. Он спрашивал у Меншикова, каким образом неприятель «столь легко перешел» Березину. В другой раз, получив известие от светлейшего, что тот поручил чинить препятствие наступлению шведов команде во главе с майором, Шереметев не без ехидства заметил: «Передаем вашей светлости в разсуждение, как может один майор с малою партиею все неприятельское войско держать?» Князь не оставался в долгу и отвечал тоже колкостями. Когда Шереметев высказал опасение, что противник может отрезать пехоте пути к отступлению, он возразил: между шведами и пехотой стоят кавалерийские полки и «неприятель не крыласт, прямо через нас не перелетит».[293]
Препирательства, надо полагать, сыграли свою роль и при Головчинском сражении, состоявшемся 3 июля. Это сражение, запланированное военным советом как частное столкновение со шведами, закончилось для русских неудачно: дивизия Репнина уступила поле боя и оставила противнику полковую артиллерию. Тактический успех шведов, ничтожный по своим конечным результатам, тем не менее был превращен Карлом XII в грандиозную победу. По ее поводу король распорядился выбить медаль с хвастливой надписью, совершенно не соответствовавшей реальному значению сражения: «Побеждены леса, болота, оплоты и неприятель».[294]
После Головчинского сражения русские войска отошли к Днепру. Настала пора составлять реляцию царю, находившемуся в пути из Петербурга в действующую армию. Реляция, подписанная Шереметевым, Меншиковым и другими военачальниками, была составлена искусно и обтекаемо: она будто бы и ничего не утаивала из случившегося и в то же время не давала подлинной картины сражения и его итогов.
Читая реляцию где-то между Великими Луками и Смоленском, Петр не обнаружил в ней ничего настораживающего. В самом деле, там было написано, что наша конница «неприятеля многократно с места сбивала» и если бы местность позволила полкам, прибывшим на помощь, участвовать в сражении, то «конечно б неприятельское войско могло все разориться», но полки, не желая «в главную баталию вступать», сами «без всякого урону» оставили поле боя. Царя не могло не утешить то обстоятельство, что противник «вдвое больше нашего потерял» и что, «кроме уступления места», ему «из сей баталии утехи мало».[295]
Реляция хотя и не создавала впечатления о полной победе русских войск, но вселяла в царя уверенность в несомненной полезности сражения как репетиции генеральной баталии. Именно так оценил Петр случившееся у Головчина. Адмиралу Апраксину он писал: «Однакож я зело благодарю Бога, что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько и что от всей ево армеи одна наша треть так выдержала и отошла». Слова одобрения были высказаны и Шереметеву: «В протчем паки прошу Господа Бога, дабы меня сподобил к сему вашему пиршеству и всех бы вас видеть в радости здоровых».[296] Реляция о Головчинском сражении дала основание Петру считать полевую армию достаточно подготовленной и для более серьезных действий. Фельдмаршала царь напутствовал не упускать благоприятного случая, чтобы помериться силами с неприятельской армией.
Сведения о сражении у Головчина уточнялись по мере приближения царя к ставке Шереметева в Горках, и соответственно менялась его общая оценка случившегося. Какой разговор состоялся между Петром и фельдмаршалом – осталось тайной. Думается, однако, что царь изрекал слова упреков, а не похвалы. В конечном счете за промахи пришлось расплачиваться. 16 июля Петр издает два указа: один адресован Шереметеву, другой – Меншикову. Борису Петровичу, командовавшему пехотой, было поручено председательствовать в военном суде, рассматривавшем действия генерал-лейтенанта Гольца, в подчинении которого находилась кавалерийская дивизия. Гольц обвинялся в том, что некоторые его полки потеряли знамя и несколько пушек, а «иные не хотели к неприятелю ближе ехать».
Александр Данилович должен был председательствовать в суде над Репниным. Светлейшему надлежало «со всякою правдою» выяснить, как многие полки Репнина «пришли в комфузию»: оставив пушки, «непорядочно отступили». Приговор суда под председательством Меншикова отличался крайней суровостью. В нем сказано, что Репнин «достоин быть жития лишен». Но проявленная Репниным личная храбрость на поле боя дала основание для снисхождения: жизнь ему была сохранена, но он лишился чина и должности. Разжалование сопровождалось взысканием с Репнина штрафа за пушки, утраченные на поле боя. Репнин обратился к царю с просьбой о помиловании. Он доказывал, что удержать рубежи, на которые наступали превосходящие силы противника, без «сикурса» было невозможно, писал о бесплодных призывах о помощи.
Царь оставил приговор в силе, хотя в ходе разбирательства было выяснено, что помощь Меншикова запоздала, а Шереметев не сдвинулся с места из опасения быть втянутым в генеральную баталию. В то же время приговор не был приведен в исполнение в полном объеме. Два месяца спустя Репнин в чине полковника командовал полком в сражении у Лесной и за проявленную на поле битвы храбрость был восстановлен в чине и должности. Что касается Гольца, то ему приговор так и не был вынесен.
Возникает естественный вопрос: ради чего царь создавал «кригсрехт»? Не выглядела ли вся эта затея с военным судом фарсом, призванным пощекотать нервы лицам, привлеченным к ответственности?
На поставленные вопросы можно ответить лишь предположительно. Совершенно очевидно, что в головчинском деле круг виновных не исчерпывался генералами, привлеченными к суду. В числе виновных должны были находиться и сами судьи – Меншиков и Шереметев. Репнин в данном случае играл роль козла отпущения. Суровые кары по отношению к нему имели воспитательное значение: царь внушал высшим офицерам мысли о воинском долге, дисциплине и необходимости безупречно вести себя на поле боя.
Неудача под Головчином имела значение досадного эпизода. Она была вскоре забыта, ибо на смену ей пришли две блистательные победы, в которых, правда, Борис Петрович не участвовал. Первая из них связана с операцией 30 августа под селом Добрым, стоившей шведам потери 3 тысяч человек. «Как я почал служить, такова огня и порядочного действа от наших солдат не слыхал и не видал», – писал царь с поля боя 31 августа 1708 года.
Вторая победа, которую Петр с полным основанием называл матерью Полтавской виктории, произошла 28 сентября у деревни Лесная. Как только русскому командованию стало известно о движении 16-тысячного корпуса Левенгаупта из Риги на соединение с главными силами Карла XII, державшими в то время путь на Украину, Петр созвал военный совет. Он принял знаменитое решение о выделении из полевой армии летучего отряда под командованием царя для нападения на корпус Левенгаупта. Основные силы полевой армии под началом Шереметева должны были двигаться на юг впереди шведов. Задача оставалась прежней – «томить» неприятеля.
В победе у Лесной Петр отмечал три момента. Русские одержали верх над более многочисленным противником: 16-тысячному корпусу Левенгаупта противостоял лишь 10-тысячный отряд русских. Имело значение и то, что разгрому подверглись «природные» шведы. Наконец, царя порадовала организация управления боем. Именно четкие команды и перестроения позволили разгромить неприятеля, располагавшего превосходством в силах. Царь сам признавал, что если бы сражение происходило на открытой местности, то наверняка победили бы шведы.
Результаты победы обнадеживали: Карл XII лишился не только существенной подмоги в личном составе, но и обоза с боеприпасами, снаряжением, обмундированием и артиллерией. Нагруженные всяческим добром 2 тысячи телег стали трофеями русских войск. На поле битвы у Лесной полегло 8 тысяч шведов. В ставку Карла XII стекались спасшиеся от уничтожения деморализованные отряды и единичные солдаты – остатки некогда грозного корпуса.
Король не хотел верить солдату, доставившему известие о разгроме Левенгаупта. Окружающих и прежде всего самого себя он пытался убедить, что солдат все перепутал и наговорил от страха несуразностей, что корпус во главе с опытнейшим генералом Левенгауптом не мог потерпеть поражение. Когда последние сомнения относительно катастрофы у Лесной развеялись, король утратил покой. Его одолела бессонница, он не мог находиться в одиночестве и сам искал общества приближенных, развлекавших его разговорами в ночные часы.
Любопытны обстоятельства получения информации о победе у Лесной в ставке Шереметева. Она размещалась в районе Стародуба, и шведский майор, посланный с печальной вестью к королю, был настолько уверен в действенности контроля Карла XII над всей Украиной, что без предварительной разведки сам заехал в Стародуб, где был схвачен казаками местного гарнизона и немедленно доставлен к Шереметеву. От него, а не от курьера царя фельдмаршал и получил известие о торжестве русского оружия в лесах Белоруссии.
Поражение у Лесной еще более укрепило Карла XII в мысли следовать на Украину. Только там он рассчитывал восполнить понесенные потери: изменник Мазепа сулил ему подкрепление в живой силе, а также многочисленную артиллерию и запасы продовольствия, впрок заготовленные в своей резиденции – Батурине.
27 октября 1708 года, когда Петр получил первую весть об измене Мазепы, шведы находились на правом, а русские – на левом берегу Десны. На военном совете было решено отправить Меншикова добывать Батурин, а полевую армию использовать для удержания шведов на правом берегу Десны. С последней задачей русские войска не справились. Как писал Петр, благодаря «нерадению генерал-майора Гордона» шведы без особых помех преодолели Десну. Тем не менее к Батурину они все же опоздали. У стен гетманской резиденции первым оказался Меншиков. На предложение князя открыть ворота сторонники Мазепы, укрывавшиеся в крепости, давали уклончивые ответы, заявляя, что им ничего не известно об измене гетмана. Светлейшему стало ясно, что комендант Батурина Чечел тянет время в надежде на подход Мазепы и главных сил шведов. Отряд Меншикова предпринял ожесточенный штурм и в ночь на 2 ноября овладел Батурином.
Армия Карла XII нуждалась в отдыхе и продовольствии. Ни того ни другого шведы на Украине не обрели. Они оказались в кольце русской армии и вместо покоя подвергались постоянным нападениям русской конницы и украинских партизан. В обстановке необычно суровой для этих мест зимы вместо теплых квартир им пришлось довольствоваться открытым небом. На Украине велась так называемая малая война. Крупных сражений царь избегал, оберегая главные силы от возможных неудач. В «деле» находились небольшие «партии», охотившиеся за языками и нападавшие на обозы и фуражиров. Во время одного из таких нападений шведский король едва не оказался в плену. Не заметив отступления своих рейтар, он с несколькими солдатами вынужден был искать спасения на мельнице. Этот эпизод описан в «Журнале, или Поденной записке» Петра: мельница «нашими людьми была окружена, и ежели б не застигла ночная темнота, то б он, конечно, тут взят был».[297]
Жестокие морозы сменились внезапной оттепелью. 12 февраля 1709 года разразилась гроза с сильным ливнем. Реки и речушки выступили из берегов, так что русской и шведской пехоте пришлось передвигаться в ледяной воде. Отсутствие запасов продовольствия вынуждало шведов постоянно менять свою дислокацию. Вокруг мест своего сосредоточения они намеренно создавали пустыню, превращая населенные пункты в пепел и развалины. Тем самым, рассуждали в ставке шведского короля, русские войска, испытывая лишения, оставят их в покое.
Между тем Петр не намеревался создавать захватчикам спокойную жизнь. Было решено сформировать достаточно сильный и мобильный отряд для нанесения молниеносных и дерзких ударов по неприятелю. Командование этим отрядом было поручено Меншикову, но светлейшего царь вызвал в Воронеж, и руководство операцией перешло к Шереметеву. Фельдмаршал с заданием не справился. Он был хорош и даже незаменим в операциях, где требовались осторожность, расчетливость, выдержка. Он умел педантично и с большим успехом «томить» неприятеля и изнурять его силы. Здесь же надлежало проявить качества, органически чуждые Шереметеву: азарт, дерзость, внезапность, риск.
Поначалу Борису Петровичу сопутствовал успех: он разгромил небольшой отряд шведов (около 450 человек) и захватил в плен полковника. Царь из Воронежа поздравил фельдмаршала, но предупредил, что с нетерпением ждет известий о победах над более значительными силами неприятеля.[298]
Ожидания оказались тщетными. Шереметеву предстояло уничтожить крупный отряд шведского генерала Крейца, но фельдмаршал проявил столько нерешительности и осторожности, что шведы благополучно оторвались от русских войск и ушли невредимыми. Царь был крайне недоволен действиями Бориса Петровича и свой гнев выразил тем, что отобрал у него Преображенский полк, передав его под начало Меншикова.
Уязвленный Шереметев стал оправдываться «великим разлитием реки Сулы», делал вид, что никак не может понять, в чем его вина, и спрашивал у Петра: «…за какое мое преступление перед вашим величеством» подвергнут каре? Однако фельдмаршал не добился ощутимых успехов и 22 апреля, когда предпринял атаку у местечка Решетиловка, где было сосредоточено семь полков шведской кавалерии. Собственно, атака не состоялась, ибо Шереметеву не удалось скрытно подойти к местечку. Шведы, своевременно обнаружив приближение главных сил русских, благополучно отошли, так что фельдмаршалу пришлось довольствоваться лишь трофеями – гуртом скота и провиантом.
С начала апреля 1709 года внимание Карла XII было приковано к Полтаве. Он решил во что бы то ни стало овладеть этой крепостью, обнесенной всего лишь дубовыми стенами. В случае если бы королю удалось принудить гарнизон Полтавы к сдаче, облегчились бы коммуникации его армии с Крымом и особенно с Польшей, где находились значительные силы шведов под командованием генерала Крассау. Упоминавшийся выше Гилленкрок вновь передает свой разговор с Карлом XII, состоявшийся в двадцатых числах апреля. Диалог выявляет столько же королевской самоуверенности, сколько полнейшего пренебрежения к русским. За это королю пришлось жестоко поплатиться, а пока он не принимал никаких доводов.
Гилленкрок. Разве ваше величество намерены осаждать Полтаву?
Король. Да, и вы должны составить диспозицию осады и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом; так делает Вобан во Франции, а вы здесь маленький Вобан.
Гилленкрок. Я полагаю, что и сам Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукой того, что нужно для осады.
Король. У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава – крепость ничтожная.
Гилленкрок. Крепость, конечно, не из сильных; но по многочисленному гарнизону из 4 тысяч русских, кроме казаков, Полтава не слаба.
Король. Когда русские увидят, что мы хотим атаковать, то после первого выстрела сдадутся все.
Гилленкрок долго убеждал короля, что осада Полтавы связана с огромным риском, что у стен города может полечь вся пехота, если дело дойдет до штурма. Король твердил свое: «Говорю наверное, что дело не дойдет до штурма. Они сдадутся».
Гилленкрок. Не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья.
Король. Мы совершим необыкновенное дело и приобретем славу и честь.[299]
Дальнейшие события показали, что прогнозы короля были абсолютно беспочвенными. Сосредоточение шведской армии у стен Полтавы было завершено к концу апреля, а первый штурм крепости Карл XII предпринял 29 апреля. Уверенность короля, что ее гарнизон капитулирует, как только обнаружит подготовку к штурму, оказалась банальным бахвальством. Шведы чередовали осадные работы со множеством штурмов, но гарнизон устоял.
Шереметев, получив известие об осаде Полтавы шведами, в письме царю от 6 мая 1709 года рассуждал так: «И еще по се число ничего неприятель над Полтавой учинить не мог, и в войске их во взятии надежда слабая, понеже великой артиллерии и довольной амуниции неприятель у себя не имеет». Фельдмаршал решил беспокоить осаждавших Полтаву шведов нападениями мелких отрядов. Царь оказался более проницательным и рассудил иначе. Он велел Шереметеву двигаться к Полтаве на соединение с находившимися там войсками Меншикова. Необходимость соединения Петр мотивировал возможностью для неприятеля разбить русские армии порознь.
Ознакомившись на месте с организацией обороны Полтавы, Шереметев пришел к выводу, что осадные работы шведов в конечном счете принесут им успех и они овладеют крепостью. Чтобы облегчить ее оборону, фельдмаршал испрашивал у царя разрешения переправить часть пехоты и кавалерии через реку Ворсклу, организовать там укрепленный район и из него непрерывно беспокоить шведов, осаждавших Полтаву.
4 июня 1709 года в русский лагерь под Полтавой прибыл царь. С этого дня он взял в свои руки непосредственное руководство армией. Петр не спешил воспользоваться советом Шереметева о переправе войск через Ворсклу. Решение на этот счет состоялось лишь 16 июня. В дневнике военных действий под Полтавой читаем запись: «Царское величество изволил иметь военный совет, на котором предложено перейти реку Ворсклу со всею армиею и иметь генеральную баталию».[300]
Главными руководителями состоявшейся 27 июня Полтавской баталии были Петр, Меншиков и Брюс. Роль Шереметева была менее заметной. Объясняется это тем, что в битве участвовала не вся русская армия, а примерно ее третья часть. Фельдмаршалу царь велел наблюдать за маневрами неприятеля и «о вступлении в баталию ожидать указу». В чем выразилось участие Бориса Петровича в сражении, источники не сообщают. В реляции о Полтавской баталии сказано весьма глухо: сражением руководил «сам его царское величество высокою особою своею и при том господин генерал-фельдмаршал Шереметев, также господа генералы от инфантерии».
Участники Полтавской битвы получили щедрые награды: одним был вручен орден Андрея Первозванного, других царь повысил чином, усердие третьих он отметил пожалованием деревень. Штаб-офицерам было выдано полугодовое, а обер-офицерам – трехмесячное жалованье. Первым в наградном списке высших офицеров значился Борис Петрович, пожалованный деревней Черная Грязь. Это дает основание считать, что Петр был доволен действиями фельдмаршала.
После двухдневного отдыха, предоставленного войскам, разбившим шведов, Петр велел Шереметеву во главе пехоты и небольшого отряда конницы двинуться на север добывать Прибалтику. Ближайшая задача – овладение Ригой. Туда Борис Петрович прибыл с войсками в начале октября 1709 года. На пути в Ригу ему пришлось испытать гнев царя.
Петру стало известно, что брат фельдмаршала – Василий Петрович Шереметев, вместо того чтобы отправить своего сына учиться за границу, намеревался женить его на дочери князя-кесаря Ромодановского. Торжество было устроено вопреки воле царя, поручившего Борису Петровичу предупредить брата, «чтоб того не чинить». Фельдмаршал не рискнул взять вину на себя и покрыть вину брата. Он мог, скажем, сообщить царю, что запамятовал отправить письмо брату с царским повелением, но лукавить не стал и выдал с головой Василия Петровича, видимо не предполагая, сколь суровая кара его ждала. Борис Петрович оправдывался перед царем: «А когда ваш указ словесный через Тургенева под Полтавой получил, чтоб ему без указу вашего не женитца, того же дня писал; а для чего то не учинено, я не известен».[301]
Крутой на расправу царь велел молодому супругу через неделю после получения им указа отправиться за границу для обучения, а его родителей наказать так: отца отправить бить сваи, предварительно лишив его чина, а мать – на прядильный двор. Справедливости ради отметим, что Борис Петрович не оставил в беде своего брата и начал энергичные хлопоты в его защиту. Он обратился к Меншикову с просьбой «предстательство учинить» перед царем, а затем и сам ходатайствовал о его помиловании. Настойчивые заботы о ближнем в конечном счете принесли плоды: брат с супругой, вкусив пользу физического труда, были освобождены от дальнейшего наказания.
В июле 1709 года в Потсдаме три короля – польский, датский и прусский – заключили антишведский союз, к которому в октябре присоединился и Петр. Царь поручил Шереметеву овладеть Ригой не штурмом, а осадой, полагая, что результаты будут достигнуты при минимальных потерях. Получилось, однако, наоборот: затяжная осада города и крепости стоила 9800 жизней русских солдат и офицеров, унесенных моровым поветрием.
Осаду Риги Шереметев начал в конце октября 1709 года. 9 ноября по пути из-за границы в Россию осаждавших навестил Петр. Он произвел первые три выстрела по городу и отбыл на родину. Для блокады Риги фельдмаршал оставил корпус Репнина, а остальные войска отвел на зимние квартиры. Последующий обстрел города наносил осажденным существенный урон. По свидетельству современника, он наводил «великий ужас». В декабре был взорван пороховой погреб, в результате погибло множество людей.
В конце декабря, когда активных боевых действий не предвиделось, Шереметев, поручив командование войсками князю Репнину, с разрешения царя отправился в Москву. Прибыв в столицу, он заверил Петра, что войска обеспечены провиантом до июня. Каково же было удивление царя, когда Шереметев после двухмесячной побывки в своих вотчинах на обратном пути в Ригу уведомил его, что «не точию до июня, но и ныне провианту нет и обыватели не точию мертвечину едят, но и детей своих». Царь посылает в Ригу сына фельдмаршала Михаила Борисовича с поручением затребовать от отца письменное объяснение: когда он сообщал истину – по приезде в Москву или в ведомости, отправленной с пути. Над головой Бориса Петровича вновь сгущались тучи. Об этом свидетельствуют и организационные меры. В дни, когда страсти бушевали с особенной силой, царь отправил под Ригу Меншикова, а Шереметеву приказал во всем повиноваться светлейшему.
В середине апреля 1710 года Меншиков прибыл под Ригу и принял дополнительные меры к более тесной блокаде: реку Двину пересекли бревнами, скрепленными цепями, так что возможность подхода кораблей со стороны моря была совершенно исключена, а кроме того, установили новые батареи.
Грозы, однако, не последовало. Мы не знаем причин смены царского гнева на милость, ибо ответ фельдмаршала на запрос царя не сохранился, но письмо Петра Шереметеву от 4 апреля 1710 года содержало милостивую фразу: «Много толковать о прошедшем не надлежит».[302]
Меншиков оставил лагерь осаждавших 17 мая, спустя несколько дней после того, как были получены первые известия о начавшейся эпидемии чумы. В те времена самым радикальным средством против распространения заразы был строжайший карантин – устройство застав, следивших за тем, чтобы в расположение войск не допускались люди «из моровых мест». Курьеров, прибывавших в армию в случае крайней нужды, надлежало окуривать дымом можжевельника. Такому же окуриванию подлежали и письма. Шереметев распорядился изолировать больных, а также удалить из войска гражданских лиц. Повсюду в лагере дымились костры из можжевельника.[303]
Эффективность принятых мер была, однако, ничтожной. Чума буквально косила как осаждавших, так и осажденных. Современник, находившийся в те скорбные месяцы в Риге, записал: «…кажется, не хватит живых, чтобы погребать умерших». В наглухо блокированном городе стал ощущаться недостаток продовольствия. Шереметев еще 11 июня отправил к осажденным барабанщика с требованием сдать город. Любопытен ответ коменданта крепости. Он запросил на размышление четыре недели и потребовал, чтобы ему было разрешено отправить курьера в Динаминд для выяснения вопроса, может ли он надеяться на помощь.[304] Шереметев, разумеется, отказал коменданту и в том и в другом.
Капитуляция гарнизона Риги была подписана 4 июля 1710 года. Важнейшим среди ее 65 пунктов следует считать предоставление генерал-губернатору, чиновникам и служащим права при выходе из города вывезти принадлежавшее им имущество, а также библиотеку и архив.
Царь получил известие о капитуляции Риги 8 июля и тут же отправил фельдмаршалу поздравительное письмо. Он был скуп на похвалы, когда дело касалось Шереметева, но в данном случае не мог скрыть своей радости. Победа предала забвению все инциденты, вызывавшие недовольство царя: «Письмо ваше о здаче Риги я с великою радостию получил (и завтра будем публично отдавать благодарение Богу и триумфовать). А за труды ваши и всех, при вас будущих, зело благодарствую и взаемно поздравляю. И прошу огласить сие мое поздравление всем». От избытка радости царь даже шутил: «Что же пишете, ваша милость, о Риге, что оная малым лутче Полтавы, правда, вам веселее на нее глядеть, как нам было за 13 лет, ибо ныне они у вас, а тогда мы у них были за караулом». Это был намек на посещение Великим посольством Риги в 1697 году, когда рижские власти не разрешили Петру осмотреть крепость и караульный даже грозил применить оружие, если он близко подойдет к крепостной стене.
Через 10 дней после капитуляции состоялся торжественный въезд Шереметева в Ригу. Триумфальное шествие открывали два офицера, за ними следовали верхом 38 пар гренадер с обнаженными шпагами, 36 лошадей, покрытых богато расшитыми чепраками, четыре коляски, запряженные цугом. В церемонии участвовали и рижане, ехавшие верхом с обнаженными шпагами. Процессию замыкала расписанная золотом карета, сопровождаемая гвардейцами. В карете восседал Борис Петрович.
Вслед за Ригой войска Шереметева овладели Динаминдом. 7 августа 1710 года фельдмаршал утвердил условия капитуляции динаминдского гарнизона.
Жизнь, наполненная триумфальными победами и торжествами в Прибалтике, длилась для Бориса Петровича недолго. 23 июля царь отправляет ему указ с новым назначением: в сопровождении небольшого конвоя ехать в Польшу и принять командование над находившимися там войсками. Отправляя Бориса Петровича в столь рискованное путешествие, Петр испытывал некоторую неловкость и излагал поручение как бы извиняющимся тоном: <Лотя б я не хотел к вам писать сего труда, однакож крайняя нужда тому быть повелевает, чтоб вы по получении сего указу ехали своею особою в Польшу».[305] Какая же это была «крайняя нужда»?
В Москве было получено известие, что 40-тысячная османо-крымская армия готовилась к вторжению в Польшу с целью восстановления на королевском престоле шведского ставленника Станислава Лещинского. Как и всегда, Петр торопил Шереметева: «Паки подтверждаю, что не мешкая выехали в путь свой».
Отправляясь в Польшу, Шереметев подвергал себя смертельной опасности, ибо ему предстояло ехать по территории, на которой еще продолжала свирепствовать чума. «Николи такого страху и нужды не подносил и николи так беспокоен не был, как сего времени», – делился он своими переживаниями с Брюсом. Лично для Шереметева путешествие окончилось благополучно. Потерял он в пути несколько «людей дому своего» и лучших лошадей. Это по поводу утраты последних он обратился к Брюсу с полными драматизма словами: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади…»
Шереметев выехал из Риги в Польшу 13 августа 1710 года, а неделю спустя Петр отправил вдогонку за ним курьера с предписанием возвратиться в Прибалтику. Прибыл он в Ригу 23 октября, по его словам, «к пущей печали». Выяснилось, что войска, находившиеся в Прибалтике, были обеспечены продовольствием всего на месяц и добыть его было негде, ибо «везде места опустелые и мертвые». Безутешные свои рассуждения о затруднительном положении Борис Петрович поведал близкому ему человеку, адмиралу Апраксину, и завершил письмо полюбившимся ему сравнением себя с ангелом: «Повелено то делать, разве б ангелу то чинить, а не мне, человеку».[306]
От решения сложной задачи обеспечения армии провиантом Шереметева освободила резко изменившаяся обстановка на южных рубежах: в ноябре 1710 года Османская империя объявила России войну. 23 декабря Петр велел расположенные в Прибалтике войска двинуть на юг, а Шереметеву указал: «…самому тебе остатца в Риге на время и трудитца, чтоб собрать провиянту на рижской гарнизон на семь тысяч человек на год».[307] Следовательно, армия отправилась в путь ранее своего командующего примерно на месяц.
Сведений о том, как и с какой скоростью русская армия совершила грандиозный переход на юг, документы не сохранили, зато имеется такой бесценный источник, как «Военно-походный журнал» Шереметева, в который изо дня в день заносились все перемещения фельдмаршала.
Поскольку армия вышла из Риги в январе 1711 года, можно предположить, что обозы и артиллерия на начальном этапе воспользовались санным путем. Что касается самого Шереметева, покинувшего Ригу 11 февраля 1711 года, то в пути ему пришлось пересаживаться из кареты в лодку и с лодки вновь в карету. Причина тому – необычайно рано наступившая весна и половодье. Дороги пришли в совершенную негодность: приходилось ехать либо по целине, либо ночью, когда морозец на время ослаблял таяние снега. В конце февраля «Военно-походный журнал» пестрит такими записями: «Великая теплота и снег и дождь». Наконец снегопады и дожди прекратились, но началось такое бурное половодье, что во многих местах единственным средством передвижения были лодки. Все это задержало фельдмаршала в Минске на 16 дней.
Между тем Петр торопил Шереметева. Начал он его понукать еще в январе, когда Борис Петрович находился в Риге, причем необходимость «поспешать» вначале была вызвана стремлением держать пехоту в постоянной близости от кавалерии. «А маршировать весьма нужно, – пояснил царь, – понеже, ежели пехота не поспевает, а неприятель на одну конницу нападет, то не без великова страху».
Отправляя армию к южным границам, Петр не имел детального плана кампании. Составление его стало предметом забот «конзилии», состоявшейся в Слуцке 12–13 апреля 1711 года. На военном совете присутствовали кроме Петра два военных (Шереметев и генерал Алларт) и два гражданских лица (канцлер Головкин и посол в Польше князь Григорий Долгорукий). В соответствии с выработанным планом Петр велел Шереметеву не позже 20 мая достичь Днестра, имея трехмесячный запас продовольствия. Указ Петра заканчивался словами: «Сие все изполнить, не отпуская времени, ибо ежели умедлим, то все потеряем».[308]
План кампании был одобрен всеми, кроме фельдмаршала. В особом мнении, поданном царю, он убеждал его: «… к указным местам майя к 20 числу конечно прибыть я не надеюсь, понеже переправы задерживают, а артиллерия и рекруты еще к Припяти не прибыли, и обозы полковые многие назади идут». Фельдмаршал обращал внимание царя на то, что армия после Полтавской виктории, осады Риги и продолжительного марша изнурена и испытывает острую нужду в вооружении, обмундировании, лошадях, телегах и особенно в провианте. В связи с этим Шереметеву пришлось ломать голову, где заготовить трехмесячный запас провианта на 40-тысячную армию. По обыкновению продовольствие добывали в районах, где дислоцировалась армия, либо в местах, по которым она маршировала. В данном случае источником снабжения провиантом и фуражом должна была стать Украина, но ее ресурсы были ограниченными: недород предшествовавшего года и массовый падеж скота привели к тому, что «у многих крестьян, – как доносил киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын, – ни хлеба, ни соли не обретается».[309]
Петр настоял на своем. Его резолюция на докладные пункты Шереметева гласила: «Поспеть к сроку, а лошадей, а лутче волов купить или взять у обывателей». Как «поспеть к сроку»? У царя был ответ и на этот вопрос: «А стоять долго нигде не надобно ни недели».
Фельдмаршал хотя и не был согласен с планом, разработанным военным советом и утвержденным Петром, но как умел стал его выполнять. От него царь требовал «поспешать». В свою очередь Шереметев требовал того же от подчиненных генералов. «Поспешать» стало едва ли не главным словом, употреблявшимся Петром в указах Шереметеву. Царь не уставал твердить: «…как наискоряе поспешать в указное место», «для Бога не медлите в назначенное место».
Но Шереметев оставался самим собой – столь же медлительным, как и основательным. Продвижение на юг шло со скоростью, явно срывавшей намеченные сроки прибытия «в указное место». И тогда царь решил прибегнуть к мере, которой он уже однажды пользовался. Правда, в 1706 году Петр приставил к Шереметеву сержанта Щепотьева, поручив ему стимулировать расторопность фельдмаршала в его движении к мятежной Астрахани. Теперь царь приставил к Шереметеву гвардии подполковника Василия Владимировича Долгорукого. Главная задача Долгорукого, как сказано в данной ему инструкции, – заставлять фельдмаршала двигаться вперед: «…понуждать, чтоб пойтить по приезде ево в три или четыре дни». Вместе с Долгоруким к Шереметеву прибыл и Савва Лукич Рагузинский в качестве дипломатического советника.
Долгорукий прибыл в ставку Шереметева в местечке Немирово 12 мая и, как доложил царю, потребовал от фельдмаршала, «чтоб немедленно марш восприял в назначенный наш путь и ничем не отговаривался». Но присутствие Долгорукого мало что изменило. Шереметев все равно запаздывал. Срок прибытия его войск к Днестру (20 мая) не был выдержан, и армия переправилась через Днестр только 30 мая. В итоге стряслось то, чего так опасался Петр: османы успели перейти Дунай и теперь двигались навстречу русским войскам. «И ежели б по приказу учинили, – попрекал царь Шереметева, – то б, конечно, преже туркоф к Дунаю были, ибо от Днестра только до Дуная 10 или по нужде 13 дней ходу. А ныне старые ваши песни в одговорках»[310]
Досталось и Долгорукому, не выполнившему возложенного на него поручения. «Зело удивляюсь, – укорял его Петр, – что вы так оплошно делаете, для чего посланы. Ежели б так зделали, как приказано, давно б были у Дуная». И далее упрек: «Я зело на вас надеелся, а ныне вижу, что и к тебе то ж пристала», то есть нерасторопность Шереметева.
В настоящее время трудно судить, требовал ли Петр от Шереметева невозможного, или все-таки вся вина за несвоевременное прибытие русской армии к Дунаю лежала на старом и медлительном фельдмаршале. Столь же трудно ответить и на второй вопрос, вытекающий из первого: не могла ли русская армия, достигнув Дуная, оказаться в более тяжелом положении, чем у берегов Прута?
Достоверно можно утверждать одно: путь следования русской армии с самого начала ее движения на юг был крайне тяжелым. О трудностях, которые довелось испытать Шереметеву, проезжавшему по территории Белоруссии и Украины, речь уже шла. Само собой разумеется, что эти трудности умножились, когда двинулись не карета и сопровождавший фельдмаршала отряд драгун, а армия и громоздкий обоз.
Немало невзгод на пути из Москвы в действующую армию выпало и на долю царя, а также его спутников в апреле-мае 1711 года. Екатерина в письме Меншикову из Слуцка объясняла задержку ответа «злым путем, которой… до здешнего места имели, так и за болезнию господина контра-адмирала». Кстати, болезнь «контра-адмирала», то есть Петра, по заключению медиков, «случилася от студеного воздуха и от трудного пути».[311]
То же самое сообщал и Макаров Ф. М. Апраксину, но уже о следующем отрезке пути. Кабинет-секретарь, как и Екатерина, оказался неисправным корреспондентом «ради двух причин: первое, что от злого пути нимало себе не имели времени, ибо от Слуцка до Луцка с 60 миль ехал, и не было такова дни, в которой бы по горло в воде на переправах не были»; вторая причина – болезнь царя.[312]
В весенних документах самым употребительным словом было «поспешать». В июне спешить было уже некуда – все равно опоздали. И со страниц писем царя Шереметеву и переписки генералов между собой не сходили слова «провиант», «хлеб», «мясо». 12 июня Петр полушутя, полусерьезно писал Шереметеву: «О провианте, отколь и каким образом возможно, делайте, ибо когда салдат приведем, а у вас не будет, что им есть, то вам оных в снедь дадим». Но фельдмаршалу было не до шуток. 16 июня он отвечал царю: «Я в провианте с сокрушением своего сердца имел и имею труд, ибо сие есть дело главное».[313]
Однако между сознанием того, что обеспечение армии провиантом «есть дело главное», и возможностью раздобыть этот провиант – дистанция, как говорится, огромного размера.
Армия Шереметева испытывала недостаток в продовольствии уже в начале июня. «Оскудения ради хлеба начали есть мясо… Також зело имею великую печаль, что хлеба взять весьма невозможно, ибо здешний край конечно разорен», – писал фельдмаршал царю. Еще хуже обстояло дело у генерала Алларта. Петр сообщал Шереметеву: «…уже пять дней как ни хлеба, ни мяса… Извольте нам дать знать подлинно: когда до вас дойдем, будет ли что солдатам есть?» Вся надежда была на молдавского господаря Кантемира, перешедшего на сторону России, но хлеба не было и у него. Кантемир снабдил войска только мясом, предоставив 15 тысяч баранов и 4 тысячи волов.
Недостаток продовольствия не единственное испытание, выпавшее на долю армии Шереметева. Его «Военно-походный журнал» за май-июнь изобилует записями типа «зело жаркий день». Жара выжгла траву, лишив лошадей подножного корма. То, что не успевали сделать палящие лучи солнца, довершала саранча. В итоге – гибель лошадей, усложнившая продвижение вперед. Войска, кроме того, страдали от недостатка воды. Вода была, «однакож, самая худая: не толико что людям пить, но и лошадям не мочно, ибо многий скот и собаки, пив, померли тут».[314]
Запоминающуюся картину нарисовал датский посол Юст Юль со слов Петра: «Царь передавал мне, что сам видел, как у солдат от действия жажды из носу, из глаз и ушей шла кровь, как многие, добравшись до воды, опивались ею и умирали, как иные, томясь жаждою и голодом, лишали себя жизни».[315]
5 июня 1711 года армия Шереметева подошла к Пруту. На военном совете было решено медленно идти вниз по течению реки и «вдаль не отдалятись». Это решение было принято в связи с сообщением Кантемира о том, что османы уже переправились через Дунай. Шереметев правильно счел, что двигаться им навстречу, не имея пехоты, было крайне рискованно. Вокруг маршировавшей армии маячила крымская конница, постоянно тревожившая обозы и препятствовавшая работе фуражиров.
Какова была численность неприятеля, сколь высоким был его боевой дух, какие планы он вынашивал? На этот счет русское командование на первых порах не располагало мало-мальски точными данными. Согласно сведениям Кантемира, переданным Шереметеву, на Дунае находилось около 40 тысяч османов и какое-то количество крымских татар. Кантемир полагал, что дней через десять количество османов достигнет 50 тысяч. Эту цифру называли в письмах адмиралу Апраксину от 30 июня сразу два корреспондента: Головкин и Шафиров.
Шереметев располагал и другими сведениями. Два «шпига», направленные в Бендеры «для проведывания тамошнего состояния и взятья подлинной ведомости о турках и татарах», в расспросных речах 28 июня показали, что в распоряжении везира находилось «тысяч с двести» турок и татар. Правда, оба лазутчика тут же добавили, что «подлинно про то они не знают для того, что сами там не были». Они поручились за точность сведений о событиях в Бендерах, которые они сами наблюдали. Видимо, поэтому сообщениям «шпигов» не придали должного значения.
Итак, ни царь, ни фельдмаршал не располагали точными сведениями о численности неприятеля. Относительно планов османского везира и боевого духа его армии у русского командования тоже были смутные представления. Вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, сопровождавший царя постоянно, был человеком в высшей степени осведомленным. Он писал адмиралу Апраксину: «О неприятеле имеем ведомость, что хотя великий везир с несколькими войсками к Дунаю пришел и по сю сторону Дуная транжамент сделал и некоторую инфантерию осадил, но перейдет ли сюда со всею своею армиею и будет ли при сближении войск его царского величества стоять (хотя многие в том зело сумневаются), о том время явит». Этими сведениями Шафиров располагал на 18 июня.
В уши царя и его главнокомандующего со всех сторон жужжали о страхе османов перед русскими войсками. Долгорукий в донесении царю от 30 мая 1711 года писал, что взятые в плен османские шпионы сказывали, что «турки не имеют куражу и сами себе пророчествуют гибель». Двенадцать дней спустя Долгорукий, ссылаясь на Кантемира, подтвердил свое прежнее донесение царю: «…сказывал господарь, что турки и татары в великом страхе».[316]
В конце июня русские «шпиги» в Бендерах засвидетельствовали: «…сами-де турки от войска царского величества в великом страхе».
Веру царя в победоносный исход кампании укрепляли также сведения, поступавшие от православных и христианских народов, томившихся под османским игом. 23 апреля 1711 года царь писал Шереметеву: «Для Бога не медлите в назначенные места, ибо ныне от всех христиан паки письма получили, которые самим Богом просят, дабы поспешать прежде турок, в чем превеликую пользу являют». Петр предупреждал фельдмаршала, что опоздание чревато тяжелыми последствиями: «…а ежели умешкаем, то вдесятеро тяжелее или едва возможно будет свой интерес исполнить, итако все потеряем умедлением».[317]
В итоге в голове Петра сложился оптимистический план кампании. При подходе русских войск христианские народы восстанут и перейдут под покровительство России. В таких условиях везир не рискнет форсировать Дунай. Среди османских войск, пребывавших в страхе перед русскими, мог начаться бунт, или на худой конец, завидя русских солдат, янычары разбегутся.
Войска Шереметева, подошедшие к Пруту 5 июня, представляли примерно треть армии, находившейся в походе. Дивизии Вейде, Репнина, а также два гвардейских полка, сопровождавшие царя, вследствие затруднений с продовольствием и фуражом находились в разных местах. Собрать в кулак армию заставили полученные 7 июля сведения о том, что войска везира находятся в шести милях от лагеря Шереметева и что конница крымских татар во главе с ханом уже соединилась с османами. Тогда последовала команда всем дивизиям подойти к Шереметеву. 8 июля пленный татарин сообщил, что везир наметил сражение на 10 июля. В тот же день стала известна численность неприятельских войск – 140 тысяч человек.
Сражение, однако, началось 8 июля. С высот, окружавших русский лагерь, казалось, что достаточно небольших усилий – и он станет добычей янычар и крымцев. Действительно, русская армия занимала крайне неудобные позиции, и она под покровом ночи «ради тесного места отступила». Османы и крымцы сочли отступление бегством и предприняли «многие набеги», от которых русские отбивались оружейной и артиллерийской стрельбой. Пройдя милю, армия остановилась в долине реки Прут, «где место пространнее».
Здесь было дано сражение османо-крымским войскам. Оно продолжалось весь день и возобновилось вечером после двухчасового перерыва. Всю ночь продолжалась артиллерийская пальба. Бывали моменты, когда османы вплотную подступали к рогаткам и, казалось, были близки к тому, чтобы смять русский лагерь, благо их было вчетверо больше, чем русских. Однако губительный огонь артиллерии охлаждал пыл янычар и крымцев. Сражение продолжалось в общей сложности 36 часов.
Утром 10 июля по повелению Петра из Посольской канцелярии в османский лагерь был отправлен парламентер, но ответа не последовало. Затем в расположение неприятеля отбыл П. П. Шафиров. Одновременно в русском лагере на тот случай, если везир откажется от переговоров, шла лихорадочная подготовка к генеральному сражению. Шафиров поначалу донес, что османы не склонны к перемирию, но затем сообщил о начале переговоров. Вследствие этого пальба к вечеру утихла, но османы всю ночь возводили укрепления, в то время как «от наших же ничего не делано, но токмо наши стояли во фрунте со великою готовностию».
11 июля – едва ли не кульминационный день Прутской эпопеи. В обоих лагерях не раздалось ни единого выстрела. Но эта тишина была обманчивой. За ней скрывались напряженное ожидание результатов переговоров и столь же напряженная подготовка к выходу из мышеловки, в которой оказались русские войска.
Сколь беспокойной и нервной была обстановка в русском лагере, свидетельствует то обстоятельство, что 11 июля состоялось два военных совета. На первом из них было решено: если неприятель потребует сдачи в плен, то это требование отклонить и двинуться на прорыв кольца блокады.
Подпись Шереметева под этим постановлением, как старшего по чину, стояла последней. Второе заседание совета наметило конкретный план выхода из окружения: было решено освободиться от всего лишнего имущества, стеснявшего мобильность армии и ее боевые порядки, «за скудостию пулек сечь железо на дробь», «лошадей артиллерийских добрых взять с собою, а худых – не токмо артиллерийских, но и всех – побить и мяса наварить или напечь», наличный провиант поделить поровну.
К счастью, этот план не пришлось проводить в жизнь. После окончания второго военного совета к царю прибыл Шафиров с известием, вызвавшим вздох облегчения: ему удалось заключить мир.
Если сопоставить катастрофичность положения русской армии на Пруте с условиями мирного договора, то следует признать, что везир во время переговоров мог выторговать значительно больше. В этой связи приведем содержание записки, отправленной Петром Шафирову, когда тот еще находился в османском стане: «Ежели подлинно будут говорить о миру, то стафь с ними на все, чево похотят, кроме шклафства», то есть рабства. Царь считал, что османы будут представлять не только свои интересы, но и шведского короля, и поэтому соглашался вернуть все отвоеванное у османов (Азов и Таганрог) и все приобретенное у шведов, за исключением выхода к Балтийскому морю и полюбившегося ему Парадиза, то есть Петербурга.
Мир, подписанный Шафировым и везиром, подобных жертв от России не потребовал: пришлось вернуть османам всего лишь Азов, срыть Таганрог и Каменный Затон. Россия обязалась не вмешиваться в польские дела. Русские, кроме того, должны были обеспечить безопасный проезд Карла XII в Швецию.
Условия договора привели шведского короля в бешенство. Как только ему стало известно о подписании договора, он прискакал в ставку везира и, распалившись, потребовал от него 20–30 тысяч отборных янычар, чтобы привести в османский лагерь пленного русского царя. Упрек шведского короля: «Для чего он без него с его царским величеством мир учинил?» – не вывел везира из равновесия. Он резонно намекнул королю на поражение, нанесенное шведам русскими войсками под Полтавой: «Ты-де их уже отведал, а и мы их видели; и буде хочешь, то атакуй их своими людьми, а он миру, с ними поставленного, не нарушит».[318]
Прутский договор больно отразился на личных интересах фельдмаршала. Дело в том, что везир затребовал в качестве «аманатов», то есть заложников выполнения условий мирного договора, вице-канцлера Шафирова и сына Бориса Петровича – Михаила Борисовича. Почему выбор пал на Шафирова, понятно: он вел переговоры и скрепил договор своей подписью. Не вызывает удивления и то, что везир назвал вторым заложником Михаила Борисовича: все переговоры с османами – от посылки первого трубача до прибытия Шафирова с радостной вестью – велись не от имени царя, фактического командующего армией, а от имени ее номинального главнокомандующего – Б. П. Шереметева. Везир и рассудил, что именно он должен был поручиться судьбой единственного сына за соблюдение условий мира.
Чтобы утешить старого фельдмаршала, имевшего опыт общения с османами и знавшего, что значит находиться у них «аманатом», царь не поскупился на щедрые награды Михаилу Борисовичу: из полковников он был произведен в генерал-майоры, получил на год вперед жалованье, а также осыпанный бриллиантами царский портрет стоимостью 1 тысяча рублей.
В тот же день, 11 июля, заложники отправились в османский лагерь, а русская армия, переночевав, 12 июля тронулась в обратный путь, соблюдая предосторожность на случай вероломного нападения со стороны неприятеля. Двигалась она медленно – со скоростью две-три мили в сутки – отчасти вследствие крайнего истощения лошадей, едва волочивших телеги, отчасти потому, что приходилось сохранять боевую готовность: за русской армией следовала крымская конница, всегда готовая мародерствовать.
Только 10 дней спустя, 22 июля, армия переправилась через Прут, а 1 августа форсировала Днестр. Теперь ей уже ничто не грозило, и царь, отслужив благодарственный молебен, отправился сначала в Варшаву для встречи с польским королем, а затем в Карлсбад и Торгау для лечения и на свадьбу своего сына царевича Алексея. Список награжденных ограничивался тремя лицами, среди них находился и Шереметев – ему был пожалован дом в Риге.
Что означал этот жест царя? Запоздалую расплату за службу в Прибалтике или признание невиновности Шереметева в позднем прибытии к Пруту? Ответить на эти вопросы не представляется возможным. Несомненно одно: царь и после Прутского похода не утратил доверия к фельдмаршалу. Если бы было наоборот, то Петр, отправляясь в чужие края, не оставил бы Бориса Петровича командующим Прутской армией. Она не отправилась на север, откуда пришла, а осталась на Украине, где Шереметев должен был бдительно наблюдать за ожидавшимся переездом Карла XII из Бендер в Швецию. Один из возможных маршрутов переезда короля проходил через Польшу, и русское правительство, естественно, опасалось, что пребывание Карла XII на территории этой страны чревато угрозой восстановления на польском престоле Станислава Лещинского.
Чтобы справиться с порученным делом, Шереметев должен был располагать исчерпывающей информацией о намерениях как османского султана, так и шведского короля. Сведения о том, что творилось в Стамбуле и в стане шведского короля в Бендерах, Шереметев черпал по крайней мере из трех источников: из донесений заложников при султанском дворе – Шафирова и собственного сына; расспросных речей лазутчиков, засылаемых русским командованием в Бендеры, и показаний русских воинов, освободившихся из османского плена. Стекавшаяся информация носила противоречивый характер, нередко была фантастической и в целом создавала путаную картину происходившего в Бендерах, способную поставить в затруднительное положение даже многоопытного дипломата и человека с незаурядными аналитическими способностями.
Так, по одним данным, в Бендерах находилось 20 тысяч османов, присланных султаном для сопровождения Карла XII; по другим сведениям – около 60 тысяч, по третьим – 36 тысяч, по четвертым – 18 тысяч османов и 3 тысячи крымцев. По одним сведениям, король намеревался жить в османских владениях семь лет и дал согласие покинуть Бендеры только в том случае, если султан предоставит в его распоряжение 70 тысяч османов, 100 тысяч крымцев и 800 пушек. По другим данным, король обусловливал свой выезд получением от султана денег на приобретение лошадей и выплату жалованья своим людям. Согласно последней версии, король будто бы заявил османам: «…разве-де его, короля, здесь умертвят и, умертвя, тело его отсюда повезут, тогда-де уж он и денег требовать не будет».
На Украине Борису Петровичу пришлось участвовать в тонкой дипломатической игре. Собственно, игру вел царь, но и роль Шереметева была немаловажной. Деликатность положения фельдмаршала определялась стремлением Петра оттяжкой в выполнении условий Прутского договора принудить султана отказать в гостеприимстве шведскому королю. Далее, по условиям договора русские войска подлежали выводу из Польши, а фактически они там все еще находились.
Канцелярист Иван Небогатов «божился с великою клятвою» султанскому представителю Гасан-паше, что никакого войска в Каменце нет «и быти не для чего», а если бы и было, то единственная цель его пребывания там состояла в предосторожности, чтобы «король, идучи через Польшу, какого коварства или факции с поляками не чинил». Но Гасан-пашу на мякине не проведешь. Небогатову он произнес тираду, свидетельствовавшую о хорошей осведомленности османов относительно обстановки в Каменце: «А он, Гасан-паша, мне говорил, что я конечно не божился и не клялся в неправде, понеже, кто про что подлинно ведает, а божбою клянется, что будто не ведает, грех есть, ибо они про то подлинно ведают, что конечно войско тамо есть».
Еще больше трений в русско-османских отношениях вызывал вопрос о передаче султану Азова и срытии Таганрога и Каменного Затона. Царь то велел передать Азов, то в отмену этого повеления требовал тянуть время. Султан болезненно реагировал на проволочку и все более склонялся к настойчиво внушаемой ему крымским ханом и шведским королем мысли, что везир, заключивший Прутский договор, был подкуплен русскими и изменил своей стране. Вскоре судьба его была решена: «Положа на шею ею чепь, пешего и босого через одного турка конного по улицам в Станбуле водили и потом удушен».[319]
Атмосфера накалялась, и султанский двор вновь стал помышлять о войне.
В распоряжении фельдмаршала находились войска, готовые дать османам отпор. Но вот его сын, как и Шафиров, был беззащитен. Драматизм их положения усугублялся тем, что оба они являлись заложниками соблюдения мирного договора. Султанский двор, никогда не отличавшийся деликатным обращением с русскими посольствами, всякий раз при обострении отношений заключал заложников в Семибашенный замок и мог в любой момент казнить их.
Можно представить чувства отца, когда он читал письма сына и Шафирова. 1 сентября 1711 года заложники писали, что они, опираясь на заверения царя о готовности передать Азов, каждый раз при встрече с османами «крепко обнадеживали» их, что крепость уже передана или передается. «Буде можете, – обращались заложники к Шереметеву, – помогайте для Бога, дабы не погибнуть нам». Об отчаянном положении заложников свидетельствуют слова письма: если договор выполнен не будет, «то конечно извольте ведать, что мы от них нарочно на погубление войску отданы будем».[320]
Более тревожные и обескураживающие известия были в другом письме, тайно доставленном Борису Петровичу: «Мы ежедневно ожидаем себе погибели, ежели от Азова ведомость придет, что не отдадут… Чаем, что еще с мучением будут нас принуждать писать об Азове к адмиралу… Извольте приказать быть конечно в осторожности от турок и от нас не извольте надеяться на весть, ибо обретаемся в тесноте и способа никакого не имеем писати… Разсудите, что мы в их руках… что можем чинити?»
Еще одно письмо, свидетельствующее о высоком патриотическом долге М. Б. Шереметева и П. П. Шафирова, готовых пожертвовать жизнью ради интересов родины, фельдмаршал получил 1 января 1712 года. Заложники советовали воздержаться от передачи османам Азова, ибо они, по их мнению, непременно начнут войну, даже если получат крепость. Заложники просили не верить их собственным письмам об отдаче Азова, ибо письма будут написаны по принуждению. В нескольких строках они поведали о своей нелегкой жизни и мрачных перспективах: «Мы чаем, что над нами, как над аманатами, поступит султан свирепо и велит нас казнить, а не в тюрьму посадить». И далее приписка Шафирова: «Мы уже весьма в отчаянии живота своего… Прошу чрез Бога показать милость ко оставшимся моим, а мы с сыном твоим уже еле живы с печали».
Душевный покой Бориса Петровича тревожила не только судьба сына, но и напряженная ситуация, сложившаяся у него в ставке. За многие годы командования войсками фельдмаршал был приучен выполнять чужую волю: он постоянно получал указы царя, как ему поступать в том или ином случае, или сам испрашивал у него указаний, что и как ему делать. Но во второй половине 1711 года фельдмаршал пребывал в растерянности: ему самому надлежало принимать решения и нести за них ответственность. Царь, уезжая в чужие края, велел Шереметеву поступать, сообразуясь с обстановкой и донесениями Шафирова. Сколь тяжкой и непривычной была для Шереметева новая роль, можно судить по его письму Апраксину от23 октября 1711 года. Ранее, жаловался фельдмаршал, было «не так мне прискорбно и несносно, как сие мое дело за отлучением его самодержавства в такую дальность, також, что в скорости не могу получить указ, а к тому отягощен положением на мой разсудок, что трудно делать. Мню себе, что и вы в такой же тягости и печали застаешь».[321]
И все же Шереметеву не удалось избежать тягостной обязанности самому принимать решения. В ноябре он сообщил, что «восприял» осуществить вывод русских войск из Польши. Впрочем, эта мера не помешала султану в конце года объявить России войну. Военные действия, однако, не были открыты: конфликт удалось уладить, так как 2 января 1712 года османы наконец получили Азов.
Показателем спада напряженности в русско-османских отношениях являлись изменения к лучшему в обращении с заложниками. В марте они доносили, что их переселили из подвала Семибашенного замка в посольское подворье и жизнь их стала вольготнее.
Шереметев расценил эту акцию как миролюбивый жест султанского двора и на этом основании 15 марта отбыл в Москву. Здесь он представил Сенату документы о состоянии украинской армии и ее нуждах, а затем отправился в Петербург, где на военных конзилиях в присутствии царя, Головкина, Меншикова, Апраксина, Д. М. Голицына участвовал в обсуждении дел на южной границе. Здесь Борис Петрович обратился к царю с необычной просьбой.
Семейные радости и печали
Фельдмаршал счел, что напряжение походной жизни ему уже не под силу, пора на покой. Своей сокровенной мечтой он как-то поделился с адмиралом Ф. М. Апраксиным: «Боже мой и Творче, избави нас от напасти и дай хоть мало покойно пожити на сем свете, хотя и немного жить».[322]
Но где обрести покой, если царь дает одно поручение за другим? Только в монастыре. И фельдмаршал решил схорониться в Киево-Печерской лавре. Именно там он рассчитывал на безмятежную жизнь, свободную от мирских треволнений и суровых выговоров.
У царя на этот счет было свое мнение. Вместо пострижения Петр велел ему жениться, причем сам подыскал 60-летнему вдовцу невесту. Ею оказалась дочь Петра Петровича Салтыкова Анна Петровна – красавица с ласковым взглядом выразительных глаз. В 17 лет выданная замуж за Льва Кирилловича Нарышкина, она овдовела в 1705 году. Этот брак породнил Шереметева с царской фамилией, поскольку Лев Кириллович приходился дядей Петру.
Был ли счастлив старый фельдмаршал, обрел ли он покой у семейного очага, созданного по воле царя, мы не знаем. Доподлинно известно, что молодая супруга принесла ему много детей.
Первый сын от второго брака – Петр Борисович – родился 26 февраля 1713 года. Шереметев поспешил известить о своей семейной радости царя. Как следует из царского ответа, отец новорожденного просил пожаловать младенца офицерским чином. 18 июня Петр писал: «При сем поздравляем вам с новорожденным вашим сыном, которому по прошению вашему даем чин фендрика. Пишешь, ваша милость, что оной младенец родился без вас и не ведаете где, а того не пишете, где и от кого зачался». В этих словах звучали и озорство, и грубая шутка, глубоко задевшая, надо полагать, мужское самолюбие Бориса Петровича. То был прозрачный намек на супружескую неверность Анны Петровны, которая была на 34 года моложе фельдмаршала.
Борис Петрович не оставил оскорбительного намека без ответа: он защищался от царских наветов как мог. Поблагодарив Петра за награждение новорожденного чином, Шереметев отвечал: «И что изволите, ваше величество, мене спросить, где он родился и от ково, я доношу: родился он, сын мой, в Рословле, и я в то время был в Киеве. И по исчислению месяцев, и по образу, и по всем мерам я признаваю, что он родился от мене. А больше может ведать мать ево, кто ему отец».[323]
Анна Петровна помимо Петра родила Шереметеву еще четверых детей. Последний ребенок – Екатерина Борисовна – родился 2 ноября 1718 года, то есть за три с половиной месяца до смерти фельдмаршала.
Никто из детей Шереметева не прославился ни на военном, ни на административном, ни на дипломатическом поприще. И все же двое потомков Бориса Петровича вошли в историю благодаря брачным связям. Петр Борисович, получивший, согласно закону о единонаследии, все вотчины фельдмаршала, женился на единственной дочери князя А. М. Черкасского. В результате этого брачного союза сложилось крупнейшее в России помещичье хозяйство, населенное, по данным на 1765 год, 73 500 крестьянами мужского пола.
Петр Борисович, хотя с рождения был произведен в офицерское звание и затем быстро приобретал новые чины, в отличие от отца не сыскал известности на поле брани. Он подвизался на службе при дворе: был генерал-аншефом и генерал-адъютантом при Елизавете; остался «на плаву» при капризном и неуравновешенном Петре III, исполняя обязанности обер-камергера; не затерялся и при Екатерине II, пожаловавшей его сенатором. Правда, в этой должности Шереметев оставался недолго. Служба, видимо, тяготила утонченного богача, и он, воспользовавшись Манифестом о вольности дворянства 1762 года, в возрасте 55 лет ушел в отставку.
Оставшиеся 20 лет жизни, когда Петр Борисович нигде не служил, были посвящены благоустройству подмосковной усадьбы Кусково. Этот шедевр дворцово-паркового искусства России второй половины XVIII века приобрел огромную популярность еще и благодаря оперному и балетному театру, сплошь укомплектованному актерами из крепостных собственных вотчин. Крепостные выступали либреттистами, художниками-декораторами, музыкантами и режиссерами. Петр Борисович покровительствовал талантливым крепостным в области живописи, скульптуры, архитектуры, посылал их для обучения за границу. Все это позволило графу оставить заметный след в истории русской культуры.
К родившейся вслед за Петром дочери Наталье Борисовне судьба оказалась менее благосклонной и даже суровой, но она тоже стала примечательной личностью XVIII столетия: ей довелось испить до дна чашу суровых испытаний. В шестнадцатилетнем возрасте, оставшись без отца и матери, она вышла замуж за Ивана Долгорукова, фаворита Петра II.
Петр II умер накануне церемонии бракосочетания с сестрой фаворита Екатериной Долгоруковой. Иван, умевший ловко подделывать руку умершего царя, сочинил фальшивое завещание в пользу его невесты и своей сестры. Подделка была тут же обнаружена.
Между тем на троне утвердилась курляндская герцогиня Анна Иоанновна, и в судьбе Долгоруковых наступили крутые перемены. За попытку ограничить самодержавие Анны Иоанновны они вместе с Голицыным поплатились ссылкой. К тому времени Наталья Борисовна была лишь обручена и могла отказаться от замужества, но этого не сделала. Прошло всего три дня после церемонии, как она вместе с супругом и остальными членами семьи Долгоруковых отправилась в ссылку сначала в их вотчины, а затем в Березов. Вспоминая изнурительный путь туда, Наталья Борисовна писала: «Вот любовь до чего довела: все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним (Иваном Долгоруковым. – Н. П.) и скитаюсь».
Окружению императрицы ссылка «верховников» в Сибирь показалась недостаточным наказанием, и в 1739 году Долгоруковы и Голицыны были свезены в Новгород для повторного суда. На этот раз их подвергли пыткам и предали жестокой казни. Среди четвертованных был и Иван Долгоруков. Вдова Наталья Борисовна поступила в 1757 году в монастырь под именем Нектарии. О своей безрадостно прожитой жизни она поведала в полных горечи и тоски «Своеручных записках». Она вспоминала: «За 26 дней благополучных (между помолвкой 24 декабря и смертью Петра II 18 января 1730 года. – Н. П.) или, сказать, радостных 40 лет по сей день стражду».
Поступок Н. Б. Долгоруковой является примером верности любви и самопожертвования ради нее. Наталья Борисовна примечательна еще и тем, что она первой из русских женщин оставила «Своеручные записки» – воспоминания, обрывающиеся, к сожалению, рассказом о жизни до приезда в ссылку. Хотя на бесхитростном повествовании о прожитом лежит печать личных переживаний автора, оно имеет первостепенное значение для изучения быта и нравов того времени. Общерусские события нашли отражение всего лишь в характеристике Бирона и лаконичном словесном портрете Анны Иоанновны. К виновнице своих несчастий и трагической смерти супруга Наталья Борисовна, разумеется, симпатий не питала: «…престрашнава была взору, отвратное лице имела, так была велика, кагда между кавалеров идет, всех галавою выше, и чрезвычайно толста».[324]
После свадебных торжеств Шереметев двинулся в обратный путь на Украину. Ехал он медленно, причем маршрут свой проложил так, чтобы хозяйским оком осмотреть свои вотчины. 13 июля 1712 года он прибыл в село Мещериново и задержался там на три дня. По пути из Мещеринова в Каширу он заглянул в свою вотчину в Чиркино, но ненадолго, всего лишь пообедать. 22 июля фельдмаршал навестил вотчину в деревне Алексеевской, Поречье тож, где «кушал и ночевали».
На Украине текла спокойная и однообразная жизнь. Некоторое оживление вносили сведения, получаемые из Стамбула и Бендер, где по-прежнему находился шведский король.
Султанский двор проявлял по отношению к непрошеному гостю удивительное непостоянство: месяцы почтительного обращения, снабжения короля и его свиты роскошным рационом и выдачи немалых денежных сумм сменялись месяцами грубого отказа в самом необходимом. Шереметев получил следующее донесение из Стамбула от 8 августа 1712 года: «Король шведский еще обретается в Бендере и намерен там зимовать; шведы зело в худом состоянии пребывают, и турки им больше денег давать не хотят и отказывают и на ассигнации королевские, которая во сто ефимков, не хотят давать 20 ефимков, а простые шведы для поискания своих поживлений принуждены у турков вместо матрес употребляться».[325]
Последующие месяцы не принесли улучшения отношений между шведским королем и султанским двором. Более того, они ухудшились настолько, что сопровождались кровопролитной схваткой между горсткой шведов, возглавляемых безрассудным королем, и многочисленным османским войском. Ей предшествовал султанский указ королю убираться восвояси на родину. На ультиматум Карл XII ответил, «что-де он над собою никакой державы, кроме одного Бога, быть не признает, а естьли кто будет его насиловать, то он станет себя оборонять до последней минуты своего живота». Это была не пустая похвальба. Король действительно вступил в схватку с гостеприимными хозяевами и отплатил им тем, что отправил на тот свет не менее 200 турок.
Существует немало описаний сражения, развернувшегося в окрестностях Бендер между шведами и османами. Среди них неопубликованное донесение П. П. Шафирова канцлеру Г. И. Головкину. Шафиров находился в Стамбуле и, естественно, не мог быть очевидцем событий: в его донесении есть неточности, опущены многие подробности. Тем не менее оно интересно. Его автор был человеком с ироническим складом ума и владел острым пером. Свое донесение он начинает так.
Бендерский паша принуждал короля к выезду «по варварскому обычаю сурово. А он, по своей солдацкой голове удалой, стал им в том отказывать гордо, причем сказывают, что конюший ему и отсечением головы грозил и он на них шпагу вынимал и говорил, что он салтанского указу не слушает и готов с ними битца, ежели станут ему чинить насилие».
Поначалу османы решили оказать на короля давление, лишив его продовольствия и фуража. Но король нашел выход: он велел «побить излишних лошадей, между которыми и от салтана присланные были, и приказал их посолить и употреблять в пищу». Тогда султан велел доставить к себе короля живым или мертвым.
9 февраля 1713 года «со обеих сторон у них война началась». Король, «учредя великое свое воинство, начал бить по них из двух пушек, из мелкого ружья». Османы тоже ответили артиллерийским огнем и выбили из окопов «сего храброго и твердого в совете солдата». Король засел в хоромах. Османы их подожгли, «что видя, сия мудрая голова восприял отходом в другие было хоромы людей своих ретираду, но в пути обойден от янычар, и один, сказывают, ему четыре пальца у руки отсек, в которой держал шпагу, а другой отстрелил часть уха и конец самой нос, а третий поколол или пострелил ево в спину».
Сведения Шафирова о многочисленных ранениях короля оказались недостоверными. В действительности ему была нанесена легкая рана, «только-де он, король, пуще с печали зело занемог и в лице стал худ».[326]
События февраля 1713 года близ Бендер вызвали у Петра чувство радости – наконец, рассуждал он, будет выдворен за пределы Османской империи главный подстрекатель к обострению ее отношений с Россией. По мнению царя, опасность вооруженного конфликта с Турцией уменьшилась настолько, что можно было повелеть Шереметеву отправить с южных границ к Риге дивизию и один драгунский полк.
Фельдмаршал, однако, не спешил выполнять царский указ. Драгунский полк он откомандировал в Ригу, а дивизию оставил на месте, ибо счел, что оголенная граница облегчит нападение крымцев и будет беззащитен Киев. По сведениям Шереметева, «король швецкой у салтана и у сенаторей в респекте (почете. – Н. П.) обретается», а крымский хан готовит новый поход на города Слободской Украины.
События, связанные с маршем драгунского полка, оставили у Шереметева неприятные воспоминания.
Поначалу сюжет развивался столь банально, что вряд ли мог привлечь к себе внимание царя. Осенью 1712 года драгунский полк Григория Рожнова совершал переход с Украины к Смоленску. Во время марша для нужд полка у населения изымались лишние лошади, что вызвало резкое недовольство и жалобы обывателей. Во время расследования этих жалоб было установлено, что вместо положенных по штату 200 лошадей было мобилизовано 789.
Полковник Рожнов, почувствовав угрозу быть осужденным военным судом, сначала попытался уклониться от ответственности путем оформления задним числом приказа по полку о строгом соблюдении установленных норм использования обывательских лошадей. Он потребовал от всех офицеров полка подписей под этим приказом. Когда следствие изобличило полковника в фальсификации, он стал ссылаться на свою болезнь, случившуюся как раз в те дни, когда производилась мобилизация лошадей. Военный суд не счел болезнь смягчающим вину обстоятельством, как не признал уважительным тот факт, что Рожнов во время болезни не мог ездить верхом, ибо, как сказано в приговоре, «команда в марше больше действуется на бумаге, нежели на лошади».[327]
Суд приговорил Рожнова к суровому наказанию: он был лишен полковничьего чина и должности, а также оштрафован на 500 рублей. Понесли наказания и офицеры полка, обвиненные в том, что подписали «лживый» документ. Фельдмаршал согласился с мерой наказания Рожнову, а остальным офицерам значительно ее смягчил. Обозленный Рожнов решил восстановить свою репутацию подачей длиннейшего доноса на Шереметева.
Рожнов в извете обвинял в преступлениях не столько фельдмаршала, сколько его генерал-адъютанта Петра Савелова. Шереметева он уличал в том, что тот отнял у него «цук вороных немецких лошадей, одного аргамака» и приглянувшуюся ему конскую сбрую в серебряной оправе. Согласно версии Рожнова, Шереметев этим не довольствовался: гнев фельдмаршала вызвало нежелание полковника поделиться с ним немецкими кобылами.
Главным своим недоброжелателем Рожнов считал Петра Савелова. Это по его проискам «один полковник Рожнов сужен немилостивым судом и напатками, и штрафован, и паек отнят и в том ему, полковнику, обида пред другими». В адрес Савелова Рожнов выдвинул множество обвинений, из них два главных. Первое состояло в том, что Савелов получил от него, Рожнова, взятку в 40 червонных золотых и немецкого мерина за то, чтобы его «судили порядочно». Взятка показалась Савелову недостаточной, и он потребовал дополнительно 200 рублей, в которых ему Рожнов отказал. Неудовлетворенное мздоимство и явилось причиной бед и неправого суда. Второе и самое существенное обвинение тоже было связано с алчностью Савелова. За посулы он давал внеочередные чины и должности. Конечно, правом награждать чинами, как и назначать на должности, Савелов не располагал: он обделывал такого рода делишки за спиной фельдмаршала и его именем.
Донос не вызвал бы тревоги у Савелова и тем более у Шереметева, если бы им не заинтересовался царь. Он велел приговор о Рожнове в исполнение не приводить, а «того полковника и дело его прислать в С.-Петербург».[328]
Шереметев и Савелов не на шутку забеспокоились. Их тревогу усилила угроза Рожнова обличить их во многих «язвах». Оба они обратились за заступничеством к кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову. Шереметев писал ему: «За благие поступки вас, моего государя, в моих интересах зело благодарствую и впредь прошу мене не оставить, а наипаче в дела плута Рожнова всякое покажи вспоможение, за что я сам служить готов. И что будет по Рожнову делу отзыватца, пожалуй, уведоми меня». «Показать вспоможение» просил Макарова и Савелов. Их знакомство, видимо, было настолько близким, что Савелов без обиняков писал: «…ежели о имени моем что непотребное упомянетца, дабы я по вашей милости был охранен».[329] Чтобы отвести обвинения Рожнова, Шереметев даже обратился к царю за разрешением прибыть в Петербург.
Между тем следствие по доносу Рожнова развернулось не на шутку. В новую столицу был вызван Савелов, а от Шереметева затребовали подлинные книги о пожалованиях недорослей в офицеры, об отпусках офицеров «в домы» на побывку и т. п. К следствию намечалось привлечь множество людей: одних в качестве обвиняемых, других как свидетелей. По обычаю тех времен, следствие было рассчитано на многие месяцы, ибо лица, интересовавшие следователей, находились в разных концах страны: в Москве и Риге, в Твери и Новгороде, на финляндском театре военных действий, в вотчинах, расположенных в глубокой провинции.
Следствие прекратилось так же внезапно, как и началось. Тщетно искать в официальных документах объяснение крутого поворота отношения царя к делу по доносу Рожнова. Некоторые соображения на этот счет оставили современники. Английский посланник Джон Мэкензи в донесении своему правительству от 11 февраля 1715 года сообщал: «Мне из хороших источников передавали, что два дня тому назад царь вполне простил все прошлое фельдмаршалу Шереметеву и поручил ему русскую армию, расположенную в Польше». Мэкензи было также известно, что царь отклонил настойчивые просьбы фельдмаршала об отставке. «Напротив, – подчеркивал Мэкензи, – его ласкают больше, чем когда-нибудь, и уверяют, что к восстановлению его чести будут приняты все меры, доносчиков же накажут примерно».[330]
Любопытной деталью поделился со своим правительством и саксонский посланник Лосс. Согласно его версии, дело замял князь Василий Владимирович Долгорукий: «Без него он (Шереметев. – Н. П.) поплатился бы дороже и никогда бы не выпутался так хорошо из следствия, которому он должен подвергнуться».[331]
Оба современника, кажется, были близки к истине. Полковника Рожнова действительно подвергли более суровому наказанию, чем определил военный суд. У него были отняты не только чин и должность, но и вотчины, в которых было 92 двора. В суждении Д. Мэкензи о том, что Шереметева «ласкают больше, чем когда-нибудь», тоже есть резон. Отношение царя к фельдмаршалу было обусловлено изменением обстановки на южных границах и планами открыть военные действия на территории Швеции.
Сведения, поступавшие из Стамбула в начале 1714 года, вселяли уверенность, что султан не имел намерений обострять отношения с Россией. Свидетельством тому было изменение в положении русского посольства и заложников: они «состоят в добром поведении». Наблюдатели далее отмечали, что у турок «к войне никакого приготовления нет». У османского правительства хватало внутренних забот: во владениях султана подняли бунт два паши. Опасность с их стороны была тем большей, что их выступление поддерживал иранский шах.
Миролюбивые намерения османов подтверждались и некоторыми практическими мерами. Так, они выделили комиссаров в смешанную русско-османскую комиссию по определению пограничной линии. В Петербурге и в ставке Шереметева располагали данными о серьезном намерении султана выдворить из своих владений шведского короля. П. П. Шафиров и М. Б. Шереметев в январе 1714 года извещали фельдмаршала: «…король швецкой отсюда ехать не хочет и министром своим на их предложение отвечал, что-де об отъезде и говорить еще не время». Кредит короля пал: «Турки над ним ни малого респекту не держат и про него слышать и говорить не хотят, а когда где и придет об нем говорить, то все сплошь лают, называя дураком и сумасбродным».[332] Далее, султан позволил себе миролюбивый жест: он отпустил на родину заложников.
Возвратился в Россию один Петр Павлович Шафиров, а Михаил Борисович умер в пути, не доезжая Киева. Смерть сына потрясла фельдмаршала. Он писал адмиралу Апраксину: «При старости моей сущее несчастие постигло». Старик тяжело переживал утрату: от «…сердечной болезни едва дыхание во мне содержится, а зело опасаюся, дабы внезапно меня, грешника, смерть не постигла».[333]
Перечисленные симптомы замирения позволили России перебросить часть войск с южной границы на север, дабы сосредоточить свои усилия на борьбе со Швецией. В октябре 1713 года в войну против Швеции вступила Пруссия. В том же году войска союзников заняли всю Померанию; в руках шведов оставался лишь осажденный Штральзунд. Естественно, вставал вопрос, кому поручить командование русскими войсками, второй раз отправлявшимися в Померанию. Кандидатура фельдмаршала Меншикова отпадала: за время своего пребывания в Померании в 1712–1713 годах он до такой степени обострил отношения с датским королем, что тот впредь отказался иметь с ним дело. Оставался Шереметев, которого Петр и назначил командующим экспедиционным корпусом. Царь прикинул, что человеку, подмочившему репутацию и находившемуся под следствием, неуместно командовать войсками и тем более представлять интерес России при иностранных дворах, и, надо полагать, поэтому распорядился прекратить следствие по доносу Рожнова.
4 февраля 1715 года Борис Петрович прибыл в Петербург. Петр проявил внимание к фельдмаршалу тем, что вечером этого же дня навестил его. Сенат и генералитет под председательством царя 1 марта обсуждали план предстоящей кампании в Померании. По поручению Петра фельдмаршал составил расчеты о численности войск, необходимых ему для развития успешных боевых действий, а также о кораблях для высадки десанта на шведской территории.
В столице Шереметев провел несколько месяцев. Кажется, впервые за свою жизнь он приобщился к придворной жизни: присутствовал на приемах у царя и его сына Алексея, сам принимал гостей по случаю своих именин и без всякого повода, участвовал в празднествах, посвященных Полтавской виктории. Надо полагать, что такая жизнь быстро наскучила Шереметеву, привыкшему к иному времяпрепровождению, и он, несмотря на возраст, очевидно, с охотой отправился к армии.
Марш войск через Польшу осложнялся многими привходящими обстоятельствами, и Шереметеву пришлось выступать в роли не только военачальника, но и дипломата. Затруднения, выпавшие на долю фельдмаршала, состояли в том, что интересы борьбы со Швецией требовали, чтобы он двигался в Померанию форсированным маршем. Но в это же время в самой Польше подняли голову поддерживаемые Францией сторонники Станислава Лещинского. В интересах сохранения короны за союзником России Августом II надлежало задержать русские войска в Польше.
Русский посол в Варшаве князь Г. Ф. Долгорукий требовал от Шереметева, чтобы его войска остались в Польше, «по которое время те факции успокоятца». К голосу Долгорукого присоединились и вельможи Речи Посполитой. На встрече Шереметева с русским послом они заявили, что от ухода корпуса из Польши в выигрыше останется шведский король, ибо в этом случае Август II будет вынужден отозвать свои войска из Померании для борьбы с «конфедератами». В итоге Карл XII получит передышку.
Иного мнения придерживались русские послы при датском и прусском дворах. Они настаивали на том, чтобы если не вся, то хотя бы часть русской армии к середине ноября находилась в Померании, у стен Штральзунда. Свои доводы они подкрепляли рассуждениями о возможных последствиях опоздания: «И ежели позже туда притить, то короли могут озлобитца и нарушить все договоры и отказать в пропитании, и в фураже, и в зимних квартирах».[334]
Наконец, надобно было считаться и с Османской империей – пребывание русских войск в Польше означало нарушение условий Прутского мира и было чревато конфликтом с султанским двором.
Пока корпус Шереметева черепашьим темпом двигался через Польшу, совершая при этом продолжительные остановки, датские и прусские войска овладели островом Рюген. Оба короля были уверены, что они своими силами, без помощи русских овладеют Штральзундом. Датский король прислал к Шереметеву своего уполномоченного, чтобы тот предупредил фельдмаршала: союзники не нуждаются в услугах русских войск и пусть его корпус остается в Польше. В итоге сложилась ситуация, аналогичная той, когда в Померании русскими войсками командовал Меншиков: взаимная подозрительность союзников, игнорирование ими интересов России, эгоизм каждого из них лишали их возможности действовать согласованно и целеустремленно.
Шереметев был в недоумении. Оно усиливалось по мере того, как таяло продовольствие и в войсках наступал голод. Фельдмаршал отправляет запрос канцлеру Головкину, ибо от послов «известия не имеет, каких ради причин те отмены учинились и для чего требовать войск не стали». Для него было ясно одно: в данный момент он не должен уходить из Польши без царского на то указа. Между тем единственное средство облегчить положение войск и местного населения, обеспечивавшего армию провиантом, состояло в ее рассредоточении.
Царский указ был получен. Фельдмаршалу повелевалось ради укрепления «твердой дружбы» с прусским королем не выступать против его воли. Напротив, короля надлежало всячески «уласкать». Царь придумал подарить ему полсотни или даже сотню самых рослых гренадер из состава корпуса Шереметева.
В середине декабря 1715 года Штральзунд, обороняемый шведскими войсками, предводительствуемыми самим королем, пал, и Карл XII, спасаясь, бежал на корабле. Это еще более усложнило положение Шереметева.
До тех пор пока Август II чувствовал себя на троне непрочно, он и его министры не только мирились, но даже упрашивали Шереметева оставить войска в Польше. Но как только король овладел положением, он потребовал от фельдмаршала вывода русских войск «так скоро, как возможно». Горькую пилюлю Август II решил позолотить: накануне этого указа, 17 декабря 1715 года, он наградил Шереметева орденом Белого Орла. Это был второй иностранный орден, полученный Борисом Петровичем.
Созванный Шереметевым военный совет постановил выводить войска из Польши. Но тут был получен указ царя, видимо продиктованный изменившейся ситуацией: фельдмаршалу велено было идти «в Померанию с поспешением, несмотря на польские дела, в каком бы состоянии они ни были». Петр подчеркивал: «Буде же по саксонским интригам король пруской будет писать, чтоб в Польше остатца, то, несмотря на то, шол бы в Померанию и делал бы с совету министров наших, кои в Померании».[335]
Ломать голову, как выполнить царское повеление, Борису Петровичу не пришлось: 3 января 1716 года к нему прибыл генерал-лейтенант В. В. Долгорукий с указом: «…для лутчего исправления положенных на него, фельдмаршала, дел послан в помочь подполковник от гвардии князь Долгорукий». За время военной карьеры Шереметева это было третье прикомандирование к нему доверенного лица царя. Как тогда, так и теперь Шереметеву было велено исполнять все, что прикажет ему именем царя Долгорукий.
С чем было связано это назначение? Два предшествующих объяснялись медлительностью фельдмаршала. Теперь как будто спешить было некуда. Просто Шереметев находился в плену старческой немощи и уже, видимо, был не способен работать в полную силу.
Борис Петрович безропотно выполняет царский указ. Кажется, он был даже доволен этим своим положением, ибо оно освобождало его от обременительной и крайне сложной обязанности лавировать между противоречивыми интересами союзников. Он сразу же распорядился, чтобы командиры дивизий беспрекословно подчинялись приказам Долгорукого.
Надо полагать, что острота восприятия назначения Долгорукого значительно притупилась не только оттого, что оно было третьим по счету, но и потому, что два аристократа – Долгорукий и Шереметев – быстро нашли общий язык еще в 1711 году, когда гвардии подполковник впервые был прикомандирован к фельдмаршалу и между ними установились приятельские отношения. Вспомним, саксонский посланник Лосс свидетельствовал, что своим постом главнокомандующего русскими войсками в Польше Шереметев был обязан Долгорукому. Василий Владимирович сумел тогда внушить Петру, что если на эту должность будет назначен Меншиков, то светлейший «пожертвует всем войском в угоду прусскому королю».[336]
В феврале-марте Шереметев часто встречался с царем, направлявшимся в Копенгаген – для обсуждения с союзниками плана высадки десанта на шведской территории, в Париж – чтобы уговорить французское правительство отказать Швеции в субсидиях и в Пирмонт – для лечения. В Гданьске помимо организации приемов царя и сопровождавших его вельмож, а также польского короля Борис Петрович участвовал в обсуждении «Устава воинского», составление которого Петр закончил, будучи в этом городе.
Жизнь Шереметева со второй половины 1716 года и за весь 1717 год не отражена в известных нам источниках. Ясно только, что в то время не произошло примечательных событий в биографии фельдмаршала – не было сражений ни на суше, ни на море. Эти годы не принесли ему ни радостей, ни огорчений. Зато следующий, 1718 год помечен крупными неприятностями. Они были связаны с делом царевича Алексея и глубокой убежденностью царя в том, что старый фельдмаршал в ссоре отца с сыном симпатизировал последнему.
Следует отметить, что Алексей Петрович явно преувеличивал свою популярность среди вельмож и высших офицеров, хотя вполне возможно, что те расточали ему комплименты и оказывали внимание: как-никак они имели дело с наследником престола и понимали, что их судьба будет зависеть от его прихотей, когда он этот престол займет. Петр, взявший в свои руки следствие о сообщниках царевича, прислушивался не к общим свидетельствам сына, бог весть на чем основанным. Царь удерживал в памяти показания конкретного характера, например советы царевичу, как поступать в тех или иных случаях. Именно такой совет, компрометирующий его автора, будто и подал царевичу фельдмаршал: «Напрасно-де ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове; так бы-де ты все ведал».[337]
В июне 1718 года в новую столицу для суда над царевичем были вызваны сенаторы, вельможи и высшие офицеры, а также духовные иерархи. Под смертным приговором царевичу поставили подписи 127 персон. Список открывал светлейший князь Меншиков, далее стояли подписи адмирала Апраксина и канцлера Головкина. За ними, а быть может, и впереди них должна была стоять подпись Шереметева, но ее нет: фельдмаршал в Петербург не приехал. Почему?
Потому ли, что он действительно был болен, или всего-навсего сказался больным, чтобы не ставить своей подписи под приговором? Царь склонен был объяснять отсутствие Шереметева в столице не болезнью, а ее симуляцией. Старик, полагал царь, разделял мысли царевича и не желал насиловать свою совесть. В этой убежденности Петра укрепляли слухи, а главное – непреложный факт: за причастность к делу царевича поплатился В. В. Долгорукий – близкий Шереметеву человек. Вспомним: именно Долгорукий вытащил из беды фельдмаршала, когда велось следствие по доносу Рожнова.
Думается, однако, что царь в данном случае ошибся и этой своей ошибкой лишил душевного покоя Бориса Петровича и омрачил последние месяцы его жизни. Они протекали невесело. К тяжелой болезни прибавились одиночество, чувство обиды, страха и трепета перед царем. Послушаем, как он, терзаемый тоской, изливал душу самому близкому ему человеку – адмиралу Апраксину: «К болезни моей смертной и печаль мене снедает, что вы, государь мой, присный друг и благодетель и брат, оставили и не упомянитися мене писанием братским, христианским посетить в такой болезни братскою любовью и писанием пользовать». Главным содержанием прочих писем Шереметева – а отсылал он их царю, А. В. Макарову, Ф. М. Апраксину, А. Д. Меншикову – были известия о состоянии здоровья, жалобы на одиночество и попытки оправдаться перед царем.
14 июня 1718 года фельдмаршал отправил два письма: одно царю, другое Меншикову. Почти одинаковыми словами описывает он свою болезнь. Она, сообщал фельдмаршал царю, «час от часу круче умножается – ни встать, ни ходить не могу, а опухоль на ногах моих такая стала, что видеть страшно, и доходит уже до самого живота, и, по-видимому, сия моя болезнь знатно, что уже ко окончанию живота моего».
Шереметев сокрушался, что не мог выполнить царского указа о приезде в Петербург, и, догадываясь о сомнениях Петра относительно состояния своего здоровья, обращался к нему с просьбой: «… в той моей болезни повелеть освидетельствовать, кому в том изволите поверить». Меншикова он тоже просит при случае сказать Петру: «…дабы его величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать».[338]
Обращение Бориса Петровича к царю осталось без ответа. Тогда он отправил письмо Макарову с уверениями, что ему не доставляет радости жизнь в Москве: «Москва так стоит, как вертеп разбойничий – все пусто, только воров множитца и беспрестанно казнят» – и если бы он был здоров, то ни в коей мере не пожелал бы «жить в Москве, кроме неволи». И далее следуют слова, рассчитанные на уши не столько Макарова, сколько Петра: «Я имею печаль, нет ли его, государева, на меня мнения, что я живу для воли своей, а не для неволи, и чтобы указал меня освидетельствовать, ежели жива застанут, какая моя скорбь и как я, на Москве будучи, обхожусь в радости». Назначение последних слов очевидно: они должны были опровергнуть кем-то нашептываемые царю сведения о его беззаботной и веселой жизни в Москве. Возможно также, что подобное представление сложилось у Петра и в результате того, что одно из писем (17 мая 1718 года) Шереметев отправил не из Москвы, а из своего села Вощажникова. Следовательно, мог рассуждать царь, Шереметеву хватило здоровья, чтобы посетить свою вотчину.
Кстати, историкам почти не известны источники хозяйственного содержания, вышедшие из-под пера Шереметева. Быть может, они не сохранились, но, скорее всего, походная жизнь фельдмаршала не предоставляла ему условий для вмешательства в повседневную жизнь своих вотчин. Лишь на исходе дней своих Борис Петрович оставил документы, позволяющие взглянуть на него как на барина, владельца многих тысяч крепостных крестьян.
В одном из писем конца 1715 года русскому послу в Копенгагене Василию Лукичу Долгорукову Борис Петрович бросил фразу: «…а мое и богатство в лошадях». Фельдмаршал явно прибеднялся. Его конюшня являлась скорее предметом гордости, а не богатства. Послушаем, с каким упоением и чванством он описывал состав конюшни: «Есть аргамаки турецкие и одна персицкая да две арабских, и коней чистых имею, рослых и удалых и широких ногайских».[339]
Главное богатство Шереметева составляли вотчины. Если верить Борису Петровичу на слово, то путешествие на Мальту обошлось ему в 20 500 рублей – сумму по тем временам колоссальную. Но из этого следует, что боярин принадлежал к числу весьма богатых людей. В конце 70-х годов XVII века он владел 2910 дворами. В последующие десятилетия он свое богатство умножил.
Фельдмаршал обладал особым даром клянчить пожалования. Он нередко выступал в роли докучливого попрошайки и умел живописать свое бедственное положение и слезно просить, создавая мастерски исполненную картину такой бедности, что, не удовлетвори его мольбы, он оскудеет настолько, что будет скитаться, как тогда говорили, «меж двор» и кормиться Христовым именем. Приведем в качестве примера описание Шереметевым своего материального положения в письме Ф. Е. Головину: «Также и о себе милости прошу – дайте мне, чем жить. Е естьли не дадите со удовольством, ей, пойду нищетцки». Если верить его словам, он был готов даже продать или заложить свои деревни: «Е хотя ныне и купцов нет на деревни, и я крест бы Мальтийской и другой заложил. Не до кавалерства стало». На память ему пришла пословица: «Хотя мужиком слыть, только бы сыту быть». Мольба, обращенная к тому же Головину в 1706 году: «…подай мне помощи о жалованье, не знаю, в чем прослужился, что в том имею обиду. Пью и ем хотя и все государево, а на иждивение домовое взять негде».[340]
Реальные доходы Шереметева решительно опровергают его жалобы. В 1708 году фельдмаршал владел 19 вотчинами. В них было 6282 двора, населенных 18 031 душой мужского пола, с которых он получал только денежного оброка около 11 тысяч рублей в год. Если к этому прибавить натуральный оброк (мед, мясо, птица, масло, яйца и т. д.), а также барщинные повинности, то общий доход помещика Шереметева с вотчин, надо полагать, составлял никак не менее 15 тысяч рублей в год. Фельдмаршал получал самое высокое в стране жалованье – свыше 7 тысяч рублей в год.
Владения Шереметева продолжали расти и после 1708 года. Как уже упоминалось, в 1709 году царь в честь Полтавской виктории пожаловал фельдмаршала деревней Черная Грязь. Борис Петрович навел справки об этой вотчине и уже 19 июля, по горячим следам, обратился к Меншикову с просьбой ходатайствовать перед царем, чтобы к Черной Грязи была придана пустошь Соколово: «А ежели той пустоши отдано не будет, то и помянутая Черная Грязь не надобе». Шереметев проявил завидную настойчивость в домогательствах. Через неделю он отправил князю новое напоминание: без пустоши Черной Грязью «не изволите меня отяхчать».[341]
За успехи в Прибалтике Шереметев не успел исхлопотать себе пожалование, так как должен был срочно отправиться в Прутский поход. Фельдмаршал отличался практицизмом и после похода решил наверстать упущенное. 1 августа 1711 года он обратился с просьбой к царю – «не за услуги мои, но из милости вашей» пожаловать домом в Риге и староством Пебалг в Лифляндии.[342] «Милости» он удостоился, став таким образом прибалтийским помещиком.
Знакомство с содержанием хозяйственной переписки Шереметева вызывает удивление. Можно подумать, что автор не смертельно больной старик, а человек в расцвете сил и его энергия направлена на реализацию планов, рассчитанных на многие годы. Удивляет и другое: перед читателем предстает совсем иной Шереметев – не робкий, всегда боявшийся царского гнева, заискивающий перед «нужными» людьми человек, а суровый и беспощадный крепостник, не знавший ни снисхождения, ни сострадания. Стоя уже одной ногой в могиле, он ожесточился настолько, что ему стало чуждо понимание чужого горя.
Крестьяне жаловались Шереметеву, что они «помирают ныне с голоду», и просили его освободить их от повинностей. Барин ответил, что если он предоставит им просимую льготу, то сам будет «скитаться по миру». Крестьяне Вощажниковской волости попросили Бориса Петровича «обольготить для пожарного разорения». Щедрость барина не простиралась далее распоряжения приказчику о выдаче челобитчикам, оказавшимся без крова и хлеба, по четверти ржи на человека и освобождении их от барщинных и оброчных повинностей на год, «а подати великого государя велеть платить им без доимки». Резолюции фельдмаршала на крестьянские челобитные коротки, выразительны и безапелляционны: «Доправить неотлагательно» или «Старосту и выборных, бив кнутом, и велю доправить пеню деньгами немалыми».[343]
Крестьянам вообще запрещалось обращаться к барину с жалобами: «…бить челом к Москве не приходили б ко мне, кроме необходимых самых нужных дел, которых приказной человек, кроме нашей персоны, судить не может». Тут же угроза подвергнуть ослушников жестокому наказанию: «…несмотря хотя б чье и правое челобитье было, только за одну противность указу моего». Это была не пустая угроза. За месяц до смерти Шереметев велит приказчику одной из вотчин: «…крестьянам на мирском сходе учинить жестокое наказание, для чего они, не явясь к тебе, из вотчин уезжают и оставляют тяглы свои впусте».[344]
Крестьяне, пострадавшие от двухлетнего подряд недорода, обратились к Борису Петровичу за послаблением в правеже повинностей. «Оскудали вконец без остатку, – жаловались они, – пить и есть стало нам нечего, помираем ныне с голоду, и больши половины волости ходили с женами с ребятишками в мире, купить не на что, а хлебным денежным податям ныне платежи и наряды великие». На крестьянскую челобитную, заканчивавшуюся призывом «государь, смилуйся!», фельдмаршал 4 мая 1718 года наложил резолюцию. Она выразительно высвечивает еще одну грань характера Бориса Петровича: «…слушав сего челобитья, во всем отказать, а впреть не бить челом: ведаете вы сами, что я сию волость купил кровью своей, и дана мне сия волость на всякое мне довольство, и челобитную вам сию нехто плут советовьщик писал, и обальготить мне вам нельзя. Ежели вас обальготить, то разве мне самому скитатца по миру».
Как и многие вельможи петровского времени, Шереметев не чурался извлекать доходы из источников, не связанных с крепостным хозяйством. В 1719 году он велит приказчику ржевской вотчины взять на откуп кабаки. Он поощряет усердие другого приказчика по сооружению мельницы: «…ты пишешь о построении мельницы и обещаешь в том нам прибыль, и за то тебя похваляю». Ему же он поручил скупать шкурки белки и рыси, но при одном условии: если цена на эти шкурки на месте скупки ниже, чем в Москве, а если дороже – «какая нам в том будет прибыль», рассуждал помещик.
Содержание распоряжений Шереметева по Вощажниковской волости наводит на мысль, что он проявлял неизмеримо больше заботы о лошадях, чем о людях. Обычно распоряжения вотчинным приказчикам составляли служители домовой канцелярии фельдмаршала в Москве. Шереметев не удостаивал такие распоряжения подписью собственной фамилии. Вместо нее он писал два слова, отражавшие высокомерие барина: «рука моя».
Когда же речь шла о лошадях, то Борис Петрович снисходил до сочинения собственноручных писем или приписок. «По отписки твоей мне извесно, – писал он приказчику, – что лошеди, которые хромлют, вели их лечить и прикажи стремянному конюху Кастентину Докучаеву, чтобы их лечил неоплошна, а больши сам присматривай». Должный уход за лошадьми и строгий надзор за соблюдением их рациона – предмет особой заботы фельдмаршала. Нерадивые конюхи подлежали суровому наказанию. «Ежели от наказания не уймутся, то их присылать к Москве», – велит он приказчику. В другом письме он извещал, что отправил в вотчину две кобылы «агленские». Барин дотошно знал каждую лошадь своей конюшни, ее масть, приметы и сохранил цепкую память до конца дней своих. Судите сами. «Да пришли ко мне тотчас кобылу буланаю, – велел он вощажниковскому приказчику 20 сентября 1718 года, – задняя нога по щотку беленька, которая была при мне отобрана итить со мною к Москве».[345]
Запоздалая хозяйственная активность вотчинника сокращалась по мере ухудшения здоровья – усилия докторов не приносили облегчения больному. Тогда Борис Петрович решил отправиться на Марциальные воды. Это было его последняя надежда на исцеление. Он так и писал Макарову в конце сентября 1718 года: «А ныне для последнего искушения желаю ехать к Олонецким водам, где, ежели от болезни своей не освобожуся, то впредь какого к тому способа изобретать – не знаю». Отправил он и письмо царю с просьбой разрешить ему поездку на курорт.
Ответное письмо Петра в какой-то мере объясняет причину царского недоверия к пребыванию Бориса Петровича в Москве. 18 октября 1718 года Шереметев прочел следующее послание царя: «Письмо твое я получил, и что желаешь ехать к водам, в чем просишь позволения, и се то вам позволяется, а оттоль сюда. Житье твое на Москве многие безделицы учинило в чужих краях, о чем, сюда как приедешь, услышишь».[346] Остается гадать, что подразумевал Петр под «многими безделицами», распространяемыми «в чужих краях». Скорее всего «безделицы» не что иное, как ходившие на Западе слухи о том, что Шереметев отсиживался в Москве в знак протеста против расправы отца над царевичем Алексеем.
Шереметев обещал прибыть в Петербург с Марциальных вод независимо от исхода лечения и в который раз пытался убедить царя, что он не обманывал его. Я, писал фельдмаршал царю, «милостию вашего величества вознесен и вами живу, то как на конец жизни моей явлюся пред вашим величеством в притворстве, а не в ыстине».
Хлопоты о разрешении отправиться на Марциальные воды оказались напрасными: у фельдмаршала уже не было сил на столь дальнее путешествие. Бодрился он зря. Напрасными были и хлопоты о реабилитации себя перед царем. Подтверждением тому является царский указ обер-коменданту Москвы Ивану Измайлову, дабы тот доставил фельдмаршала в Петербург по зимнему первопутку.
20 ноября 1718 года к крыльцу московского дома фельдмаршала были поданы карета и подводы, дабы везти Бориса Петровича в столицу. Выезд, однако, не состоялся. Измайлов извещал Макарова: «…болезнь его гораздо умножилась: опух с ног и до самого пояса и дыханье захватывает, и приобщали святых тайн, и ныне в великом страхе». Больного обследовали доктора и в заключении написали, что он страдает «водяною болезнию». Вывод медиков был таков: «…в такой скорби и в такую стужу без великой беды ныне его отпустить невозможно». Заключение, видимо, рассеяло сомнения царя относительно здоровья Шереметева. Во всяком случае Макаров – конечно же не без ведома Петра – написал Измайлову, «дабы ево не трудить отъездом с Москвы».
Последнее письмо с автографом Бориса Петровича датировано 30 ноября 1718 года. Оно адресовано Макарову. Даже если бы Борис Петрович не сообщал в нем: «…по-прежнему зело в тяжкой болезни обретаюсь и с постели встать не могу», то подпись вполне выдает состояние больного. Она поставлена нетвердой рукой, без всякого нажима, так что ее едва можно разобрать.[347]
Умер фельдмаршал 17 февраля 1719 года. В завещании, составленном 20 марта 1718 года, Борис Петрович распорядился похоронить себя в Киево-Печерской лавре, рядом с могилой своего сына Михаила: «Желаю по кончине своей почить там, где при жизни своей жительства иметь не получил», то есть там, где ему не было разрешено пострижение.
Царь, однако, посчитал, что первый в России фельдмаршал не волен распоряжаться собой даже после смерти: он заставил служить «государственному интересу» и мертвого Шереметева.
Новой столице недоставало своего пантеона. Петр решил создать его. Могила фельдмаршала должна была открыть захоронение знатных персон в Александро-Невской лавре. По велению Петра тело Шереметева было доставлено в Петербург. Церемония торжественного захоронения состоялась 10 апреля 1719 года.
Смерть Шереметева и его похороны столь же символичны, как и вся жизнь фельдмаршала. Умер он в старой столице, а захоронен в новой. В его жизни старое и новое тоже переплетались, создавая портрет деятеля периода перехода от Московской Руси к европеизированной Российской империи.
Народная память сохранила имя Шереметева как полководца, громившего шведов во главе лихой московской пехоты и кавалерии:
Не две грозные тучи на небе всходили, Сражалися два войска тут большие, Что московское войско со шведским… Запалила Шереметева пехота Из мелкого ружья и из пушек. Тут не страшный гром из тучи грянул, Не звонкая пушка разродилась, У боярина тут сердце разъярилось. Не сырая мать-земля разступилась, Не синее море всколебалось, Примыкали штыки тут на мушкеты. Бросали все ружья на погоны, Вынимали тута вострые сабли, Приклоняли тут булатные копья, Гналися за шведским генералом До самого до города до Дерпта. Как расплачутся тут шведские солдаты, Во слезах они чуть слова промолвят: «Лихая-де московская пехота На вылазку часто выступает И тем нас жестоко побеждает». Тут много мы шведов порубили И втрое того в полон их взяли, Тем прибыль царю учинили.[348]
Петр Андреевич Толстой
Дедушка в волонтерах
Давно не видела Первопрестольная такого скопления роскошных карет, блиставших золотом и серебром мундиров военных и гражданских чинов, разодетых в парчу дам, как в майские дни 1724 года. Сенаторы, президенты коллегий, генералы, церковные иерархи во главе с Синодом, губернаторы, придворные, иноземные послы, наконец, царствующая чета прибыли в старую столицу на церемонию коронации императрицей супруги Петра Великого Екатерины Алексеевны.
Ничего более торжественного не происходило в Кремле уже несколько десятилетий. Из царских кладовых извлекли давно не употреблявшуюся и поэтому утратившую блеск серебряную посуду и бокалы. В Грановитой палате, где раньше принимали иностранных послов, а теперь решили устроить торжественный обед, все обветшало и было спешно обновлено: трон, балдахин, столы для гостей, ковры, бархат. В Успенском соборе соорудили помост, где должно было совершиться возложение короны. Улицы Москвы украшали триумфальные арки, на площадях заканчивались приготовления к невиданному фейерверку.
Придворные дамы и жены вельмож сбились с ног в поисках портных, чтобы запастись богатыми одеждами. Более всех празднество волновало бывшую прачку, волей случая ставшую супругой великого человека и императора могущественной державы, – Екатерину Алексеевну. Для нее была изготовлена мантия из парчи с вышитым на ней двуглавым орлом, подбитая горностаем, из Парижа привезли карету. Самой главной достопримечательностью церемонии должна была стать корона, предназначенная для Екатерины. «Корона нынешней императрицы, – записал в „Дневнике“ камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, которому показали другие короны, в том числе и корону Петра Великого, – много превосходила все прочие изяществом и богатством; она сделана совершенно иначе, т. е. так, как должна быть императорская корона, весит 4 фунта и украшена весьма дорогими каменьями и большими жемчужинами… Делал ее, говорят, в Петербурге какой-то русский ювелир».
Церемония коронации была проведена 7 мая 1724 года в Успенском соборе. Туда под звон всех московских колоколов и звуки полковых оркестров, расположившихся вместе с гвардейскими полками на дворцовой площади Кремля, в 11 утра прибыла царская чета. У входа в собор ее приветствовали высшие духовные чины в богатейших облачениях. Артиллерийские залпы возвестили, что царь самолично возложил корону на голову стоявшей на коленях Екатерины, а придворные дамы прикрепили мантию.
В Грановитой палате состоялся торжественный обед. «В то же время, – отметил Берхгольц, – отдан был народу большой жареный бык, стоявший перед дворцом среди площади на высоком, обитом красным холстом помосте, на который со всех сторон вели ступени. По обеим сторонам его стояли два фонтана, которые били вверх красным и белым вином, нарочно проведенным посредством труб с высокой колокольни Ивана Великого под землею и потом прямо в фонтаны для сообщения им большей силы».
На следующий день императрица принимала поздравления. «В числе поздравителей находился и сам император». Он, как писал Берхгольц, в соответствии со своим чином командира Преображенского полка «по порядку старшинства принес свое поздравление императрице, поцеловав ее руку и в губы».[349]
Мы подробно остановились на этом событии не ради того, чтобы отметить роль в нем Толстого, выполнявшего обязанности главного распорядителя торжества, а потому, что с церемонией коронации было связано появление интересного для нас документа.
Коронованной Екатерине было дозволено совершить несколько самостоятельных актов. Одним из них она возвела Толстого в графское достоинство. В дипломе, выданном Толстому позже, 30 августа 1725 года, в соответствии с правилами составления документов такого рода сообщена краткая родословная его владельца. Именно благодаря диплому мы располагаем сведениями о предках действительного тайного советника и кавалера ордена Андрея Первозванного Петра Андреевича Толстого.
Самого высокого чина достиг отец Петра Андреевича – Андрей Васильевич, пожалованный, будучи воеводой, чином думного дворянина за мужественную оборону Чернигова от войск гетмана-изменника Брюховецкого. Имена дальних и близких родственников Андрея Васильевича история не сохранила. Именно поэтому некоторый интерес приобретают крупицы сведений из родословной, запечатленной в дипломе. Сразу же оговоримся, что, хотя эти сведения не вызывают полного доверия, мы не можем с полным на то основанием сказать, что в них соответствует истине и что выдумано.
В самом деле, образованный и начитанный человек, принадлежавший к духовной элите своего времени, при составлении родословной не мог удержаться от искушения повторить в такой же мере банальную, как и модную версию о своем родоначальнике, вышедшем, разумеется, из немецкой земли: «…прародитель, имянем Гендрих, произшедший из древней благородной и знатной фамилии из Германии, в лето 1352 з двемя своими сыновьями и с 3000 мужьями людей и служителей своих выехал в наше Всероссийское государство в город Чернигов». Здесь Гендрих принял православие и стал зваться Леонтием, а его сыновья – Константином и Федором. Внук Константина Андрей приехал из Чернигова в Москву, где ему было «приложено прозвание Толстой, и от того времени сия фамилия прозвание Толстых имела и писалась».
Прадед и дед Петра Андреевича в конце XVI – начале XVII века служили воеводами, а отец после успешного черниговского сидения «определен был в Большом полку с князем Васильем Голицыным в товарищах воеводой», участвовал в обороне Чигирина.[350]
Как видим, карьера Андрея Васильевича на последнем отрезке его жизненного пути протекала под эгидой Василия Васильевича Голицына. С князем был связан и его сын. Служба Петра Андреевича, как и служба большинства детей служилых людей средней руки, проходила при отце. На этот счет имеются показания самого Петра Андреевича, зарегистрированные еще в 1680 году. Толстой тогда поведал, что с 1665 по 1669 год он находился на государевой службе при отце в Чернигове, где «в осаде сидел тридцать три недели». Вместе с отцом участвовал он и в Чигиринских походах В. В. Голицына.
Из-под родительской опеки Толстой освободился, будучи уже достаточно взрослым человеком, в 1671 году, когда ему было 26 лет. В этом году он получил чин стольника при дворе царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, а спустя шесть лет стал стольником при дворе царя Федора Алексеевича. Петр Андреевич не извлек материальных выгод из своей службы. Во всяком случае вплоть до 1681 года он неизменно показывал: «…государева жалованья, поместья и вотчин за мною нет ни единого двора, ни единой четверти».[351]
Известно, что Петр Толстой принимал живейшее участие в стрелецком бунте 1682 года. Прежде чем описать роль его в этом событии, коротко расскажем о том, как оно протекало.
После смерти 27 апреля 1682 года царя Федора Алексеевича на царскую корону претендовали два его брата: старший из них – Иван родился от первой жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны Милославской; младшим был Петр, родившийся от второго брака. Матерью его была Наталья Кирилловна Нарышкина.
Конечно же, ни косноязычный и подслеповатый Иван, болезненный и скудоумный, ни десятилетний Петр, хотя и отличавшийся живым умом, по малолетству не помышляли о троне. За их спиной и их именем действовали взрослые родственники. Кандидатуру Ивана поддерживали Милославские, среди которых выделялся немолодой, опытный и энергичный интриган боярин Иван Михайлович Милославский. Душой этой группировки была царевна Софья – умная, властная и честолюбивая женщина. Она не пожелала коротать время в тереме и решила попытать счастья в борьбе за трон. На стороне Петра находились Нарышкины – мать и дядья Петра, среди которых не было ни одной сколь-либо значительной фигуры.
Преимущественным правом наследовать престол обладал Иван, но при активной поддержке патриарха Иоакима царем был провозглашен Петр. Группировка Милославских не смирилась с этим и в борьбе против Петра и Нарышкиных апеллировала к стрельцам. Стрелецкое войско, пользовавшееся при царе Алексее Михайловиче существенными льготами и привилегиями, лишилось их при безвольном и больном Федоре Алексеевиче, лишь номинально значившемся царем. Страной правили временщики, более всего обеспокоенные личной наживой. Слабостью центральной власти воспользовались командиры стрелецких полков. Они обирали своих подчиненных, использовали их труд в своем хозяйстве и жестоко наказывали за малейшую провинность. У стрельцов были, следовательно, свои основания для недовольства, и требовался лишь небольшой толчок, для того чтобы привести эту массу вооруженных людей в движение.
Группировка Софьи – И. М. Милославского ловко направила гнев стрельцов на своих противников в борьбе за власть – Нарышкиных. Среди стрельцов пронесся слух, исходивший от Милославских и оказавшийся, как потом выяснилось, ложным, о том, что Нарышкины «извели» царевича Ивана. 15 мая 1682 года по зову набата стрелецкие полки с развернутыми знаменами и барабанным боем двинулись к Кремлю, чтобы расправиться с неугодными боярами. Список их был составлен заранее и подброшен стрельцам.
В итоге кровавых событий 15–17 мая большая часть Нарышкиных и их сторонников была истреблена. Стрельцы провозгласили царями Ивана и Петра, а регентшей при них до их совершеннолетия – царевну Софью. Власть фактически оказалась в руках Софьи; она правила страной до 1689 года, когда победу в борьбе с ней одержал Петр.
Петр Андреевич Толстой в острой схватке за власть действовал на стороне Софьи и Милославских. Не вполне ясно, какие пути-дороги привели Толстого в лагерь противников Петра.
Для французского консула Виллардо, составившего краткую биографию Толстого, сомнений в мотивировке поступков Петра Андреевича не существовало. Он писал: «Смерть царя Федора заставила его (Толстого. – Н. П.) покинуть двор и поступить на военную службу. Он стал адъютантом одного из генералов того времени, Милославского, который был главным зачинщиком бунта стрельцов против царя Петра Первого».[352]
Сомнительно, однако, чтобы в течение 18 дней, отделявших смерть царя Федора от бунта 15 мая, Петр Толстой, человек очень осмотрительный и осторожный, очертя голову бросился в водоворот бурных событий, участие в которых могло стоить ему головы. Но версия Виллардо, дополненная сведениями из биографии боярина А. С. Матвеева – опоры Нарышкиных, становится уже убедительной. «Записки» Андрея Артамоновича Матвеева, сына казненного стрельцами Артамона Сергеевича, подтверждают заявление Виллардо о том, что Толстой был адъютантом или есаулом Милославского, и в дополнение к этому сообщают важную деталь: братья Толстые доводились И. М. Милославскому племянниками. Именно родственные отношения проясняют позицию П. А. Толстого в споре брата с сестрой за корону. Впрочем, документальных данных, подтверждающих родство Милославских с Толстыми, нет. Между тем иметь бы их не мешало, ибо в другом сочинении, описывающем эти же события, племянником И. М. Милославского назван Александр Иванович Милославский, а о родственных связях Петра Толстого с Иваном Михайловичем нет ни слова.[353]
Роль Толстого в майских событиях 1682 года сводилась к тому, что он – по одним сведениям, лично, а по другим – через клевретов – распространял среди стрельцов провокационный слух об умерщвлении царевича Ивана, чем подвигнул их на поход к Кремлю. «Записки» А. А. Матвеева сообщают такие подробности, которые по идее должны были придать его описанию большую достоверность: Александр Милославский и Петр Толстой, «на прытких серых и карих лошадях скачучи, кричали громко, что Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили и чтоб с великим поспешением они, стрельцы, шли в город Кремль на ту свою службу».[354]
Заметим, что в «Записках» нашло отражение резко враждебное отношение их автора к Толстому. И это неудивительно, ибо А. А. Матвеев считал его одним из виновников гибели своего отца. Тем не менее Андрей Артамонович отозвался о братьях Толстых как о людях «в уме зело острых и великого пронырства». Они имели прозвище шарпенков.
О 12 последующих годах жизни Толстого (1682–1694) ничего не известно кроме того, что он возобновил службу при дворе. За услугу, оказанную Софье во время бунта, Петр Андреевич был пожалован в комнатные стольники к царю Ивану Алексеевичу.
Можно сказать с уверенностью, что Софьей он не был обласкан, как, впрочем, не был окружен заботой и Петром. Имя Толстого упомянуто известными нам источниками лишь в 1694 году, когда он в глухомани, в Устюге Великом, служил воеводой. Во время путешествия Петра в Архангельск прибытие его в Устюг Великий было ознаменовано пушечным и ружейным салютом с крепостного вала. Воевода предложил гостям ужин.
Надо полагать, что личная встреча царя с Толстым положила начало сближению между ними. Взгляните на гравюру Шхонебека, запечатлевшую конную группу участников взятия Азова: в центре ее с саблей в руке – Петр, за ним (справа налево) – П. А. Толстой, М. Б. Шереметев, Лефорт (спиной), А. М. и Ф. А. Головины, Гордон-младший и П. Гордон (в профиль), справа от Петра – А. С. Шеин. К этому времени Толстой вернулся на военную службу и получил чин сначала прапорщика, а затем капитана гвардейского Семеновского полка.
Надо отдать должное умению Петра Андреевича приспосабливаться к изменяющейся обстановке. Другой на его месте, потерпев неудачу в борьбе за трон на стороне Софьи, замкнулся бы в себе или озлобился в ожидании либо падения, либо смерти Петра и участвовал бы в заговорах против него, как то делал думный дворянин полковник стрелецкого Стремянного полка И. Е. Циклер. Толстой так не поступил.
Он проявил выдержку, терпение и понимание того, что единственный путь поправить свои дела лежал через завоевание доверия царя. Этой целью и руководствовался Петр Андреевич, когда в 1697 году в возрасте 52 лет, будучи дедушкой, испросил у царя разрешения отправиться волонтером в Италию.
Толстой знал, что делал: ничто не могло вызвать такого расположения царя, как желание изучать военно-морскую науку.
Хотя Толстой и значился в общем списке с 37 отпрысками знатнейших фамилий, но при чтении его «Путевого дневника» создается впечатление, что он ехал в Италию в полном одиночестве и, находясь в этой стране, не общался с прочими волонтерами. Между тем документы итальянских архивов свидетельствуют, что Толстой жил в Италии, овладевал там военно-морским делом и путешествовал по стране вместе с другими учениками.
Дневниковые записки Толстого – великолепный источник для изучения мироощущения их автора, круга его интересов и вкусов. Уместно напомнить, что почти одновременно с Толстым туда держал путь и Шереметев, тоже оставивший путевые записки.
Толстой и Шереметев занимали разные ступени социальной иерархии русского общества. Петр Андреевич отправился в путь, имея скромный чин стольника; Борис Петрович – выходец из древнего аристократического рода, боярин. Эти различия подчеркивала свита: у Шереметева она была многочисленной и даже пышной; Толстого же сопровождали два человека – солдат и слуга. Толстой вел дневник сам; Шереметев подобным занятием себя не обременял: записи вел кто-то из его свиты.
Петр Андреевич выехал из Москвы 26 февраля 1697 года, имея инструкцию с перечнем знаний и навыков, которыми он должен был овладеть в Италии. Главная цель пребывания в этой стране – научиться пользоваться морскими картами, овладеть искусством водить корабли и управлять ими во время сражения. В знак особого усердия волонтеры, и среди них Толстой, могли обучиться также кораблестроению и за это «получить милость большую по возвращении своем».
Границу России Толстой пересек 23 марта, а неделю спустя переправился на пароме через Днепр и оказался «в городе короля польскаго Могилеве». С этого времени дневниковые записи становятся более обстоятельными – чем дальше на запад, тем ярче достопримечательности: «И ехал я от Вены до итальянской границы 12 дней, где видел много смертных страхов от того пути и терпел нужду и труды от прискорбной дороги». Как и Шереметеву, Толстому врезался в память и вызвал у него немало переживаний путь через Альпы: «…не столько я через те горы ехал, сколько шел пеш и всегда имел страх смертный пред очима».[355]
Сопоставление дорожных впечатлений Шереметева и Толстого показывает, что путешественники обладали разной степенью наблюдательности и любознательности и далеко не одинаковым умением фиксировать свои впечатления. Предпочтение по всем параметрам должно отдать Толстому. Если бы Россия того времени знала профессию журналиста, то первым из них мог стать Петр Андреевич. Для этого у него были все данные: наблюдательность, владение острым пером, умение сближаться с людьми в незнакомой стране.
«Путевой дневник» помогает составить представление о Толстом через восприятие им увиденного: что привлекло внимание автора, что сохранила его память и что попало на страницы сочинения, а что осталось незамеченным; как путешественник был подготовлен к тому, чтобы в полной мере оценить увиденное.
Цель приезда Толстого в Италию предоставляла ему право ограничить свой интерес военно-морским делом. Но Толстой-путешественник достаточно выпукло проявил одно из свойств своего характера – любознательность. Куда она его только не приводила – в церкви и монастыри, зверинцы и промышленные предприятия, учебные заведения и госпитали, правительственные учреждения и ватиканские дворцы. Он не довольствовался личными наблюдениями, так сказать зрительными впечатлениями, и постоянно вопрошал, стремясь постичь суть явления. Общению с итальянцами помогало знание языка, которым он в совершенстве овладел за время пребывания в стране.
Петр Андреевич обладал рядом способностей, крайне необходимых путешественнику: находясь в чужой стране, среди незнакомых людей, он не проявлял робости, вел себя с достоинством, как человек, которого ничем не удивишь, ибо он ко всему привык; другой дар – умение заводить знакомства, располагать к себе собеседника. Скованность была чужда складу его характера, и он быстро находил пути сближения со множеством людей, с которыми встречался.
Можно привести целый ряд примеров того, как общительность Толстого и его обаяние оказывали ему добрую услугу. В городе Бари Петр Андреевич настолько пленил губернатора, что тот обратился к своему брату, жившему в Неаполе, с просьбой учинить нашему путешественнику «почтение доброе». Приехав в Неаполь, он оказался под опекой дворянина, который, как записал Толстой, «принял меня с любовью». Гостеприимство и предупредительность неаполитанцев к Толстому проявлялись во многом: то они изъявляли желание показать приезжему учебное заведение, то «неаполитанские жители, дуки, маркизы и кавалеры» просили его разделить с ними компанию в морской прогулке. Любезность неаполитанских дворян простиралась до того, что они «разсуждали с великим прилежанием о проезде» его в Рим.
Об умении внушать к себе доверие свидетельствует любопытнейший факт, имевший место в том же Неаполе: вместо уплаты наличными за проживание в гостинице Толстой оставил ее владельцу «заклад до выкупу», то есть заемное письмо на 20 дукатов, на следующих условиях: «…ежели кому московскому человеку случится в Неаполь приехать, чтоб тот мой заклад у него выкупил, а я ему за то повинен буду платить».
Покидая Неаполь, Толстой заручился рекомендательным письмом к мальтийским кавалерам; его «писал один мальтийский же кавалер из Неаполя и просил их о том, чтобы они явились ко мне любовны и показали б ко мне всякую ласку».[356]
Сравнение «Путевого дневника» Толстого с «Записками путешествия» Шереметева выявляет общую для обоих авторов черту: они чаще всего ни прямо, ни косвенно не выражают своего отношения к увиденному и услышанному и как бы бесстрастно регистрируют свои впечатления. Хорошо или плохо, что улицы многих городов вымощены камнем и освещаются фонарями? Достойно ли подражания устройство парков и фонтанов или презрительное отношение к пьяницам? Следует ли перенять устройство госпиталей, где лечили и кормили бесплатно, а также академий с бесплатным обучением? Не высказал Толстой прямого отношения к легкомысленному поведению венецианок, хотя, надо полагать, оно ему было вряд ли по душе.
Из сказанного отнюдь не вытекает, что эмоции Толстого спрятаны так глубоко, что читатель лишен возможности увидеть позицию автора. Из такта, чтобы не обидеть гостеприимную страну, он не осуждал того, что было достойно осуждения. Из тех же соображений он не осуждал порядков в родной стране, хотя имел множество возможностей для сопоставления и противопоставления, причем родное не всегда виделось ему в выгодном свете. Перед читателем предстает человек доброжелательный. В его взгляде скорее изумление и снисходительность, нежели вражда и настороженность.
Центральное место в «Записках путешествия» Шереметева занимает описание аудиенций у коронованных особ: у польского короля, цесаря, а также у мальтийских кавалеров и папы римского.
Шереметев провел в Вене около месяца и только шесть дней потратил на приемы и банкеты. Следовательно, Борис Петрович располагал уймой времени, чтобы осмотреть достопримечательности австрийской столицы, поделиться впечатлениями об увиденном, рассказать о встречах с интересными собеседниками. Ничего этого в «Записках путешествия» нет. Напрашивается мысль, что остальные 20 дней Шереметев коротал в гостинице и был абсолютно равнодушен к тому, что находилось за ее пределами. Вряд ли, однако, Борис Петрович лишил себя удовольствия осмотреть город и его окрестности. Но следов этого интереса он не оставил.
Иное дело Толстой. В Вене он пробыл лишь шесть дней, но сколько за этот короткий срок он увидел и описал! Что только не бросилось ему в глаза: и отсутствие деревянных строений в городе, и «изрядные» кареты, в которых восседали аристократы, и обилие церквей и монастырей. Петр Андреевич посетил костел, цесарский дворец, монастырь. Каждый визит отмечен записью необычного. В костеле его поразил многолюдный хор и оркестр – 74 человека. В цесарском дворце, расположенном у самой городской стены, его внимание привлекли разрушения. Они, как выяснил Толстой, были результатом артиллерийского обстрела дворца османами, осаждавшими город. Он успел осмотреть зверинец, в котором «всяких зверей множество»; изваяние Фемиды у ратуши – «подобие девицы вырезано из белого камени с покровенными очми во образе Правды, якобы судит, не зря на лицо человеческое, праведно»; посетил госпиталь, где больных содержали бесплатно. Потолкался он и в рядах городского рынка, где обнаружил обилие всякого рода товаров. В парке ему приглянулись клумбы, затейливо обрезанные кустарники, а также обилие цветов в горшках, расставленных «архитектурально».
Наибольший интерес представляет та часть «Путевого дневника» Толстого, в которой запечатлено его пребывание в Италии. Петр Андреевич исколесил почти всю страну, посетив Венецию, Бари, Неаполь, Рим, Флоренцию, Болонью, Милан, Сицилию. Стольнику не довелось побывать лишь на северо-западе Апеннинского полуострова – в Турине.
В Италию Толстой прибыл, располагая достаточно обширным багажом впечатлений. Путешественника, например, не могли уже удивить каменные здания и вымощенные улицы итальянских городов. Поразила Толстого Венеция. У него разбегались глаза – столько непривычного предстало перед его взором: каналы вместо улиц, способ передвижения по городу, внешний вид зданий. По инерции Толстой отметил, что в Венеции «домовное строение все каменное», но тут же счел необходимым подчеркнуть неповторимые черты города: «В Венеции по всем улицам и по переулкам по всем везде вода морская и ездят во все домы в судах, а кто похочет идтить пеш, также по всем улицам и переулкам проходы пешим людям изрядные ко всему дому».
Дома «изрядного каменного строения» либо «доброй работы» Толстой видел в Местре, Виченце, Вероне, Болонье. Судя по «Путевому дневнику», его автор не пылкая натура, легко поддающаяся эмоциям при осмотре ранее не виданного, а умудренный жизненным опытом человек, у которого рассудок берет верх над чувствами. Восторженность не свойственна Петру Андреевичу: он хладнокровен, а иногда даже сдержан при описании увиденного. Исключение составляет Мальта: «Город Мальт сделан предивною фортификациею и с такими крепостьми от моря и от земли, что уму человеческому непостижимо». Здесь эмоции взяли верх над рассудком, и стольник отказался от намерения сообщить обстоятельные сведения о крепостных сооружениях, а дал волю восторгу: «…ум человеческий скоро не обымет подлинно о том писать, как та фортеца построена; только об ней напишу, что суть во всем свете предивная вещь, и не боитца та фортеца приходу неприятельского со множеством ратей, кроме воли Божеской».[357]
Наряду с архитектурой внимание Толстого привлекла еще одна диковинка, которую он неизменно отмечал на протяжении всего путешествия. Речь идет о фонтанах. Записки пестрят отзывами о них типа «преславные», «предивные», «изрядные» и т. п.
Первое знакомство с фонтанами состоялось в Варшаве и Вене, но ни с чем не сравнимы были фонтаны Рима и его окрестных парков. Толстой иногда чистосердечно признавался, что у него недоставало умения и слов, чтобы должным образом описать увиденное и передать гамму чувств, им овладевших: «… а какими узорочными фигурами те фонтаны поделаны, того за множеством их никто подлинно описать не может, а ежели бы кто хотел видеть те фонтаны в Риме, тому бы потребно жить два или три месяца и ничего иного не смотреть, только б одних фонтан, и насилу б мог все фонтаны осмотреть».
И все же путешественнику удалось донести до читателя красоту некоторых фонтанов в окрестностях Рима: «…первая фонтана – вырезан лев из камени, против него также из камени вырезан пес, и, когда отопрут воду, тогда лев со псом учнут биться водою, и та вода от них зело высоко брызжет, и около их потекут вверх многие источники вод зело высоко». Особый восторг вызвали у Толстого фонтаны с музыкальным устройством: человек «держит в руке один великий рог и тою же водою действует в тот рог, трубит подобно тому, как зовут в роги при псовой охоте». Рядом вода приводила в действие волынку или флейты у десяти девиц. Ему довелось наблюдать и фонтаны с сюрпризами, обливавшие водой всякого, кто наступал на секретное устройство.[358]
Знакомство с внешним видом городов, архитектурой зданий и благоустройством улиц происходило как бы само собой, мимоходом и не требовало специальных усилий. Необходимо было только смотреть, запоминать и заносить увиденное на бумагу. Без специальных затрат энергии постигалась еще одна сторона городской жизни – быт. У Толстого знакомство с ним начиналось с остерии, как называл он по-итальянски гостиницы.
Первое знакомство с итальянскими гостиницами состоялось в Венеции. Русскому путешественнику в диковинку показались комфорт и роскошь внутреннего убранства остерий. Приезжему иностранцу «отведут комнату особую; в той же палате будет изрядная кровать с постелью, и стол, и кресла, и стулы, и ящик для платья, и зеркало великое, и иная всякая нужная потреба». Слуги «постели перестилают по вся дни, а простыни белые стелят через неделю, также палаты метут всегда и нужные потребы чистят». Кормили гостей дважды – обедом и ужином, пища «в тех остериях бывает добрая, мясная и рыбная». На стол подавали «довольно» виноградных вин и фруктов. Все эти услуги стоили бешеных денег – 15 алтын в сутки, что в переводе на золотые рубли конца XIX – начала XX века составляло около 8 рублей.
Нашего путешественника более всего, кажется, удивляло наличие белоснежного постельного белья. Где бы ни останавливался на ночлег Толстой, он обязательно запишет, что ему предоставили «палату изрядную, где спать, и в ней кровать с завесом и постелею чистою». «Белые простыни» фигурируют почти в каждой записи, посвященной остериям.
Особенным убранством отличались гостиницы для иностранцев в Риме. «Остерии в Риме, в которых ставятся форестеры (приезжие иноземцы. – Н. П.), зело богаты и уборны; палаты в них обиты кожами золочеными и убраны изрядными картинами; кровати изрядные золоченые, постели также хорошие, простыни всегда белые с кружевами изрядными. И когда хозяин остерии кормит форестеров, тогда на столах бывают скатерти изрядные белые и полотенца ручные белые ж по вся дни, блюда и тарелки оловянные изрядные, чистые, ножи с серебреными череньями, а вилки и ложки и солонки серебреные, все изрядно и чисто всегда бывает».[359]
Внимание Толстого привлекали обычаи и нравы итальянцев. Надо быть очень наблюдательным человеком, чтобы в короткий срок уловить различия в поведении жителей некоторых провинций. «Медиоланские (миланские. – Н. П.) жители – люди добронравные, к приезжим иноземцам зело ласковые», – писал он. У жителей Болоньи Толстой обнаружил приятную черту – приветливость: «Болонские жители – люди добрые и зело приветные». С похвалой он отозвался и о жителях Венеции: «Венециане – люди умные, и ученых зело много; однакож нравы имеют видом неласковые, а к приезжим иноземцам зело приемны»; население Венеции живет «всегда во всяком покое». Впрочем, идиллическую картину жизни венецианцев Толстой сам же и опровергает, сообщая, что сенаторы натравливают жителей одного городского района на другой, в результате чего происходят грандиозные кровопролития. Цель разжигания вражды отнюдь не свидетельствовала о том, что население Венеции жило «во всяком покое, без страху и без обиды», жителей «ссорят, чтобы они не были между собою согласны, для того, что боятся от них бунтов».[360]
Приведем описание Толстым одного из эпизодов маскарада в Венеции: «И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогда без увеселения, в которых своих веселостях и грешат много, и, когда сойдутся на машкарах на площадях к собору св. Марка, тогда многие девицы берут в машкарах за руки иноземцев приезжих и гуляют с ними и забавляются без стыда». В отличие от венецианок, которые «ко греху телесному зело слабы», неаполитанские женщины целомудренны и скромны: в Неаполе «блудный грех под великим зазором (порицанием. – Н. П.) и под страхом, и говорить о том неаполитанцы гнушаются, не только что делать». Толстой одобрительно отозвался и о поведении римлянок: «Женский народ в Риме зазорен (стыдлив. – Н. П.) и не нагл и блудный грех держит под великим смертным грехом и под зазором, а наипаче под страхом». Симпатию вызвали у него и женщины Болоньи: «Женский народ в Болонии изрядный, благообразный».
И еще на одно обстоятельство обратил внимание наш путешественник: повсюду в продаже огромное количество разнообразных вин и в то же время пьяных нет. «Также пьянство в Риме под великим зазором: не токмо в честных людях, и между подлым народом пьянством гнушаются». Пьянство сурово осуждалось не только в Риме, но и в других городах Италии.[361]
Толстой не довольствовался регистрацией того, что ему попадалось на глаза: он специально ездил осматривать разного рода достопримечательности. Так он поступил, будучи в Неаполе: «Рано нанял я себе коляску и поехал смотреть удивления достойных вещей, обретающихся в ближних местах от Неаполя».[362] Иногда его сопровождал гид. В Риме, например, папа прикрепил к Петру Андреевичу своего конюшего, который показывал ему город.
Далеко не все достопримечательности нашли достойное отражение в дневниковых записках. Скорее всего на страницы дневника попадали случайные сведения, и притом не всегда главные.
Описывая библиотеку древнейших рукописей в Милане, Толстой не касается их содержания и духовной ценности, но зато сообщает, что за четыре медные доски, по аршину в длину и ширину каждая, с изображением на них четырех стихий польский король согласен был уплатить 64 тысячи червонных золотых. В той же библиотеке он «видел книгу зело велику математицких наук», которую английский король готов был купить за 8 тысяч червонных золотых. Здесь же пояснение: «…медиолианцы из той библиотеки никакой вещи ни за что не продают». О ватиканской библиотеке Петр Андреевич лишь упомянул, что ее «полки накладены книг разных» общей численностью свыше 40 тысяч экземпляров, среди них «множество древних». Но ни одна из этого «множества» книг не привлекла его внимания.
Столь же мало сведений можно почерпнуть и об академиях. Крупнейшая Падуанская академия, где изучала медицину тысяча человек, удостоилась лишь описания выпускного обычая: инспектор водил по городу студента, окончившего курс наук, а шедший впереди приятель студента разбрасывал прохожим деньги, за что они кричали: «Виват, виват!»
О Неаполитанской академии, которая тоже готовила медиков, Петр Андреевич счел возможным сообщить лишь, что она размещалась в 120 палатах и обучалось в ней 4 тысячи студентов. В заключение он описал внутренний вид палаты, где происходили диспуты – выпускные экзамены. Какие дисциплины преподавались в академии, как были организованы учебный процесс и практические занятия, срок обучения, квалификация преподавателей, оборудование кабинетов – все это и многое другое осталось за пределами внимания путешественника.
Обстоятельно описал Толстой платное училище в Неаполе, принадлежавшее иезуитам. Быть может, наличие подробностей объяснялось профилем учебного заведения: дворянских детей обучали там не столько премудростям науки, сколько тому, что должно было придать им светский лоск – фехтованию, танцам, верховой езде. Петру Андреевичу показали результаты обучения, и он настолько поразился, что записал: «И те студенты зело меня удивили, как бились на шпадах и знаменем играли, и танцовали зело малолетние ребятки лет по 10 или по 12; а в науках своих зело искусны».[363]
За время пребывания в Италии Толстой посетил немало госпиталей. Все они описаны по одному плану: количество больных, указание на бесплатное их лечение и содержание и непременно сведения об условиях жизни больных. В миланском госпитале «болящим поделаны кровати хорошие точеной работы, и постели на кроватях поделаны хорошие с чистыми белыми простынями, и у всякой кровати поделаны завесы стамедные вишневые». В госпитале в Неаполе, рассчитанном на содержание 250 женщин и 250 мужчин, «поделаны болящим кровати изрядные, и постели покойные, и завесы хорошие, и у всякого болящего поставлен у кровати столик малый и сосуды, из чего ему пить и есть».
Наибольшее впечатление оставил ватиканский госпиталь в Риме. Здесь Толстому показали не только палаты для больных, но и подсобные помещения: поварню, столовую. Осмотр начался с первого этажа, где размещались больные из простонародья: «Они лежат по кроватям на перинах и на белых простынях, и всякий там болящим покой в пище и в лекарствах и во всем чинится папиною казною». На втором этаже, где находились больные «дворянских пород», обстановка была еще краше: «Кровати им поделаны хорошие с завесами и всякие покои устроены изрядно». Милосердие итальянцев привело нашего путешественника в умиление, и он не удержался от сентенции: «По сему делу у римлян познавается их человеколюбие, какого во всем свете мало где обретается».[364]
Читатель, видимо, заметил, что Толстой всякий раз, когда ему представлялась возможность, стремился придать денежное выражение увиденным ценностям. Практицизм Петра Андреевича особенно бросается в глаза при описании им Падуанского горячего источника. О целебных его свойствах в дневнике сказано столь же кратко, как и неясно: «…дохтуры падовские говорят, что та горячая от естества своего вода к здравию человеческому зело употребительна». Восторженное удивление вызвало у него использование воды не в лечебных, а в хозяйственных целях: «Смотри разума тех обитателей италианских: и ту воду, которую на всем свете за диво ставят, даром не потеряли, ища себе во всем прибыли».
Казалось бы, что именно знакомство со сферой промышленной деятельности, где предприниматели искали себе «во всем прибыли», должно было навести Толстого на всякого рода размышления меркантильного характера. Как раз этого и не произошло.
Свои впечатления от мануфактуры по изготовлению парчи Петр Андреевич выразил одной фразой: «Те мастеры делают парчи поспешно и хорошо и при (против. – Н. П.) московского ценою дешево». Там же, в Венеции, Толстой посетил зеркально-стекольный завод, но не записал в дневник никаких подробностей о самом производстве и выпускаемых изделиях, отметив только: «…видел, где делают стекла зеркальные великие и сосуды стеклянные всякие предивные и всякие фигурные вещи стекольчатые».[365]
Печать равнодушия лежит и на описании Арсенала в Венеции. Он был местом не только хранения, но и изготовления разнообразного оружия: пушек, пистолетов, карабинов, шпаг и т. п. В складских помещениях хранилось столько этого добра, что им можно было вооружить 15 тысяч конницы и 25 тысяч пехоты. При Арсенале находились верфи. Напомним, что о желательности изучения кораблестроения речь шла в инструкции Толстому и прочим волонтерам. Однако увиденное на верфи было запечатлено в дневнике так: «На том же дворе делают всякие суды: корабли, каторги, галиоты, марцильяне и иные всякие к морскому плаванию суды, и всегда бывают на том дворе работных людей для строения морских судов по 2000 человек…»
Вопреки ожиданиям осмотр верфи не вызвал у Толстого желания сравнить венецианскую верфь с воронежской, на которой он, бесспорно, бывал и, возможно, угождая царю, работал топором.
Толстой не отличался щедростью по части аналогий – к ним он прибегал нечасто, причем мысль о сравнении российских порядков с итальянскими пришла ему почему-то в Неаполе. На долю этого города падает большая часть сопоставлений в дневнике. Толстой, например, обнаружил некоторое сходство, во всяком случае внешнее, московских приказов с приказами неаполитанского трибунала, где «безмерно многолюдно всегда бывает и теснота непомерная, подобно тому как в московских приказах; а столы судейские и подьяческие сделаны власно так, как в московских приказах, и сторожи у дверей стоят всякого приказу, подобно московским».
В Неаполе Петр Андреевич вспомнит о приказах еще дважды. Один раз – при посещении кармелитского монастыря, когда ему показали палаты, «в которых пишут приход и расход казны»: «…сидят многолюдно, подобно тому как бывает в московских приказах много подьячих». Далее регистрации «многолюдства» и «тесноты» Толстой не пошел и от каких-либо рассуждений воздержался. Сопоставление – правда, робкое и глухое – можно обнаружить и в описании судебного процесса: подьячий записывал показания двух судившихся людей «подобно тому, как в Москве», однако судившиеся «говорят чинно, с великою учтивостью, а не с криком». Хотя Толстой не уточняет, где не соблюдается «учтивость» и судебное разбирательство сопровождается «криком», но, надо полагать, речь идет о московских судах.
Толстому конечно же ближе аналогии бытового плана: «Обыкность в Неаполе у праздников подобна московской. У той церкви, где праздник, торговые люди поделают лавки и продают сахары и всякие конфекты, и фрукты, и лимонады, и щербеты». Родную Москву ему напомнили кареты со знатными седоками, за которыми следовало большое количество пеших слуг. Некоторое сходство с Москвой Толстой обнаружил, созерцая неаполитанскую архитектуру: «Палаты неаполитанских жителей модою особою, не так, как в Италии, в иных местах подобятся много московскому палатному строению». Усмотрел он общность также в поведении неаполитанских и московских женщин: в Неаполе «женский пол и девицы имеют нравы зазорные (стыдливые. – Н. П.) и скрываются, подобно московским обычаям».[366]
До сих пор мы имели дело с Толстым-дилетантом: он записывал то, что видел, не всегда проявляя интерес к существу увиденного. В одних случаях у него недоставало знаний, навыков и опыта, чтобы постичь суть предмета, в других – увиденное вызывало удивление, но не более того. Петр Андреевич предстает перед читателем в ином качестве, когда заносит в дневник результаты осмотров монастырей и особенно церквей. Делал он это с таким знанием дела и осведомленностью о церковных догматах и обрядах, что можно подумать: автор либо священник, либо богослов.
Ни тем ни другим Петр Андреевич не был. Его эрудиция – результат сочетания двух качеств, присущих образованному человеку XVII века: как человек глубоко религиозный, Толстой знал все мелочи и тонкости церковного ритуала и вместе с тем принадлежал к числу людей, которых принято называть книжниками. Правда, образованность и начитанность книжника XVII века практически не выходила за пределы церковной литературы. Именно поэтому от внимания автора не ускользают детали, отличавшие католическое богослужение от православного и убранство церкви от костела.
С благоговением описываются в «Путевом дневнике» мощи святого Николая в Бари, повествуется о его чудесах и изображении лика на иконе. В большинстве случаев Толстой не отказывает себе в удовольствии подробно остановиться на убранстве костелов. Точно и обстоятельно описан костел на Мальте: алтарь, рука Иоанна Предтечи, части тела многочисленных святых, кресты, дароносица и прочие золотые сосуды «предивной работы» – ничто не ускользнуло от его внимания. Не пожалел Петр Андреевич ни бумаги, ни времени для рассказа о соборе Святого Петра в Риме. Начал он с общей оценки величественного сооружения: «Церковь св. апостола Петра зело велика, какой другой великостью на всем свете нигде не обретается, и предивным мастерством сделана». Затем обстоятельно описал паперть, а в самом соборе – алтарь, место, где «лежат телеса св. апостолов Петра и Павла», вход к мощам, скульптурные изображения святых, орган и т. д.[367]
Толстой, как уже отмечалось, отправился в дальний путь не ради осмотра достопримечательностей Италии, а с целью обучения военно-морскому делу. Дневник в известной мере отражает и эту сторону жизни и деятельности Петра Андреевича.
Морская практика Толстого в общей сложности продолжалась два с половиной месяца. В первое, самое продолжительное плавание он отправился из Венеции 10 сентября 1697 года, а вернулся 31 октября. В путевых записках читаем: «Нанял я себе место на корабле, на котором мне для учения надлежащего своего дела ехать из Венеции на море, и быть мне на том корабле полтора месяца или и больше…» Это плавание можно назвать каботажным, ибо корабль плыл вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова, заходя в Ровинь, Пулу, Бари.
Второе плавание было менее продолжительным. Корабль, на котором Толстой отбыл из Венеции 1 июня 1698 года, заходил в Дубровник, но на этот раз в Венецию не возвратился, а высадил навигатора на юге Италии, в городе Бари. Оттуда он по суше добрался до Неаполя, чтобы 8 июля начать третье плавание. Корабль держал путь на Мальту с заходом на Сицилию.
Дневниковые записи, к сожалению, не могут удовлетворить самого элементарного любопытства читателя: из них невозможно извлечь сведений о том, какие навыки приобретал Толстой, в чем он практиковался, какую при этом проявил сноровку и т. д. Дневник сообщает лишь о направлении движения корабля, о стоянках, попутном или противном ветре. С видимым удовольствием описывал навигатор морские приключения.
В ночь на 21 октября 1697 года корабль застигла буря: «Нам был отовсюды превеликий смертный страх: вначале боялись, чтоб не сломало превеликим ветром арбур… потом опасно было, чтоб в темноте ночной не ударить кораблем об землю или о камень; еще страх был великий не опрокинуть корабля». Все, однако, обошлось: мачта не сломалась, корабль не сел на мель и не опрокинулся. Оставило след в памяти и второе морское приключение. 16 июля 1698 года фелюга, на которой находился Толстой, держала курс от Сицилии к Мальте и в море встретилась с тремя османскими кораблями, каждый из которых имел на вооружении 60 пушек. Вступить в сражение с превосходящими силами было безрассудно, и фелюга вместе с тремя мальтийскими галерами укрылась в гавани.
Каждое плавание заканчивалось выдачей Толстому аттестата с оценкой его успехов в овладении военно-морским ремеслом. Например, капитан корабля «Св. Елизавета», на котором наш навигатор проходил первую морскую практику, отзывался о нем так: «…в познании ветров так на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев и парусов и веревок есть, по свидетельству моему, искусный и до того способный». Судя по содержанию второго аттестата, главная задача корабля, на котором находился Толстой, состояла в том, чтобы дать сражение османскому кораблю. Встреча с противником не состоялась, ибо, как сказано в аттестате, османы, «видя свое безсилие, утекли к берегу». Это, однако, не помешало капитану корабля засвидетельствовать, что «именованный дворянин московский купно с солдатом всегда были не боязливы, стоя и опирался злой фортуне».
Накануне отъезда из Венеции на родину, 30 октября 1698 года, венецианский князь выдал Толстому аттестат, как бы подводивший итоги овладения им всеми премудростями военно-морской науки. Оказывается, Петр Андреевич прошел курс теоретической подготовки и постиг навыки кораблевождения: в осеннее время 1697 года он «в дорогу морскую пустился, гольфу нашу преезжал, на которой чрез два месяца целых был неустрашенной в бурливости морской и в фале фортун морских не устрашился, но во всем с теми непостоянными ветрами шибко боролся…». Все, кому надлежало, должны были знать, что Толстой – «муж смелый, рачительный и способный».[368] Если верить лестным оценкам аттестатов, то Россия в лице Толстого приобрела превосходного моряка. Оговоримся, однако, что проверить соответствие аттестации волонтера его реальным познаниям невозможно, ибо Петр Андреевич не служил на море ни одного дня.
Петр, отличавшийся даром угадывать призвание своих сподвижников, нашел знаниям и талантам Толстого иное применение: вместо морской службы он определил его в дипломатическое ведомство, и, похоже, не ошибся.
Петр Андреевич вернулся на родину обогащенный знаниями и разнообразными впечатлениями. Радость по поводу прибытия в родной дом выражает заключительная фраза дневника: «Того же числа (27 января 1699 года. – Н. П.) приехал в 3-м часу ночи в царствующий град Москву, в дом свой в добром здоровье, за что благодарил всемилостивейшего господа бога и пресвятую богородицу и угодников божиих, что из так далеких краев и из чуждого странствия волею божескою возвратился во отечество свое в добром здоровье».[369]
26 февраля 1697 года в Италию выехал московский книжник. Спустя год и 11 месяцев в столицу возвратился человек с изящными манерами, облаченный в европейское платье, свободно владевший итальянским языком. Его кругозор расширился настолько, что он мог отнести себя к числу если не образованнейших, то достаточно европеизированных людей России, готовых стать горячими сторонниками преобразований.
В Стамбуле
Дипломатическая деятельность Толстого протекала в сложной обстановке. Бремя испытаний, выпавших на долю России, определялось двумя кардинальными событиями: катастрофическим поражением русской армии под Нарвой в ноябре 1700 года и выходом из войны Дании, вынужденной под напором шведского короля капитулировать и заключить Травендальский мир. В итоге союз трех держав превратился в союз двух держав. Прошло еще шесть лет, и Россия лишилась единственного союзника – саксонского курфюрста Августа II. Ей одной предстояла решающая схватка с хорошо вымуштрованной и вооруженной армией Швеции. Под стать армии был ее полководец – король Карл XII, проявивший незаурядные военные дарования и без труда одерживавший одну победу за другой.
Положение России усугублялось угрозой вести войну на два фронта. Вторжению Карла XII в пределы России с запада могло сопутствовать нашествие с юга, со стороны Османской империи и ее вассала – крымского хана. Опасения Петра и его дипломатов относительно позиции Османской империи имели веские основания, ибо, полагали в Москве, для османов наступил благоприятный момент, чтобы вернуть себе то, чем совсем недавно завладела Россия, – Азов и созданную ею новую гавань – Таганрог.
Итак, Россия лишилась союзников, а Швеция могла их приобрести. Задача русской дипломатии и состояла в том, чтобы предотвратить выступление Османской империи против России. Эту нелегкую ношу Петр взвалил на Толстого.
На первый взгляд поручение, данное Толстому, не выглядело сложным и многотрудным. В действительности поставленная перед ним задача оказалась столь трудной, что, выполняя ее, Петр Андреевич должен был полностью мобилизовать свои духовные и физические силы, раскрыть недюжинные дипломатические дарования, проявить огромную настойчивость и изворотливость.
Препятствия, которые пришлось преодолевать Толстому, были обусловлены многими привходящими обстоятельствами. Одно из них, и едва ли не самое главное, состояло в том, что Петру Андреевичу предстояло утвердиться в Стамбуле в качестве постоянного дипломатического представителя России. До этого дипломатические отношения России с Османской империей поддерживались взаимными визитами посольств с какими-либо конкретными поручениями. Выполнив их, посольство возвращалось на родину, и в непосредственных общениях наступал длительный перерыв. Петр Андреевич открывал новый этап в истории дипломатической службы Русского государства: он был первым русским дипломатом, возглавившим не временное, а постоянное посольство в столице Османской империи.
Первопроходцам всегда трудно: они выступают зачинателями традиций, которых потом будут придерживаться их преемники. Вдвойне трудно было Толстому, посланному в восточную страну, резко отличавшуюся нравами, обычаями, религией, политическим строем и от России, и от других стран Европы. Человеку, впервые окунувшемуся в жизнь восточного мира, было весьма сложно ориентироваться в чуждых ему порядках и приспособиться к ленивому ритму жизни и работы правительственного механизма.
Другую сложность представляли традиции сложившихся отношений между двумя соседями. На протяжении многих лет обе страны – Россия и Османская империя находились в состоянии либо открытого военного конфликта, либо подготовки к нему. Отсюда – взаимная подозрительность, боязнь просчитаться в дипломатическом торге, запутаться в ловко расставленных сетях партнера.
Третья трудность исходила от Крымского ханства. Крымцы, этот осколок Золотой Орды, еще несколько столетий после свержения ордынского ига продолжали иссушать душу русского народа и разрушать экономику страны. Русское правительство на протяжении нескольких веков ежегодно отправляло крымским ханам так называемые поминки, своего рода дань в форме мягкой рухляди, то есть сибирской пушнины. Но «поминки» хотя и поглощали некоторую долю ресурсов Русского государства, не шли ни в какое сравнение с уроном, наносимым русскому и украинскому народу систематическими, из года в год повторявшимися набегами крымских татар.
Весной, как только подрастала трава для подножного корма коням, тысячи, а иногда и десятки тысяч конников устремлялись в южные уезды Русского государства, чтобы грабить и сжигать поселения, уводить скот, захватывать в плен мужчин и женщин для продажи на невольничьих рынках. Русское правительство вынуждено было строить на южных рубежах оборонительные сооружения, содержать гарнизоны в пограничных городах и сосредоточивать большие контингенты поместной конницы для отпора грабителям.
Крымское ханство являлось вассалом Османской империи, но вассалом далеко не всегда послушным и готовым выполнять волю султанского двора. Нередко крымцы проявляли своеволие и отправлялись за «ясырем», то есть пленными, вопреки намерениям османского правительства, по каким-либо причинам стремившегося к мирным отношениям со своим северным соседом. Короче, Крымское ханство часто провоцировало конфликты между Россией и Османской империей.
Одна из целей миссии Толстого состояла в том, чтобы добиться от османского правительства жесткого контроля за действиями крымцев и предотвратить их набеги, отпор которым отвлек бы вооруженные силы России от главного театра войны – против шведской армии.
Чтобы достичь желаемых результатов, Толстому надлежало преодолеть барьер психологического свойства – высокомерное, а порой и пренебрежительное отношение султанского двора к русским дипломатам.
Россия мужала, крепла, набиралась сил, твердой поступью выходила на международную арену, однако еще не было второй Нарвы, Лесной и Полтавы. Следовательно, задача Толстого состояла в том, чтобы поднять престиж России и добиться для себя такого же статуса в столице Османской империи, которым пользовались послы других европейских государств: Англии, Франции, Голландии, Австрийской империи.
Указ о назначении Толстого послом в Стамбул датирован 2 апреля 1702 года. Спустя 12 дней состоялась аудиенция Петра Андреевича у царя. Петр, напутствуя посла, надо полагать, еще раз напомнил о главной цели его миссии. В полномочной грамоте, обращенной к султану, она была определена четко и недвусмысленно: «…к вящему укреплению междо нами и вами дружбы и любви, а государствам нашим к постоянному покою…»[370]
Посольство покинуло Москву 22 мая 1702 года, но двигалось не спеша и лишь 26 июня достигло Киева. Оттуда до пограничного города Сороки посольство ехало и того медленнее. Толстой рассчитывал, что тем самым османские власти, предупрежденные о приближении посольства, будут располагать необходимым временем для подготовки к его встрече. Но вот незадача: посольство достигло Днестра, с правого берега которого начинались османские владения, а пристава, который должен был сопровождать его до столицы империи, нет. Вместо османского пристава посла встретили люди молдавского господаря. Как быть?
Инструкция предусматривала подобный казус: послу было велено стоять у границы до тех пор, пока не прибудет пристав, ибо он, посол, направляется «к салтанову величеству, а не к волоскому господарю». Возможно, Толстой проторчал бы в июльскую жару на берегу Днестра долгие недели, если бы к нему не обратился пограничный воевода. Тот просил посла поступиться престижными соображениями и согласиться продолжить путь без пристава, так как султан запретил въезд османам на землю молдавского господаря, где они чинили местному населению «несносные убытки и всеконечное разорение». Призыв к Толстому, чтобы он «по должности християнской, видя их, християн, от бусурман разоряемых и утесняемых, показал к нему, господарю, любовь и ко всей волоской земле милость и не чинил бы им в том обиды и в приставы-де себе турчан не требовал», нашел отклик. Петр Андреевич решил продолжать свой путь без османского пристава.
Из путевых впечатлений в память Толстого врезались поразительная нищета местного населения, обираемого без всякой пощады османскими поработителями, и торжественно-приподнятые встречи посольства с православным населением.
В Яссах Толстой несколько раз встречался с молдавским господарем. Одна из встреч была тайной, с глазу на глаз, в присутствии лишь переводчика. Предмет беседы – просьба господаря принять Молдавию в русское подданство. Что мог ответить ему Петр Андреевич? Ясно, что господарь затеял разговор не ко времени: посольство ехало в столицу империи для поддержания мира, а удовлетворение просьбы вызвало бы немедленный конфликт. Толстому пришлось употребить все свое красноречие, чтобы убедить собеседника в невозможности русскому царю «принять и иметь ево за подданного… потому что он подданной салтанской».
10 августа посольство переправилось через Дунай, и теперь уже его сопровождали османские приставы. Они множество раз извинялись за то, что не поспели к Сороке, и заверяли, что султан и везир велели, чтобы в дальнейшем «послу чинено было великое почтение… и довольство паче всех прежде бывших послов».
29 августа посольство без особых приключений достигло Адрианополя, где тогда находился султанский двор, а обещанной «чести», равно как и роскошных палат, не предвиделось. Встреча посольства оказалась не столь пышной, как обещали послу; в скромном доме, отведенном представителям России, Толстому пришлось довольствоваться лишь одной палатой, в то время как его предшественники – Украинцев и Голицын – имели по три.
Началось томительное ожидание аудиенций у везира и султана в стране, где у Петра Андреевича не было ни знакомых, ни друзей, ни связей. Все это предстояло заводить ему самому, равно как и завоевывать к себе уважение. Для Толстого это была нехоженая тропа. Перед ним возникло столько непредвиденного, что, не будь он таким незаурядным человеком, не владей он даром располагать к себе людей и пользоваться их услугами, наверняка допустил бы массу оплошностей и ошибок. Да и сам Толстой начал с действий, свидетельствовавших о его неосведомленности не только относительно порядков в стране пребывания, но и о дипломатическом этикете вообще.
Человек деятельный и практичный, Петр Андреевич рассуждал, по-видимому, так: раз он отправлен с ясной, четко сформулированной целью, то, прибыв на место, надобно без промедления приступить к ее достижению. Однако случилось неожиданное. Правительство Османской империи накануне приезда русского посольства оказалось без главы: старый везир умер, а новый еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Толстой полагал, что отсутствие везира не помеха, и стал настойчиво добиваться аудиенции у султана. И сколько ему ни втолковывали, что обычаи исключают аудиенцию у султана до встречи с везиром, он продолжал настаивать на своем.
Эта настойчивость не следствие тупого упрямства, а плод здравых размышлений: в Москве знали о неустойчивой позиции султанского двора, поэтому и направили в Стамбул посла. Толстой спешил оформить официальное свое пребывание в империи, чтобы быстрее парировать происки врагов мира. Вызывала у Толстого подозрения и крайняя медлительность османского правительства. Он полагал, что эта медлительность была нарочитой, направленной на выигрыш времени: «Аз же размышляю сице: егда хотели миру, тогда и посланников наших по достоинству почитали. Ныне же, мню, яко желают разлияния кровей».[371]
Поражают энергия и бурная деятельность Толстого в первые же дни пребывания в Османской империи. Он, что называется, с ходу, не медля ни единого дня, принялся за изучение «поля боя», на котором ему предстояло сражаться, как потом выяснилось, свыше десяти лет, – султанского двора и расстановки сил при нем; лиц, оказывавших решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику империи; состояния ее вооруженных сил и т. д. Трудолюбие и работоспособность посла необыкновенные. Когда пытаешься восстановить все, что ему удалось сделать за время проживания в Адрианополе, то невольно проникаешься уважением к его организованности, способности мгновенно оценивать обстановку и умению четко определять последовательность выполнения задач.
Османскому правительству казалось, что оно сделало все возможное для того, чтобы изолировать русское посольство от внешнего мира и лишить посла возможности общаться с кем бы то ни было, – посольский двор день и ночь караулили 120 янычар. Возможно, султан достиг бы своего, если бы Толстому не пришли на помощь доброжелатели (он их называл работниками), готовые бескорыстно ему помогать. Доброхоты снабжали Петра Андреевича всеми сведениями, которые его интересовали. Кто же эти работники?
Первым среди них был иерусалимский патриарх Досифей. О его готовности оказывать помощь русским послам хорошо знали в Москве, поэтому одновременно с полномочной грамотой Толстому направили грамоту и Досифею. В ней выражалась надежда, скорее даже просьба, «дабы к тому послу нашему был еси во всяких приключающихся ему делех способник и делом и словом, елико возможно». В другом месте грамота взывала непосредственно к патриарху – быть послу советником и искренним помощником. В 1705 году Ф. А. Головин еще раз напомнил Толстому о необходимости сотрудничать с Досифеем: «…изволь иметь согласие и любовь с патриархом иерусалимским».[372]
Репутацию советника и искреннего помощника Досифей оправдал вполне. Он мгновенно, день в день, отвечал на запросы Толстого. Усердие его простиралось дальше: часто он по собственной инициативе сообщал послу полезные сведения либо давал ему советы, как поступить в том или ином случае. Петр Андреевич неоднократно сообщал Головину, что испытывает к иерусалимскому патриарху чувство глубокой благодарности за помощь.
В одной упряжке с Досифеем трудился его племянник Спилиот, тоже грек. Иногда он выполнял роль курьера в переписке патриарха с послом, но чем дальше, тем больше общался с Толстым самостоятельно. Посол высоко ценил услуги как патриарха, так и его племянника. В 1703 году он писал Головину: «…истинно, государь, забыв страх смертной, радосною душею великому государю работают».
Не менее ценные услуги оказывал Толстому выходец из Рагузы Савва Лукич Владиславич, по русским источникам более известный под фамилией Рагузинский. Письма Петра Андреевича Федору Алексеевичу Головину пестрят лестными и даже восторженными оценками деятельности Саввы Лукича: «А он, Сава, работает великому государю усердно и ко мне всякие ведомости чинит, что ему возможно»; или: «…работает великому государю с великим усердием»; Савва – «человек добр и до сего времени усердно в делех великого государя работал, и видится, что и впредь желание имеет служить верно».
Бывает иногда, что один человек проникается уважением и симпатией к другому, никогда не видев его и не общаясь с ним. Так случилось с Толстым, которому Владиславич полюбился задолго до личной встречи с ним. 22 сентября 1702 года Петр Андреевич писал Савве Лукичу: «Аще и не сподобихся по желанию моему видети лица твоего, обаче сердце мое любовию к тебе горит, слыша добрые и богу угодные твои поступки, которые усердие твое являют».[373]
Подобные хвалебные слова не сходили со страниц писем посла и в 1704 году, когда Владиславич находился в Стамбуле. В конце того же года он покинул Османскую империю и переселился в Россию, которой служил свыше 30 лет. Свои обязанности он передал Луке Барке, консулу Рагузинской республики в Стамбуле, ближайшему своему приятелю, тоже сербу. Консул располагал в столице империи обширными связями и знакомствами и всегда пребывал в курсе всех придворных интриг и сокровенных намерений османского правительства.
Сведения, доставляемые Лукой, имели большую ценность, что многократно отмечал посол. В 1704 году: «Господина Савы управители его с великим усердием работают, в чем могут». В 1707 году: «…строением господина Савы приятели его работают великому государю, в чем могут, усердно, а наипаче господин Лука Барка». В 1708 году: Лука Барка «изрядно усердствует во всяких случаях».[374]
Подчеркнем одну существенную деталь: «работники» Петра Андреевича – патриарх Досифей, его племянник Спилиот, Владиславич, Барка и другие – трудились не ради получения вознаграждения или каких-либо других личных выгод. Это доподлинно известно из донесений Толстого Головину: «Приятели, государь, господина Савы весьма усердно работают в делех великого государя, и воистинно, государь, чрез них многие получаю потребные ведомости, понеже чистосердечно трудятся без боязни и от мене заплаты никакие требуют, ниже чего просят».[375]
Во имя чего сербы и греки безвозмездно, рискуя жизнью и имуществом, оказывали помощь русскому послу?
Объяснить бескорыстное проявление любви и преданности России можно лишь тем, что она в то время приобретала славу страны, с могуществом и процветанием которой православные народы связывали надежды на избавление от османского ига. Это иго было настолько обременительным для них, а жизнь в порабощенных османами землях – столь сурова и безысходна, что передовые люди были готовы жертвовать жизнью ради освобождения своих народов.
Впрочем, дружное сотрудничество и приязнь между работниками Петра Андреевича продолжались недолго. Трудно объяснить побудительные мотивы действий иерусалимского патриарха, но уже в 1704 году Досифей пытался внушить Толстому недоверие и подозрительность по отношению к его помощникам. Возможно, сыграл роль преклонный возраст Досифея и он оказался во власти ревности и зависти к более молодым и энергичным людям, имевшим возможность работать на «великого государя» более плодотворно, чем он сам.
Как бы то ни было, но Досифей пытался скомпрометировать ближайших помощников Толстого. Начал он со своего племянника Спилиота. «Подобало бы и ясности твоей, – писал патриарх послу, – ради нас любить ево отчасти, а не весьма ему вверятися». Оказывается, племянник отплатил дяде неблагодарностью: «воспитания нашего не почел ни во что, браду нашю белую не почтил», тысячами «лжей» вводил в заблуждение его, Толстого, и «то все зделал от сребролюбия своего». Толстой ответил: «Аз о сем не вем и зело сему удивляюся», ибо ранее получал от патриарха лишь похвальные отзывы о Спилиоте. Тогда же, в феврале 1704 года, патриарх неблагожелательно отозвался и о Савве Лукиче: «Синиор, Саве не подобало бы иметь толикую уверенность… тайности своей не верь ему», ибо он «пойдет и скажет французскому послу тотчас».[376] Намек на предательство Владиславича Толстой пропустил мимо ушей.
Спустя два года, когда Савва Лукич находился в Москве, посол получил от Досифея новое предостережение: «…есть он шпиг или лазутчик тамо со стороны француза». Толстой спросил у патриарха: «…повелит ли мне ваше блаженство написать тамо (в Москву. – Н. П.), чтоб знали? И ежели повелит – напишу, а ежели не изволишь – писать не буду». Патриарх повелеть не изволил. Более того, намерение посла так его встревожило, что он трижды заклинал его молчать. Сначала он советовал послу написать в Москву после того, «когда мы подадим ведомость». Через две с небольшим недели сообщил: «… о Саве не пишите ныне, а будет о том другое усмотрение», но на следующий день, 6 июня 1706 года, заключил: «…видится нам лутчи быти молчанию».
Петр Андреевич не пожелал ослушаться патриарха и Головину действительно не обмолвился ни словом. Но молчал он не ради слепой покорности, а потому, что был глубочайше убежден в невиновности Саввы Лукича. Вопрос, заданный патриарху Толстым: сообщать или не сообщать в Москву, – был своего рода проверкой истинности и обоснованности подозрений Досифея. Подтвердить возведенную напраслину и взять грех на душу патриарх не захотел, поэтому и решил похоронить начатое им дело: «Господин Сава нам приятель доброй, и я сколько могу ему работаю. А другие на него злобятся… Жалею ево сердцем, а ясно ему объявить не могу…»[377]
В ожидании аудиенций Толстой зря времени не терял. Послу в соответствии с обычаем того времени наряду с публичной инструкцией была вручена и секретная, намечавшая обширную программу сбора информации о внутреннем и внешнем положении Османской империи, то есть о «тамошнего народа состоянии». Москву более всего интересовало, не готовятся ли в Стамбуле тайно или явно к нападению на Россию. Поэтому главная задача Толстого состояла в выяснении подлинных намерений султанского двора. Попутно посол должен был сообщить правительству множество деталей, подтверждавших или опровергавших воинственность или миролюбие Османской империи.
Среди 16 пунктов секретной инструкции были и весьма деликатные, требовавшие от Петра Андреевича не столько наблюдательности, сколько незаурядного умения синтезировать наблюдения. Толстой, например, должен был дать характеристики султана и его «ближних людей»; сообщить, сам ли султан правит страной или через своих фаворитов; имеет ли он склонность к войнам и воинским забавам или более озабочен «покоем». В Москве интересовались бюджетом Османской империи и ждали ответа на вопрос, испытывает ли казна в деньгах «довольство» или, напротив, «оскудение» и по каким причинам оно наступило.
Естествен интерес русского правительства к вооруженным силам Османской империи. Посольский приказ требовал от Толстого исчерпывающих сведений о составе сухопутной армии и ее дислокации, «не обучают ли европским обычаям» конницу, пехоту и артиллерию или придерживаются традиционных форм обучения. Столь же обстоятельные сведения Толстой должен был собрать и о состоянии османского флота. От него требовали данных не только о количестве кораблей и их типах, но и о вооружении каждого корабля, составе экипажей, размерах жалованья офицерам и т. д. Толстому, наконец, поручалось выяснить планы османов относительно модернизации сухопутных и морских крепостей. Взоры правительства России были обращены прежде всего на Керченский пролив: «В черноморской протоке (что у Керчи. – Н. П.) хотят ли какую крепость сделать и где (как слышно было) и какими мастерами, или засыпать хотят и когда, ныне ль или во время войны».
Ряд вопросов нацеливал посла на сбор сведений об экономических и политических отношениях Османской империи с другими государствами: «Ис пограничных соседей которые государства в первом почитании у себя имеют и которой народ больши любят». В Москве понимали, что степень близости к тому или иному государству отражалась в статусе его дипломатического представителя при султанском дворе. Отсюда резонное задание Толстому узнать, «при салтанском дворе которых государств послы и посланники и кто из них на время или живут, не отъезжая, и в каком почитании кого имеют».
Поскольку русское правительство проявляло интерес к налаживанию более тесных торговых связей с Османской империей, то Петру Андреевичу вменялось в обязанность выяснить, каково отношение султанского двора к иностранным купцам и ведет ли империя торговлю с другими государствами.
Османская империя по национальному составу была государством лоскутным: значительную часть его населения составляли покоренные арабы, под гнетом османов находились христианские народы Балканского полуострова и Средиземноморья. О положении христиан, и особенно православных народов, томившихся под османским игом, в Москве были осведомлены более или менее основательно. Но как ведут себя прочие покоренные народы, заселявшие глубинные районы империи, в России имели смутное представление. Отсюда поручение Толстому – дознаться, «есть какая противность от подданных салтанских или персиян и от иных народов».[378]
Зная, к чему было приковано внимание Посольского приказа, Петр Андреевич со свойственной ему энергией и хваткой принялся за выполнение инструкций – изучение страны и людей, стоявших у кормила правления. В первые же дни жизни в Адрианополе Толстой спрашивал у Спилиота, «чего ради везирь оставил власть свою: своею ли волею, или изволением салтанским, или смятением народным, и новый кто и вскоре ль сан тот восприимет». Хотел Толстой знать и о том, что «здешние министры размышляют» о его приезде. Более всего посла интересовали личные качества везира: «…к чему вяще склонен, к войне ли, иль х каким забавам, или к правлению государства… и стар ли летами или молод и какова нраву».
Ответ последовал незамедлительно. Новому везиру около 50 лет, он природный «турчанин», имя его Далтабан Мустафа-паша. «Сказывают, что он глуп и все протчия бояря ево не любят, кроме муфтия». Определен он везиром по совету муфтия, которому за протекцию, по слухам, должен был уплатить 400 мешков денег (в каждом мешке по 500 левков, 1 левк равен 15 алтын). Ответил Спилиот и на второй вопрос: «Турки велику боязнь имеют от твоего приезду, говорят, будто бы некакое еще вновь имеешь прошение, или разрушение мира…»
Влияние полученной информации нетрудно обнаружить в донесении Толстого царю, отправленном 22 сентября 1702 года: «Известие тебе, великому государю, чиню: везирь новый мало смыслен является… Мой приезд, государь, учинил им великое сумнение и разсуждают: так никогда-де от веку не бывало, что московскому послу у Порты жить, и начинают иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, понеже морской твой, великого государя, караван безмерной им страх наносит».[379] Подозрительность османского правительства доходила до того, что оно считало целью прибытия посольства определение удобного времени для нападения на Османскую империю.
Заметим, кстати, что такую же подозрительность проявлял на первом этапе и посол, принимавший каждый шорох за раскаты грома и считавший достоверным фактом любой слух о подготовке султана к войне с Россией.
Следует, однако, подчеркнуть, что если подозрительность партнеров была взаимной, то силы их в столице империи были далеко не равными: мощи государственного аппарата, его неограниченным возможностям чинить препятствия посольству Толстой мог противопоставить лишь силу своего красноречия и убедительность приводимых аргументов.
Подозрительность османского правительства обнаружилась тотчас после пышного, с восточным великолепием обставленного приема посла у султана. Аудиенция состоялась 10 ноября 1702 года, а через несколько дней уже была предпринята попытка выдворить Толстого из страны. Ему было заявлено, что прибывающие в империю послы «по совершении-де дел паки отходят во своя страны» и этот обычай в первую голову относится к русскому послу, поскольку царскую грамоту султану он вручил, а дел, связанных с торговлей, у него здесь нет. Действительно, торговые связи России с империей были ничтожными.
Следовательно, первейшая задача Толстого состояла в том, чтобы отвести все попытки османской стороны выдворить его из Адрианополя. Вопреки ожиданиям Петру Андреевичу не потребовалось больших усилий, чтобы парировать доводы представителей османского правительства и убедить их не только в целесообразности, но и в необходимости иметь при султанском дворе постоянного представителя русского царя. Повод и самый веский аргумент в пользу необходимости присутствия русского посла в империи дали наиболее активные в то время поджигатели военного конфликта между Россией и Османской империей – крымские татары. Дело в том, что в дни, когда Толстой вступил в переговоры, в Адрианополе находились представители крымского хана, «с великим шумом» требовавшие разрешения «всчать войну с Российским государством». Права этого они домогались угрозами: если султан им «не поволит», то они сами, не испрашивая у него разрешения, «хотят войну всчинать». Наконец, у Толстого были и формальные основания оставаться в Адрианополе: царская грамота предписывала ему быть здесь «до указу», значит, он был обязан ждать вызова.
Османское правительство решило не обострять отношений и не настаивать на своем требовании – Толстой остался в Адрианополе. Начались будни посольской жизни. Даже для Толстого, не изнеженного роскошью человека, она оказалась столь изнурительной, что его службу на чужбине вполне можно оценить как подвижническую.
Отправляясь из Москвы на юг, Толстой, разумеется, не знал, как долго пробудет в империи и сколько тяжких испытаний, моральных и физических, выпадет на его долю. Но на месте Петру Андреевичу не потребовалось много времени, чтобы убедиться в том, что между показной учтивостью, медоточивыми речами, приветливыми улыбками, щедрыми обещаниями предоставить послу всякого рода «повольности» и реальными условиями его жизни пролегла пропасть.
В самом деле, в январе 1703 года один из везиров «пространными и зело ласкательными словами» обещал русского посла «в достойном почтении, паче иных послов, содержати». «Почтение» выразилось в том, что рейс-эфенди (министр иностранных дел) предложил Толстому переехать на другое подворье и выдвинул следующий мотив: «…двор, на котором ты стоишь, тесен и беспокоен». Оказалось, однако, что это была мнимая забота. Новый двор был, правда, просторнее прежнего, но находился в центре города, где летом стояла «духота великая». Получилась любопытная ситуация: посла убеждали, что жить ему на старом дворе «неприлично», что султан ему оказал «милость», а посол был готов мириться с «неприличием», только бы его оставили на прежнем месте, и деликатно отклонял султанскую «милость». Послу пригрозили: «ежели охотою не поедет – велят-де и неволею перевесть».
Вскоре прояснилась подоплека султанской «милости»: расположение нового двора позволяло ужесточить изоляцию посла. «И ныне, государь, – доносил Толстой Головину 4 апреля 1703 года, – живу на новом дворе в городе, и на двор ко мне никакому человеку приттить невозможно, понеже отвсюду видимо и чюрбачей (полковник. – Н. П.) у меня стоит с янычаны бутто для чести. И все для того, чтоб християне ко мне не ходили».
Лето принесло новые испытания. 7 июля 1703 года Толстой писал Головину: «В великой тесноте живу… в нынешних числех неизреченные жары, от которых, государь, жаров терпим болезни великие». За пределы города не выпускают даже на неделю, чтобы «от болезни получить отраду». Лишь после того, как посол и персонал посольства совершенно «изнемогли», Толстому было разрешено выехать за город, где, впрочем, его тоже не оставили без внимания: ко двору были приставлены янычары.
В том же июле в Стамбуле вспыхнул янычарский бунт. Он завершился тем, что янычары лишили власти султана Мустафу и провозгласили султаном его родного брата Ахмета. Переворот сопровождался отставкой везира, муфтия, рейс-эфенди и прочих министров. Для посольства наступили тревожные дни. К тому же пришедшие в Адрианополь янычары проявляли неповиновение новым властям и угрожали пограбить жителей и сжечь город. Для Толстого и его сотрудников все эти события могли обернуться трагедией, но все обошлось – в памяти остались лишь страхи. Даже когда опасность миновала и новое правительство овладело положением, Толстой все еще не мог обрести спокойствие. «А ныне, государь, – докладывал он Головину 27 августа 1703 года, – истинно от великого страху не могу в память приттить вскоре, мало имел ума и тот затмился».[380]
В сентябре 1703 года султанский двор, центральные учреждения и все посольства переехали из Адрианополя в Стамбул. Везир заявил Толстому: «…и подобает ево, посла, имети у Порты за приятеля во всяких повольностях без подозрения», но это обещание осталось невыполненным. В очередном донесении посол сообщал: двор, отведенный для посольства, настолько ветхий, «что на всякой час ожидаю того, что хоромы, падши, всех нас задавят». Толстой сетовал не столько на неудобства, сколько на дискриминацию и на особый режим содержания посольства: «…сижю, государь, бутто в тюрьме, и уже, государь, истинно, что и терпети сила оскудевает… И не так, государь, мне горестно мое терпение, как стыд: все послы других государств во всяких повольностях пребывают», а ему, Толстому, возбраняется даже выезд к обедне. «Зело великие терплю болезни», – заключил свое письмо Петр Андреевич. Вскоре дом, в котором жили члены посольства, рухнул.[381] Этим аккордом закончился для них 1703 год.
Истекший год оказался знаменательным еще в одном плане: Толстой отправил в Москву сочинение под названием «Состояние народа турецкого». Это был ответ посла на секретные пункты инструкции.
«Состояние народа турецкого» с полным основанием можно назвать энциклопедией экономических, социальных, политических и внешнеполитических знаний об Османской империи начала XVIII века. В этом сочинении, как, впрочем, и в «Путевом дневнике», виден незаурядный литературный талант автора, умение четко, без обременяющих текст деталей формулировать мысли, вычленять главное и без околичностей отвечать на поставленные вопросы. В то же время сочинение изобилует столь ценными сведениями, которые могли быть накоплены только человеком, много лет прожившим в стране.
Разве мог бы, например, Петр Андреевич, опираясь лишь на личные наблюдения, накопленные за год проживания в стране, да еще в весьма стесненных условиях, подробно описать структуру государственного аппарата, круг обязанностей высших сановников, установить, что «утесняется правосудие мздой», и постичь характер и поведение султана, о котором сказано, что он держит «себя во обыкновенном поведении гордосно, и поступки ево происходят в церемониях по древним их законоположениям, а прилежание и охоту большую ни к воинским, ниже к духовным делам, ниже ко управлениям домовным не имеет». Не только личные наблюдения положены в основу отзыва и о султанских министрах – они тоже наверняка подсказаны приятелями во время бесед с ними: «А радеют все турецкие министры больши о своем богатстве, нежели о государственном управлении». При попустительстве султана они безжалостно грабили казну.
Иногда вместо обобщений встречаются конкретные портретные зарисовки. Таков образ везира, назначенного на этот пост в 1703 году: «…человек мало смышлен, а к войне охочь, да не разсудителен». Нерассудительность выражалась в том, что он отказался от намерения засыпать Керченский пролив на том основании, что «великое вечное на себя приведет бесславие и срамоту, якобы имея страх от московских кораблей».
Отношения Османской империи с европейскими странами описаны столь метко и лаконично и в оценках настолько глубоко схвачена суть, что их следует привести. Вот как, например, представлялись Толстому османо-австрийские отношения: «Сердечного любления к цесарскому народу не имеют и пущей злобы не являют, и народ цесарской в войне сильной и искусной». Османы «француз не любят и боятся в себе скрытно и того ради не перестают ласкати их приятельски»; напротив, «галанцев и англичан любят за добрых приятелей и купцов, которые торгуют в их странах», а к «венециям великую ненависть имеют» из-за того, что те отняли у них Морею. На особом счету у них иранцы: «Персиян ни во что ставят, и не почитают, и не любят».
В Москве конечно же по достоинству оценили сообщенные Петром Андреевичем сведения об организации вооруженных сил империи, о мобилизации янычар на случай войны, о способах доставки к театру военных действий снаряжения, вооружения и продовольствия.
Поражает богатство сведений о военно-морских силах, которые тоже нельзя было добыть без помощи приятелей. В сочинении Толстого можно почерпнуть данные не только о типах кораблей, их вооружении, укомплектованности экипажей, о верфях, но и о сигнализации, подготовке кораблей к бою и боевых порядках во время морских сражений. Разве могли в Москве пропустить мимо ушей такие, например, строки: «Корабли турецкие суть крепки, яко и французские, сшиваны великими железными гвоздьями»? Или другое высказывание: «Начальные люди морского их флота аще суть и босурманы, но не природные турки, все христоотречники, французы, италианцы, англичаня, галанцы и иных стран жители, и суть в науке искусны, от них бо обучаются и самые турки».[382]
При сопоставлении «Состояния народа турецкого» с оперативными донесениями, ранее отправляемыми Толстым в Посольский приказ, нетрудно прийти к заключению, что для написания сочинения посол широко использовал свои донесения. Но «Состояние народа турецкого» содержит немало данных, отсутствующих в донесениях. Часть этих данных он заимствовал из опубликованных источников (например, из военно-морских правил), но в большинстве случаев, надо полагать, пользовался устной информацией приятелей.
В новом, 1704 году, при пятом по счету везире, наступила наконец некоторая «повольность». Посольство переселили в новый дом с обширным подворьем, на котором раскинулся сад с фонтанами. То был результат многочисленных протестов посла. Петр Андреевич настолько отвык от внимательного к себе отношения, что улучшение условий жизни вызвало у него подозрения. «Чего ради так поступают?» – задавался он вопросом.
Не намерены ли усыпить бдительность, чтобы начать войну против России?
В письме брату от 22 июня 1704 года Петр Андреевич впервые выразил удовлетворение своим содержанием: «…ныне состояние мое при дворе салтанова величества в пристойной мере обретается… как прилично». Везир Асан-паша проявил столько заботы и внимания, что даже прислал фрукты и цветы послу, когда узнал о том, что тот заболел. Впрочем, жизнь на чужбине мало радовала Толстого: «Зело скучно третий год в бездомстве странствовать».
Сносная жизнь посла длилась недолго. В сентябре Асан-паша был отставлен, султан назначил на его место Ахмет-пашу. «Ко мне сей визирь явился великою неласкою, и паки, государь, мое прискорбное пребывание и всякие труды и страхи возобновились паче прежнего», – доносил Толстой Головину.
Новый везир, вступивший в должность в конце 1704 года, еще более ужесточил режим. В апреле следующего года чюрбачей, возглавлявший караул на посольском дворе, заявил послу, что отныне ни ночью, ни днем вход в посольский двор и выход из него не разрешались кому бы то ни было и за чем бы то ни было, в том числе и за покупками продуктов. Через пару дней в ответ на протесты посла власти разрешили выход со двора за покупкой «хлеба и харчю», но в сопровождении янычара.
«Превеликое утеснение», как назвал посол режим жизни весной 1705 года, правительство объясняло тем, что до Стамбула докатились слухи (оказавшиеся совершенно необоснованными) о том, что будто бы османский посол Мустафа-ага в Москве «пребывал не в свободной повольности».
Жизнь в заточении изнуряла. «Пребывание, государь, мое вельми стало трудно», – жаловался посол Головину. Но у султанского двора было на этот счет свое мнение: «…великой-де тесноты ему, послу, в пребывании ево нет. А что-де держится он, посол, сохранно и то-де себе в тесноту вменяет напрасно».[383]
Толстого можно было бы заподозрить в стремлении сгустить краски относительно условий своей жизни – дескать, жертвенность и долготерпение должны быть вознаграждены пожалованием вотчин, прибавкой жалованья, повышением в чине. Но сохранилось его письмо брату: «…оскудела сила к терпению, весть, государь, Бог какие трудности приходят, которые вельми меня умучили, и уже вящее из жизни моей прихожу во отчаяние». Изъясняясь с родным и близким ему человеком, Петр Андреевич вряд ли руководствовался корыстными и карьерными соображениями.
В апреле 1705 года, когда посольство находилось в особо стесненном положении и персонал терпел голод, произошло событие, высветившее еще одну черту характера Толстого. Речь пойдет о гибели одного из сотрудников посольства.[384] Французский консул в Петербурге Виллардо возложил вину за это событие на Толстого. Согласно версии Виллардо, Толстой, отправляясь послом, получил 200 тысяч золотых (червонных? – Н. П.) на подарки. Часть этих денег он использовал по назначению, а другую – присвоил. Об этом узнал секретарь посольства и тайно донес царю, а не Головину, покровительствовавшему Толстому. Далее, по словам Виллардо, произошло следующее: «Толстой был предупрежден об этом и без колебаний принял решение отравить своего секретаря, но не тайно, а после следствия, в присутствии нескольких чиновников посольства, под предлогом вероломства и неподобающей переписки с великим везиром, в чем секретарь не мог должным образом оправдаться. Толстой тотчас же вызвал священника, чтобы подготовить секретаря к смерти, и заставил выпить яд, подмешанный к венгерскому вину».[385]
Таким образом, по Виллардо, выходит, что Толстой отправил на тот свет секретаря ради спасения собственной шкуры.
Версия Виллардо вызывает сомнения. Французский консул допустил немало неточностей при изложении кратких биографических сведений о Толстом, причем искажений у него тем больше, чем дальше удалены события от времени их регистрации. Например, Толстой, по Виллардо, сначала отправился в Венецию и лишь после возвращения на родину участвовал в войне с Османской империей (Азовские походы), в то время как в действительности события развивались в обратной последовательности: сначала Азовские походы, а затем поездка в Венецию.
Сомнительным является также утверждение консула о том, что Толстой ради назначения на пост посла дал Головину 2 тысячи рублей. Во-первых, Толстой не нуждался в протекции, ибо был лично известен царю; во-вторых, посольство в Османскую империю не считалось настолько престижным и выгодным, чтобы посредством взятки домогаться назначения туда послом. Что могло прельстить Толстого в столице Османской империи: полная тревог жизнь, неуверенность в завтрашнем дне, возможность разбогатеть? Ни то, ни другое, ни третье не могло быть приманкой для Толстого.
Виллардо допускает большую неточность и тогда, когда называет сумму, выданную Толстому для подкупа Дивана, – 200 тысяч золотых. При переводе на русские рубли получается фантастическая цифра – 400 тысяч рублей, что составляло примерно пятую часть всех доходов государства.
В документах ничего подобного не значится. Петр Андреевич, отправляясь в империю, получил для подарков не деньги, а соболиную казну на скромную сумму – 2 тысячи рублей. Правда, после его прибытия в Адрианополь туда в октябре 1702 года было прислано мехов и рыбьего зуба на 8316 рублей, но львиная доля этих ценностей имела целевое назначение: она пошла греческим купцам в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате ограбления запорожцами. В 1704 году Савва Лукич доставил мягкой рухляди на 5 тысяч рублей.[386] Цифры, как видим, не сопоставимы с той, которую назвал Виллардо.
Французский консул прав в одном: отчетность расходования казны «для дел монаршеских» находилась на совести посла, ибо сумма подарка регистрировалась им самим и проверить достоверность регистрации невозможно. И все же из сказанного вытекает, что если Толстой и записывал больше, нежели выдавал, то разница могла составлять десятки, максимум сотни рублей. Для вельможказнокрадов тех времен подобные суммы были столь ничтожными, что практически не влекли за собой угрозы оказаться в опале.
Вероятнее всего, Виллардо записал интересующий нас сюжет со слов Меншикова либо другого недруга Толстого. Не исключено, что версия консула имела французское происхождение. Дело в том, что Петр Андреевич находился в состоянии острого соперничества с французским послом Ферриолем и успешно отражал его попытки нанести урон России. Ясно, что у французских дипломатов имя Толстого не вызывало симпатий.
Начиная с 1706 и до конца 1710 года, когда султан объявил России войну и Толстой оказался в Семибашенном замке, «утеснений», подобных производимым в 1702–1705 годах, посол не испытывал. Но и «повольностей», которыми пользовались послы прочих европейских стран, Толстому не предоставлялось.
В первые месяцы пребывания Толстого в Османской империи власти создавали ему невыносимые условия жизни, рассчитывая вынудить его покинуть страну. Несколько позже они стали обосновывать изоляцию посла и наличие караула необходимостью блюсти его честь. Снять охрану – «дело будет необыкновенно, – разъяснял один из везиров, – и Порта-де чести ево, посольской, умаляти не хочет, но желает-де ево, посла, имети, яко доброго гостя, во всяком почтении и приятстве». И сколько «добрый гость» ни настаивал на освобождении его от такого «почтения», султанский двор оставался глухим.
Затем был выдвинут еще один аргумент: «А здесь, у Порты, древнее обыкновение такое: которого-де великого государя посол к салтанскому величеству придет и, не соверша оных дел, о которых прислан будет, никуда з двора своего не ездит»; посол получит «повольность» ездить куда пожелает, когда «совершит свои дела». Одно из дел – разграничение земель – было завершено осенью 1705 года, и, пользуясь случаем, Петр Андреевич возобновил ходатайство о предоставлении ему статуса, равного статусу послов Англии, Франции и других государств Европы. Вместо снятия караула везир проявил любезность – одарил посла конфетами, сахаром, цветами и всякой живностью к столу.[387]
Каковы были подлинные причины «утеснений»?
Одна из них уже называлась – намерение султанского двора лишить русского посла всех контактов с порабощенными христианами. Но была и другая причина. Петр Андреевич формулировал ее так: «…чиня ему, послу, великое утеснение, приневоливают дела совершать по своему изволению с принуждением». При этом Толстой отметил тщетность подобных попыток: «А он-де, посол, за то не токмо утеснение терпеть, но и душу свою положить готов, а через указ царского величества делать никаких дел не будет».
Толстой указывал также на религиозные различия: османы неизменно следуют своему древнему обычаю, «вменяя по закону своему за грех, ежели им ко християном гордо не поступать». Вряд ли этот довод можно принять – не притесняли же османские власти французского, английского и австрийского послов, исповедовавших христианство.
«Утеснения» вконец измотали Толстого, и он настойчиво и неоднократно просил сначала Головина, а затем Головкина о том, чтобы его отозвали. Впервые с такой просьбой Петр Андреевич обратился в марте 1704 года: «Истинно, государь, зело скучило, два года будучи в заключении». Последний раз Толстой ходатайствовал о «перемене» в конце 1707 года: «…чтоб моему многовременному так трудному пребыванию учинился конец».[388] Отсутствие просьб о «перемене» в 1708–1709 годах вполне объяснимо: Петр Андреевич не считал себя вправе настаивать на отозвании, ибо понимал, что его родина в те годы находилась в смертельной опасности и он обязан выполнять свой долг.
Заметим, что ни в одном из обращений с просьбой о «перемене» Толстой не ссылался на состояние своего здоровья, хотя оно, между прочим, не было богатырским. Петра Андреевича довольно часто одолевала подагра, причем в периоды обострения болезни он недели проводил в постели.
Характеристика условий деятельности посла будет неполной, если хотя бы кратко не остановиться на порядках, царивших в Османской империи, и не бросить даже беглый взгляд на лица, стоявшие у кормила правления.
В документах, вышедших из-под пера Толстого, разбросано множество выразительных описаний обычаев, нравов, текущих событий и их оценок, метких характеристик султана, его сподвижников и приближенных. Они, естественно, субъективны и тем не менее для наших целей бесценны, поскольку сам Петр Андреевич верил в их непогрешимость и в своих поступках опирался на собственные представления, опыт и понимание происходившего.
Человек, как не раз отмечалось, наблюдательный, Петр Андреевич без особых усилий обнаружил такие черты политического быта и нравов, как взяточничество, казнокрадство, алчность и продажность вельмож и чиновников всех рангов. Они лежали на поверхности и обращали на себя внимание каждого вновь прибывшего человека.
Репутация султана не вызывала у Толстого сомнений: «Султан ныне обретается в сем государстве, яко истукан, все свои дела положил на своего крайняго везиря» и проявлял живой интерес лишь к гарему и охоте. Ради последней он оставлял столицу на многие месяцы. «Забава его в охоте за зверьми» стоила казне огромных расходов. Достаточно сказать, что на охоту весной 1703 года султан отправился в сопровождении каравана из 500 верблюдов, нагруженных всяческим скарбом.
Похоже, что и новый султан, брат свергнутого янычарами в результате переворота, тоже не имел каких-либо примечательных черт и склонности к государственной деятельности. Во всяком случае, в конце октября 1703 года, через три месяца после прихода его к власти, Толстой писал о нем: «Салтан до сего времени не показал ни единого дела разумного, но токмо на детцких забавляетца утехах и ездит гулять по полям и на море, а достойных к целости государственных дел еще от него не является, чего и видеть не чают».
Под стать султанам были везиры и министры. Толстой мастерски, скупыми штрихами нарисовал портреты многих везиров. Один был «яр сердцем, но мало смышлен и неразсудителен»; другой – «человек нраву зело сурового, а паче ко христианом великой злодей»; третий «показуется горд паче прежде бывших» и в то же время «глуп и никакого дела управить не может». Встречались среди везиров и личности, заслужившие положительную оценку посла: «нонешний везирь – человек молод, обаче доброй человек и смирной» или «человек добр и разум имеет свободной».[389]
Свежего человека поражала частая смена везиров, не говоря уже о министрах. Отсутствие политической стабильности пагубно отражалось на переговорах: преемственности практически не было и с каждым новым везиром и его министрами приходилось все начинать с нуля. Петр Андреевич пытался постичь тайные пружины правительственной чехарды, но, кажется, в этом деле не преуспел: «Здесь о скорости везирских перемен никто не ведает, да и ведать невозможно для того, когда за малое дело салтану не понравится, тотчас переменит». Но посол скоро уразумел, что смены кабинетов влекли за собой новые расходы для него: «И воистинно… зело убыточны частые их перемены, понеже всякому везирю и кегаю везирскому (кяхье, то есть заместителю великого везира. – Н. П.) посылаю дары немалые и пропадают оные напрасно. А не посылать… невозможно, понеже такой есть обычай. И так чинят все прочие послы и равною мерою со мною от сих убытков вскучают, а отставить их невозможно».
Коррупция, проникшая во все поры государственного организма, затрудняла работу посла. Без подарка не решалось ни одно, даже ничтожное по значению, дело. С подношениями везиру, муфтию и министрам приходили все послы. Подносил подарки и Толстой: «А понеже я здесь, будучи седьмой год, познал… аще у кого не приемлют даров, являются к тем жестокие варвары, а при дарах бывают челове-колюбны». Постиг он и необходимость немедленно расплачиваться за услуги, «понеже турки того не приемлют, кто обещает, но любят, кто отдает в руки».
Бывали случаи, когда вельможи вступали в торг относительно размеров воздаяния. Например, в 1708 году кяхья, вступив по доверенности своего патрона – муфтия в переговоры с Толстым, спросил его без обиняков: «Какой-де дар посол намеревается к нему, муфтею, послать?» Толстой назвал немалую сумму – 2 тысячи червонных золотых, но заместитель везира остался недоволен: «…видится, что-де такой дар… будет скуден. От иных-де стран на всякий год дают по три тысячи червонных золотых и больши». Послу пришлось раскошелиться – добавить соболей на 720 рублей.[390]
Послы при султанском дворе, в том числе и Толстой, одаривая вельмож, явно переоценивали значение подношений. Дело в том, что вельможи позволяли себя не только покупать, но и перекупать. Эта беспринципность в конце концов создавала некую равнодействующую. Вместе с тем готовность везира, муфтия, министров и придворных чинов оказывать за мзду определенные услуги (например, сообщать сведения о внешнеполитических намерениях правительства или вставлять палки в их осуществление) в конечном счете имела свои пределы и регламентировалась интересами империи. Сам Петр Андреевич приводит любопытный пример.
Французский посол затратил немало средств и энергии, чтобы склонить султанский двор напасть на Австрию и тем самым отвлечь ее вооруженные силы от театра войны на стороне морских держав, воевавших с Францией за Испанское наследство. За интригами французского дипломата пристально следили послы морских держав – Англии и Голландии. Оба они, по свидетельству Толстого, «отворенные очи к сему делу имеют и, как могут, французу противятся, и уже Бог весть коликое число потеряно со обоех сторон денег в различных вещах, которые в дары от них отсылаются». В другом донесении Петр Андреевич называет сумму издержек французского посла – свыше 100 тысяч реалов, причем бесполезных, ибо тот «доброго себе еще не получил».[391]
Цитируемые донесения Толстого относятся к 1704 году. Война за Испанское наследство продолжалась еще десяток лет, но толкнуть Османскую империю на войну с Австрией французской дипломатии так и не удалось.
Другой пример относится к деятельности Толстого. Границы возможного в его усилиях предотвратить нападение Османской империи на Россию тоже оказались не беспредельными, и никакие дары и старания Петра Андреевича не могли отвести эту угрозу в 1710 году, когда султан объявил-таки войну. Сказанное, понятно, нисколько не умаляет значения ни дипломатических дарований Толстого, ни его подношений, ни влияния того и другого на текущие, сиюминутные акции османского правительства.
В первые годы пребывания Петра Андреевича при султанском дворе объективно не было условий для объявления войны России: казна была пуста. Грабеж ее достиг таких грандиозных размеров, что в Адрианополе не могли наскрести денег даже для уплаты жалованья янычарам, и те летом
1703 года подняли бунт. И тем не менее вооруженный конфликт вполне мог возникнуть, не прояви тогда Петр Андреевич бдительности.
Толстой почувствовал неладное во время первой же встречи с министром иностранных дел. Рейс-эфенди разговаривал с послом таким тоном и предъявлял к России столь несуразные претензии, что Петр Андреевич, вернувшись с конференции и обдумав еще раз все, что ему было высказано, пришел к пессимистическому выводу: османы «такия чинят тягосные запросы для разорвания мира». Своими опасениями он поделился с Досифеем. Патриарх успокаивал посла: «Сии люди имеют обычай велеречивый говорить великие вещи и многие и хотят явиться велики и крепки. В краткословии сказать: когда уже и мертвы показуются, яко львы суть. Стой крепко, ни о чем не помышляй».[392] Но на поверку оказалось, что патриарх был не в курсе коварного плана везира и ввел посла в заблуждение.
Султан действительно не желал разрывать мир с Россией и в знак миролюбивых намерений не только отстранил от власти воинственного крымского хана, домогавшегося разрешения совершить грабительский рейд по южным уездам России, но и велел заточить его. Однако крымские татары не согласились с решением султана и проявили непослушание, отказавшись принять вновь назначенного хана. Для приведения крымцев в повиновение была отправлена огромная армия.
Однако, по сведениям Толстого, бог весть как полученным, везир отправил янычар не для усмирения крымских татар, а на соединение с ними, чтобы совместно выступить против России, и, кроме того, тайно подговаривал крымцев поднять бунт против султана. Деликатность положения Петра Андреевича состояла в том, что он не знал, как открыть двери султанского дворца и уведомить султана о планах везира. Наконец путь был найден – посредницей оказалась мать султана: придворные информировали ее, а она «о том везирском непотребном намерении поведала сыну».
Судьба везира была решена. Султан вызвал его к себе и спросил о цели снаряжения большой рати, «понеже-де татар можно усмирить и не таким великим собранием». Везир удовлетворительного ответа не дал и был взят под стражу, а затем султан «в ночи велел задавить» его.
О тайных планах везира Толстой доложил в Москву. Там не на шутку заволновались. Головин сообщил послу о готовности царя расходовать «тысяч на двадцать, или на тридцать, или по нужде и на пятьдесят всякой мяхкой рухляди», лишь бы предотвратить войну с Османской империей. 4 апреля 1703 года Толстой донес: надобность в столь крупных расходах отпала, ибо источник напряженности – воинственный везир устранен. Впрочем, успех он приписывал Головину: «… и то, государь, твоим верным к царскому величеству радением и бес того совершилось, и то ныне не потребно».[393] Это была проба сил Петра Андреевича на дипломатическом поприще. Она завершилась его блистательной победой.
В последующие полгода-год напряженных ситуаций в отношениях между двумя странами не возникало. Главные возмутители спокойствия – крымские татары попритихли после расправы с везиром и отстранения хана, вместе с ним готовившего нападение на Россию, а также казней сторонников хана: одним из них отсекли головы, других удавили.
Но Толстой и в этих условиях весь настороже. «Недреманным оком елико возможность допускает, смотрю и остерегаю», – писал он Головину. «Недреманным оком» Петр Андреевич прежде всего наблюдал за поведением крымцев, и любые их предприятия или только намеки на действия не могли застигнуть его врасплох. В письмах Толстого в Москву то и дело встречаются фразы: «…не чаю быть всчатию войны турок ни в которую сторону вскоре, скудости ради денежные» или «… о всчатии войны у турок ни в которую сторону не слышится».[394]
Конечно же, в интересах России было надолго отвлечь внимание османов от северного соседа. Самый эффективный способ достижения этой цели – добиться того, чтобы Османская империя ввязалась в военный конфликт, скажем, с Австрией или на худой конец с Венецией. В данном случае интересы России и Франции совпадали, с тем, однако, различием, что Франция стремилась связать руки Австрии, а Россия – сковать активность Османской империи на ее северных границах. Толстой произвел некоторый зондаж и установил, что «сие дело зело великое», а главное – неосуществимое.
Начиная с 1704 года число противников России при султанском дворе, за которыми Петру Андреевичу надобно было следить «недреманным оком», увеличилось. К традиционно враждебным крымцам прибавились поляки, поддерживавшие Лещинского, шведы, Мазепа и мазепинцы и, наконец, французский посол.
Активность крымцев возобновилась в 1704 году, когда Карл XII детронизовал Августа II и посадил на его место Станислава Лещинского. С этого времени и до 1706 года в Польше было два короля: Август II, ориентировавшийся на
Россию и с ее помощью рассчитывавший вернуть себе корону, и Станислав Лещинский, ставленник шведского короля. В борьбе с Россией и со своим конкурентом Августом II Станислав Лещинский рассчитывал на помощь крымских татар.
Первые сведения о контактах поляков с крымцами Толстой получил в конце июля 1704 года. Ему стало известно, что крымский хан просил у султана разрешения совершить набег на русские земли и одновременно послал своего представителя к Лещинскому, чтобы договориться о совместных действиях против России. Петр Андреевич немедленно запросил аудиенции у везира. Быстрота действий Толстого объяснялась тем, что крымский хан распространял слухи о том, что султан будто бы удовлетворил его просьбу и он готовится к набегу. Похоже, посла успокоили заверения везира в том, что «хану крымскому никогда никакая повольность набега чинить или на рати царского величества» нападать не будет предоставлена.[395]
Новая напряженность в работе посла возникла в 1707 году, причем виновником ее был французский посол Ферриоль.
В марте 1707 года в Стамбул прибыл везир крымского хана. Толстой рассудил, что прибыл он неспроста, и мобилизовал все свои связи, чтобы выяснить цель его приезда. Оказалось, что за спиной хана и его везира стоял французский посол, изо всех сил пытавшийся поссорить Османскую империю с Россией. Когда его переговоры с османскими министрами не увенчались успехом, он решил действовать через крымского хана, с которым быстро нашел общий язык. Об этом маневре французского дипломата Толстой доносил так: Ферриоль убедился, что «явными поступками нескоро мене может осилить и буду чинить ему прешкоду, того ради тайно согласился с крымским ханом, и по такому соглашению хан прислал в Константинополь своего везиря».
Кроме ханского везира, испрашивавшего разрешения «итить в помощь королю польскому Станиславу», в Стамбуле заодно с ним действовал тайный агент Лещинского и шведского короля. Он доставил письма, которые французский посол передал османскому правительству.
Таким образом, Ферриоль держал дирижерскую палочку и координировал действия представителей крымцев, шведов и поляков. Порте он внушал мысль, что, если она «в нынешнем времени московского царя не утеснит, уже-де впредь долго такого времени дожидаться». Ферриоль хорошо усвоил опыт общения с османскими министрами: самые веские аргументы и блестящее красноречие ничего не стоили, если они не подкреплялись дарами. Поэтому он, по словам Толстого, «не жалел иждивения» и чинил «туркам великие дачи».
В деятельности Петра Андреевича наступила горячая пора. Он нашел способ вручить султану письмо с опровержением доводов посланий двух королей – Карла XII и Станислава Лещинского и разоблачением интриг крымского хана и французского посла.
Последовали дни тревожного ожидания: Толстой не был уверен в успехе своих контрмер, ибо знал, что султанский двор вступил в полосу колебаний: «А ныне турки стоят в размышлении и на которую сторону склонятся – Бог весть». Все, однако, закончилось лучшим образом: султан решил сменить хана. Место воинственного Кази-Гирея занял Каплан-Гирей, которому велено было «с Московским государством жить смирно».
Толстой торжествовал победу. Французский посол, а вместе с ним крымский хан были повержены, причем богатые дары, на которые столько надежд возлагал Ферриоль, оказались бесполезными. Петр Андреевич иронизировал: «Французский посол и хан до кровавого поту трудились, покушались возмутить Порту и повредити с нами учрежденный мир».
Царь по достоинству оценил успех своего посла. 20 мая 1707 года Петр Андреевич получил письмо Г. И. Головкина с извещением о пожаловании ему «за усердную службу и труды» вотчины. Высокая оценка Петром деятельности Толстого придала ему сил и уверенности в себе.
Потерпев поражение в соперничестве за влияние на султанский двор, Ферриоль не угомонился. Толстой то и дело напоминал (в мае, июне, июле), что «посол французской не перестает возмущать Порту». В июне Толстому стало известно, что Ферриоль отправил своего эмиссара к новому крымскому хану. «Однако, – доносил Петр Андреевич, – не могу дознаться, с каким делом». На всякий случай и Толстой послал в Крым своего человека, «чтоб он тамо проведал, какое намерение новой хан возымел к послу французскому». Оказалось, что хан в принципе был не против подстрекательских планов французского дипломата, но считал, что еще не наступило время для их осуществления. Отсюда Толстой сделал для себя вывод: поскольку позиция только что назначенного крымского хана не внушала доверия, с него не следовало спускать глаз.
В июле новые заботы: в столицу прибыл эмиссар от шведов и поляков с письменными и устными предложениями.
Толстого более всего встревожило то обстоятельство, что эмиссар прибыл не тайно и не в качестве частного лица, а явно, как официальный представитель, которого османские власти не таясь пропустили через границу. Значит, рассуждал Толстой, султанскому двору или его части были не чужды контакты с недругами России.
На сцене вновь появился французский посол. После того как стало известно, что ранним утром 25 июля 1707 года он доставил к султанскому силяхтару (один из придворных чиновников – оруженосец) и кизляр-аге роскошные зеркала и дорогие часы, пришлось раскошелиться и Толстому. Главный переводчик султанского двора Александр Шкарлат советовал ему «удовольствовать в доме салтанских ближних людей», а также «всякими мерами приводить… в крайнюю к себе любовь» везира. Получив подарки, султанский имам (верховный правитель) заявил, что «усердствовать рад», а рейс-эфенди обещал «работать и усердствовать». Толстой попытался перекупить силяхтара и кизляр-агу, но те отказались принять подарки, заявив, что «прислал мало» и что, если будут доставлены «дары добрые», оба они к услугам русского посла.
Петр Андреевич старался не напрасно. Ему удалось получить точные сведения о предложениях уполномоченного шведского и польского королей. Последовательность совместных действий шведов, поляков Лещинского и крымских татар должна быть такой: сначала им надлежало изгнать русские войска из Польши, а затем объединенными силами вторгнуться в русские земли.
Протежирование французского посла и на этот раз не имело успеха. В сентябре Толстой донес: «…которой поляк был здесь от Станислава Лещинского и уже отсюду поехал и отпущен нечесно, можно сказать, что выслан силою, когда он был у везиря на последней аудиенции». Везир буквально на полуслове оборвал поляка, велев вывести его из покоев. Хотя французский посол, по словам Толстого, «не престает чинить соблазны», но активность его к концу 1707 года поубавилась: он, «видится, бутто мало нечто ослабел». В декабре, как бы подводя итог истекавшему году, Петр Андреевич отправил в Москву письмо с обнадеживающими известиями: «В настоящем времени от страны хана крымского ничего не слышится и от страны Станислава Лещинского ничего здесь не является».[396]
У Толстого были все основания считать, что его деятельность в истекшем году была полезной для России: ему удалось парализовать выпады посла Франции, а также отразить попытки крымского хана, Станислава Лещинского и Карла XII вбить клин в отношения между Османской империей и Россией. В то же время посол понимал, что надо и впредь следить «недреманным оком» за происками противников. Однако неприятность последовала с той стороны, откуда он ее не ожидал.
В самом начале нового, 1708 года Толстой получил из Москвы пакет с тремя документами: копией письма гетмана Мазепы, отправленного им в Москву в ноябре 1707 года, сопроводительным письмом Головкина с выражением недовольства службой посла и царским указом. В Москве считали, что получаемая от Толстого информация не отражала истинного положения дел в Стамбуле и что оптимизм посла ни на чем не основан. Петр писал: «Господин посол, посылаем к вам о некотором деле письмо, здесь вложенное, на которое немедленной желаем отповеди».
Что же это за письмо Мазепы, так заинтересовавшее царя, что он потребовал от посла немедленного разъяснения?
Гетман сообщал, что его вернувшийся из Молдавии лазутчик доставил сведения огромной важности: «Порта Оттоманская конечно и непременно намеревается начать войну с его царским величеством». Далее в письме перечислялись военные и дипломатические меры, принимаемые османским правительством для подготовки к войне. К ним относились отправка в Бендеры 200 пушек и срочное пополнение гарнизона крепости. Мазепа извещал, что изгнание посла Лещинского везиром – фарс, рассчитанный на глаза и уши русского посла: пусть он думает, что султан отклонил все предложения, исходившие от недругов России. На самом деле везир снарядил к Лещинскому и шведскому королю агу, поручив ему предупредить, чтобы ни тот ни другой не заключали мира с Россией без ведома и согласия султана. В свою очередь поляки и шведы склоняли османов к войне с Россией, заявляя, что для этого наступило самое благоприятное время, «какого впредь не могут иметь».
Мазепа поделился и личными впечатлениями, подтверждавшими резкое ухудшение отношений между двумя странами: раньше сераксер (командующий османскими войсками) с ним обменивался приятельскими письмами, а теперь стал не только предъявлять необоснованные требования, но и угрожать. «Естьли те обиды не будут вознаграждены, – увещал Мазепа, – то найдут турки и татары ко отмщению своих обид способ».
Сведения, доставленные лазутчиком Мазепы, будто бы подтвердил и иерусалимский патриарх, который якобы без обиняков писал гетману: «Порта непременно со шведом и с Лещинским хочет и самим делом склоняется в союз военный вступить и войну или зимою, или весною с его царским величеством начать». Более того, Досифей будто бы высказал Мазепе недовольство тем, что в Москве «не внимают» его донесениям и что он, огорченный невниманием, более не будет писать на эту тему.
10 января 1708 года Толстой получил от Головкина другое суровое письмо с выговором за его неосведомленность о внешнеполитических акциях Стамбула: «Мы зело удивляемся, что ваша милость о турском намерении, которое они ныне против царского величества, как слышится, намеревают, также и о протчих противных поступках и пересылках со шведом и с Лещинским через посольство их турецкое… ничего к нам не пишешь». Головкин поручил Толстому проведать «всякими образы, не жалея в том, хотя превеликие, изждивеней», о подлинных намерениях османов и «изыскивать способы», чтобы их «от такого злого намерения отвратить и весьма не допустить опасных нам в сие нужное время противных начинаний».
В конце января Петр Андреевич получил еще одно послание Головкина с извещением, что сведения о «турецком злом намерении» заключить военный союз против России «от часу умножаются и отовсюду неустанно на всех почтах приходят как из Вены… так и от протчих наших министров из Англии и Галандии и из Берлина». А далее вновь следовали обидные для Толстого слова, резко и беспощадно оценивавшие его службу: «Немалому то удивлению достойно, что ваша милость не знамо для чего ни о чем о том нам ни малой ведомости не чинишь и не престерегаешь того, для чего вы у Порты от его царского величества быть учреждены и в чем весь интерес состоит».[397]
Итак, Петр и Головкин располагали двумя взаимоисключающими оценками ситуации в столице Османской империи. Одна исходила от Толстого, неизменно извещавшего русское правительство о том, что в Стамбуле не только не готовятся к войне, но и не помышляют о ней. Другая оценка исходила от Мазепы и представителей России при западноевропейских дворах. В ней не было ничего утешительного или обнадеживающего: османы вот-вот (если не зимой, то весной 1708 года непременно) нападут на Россию и изо всех сил готовятся к войне.
В Москве более достоверной сочли вторую версию. И не только потому, что ее излагал Мазепа, считавшийся тогда верным слугой царя, и о ней трубила вся западноевропейская печать, а главным образом потому, что здравый смысл подсказывал: наступил звездный час для реванша Османской империи за утраченный Азов.
Понять ход мыслей Петра и Головкина можно, если вспомнить о главных событиях Северной войны последних лет. Большие опасения относительно позиции Османской империи вызывали три события. Одно из них связано с судьбой незадачливого союзника России – Августа II: в 1706 году он отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского; в том же году Карл XII принудил Августа II выйти из Северного союза и заключить Альтранштедтский мир. В итоге одна Россия продолжала войну с армией, снискавшей славу непобедимой и возглавляемой полководцем, чьи незаурядные дарования ни у кого в Западной Европе не вызывали сомнений.
Другое событие связано с намерением Карла XII двинуть свою армию, хорошо отдохнувшую на обильных саксонских харчах, на восток, против России.
Третье событие связано с местечком Жолква в Западной Украине, где Петр вместе со своими генералами выработал план стратегического отступления, получивший название жолквиевского. Он состоял в том, что находившаяся в Польше русская армия должна была отступать на свою территорию, избегая генерального сражения. План предусматривал нападение на обозы и неприятельских фуражиров, стычки на переправах, уничтожение запасов продовольствия и фуража на пути движения шведской армии, устройство завалов и т. д. Все это должно было, по терминологии Петра, «томить», то есть изнурять, неприятеля, лишать его покоя, порождать у солдат и офицеров чувство неуверенности.
Дипломатическое ведомство России широко практиковало отправку послам, в том числе и Толстому, реляций о победах русского оружия: о взятии Шлиссельбурга, Дерпта, Нарвы, Митавы и других городов. Реляции отправлялись не с целью удовлетворения любознательности послов, а для того, чтобы сведения об успехах русской армии на театрах войны стали достоянием зарубежных правительств и в конечном итоге охлаждали пыл горячих голов, готовых ринуться в опасную авантюру.
В октябре 1707 года Петр Андреевич получил пакет из Посольского приказа с извещением не об очередной победе русских войск, а о начале их отступления в соответствии с жолквиевским планом. На после возлагалась обязанность пресекать «лжи» о том, что русские отступают под натиском шведов, и «кому надлежит» разъяснять смысл маневра русских войск: шведы чем дальше на восток, тем больше будут испытывать трудностей в пополнении армии рекрутами, обеспечении ее боеприпасами, продовольствием, фуражом, деньгами и пр., «а мы, будучи при своих рубежах, как в рекрутах, так и в прочих воинских потребностях не будем никогда оскудения или препоны в том иметь».
Петр Андреевич конечно же разъяснял «кому надлежит» стратегические тонкости далеко идущих планов русского командования. Но у султана и его министров вполне могло сложиться убеждение: раз армия отступает, значит, она слабее противника и его опасается. Поэтому у них мог появиться соблазн напасть на Россию в надежде на легкую победу.
С невыгодным впечатлением от похода русских войск к своим границам считались и в Москве. Именно поэтому там и придавали такое значение письму Мазепы.
Толстому надлежало защищать свое доброе имя, доказывать свою правоту и опровергать домыслы Мазепы. Переписка Толстого с Головкиным в первой половине 1708 года высвечивает еще одну черту характера Петра Андреевича – мужество в защите собственного мнения. Надо было быть абсолютно уверенным в своей правоте, чтобы со всей страстностью и упорством вступить в полемику с Головкиным.
Допустим, что оказался бы прав Мазепа. Тогда Толстому несдобровать: его ожидали бы самые суровые кары. Ему бы припомнили многочисленные донесения с заверениями о безоблачной обстановке в Османской империи. О чем могли они свидетельствовать? Их можно было истолковать только трояко: либо эти заверения – результат недобросовестности посла, то есть его неосведомленности о том, что происходило в Стамбуле; либо Петр Андреевич, руководствуясь карьерными соображениями, представлял свою службу и усердие в самом выгодном свете и занимался камуфляжем; либо, наконец, Толстой встал на путь предательства и намеренно вводил в заблуждение свое правительство.
Петр Андреевич методично, шаг за шагом опровергал утверждения Мазепы от первого до последнего.
Проще всего для Толстого было показать несостоятельность утверждения мазепинского лазутчика о концентрации артиллерии и янычар в Бендерах. Располагая точными сведениями, он решительно заявил: «… и то самая ложь», ибо в Бендеры было прислано 500 янычар, из них 300 разбежались, а пушек отправили столько, сколько требовалось для обороны крепости. Нетрудно было ему доказать и вздорность заявления Мазепы о якобы ожидаемом нападении крымцев зимой и главных сил османской армии весной: зима уже на исходе (письмо было отправлено 29 января 1708 года), а «войны от татар не слышится, и весна уже приближается, а у турок никакого приготовления к войне не является». Толстой даже иронизирует по поводу осведомленности корреспондента Мазепы: как могло случиться, что лазутчик, находясь от султанского двора за тридевять земель, «самые тайные секреты салтанские ведает, чего мы здесь отнюдь проведать не можем».
Крайне сомнительным считал Толстой и поведение иерусалимского патриарха в изображении Мазепы, ибо такого раньше никогда не бывало, чтобы патриарх известил одного Мазепу о подготовке к войне, а посла и русскую дипломатическую службу оставил в полном неведении.
Петр Андреевич внес ясность и в вопрос о «пересылках» султанского двора с Лещинским и Карлом XII: «пересылки» производились не османским дипломатическим ведомством, а сераксером пограничной области Юсуф-пашой. Оказалось, что Юсуф-паша за крупную мзду от Лещинского согласился участвовать в действе, сценарий которого был разработан польскими дипломатами: он должен был отправить в Польшу официального представителя, «чем-де могли московских устрашить, будто-де они имеют согласие с Портой». Однако султан, давая разрешение Юсуф-паше на отправку посланника, руководствовался отнюдь не желанием заключить союз с Лещинским и Карлом XII. Его намерения были более скромными – воочию убедиться, в каком положении находятся войска шведов и поляков. В фирмане, отправленном Юсуф-паше, указывалось, «чтоб-де тем посланием не учинить сумнения московским». Никаких грамот от султана посланец не вручал ни Станиславу, ни Карлу XII.
Итак, налицо провокация, искусно подстроенная польской и шведской дипломатией. Остается загадкой, был ли причастен к ней Мазепа и не являлось ли его письмо в Москву частью коварного плана изменника.
Xотя документы и не дают безоговорочного ответа на поставленный вопрос, но косвенных данных для утвердительного суждения немало. Назовем хотя бы заинтересованность изменника в разжигании конфликта между Россией и Османской империей. Если бы информация гетмана не подверглась проверке, то Петр, естественно, был бы должен перебросить часть войск к русско-турецкой границе. В результате возникла бы напряженность на южных границах и сократились бы силы, мобилизованные против войск Карла XII. О причастности гетмана к провокации говорит также его ссылка на свидетельство иерусалимского патриарха.
Версия конечно же была сочинена Мазепой, чтобы придать своим сведениям больший вес.
Недоразумение было устранено. Толстой продолжал доносить об отсутствии признаков подготовки к войне, причем заявил, что в Москве могут не сомневаться в достоверности его информации: «…явственнее писать о турецком намерении нечего, понеже, что вижю, то вашему сиятельству пишю, а чего не вижю, о том гадательством писать (как иные пишют) не могу».
В письмах Головкина вновь появились слова одобрения в адрес посла: «Зело тем довольны, еже получили от вас подлинную ведомость о турском намерении»; «что же ваша милость во всех помянутых письмах нас обнадеживаешь… и о сем мы зело радуемся». Правда, глава внешнеполитического ведомства не удержался от упрека подчиненному по поводу того, что тот отвечал на его письма «з досадою». Но Толстой не склонен был обострять отношения и уничижительно ответил: «…как то может быть, чтобы мне, убогому сиротине, писать к вашему сиятельству з досадою… но писал и ныне пишю с прилежным слезным молением». Не обошлось и без лести в адрес шефа: если «чрез убогие мои труды и доброе устроилося, и то не моим смыслом, но вашего сиятельства добрым строением».[398]
У Толстого в конечном счете не было оснований сетовать на уходивший 1708 год. Его деятельность на дипломатическом поприще внесла вклад в сохранение мира на южных рубежах в то время, когда страна остро нуждалась в мире: грозный враг колесил по земле Украины и казалось, что шведам не представляло труда протянуть руку крымцам и полякам Лещинского, чтобы объединенными силами обрушиться на русскую армию. Петр Андреевич мог также записать себе в актив расширение круга лиц из османских вельмож и чиновников, готовых оказывать ему услуги. Согласились «усердствовать» послу муфтий, его кяхья, султанский имам, капикяхья Юсуф-паши и другие.
Наконец, 1708 год преподал полезный урок не только послу, но и всей русской дипломатической службе, вставшей на путь установления широких международных связей. В значительной степени благодаря Толстому Посольский приказ успешно преодолел коварную провокацию противников России и обогатил свою практику приемами дипломатической игры. В этой игре Петр Андреевич оказался на высоте: ему удалось избежать промахов и горечи неудач.
Вместе с тем 1708 год усложнил деятельность Толстого. Теперь послу надлежало взять под наблюдение еще одного противника – гетмана Мазепу. Возможно, Толстой пришел к такому выводу раньше, чем получил официальное уведомление Головкина, – новости в те времена ползли медленно. Лишь 15 января 1709 года, то есть два с половиной месяца спустя после прибытия изменника в ставку Карла XII, посол получил запрос канцлера: «…что ныне у милости вашей чинится по измене Мазепине и како турки то приняли и не приклонны ль к зачатию войны противу нас по ево домогательству». С тех пор имя предателя не сходило со страниц переписки Толстого и Головкина. Противодействие начинаниям бывшего гетмана считалось главнейшей задачей посла. Ему надлежало «всякими способы предостерегать, дабы чрез факции шведов, а наипаче изменника Мазепы, Порта не учинила какой противности».
Несколько месяцев Толстой не сообщал тревожных вестей. «Е ныне здесь от страны короля швецкого и от изменника Мазепы отнюдь ничего не слышится», «ничего не является», «здесь суть вельми спокойно» – так писал посол в феврале, марте и в начале апреля 1709 года. Последнее донесение такого содержания датировано 11 апреля.[399]
Первую тревожную весть об интригах Мазепы Толстой получил 13 апреля, когда его известили, что бывший гетман обратился к крымскому хану с предложением вступить ордой «в казацкую землю». За эту услугу хана ожидало щедрое вознаграждение: предатель обещал вносить дань, которую крымские татары ранее получали от Русского государства, и разорить крепость Каменный Затон. Мазепа считал себя вправе превратить в данников хана не только украинцев, но и поляков: он изъявил готовность убедить Лещинского вносить дань крымцам и от «королевства Польского».
Предложения Мазепы были отклонены, причем не крымским ханом, а султаном, который категорически запретил хану вступать в контакты с Мазепой и мазепинцами. Правда, хан, недовольный этим запрещением, будучи человеком, по отзыву Толстого, «неспокойного духа», отправил своего уполномоченного в Стамбул, но тот, как ни старался, возвратился ни с чем. Везир заверил посла, что хотя крымцы и «скучают» по «ясырю», но он найдет способ их «удовольствовать» не в ущерб России.
Возникает естественный вопрос: чем объяснялось миролюбие османского правительства?
Игнорировать искусные действия Толстого, как и роль его подарков, не приходится. Но османов сдерживала, скорее всего, трезвая оценка ситуации, сложившейся на украинском театре военных действий. Обращение первого министра шведского короля Пипера и Мазепы за помощью не встретило понимания у османского правительства потому, что оно считало безнадежным положение шведов на Украине. Впрочем, и сам Пипер признавал, что шведские войска находятся «в великом злосердии и горести», хотя и делал вид, что полон радужных надежд: «…куды ни пошли, никто не возмог стояти противу нас».
Наигранный оптимизм первого министра Карла XII не разделял силистрийский паша, ближе всех из вельмож империи находившийся к театру войны и лучше всех о нем осведомленный, поскольку именно его лазутчики шныряли по Украине. Получив письма Пипера и Мазепы, Юсуф-паша отправил их в Стамбул, сопроводив комментарием: «…швед есть осажен от всех сторон от московских войск тако, что невозможно никому вытти и пойти вон никуды с места их… видится во всем безсилие их и худоба как самого короля, так и войск ево».
Осведомленность о положении шведской армии, оказавшейся в окружении, бесспорно сдерживала агрессивность османов, но первопричиной все же следует считать неподготовленность Османской империи к войне.
Султанский двор конечно же прислушивался к доводам шведов и поляков о том, что Петр, одолев шведов, двинет свою армию против османов, но практических выводов из них не делал, точнее, не мог сделать. В те годы, когда Толстой писал о том, что «не слышится» и «не видится» военных приготовлений, Османская империя исподволь мобилизовала свои ресурсы и проявляла глубокую заинтересованность в затягивании Северной войны, чтобы руки русского царя были связаны борьбой со шведским королем. «Вельми им оный мир противен», – писал Толстой.
Султанский двор был заинтересован во взаимном истощении ресурсов воевавших на Севере стран и в бесконечно долгой войне между ними. В Стамбуле не могла вызвать восторга победа не только России, но и Швеции, ибо там считали, что хотя Швеция и не имеет общих границ с Османской империей, но укрепление ее позиций в Польше может угрожать безопасности османских владений в пограничных с Польшей районах.
К факторам, сдерживавшим Османскую империю от агрессивных начинаний, следует отнести также упорные слухи, распространяемые прибывшими в Адрианополь греческими купцами и затем подхваченные комендантами пограничных с Россией крепостей, что Петр в мае 1709 года прибыл в Азов во главе армады военно-морских кораблей. По словам Петра Андреевича, слух о появлении русского флота в Азовском море вызвал в столице империи «такой превеликий страх» и панику, что для описания происходившего «мало было бы и целой дести бумаги». Но кое о чем он все-таки сообщил: о бегстве жителей Стамбула в глубь страны, слухах о том, что русский флот разгромил османский флот, и т. д.
Версия о прибытии в Азов огромного количества кораблей держалась в дореволюционной и советской литературе до тех пор, пока А. П. Глаголева в одной из своих работ не доказала, что Петр предпринял не военную, а мирную демонстрацию: в Азов прибыло вместе с ним всего два корабля.
Пока Петр Андреевич удерживал султанский двор от вступления в войну и действовал так успешно, что удостоился новой похвалы царя («зело доволен трудами вашими»), шведская армия была разгромлена под стенами Полтавы. Карл XII и его новый вассал Мазепа вынуждены были бежать с поля боя и искать спасения в османских владениях. Приятную весть о Полтавской виктории Толстой получил не по официальным каналам из России, а от османских властей. Письмо Головкина было получено только десять дней спустя – 26 июля 1709 года.
Поскольку Головкин отправил реляцию на следующий день после Полтавской битвы – 28 июня, то в ставке царя еще не могли знать о том, куда бежал шведский король. И все же Головкин на всякий случай поставил перед послом задачу – домогаться от султанского двора отказа в гостеприимстве Карлу XII и согласия изловить и держать под стражей изменника Мазепу.
27 июля Толстой потребовал от османского правительства выдачи того и другого. Это было требование с запросом. Но в Москву посол сообщил, что, по его мнению, султан никогда не выдаст короля, в лучшем случае вышлет его из своих владений. Что касается Мазепы, то «боюсь, – писал Толстой, – чтобы оный, видя свою конечную беду, не обасурманился». Если такое случится, то «никоими делы не отдадут ево по своему закону».
Спустя неделю Толстой получил грамоту царя для передачи ее султану. Петр требовал если не по закону, то по «дружбе» выдачи Карла XII и Мазепы. На худой конец Россия могла бы довольствоваться и тем, что султан не выпустит короля из своих владений до окончания войны. Что касается Мазепы, то его, как царского подданного, надлежало выдать всенепременно. Но султанскому двору не по душе пришлись оба требования.
Дело в том, что с августа 1709 года в русско-османских отношениях наступил новый этап. В донесениях Толстого вместо «ничего не является» и «ничего не слышится» появились тревожные вести об интенсивной подготовке империи к войне.
Крутой поворот во внешнеполитическом курсе Османской империи принадлежит к числу парадоксов, нередко происходивших в истории. О них обычно пишут историки, располагающие всем комплексом источников и осведомленные о том, в каком направлении развивались события. Поэтому надо было обладать проницательностью Толстого, чтобы, будучи современником событий, глубоко в них проникнуть и разгадать их смысл.
Информируя Головкина о том, что в лице Карла XII у османов появился советчик, жаждавший реванша и убеждавший султана «всчать войну» против России, Толстой считал, что отныне миролюбивые заявления империи выглядят подозрительно. Приведем полностью знаменитое рассуждение Петра Андреевича, которым он поделился с Головкиным: «Не изволь тому удивлятися, что я прежде сего, когда король швецкой был в великой силе, доносил, что не будет от Порты противности к стороне царского величества. А ныне, когда шведы разбиты, – усумневаюся. И сие мне усумневание от того походит, понеже турки видят, что царское величество ныне есть победитель сильного короля швецкого и желает вскоре совершить интерес свой в Польше, а потом уже, не имев ни единого препятия, может всчать войну и с ними, турками».
Толстой был не единственным послом, пристально следившим за действиями османского правительства. За султанским двором внимательно наблюдало множество глаз иноземных дипломатов. Xарактерно, что информация, отправленная П. А. Толстым в Москву, совпадала с информацией И. М. Тальмана, отправленной в Вену. Австрийский резидент в июле 1709 года сообщал своему правительству, что в итоге троекратных совещаний везира с вельможами «было принято решение вооружаться на суше» и на море и направить войска на русскую границу. Донесения Тальмана за вторую половину 1709 года пестрят сведениями о военных приготовлениях Османской империи: велось лихорадочное строительство фрегатов, по Черному морю к границам с Россией доставлялись военные грузы, в азиатские владения были отправлены указы о закупке верблюдов и мулов для переброски мелких грузов, призывались под ружье янычары.
Султанский двор стал готовиться к превентивной войне, что тут же было замечено Толстым. В его письме от 8 августа 1709 года есть пророческие слова: «…здесь ныне чинятся великие приготовления воинские с великим поспешением ни в которую иную сторону, токмо ко границам росийским».[400] В этих условиях османам необходим был шведский король, как и османы – шведскому королю.
Подозрительность султанского двора относительно намерений России энергично и не без успеха подогревал Карл XII, хваставший, что «будто может он вновь иметь изрядного войска больше пятидесяти тысячь». Свою лепту в разжигание вражды вносил и Мазепа, заверявший, «бутто и Украина вся с ними будет согласна…».
Во второй половине 1709 года османы с большей готовностью внимали мифу шведского короля о существовании 50-тысячной армии и нелепым заявлениям обанкротившегося гетмана о поддержке украинским народом его предательских начинаний, чем призывам посла России соблюдать «мир и любовь». Вот почему настойчивые требования о выдаче Мазепы встречали глухой саботаж османских властей, и неизвестно, чем бы завершились домогательства посла, если бы изменник не умер в октябре 1709 года. Толстому ничего не оставалось, как бить тревогу и призывать свое правительство к сосредоточению войск в пограничных с империей районах.
Бесценным источником для освещения дипломатической деятельности Толстого являются статейные списки – своего рода годовые отчеты посла. Статейным списком за 1709 год обрывается отражение жизни и работы посла в Стамбуле – за последующие годы их нет. Можно предположить, что «Статейный список» за 1710 год уничтожил сам Толстой накануне заточения его в Семибашенный замок, а 1711–1713 годы Петр Андреевич провел в заключении и, естественно, не мог выполнять обязанности посла. Они перешли к вице-канцлеру П. П. Шафирову и М. Б. Шереметеву. Поэтому почти ничего не известно о том, чем занимался Петр Андреевич в 1710 году и как ему жилось в зловонном подземелье Семибашенного замка в последующие два года.
От 1710 года сохранилось два служебных письма Толстого. Первое из них, датированное 7 января 1710 года и написанное под впечатлением от состоявшейся четыре дня назад аудиенции у султана, полно оптимизма и радужных надежд. Чувство удовлетворения вызвала у посла церемониальная часть приема: ему было оказано «зело преизрядное почтение».
По поводу умения османов пускать пыль в глаза австрийский посол Тальман как-то заметил, что на их «дружественные уверения нельзя особенно полагаться, так как многие примеры прошлого, приведение которых излишне, показывают, что Турция, для того чтобы усыпить бдительность своих противников, никогда не давала больших уверений в дружбе, как именно в то время, когда она подготовляла действительный разрыв».
Толстому тоже было хорошо известно коварство османов. На восьмом году службы «почтение», даже «зело преизрядное», уже не могло его ни удивить, ни привести в восторг. Его, человека многоопытного, с рационалистическим складом ума, интересовали не знаки внимания и обаятельные улыбки, а реальные результаты аудиенции. А они свидетельствовали о том, что Петру Андреевичу вновь сопутствовала удача, что он и на этот раз одолел всех, кто подзуживал османское правительство разорвать мир с Россией. В данном случае османы вели себя не в духе правил, подмеченных Тальманом, а откровенно, что уловил и отметил Толстой: «Любовь возобновлена и утверждена между сих империй бес подозрения». Подтверждением взаимного доверия служили также согласованные условия выдворения из владений султана шведского короля: для его эскорта до польских границ османское правительство выделяло 500 янычар, а по территории Польши Карла XII должен был сопровождать русский отряд. Несмотря на глубокие сомнения в том, что шведский король примет столь унизительные для него условия выезда из Бендер в Швецию, Толстой рассматривал само соглашение как выражение «любви» и оказание «чести» царю со стороны султана.
Тальман тоже зарегистрировал наступившую перемену. 19 декабря 1709 года он доносил в Вену: «Тем временем Турция неожиданно прекратила свои так ревностно продолжавшиеся как на море, так и на суше приготовления к войне и отдала приказ всем войскам, находящимся в пути, приостановить продвижение».
Через 10 месяцев победу торжествовали недруги России. Первым симптомом возникновения напряженности была смена везира. Вместо Чорлулу Али-паши, свыше четырех лет возглавлявшего правительство и придерживавшегося миролюбивой политики по отношению к северному соседу, великим везиром был назначен Кёпрюлю Нумен-паша. Еще задолго до вступления в эту должность он, по словам Тальмана, часто возмущался султанскими великими везирами, не радевшими об укреплении религии ислама, и называл их слепцами, так как при столь благоприятных обстоятельствах последние 10 лет, когда соседние с империей христианские державы были так заняты взаимными войнами, они пребывали в постыдном бездействии и ничего не предпринимали для того, чтобы отобрать назад потерянные в последней войне земли и отомстить врагам религии.
В реваншистских кругах султанского двора позицию Нумен-паши сочли недостаточно воинственной, и через два месяца его сменил Балтаджи Мехмед-паша – ярый враг России и столь же горячий приверженец Карла XII. Интенсивная подготовка к войне возобновилась.
Обстановка крайне благоприятствовала воинственным выступлениям непримиримого противника России, непрестанно призывавшего к войне против нее, – крымского хана Девлет-Гирея. На этот раз его призывы нашли живейший отклик у султанского двора. На большом Диване, заседавшем 19 ноября 1710 года, Девлет-Гирею, как инициатору открытия военных действий, было предоставлено первое слово. В роли поджигателей выступали также шведы и французы. Австрийский посол доносил, что «они не перестают с величайшей наглостью натравливать Порту» на Россию. Французский посол маркиз Дезальер, сменивший на этом посту Ферриоля, по словам Тальмана, хвастал, что он более всего способствовал этому, так как якобы «вел все дело своими советами».
В наспех написанном письме в ожидании, что с минуты на минуту в покои ворвутся янычары, Петр Андреевич извещал: «…и я чаю, что уж больши не возмогу писать». Главная новость, которую посол спешил сообщить русскому правительству, состояла в том, что султан принял решение «войну с нами начать ныне через татар, а весною всеми турецкими силами».[401]
Итак, войны в конечном счете избежать не удалось. Она внесла существенные коррективы в планы Петра, еще не успевшего к тому времени принудить Карла XII к миру. Но уже то обстоятельство, что русско-османский конфликт разразился после Полтавы и блистательных побед в Прибалтике, а не до них, само по себе уменьшило испытания, выпавшие на долю России. Этим наша страна в известной мере обязана усердию Петра Андреевича Толстого.
Сохранение мира было главной, но не единственной задачей русского посла в Стамбуле. Второе поручение царя, по своей значимости намного уступавшее первому, заключалось в установлении торговых отношений между двумя странами на договорной основе.
Торговые связи России с Османской империей никогда не были оживленными и систематическими, так как доставка товаров по суше требовала значительных затрат и всегда была сопряжена с риском для купцов подвергнуться ограблению если не со стороны крымских татар, то со стороны запорожских казаков. Так продолжалось до тех пор, пока Россия не овладела Азовом и у Петра не возник план превращения этой крепости в торговую гавань, где могли бы бросать якоря как османские, так и особенно европейские корабли.
Но как претворить эту мечту в жизнь, как добиться, чтобы гавань расцвечивали вымпелы многих стран, если путь из Азовского моря в Черное преграждала мощная османская крепость Керчь, воздвигнутая на берегу узкого пролива? Как заставить османское правительство отказаться от убеждения, что Черное море является внутренним водоемом империи, куда доступ посторонним наглухо закрыт?
Петр поручил Толстому сделать первый шаг в этом направлении – добиться, чтобы воды Черного моря беспрепятственно бороздили русские торговые корабли.
Петр Андреевич начал хлопоты о заключении торгового договора вскоре после своего появления в Стамбуле, причем степень его настойчивости в переговорах находилась в прямой зависимости от меры военной угрозы со стороны Османской империи. В месяцы и годы, когда эта угроза отсутствовала, Толстой то и дело возобновлял разговоры о торговле; напротив, во времена, когда над мирными отношениями сгущались тучи, заботы о торговле отодвигались на второй план, уступая место заботам о сохранении мира. Но как настойчиво ни пытался Толстой заключить торговый договор, сделать это ему не удалось.
Почему в осуществлении этой на первый взгляд безобидной затеи Петра Андреевича постигла неудача? «Ради чего, – по его словам, – от Порты явилось упорство?»
Ответ следует искать в диаметрально противоположных взглядах партнеров, причем не на торговые связи как таковые, а на пути, которыми их надлежало вести.
Россию торговля с южным соседом могла интересовать лишь в том случае, если она будет морской. Федор Алексеевич Головин напоминал Толстому: «А торговле, дабы чрез Черное море учинить, всяким тщанием своим домогатца». Головину вторил сменивший его на посту руководителя внешнеполитического ведомства России Гавриил Иванович Головкин: «Нам Азовский торг зело угоден».[402]
Сколько ни убеждал Петр Андреевич своих партнеров, что при наличии морского пути «приезжать торговым людем сухим путем зело далеко и неполезно», как ни внушал им мысль о необходимости организовать торговлю «свободно, безбедно и безопасно», они твердили свое: «Черное море состоит под владением нашего величества, и иной никто тем не владеет». Однажды послу было заявлено, что Османская империя не потерпит появления на Черном море не только русских кораблей, но даже парусника или двухвесельной лодки.
О серьезности намерений османского правительства не допускать русских к морю свидетельствуют планы перекрытия Керченского пролива, или, как тогда называли, гирла. Но империя не располагала ресурсами ни для того, чтобы соединить берега пролива дамбой; ни для того, чтобы потопить в проливе отжившие век корабли, предварительно нагрузив их камнями, а в самой глубокой части пролива протянуть цепи; ни, наконец, для сооружения искусственного острова, чтобы любой корабль, следующий из Азовского моря в Черное и обратно, находился в зоне достигаемости островной артиллерии. Империя могла осилить лишь сооружение дополнительной крепости недалеко от Керчи.
В одном из донесений Головину Толстой сообщал: «О торговом, государь, деле весть всевидящее око, еже не токмо неленостным, но и от всех моих сил старательным попечением труждаюся».[403] Усилия, хотя и «неленостные», тем не менее оказались бесплодными.
Тогда Петр Андреевич решил действовать обходными путями, смысл которых состоял в том, чтобы «отворить» Черное море, так сказать, явочным порядком, постепенно приучая османов к появлению русских кораблей у стен Стамбула как повседневному явлению. Толстой возбудил хлопоты о разрешении русским купцам отправляться из Стамбула на родину на кораблях. Ответ гласил: «Торговым московским людям, не докончав о торговом деле статьи, чрез Черное море ездить не надлежит».
Петр Андреевич счел эту акцию османского правительства «нелюбовной», и оно, чтобы смягчить характер своей меры, пошло на неслыханный жест: султанским указом было велено выделить московским купцам бесплатно 30 подвод до Молдавии, а путь по молдавской территории оплачивать лишь в половину казенной ставки. Обоз, кроме того, сопровождала стража из 80 янычар. И все это для того, чтобы избавиться от русских кораблей на Черном море!
В выгоде оказались купцы, известившие Толстого, что их «везли честно», без задержек в пути, а начальник стражи «вельми о нас радел и всякую любовь нам чинил». Но это нисколько не приблизило посла к тому, чтобы «отворить» Черное море.
С большим трудом Петру Андреевичу все же удалось снарядить торговый корабль в Азов. Под видом предметов, якобы закупленных послом для своего брата Ивана, азовского воеводы, на корабль были погружены товары купца Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. «Вещи под моим именем, – писал Толстой брату, – а все Савины, моего отнюдь ничего нет». Головину он объяснил цель подлога: «…чтоб по малу оный морской путь к Азову отворялся».
Впрочем, в 1706 году Толстой был близок к сокровенной цели: оставался сущий пустяк – обмакнуть перо, чтобы подписать договор; но тут Петра Андреевича постигла беда. Везир, склонный подписать договор и много в этом направлении потрудившийся, был смещен. Все надобно было начинать заново. Толстой в письме к Головину сокрушался: «Всякое, государь, доброе дело к докончанию ничто иное не допускает, токмо моя немилостивая фортуна. В настоящем, государь, времени уже было привелось ко окончанию изрядному торговое дело и надеялся его скончить внутрь трех или четырех днех, но внезапным переменением везирским паки остановилось, и что бог учинит – не знаю».[404]
Толстому не удалось довести дело до благополучного конца, ибо новый везир не проявлял никакого интереса к торговым связям между двумя государствами, а в последующие годы энергия посла была направлена на решение более насущных задач.
Петру Андреевичу доводилось выполнять и консульские обязанности: защищать интересы русских торговых людей, освобождать из неволи захваченных в плен русских и украинцев, обсуждать с представителями султана пограничные инциденты. Иногда ему «докучали» частными просьбами вельможи из Москвы. Меншиков, например, вздумал соорудить турецкую баню и обратился с просьбой к Толстому, чтобы тот нанял и отправил в Россию двух мастеров «турчанинов». Вместо османов Петр Андреевич нанял двух знатоков банностроительного дела из армян.
До сих пор речь шла об обсуждении вопросов, выдвигаемых послом. Поскольку Петр Андреевич выступал инициатором переговоров, он и направлял их в нужное ему русло. Документы позволяют представить Толстого в иной роли – когда ему приходилось отбиваться от претензий партнеров по переговорам, так сказать, обороняться. В этой иной ипостаси, как и в первой, посол предстает великолепным полемистом и блестящим психологом, быстро познавшим манеру поведения собеседников.
Отметим одну важную деталь: письма, отправляемые Толстым из Стамбула в Москву, находились в пути не менее месяца. Следовательно, посол мог получить ответ на какой-либо свой запрос в лучшем случае через два месяца. Часто, однако, случалось, что Головин или Головкин не имели вестей от Толстого в течение четырех, а то и шести месяцев и получали в один день кучу пакетов.
Сказанное надо иметь в виду, чтобы в полной мере оценить способность Петра Андреевича быстро ориентироваться в обстановке, анализировать ее и давать правильные ответы на выдвигаемые жизнью вопросы. Мы не знаем ни одного случая, когда бы Посольский приказ с полным на то основанием поправлял своего посла либо считал, что занятая им позиция была ошибочной и он содеял нечто непоправимое, не соответствовавшее интересам России. Происходило противоположное: посол давал советы Посольскому приказу, и там находили их настолько разумными, что тут же претворяли в жизнь.
Османская сторона предъявила свои претензии к России во время первой же встречи Толстого с рейс-эфенди 5 декабря 1702 года. Глава внешнеполитического ведомства Османской империи формулировал их так: корабли азовского флота «да сожгутся», сооруженная русскими крепость Каменный Затон «да разорится». Третье требование относилось к определению пограничной линии, или, как тогда говорили, размежеванию земель. Рейс-эфенди утверждал, что крепость, как и азовский флот, угрожает безопасности Крымского ханства. Крымцы, заявил министр, «уверяют нас, что ваше намерение не весьма есть чисто и благоразумно».
Но Толстой и без этого заявления знал, откуда дует ветер, от кого исходили требования. Поэтому весь пафос своего эмоционального и полемического монолога посол направил против крымских татар. Это они, «яко хищнически, где могут что украсти, подбежав тайно, то чинили и ныне чинити не престают». За такое «злотворение» крымские ханы «уже давно достойны прежестокие казни, но Порта им попустительствует». К тому же, убеждал Петр Андреевич рейс-эфенди, «городы всегда строятся не для наступательные, но для оборонительные войны» и крепость сооружена для защиты «от их татарского воровского грабежу».
Чтобы окончательно рассеять подозрения османов относительно назначения крепости, совсем не такой укрепленной, как ее описывали крымские татары, Толстой решил показать рейс-эфенди ее план и несколько раз просил Головина прислать его. План Каменного Затона Петр Андреевич действительно получил, но не оттуда, откуда рассчитывал. Произошло это, по словам Толстого, так: «Чертеж прислал к Порте силистрийский Юсуп-паша, и с того чертежа святейший патриарх по прошению моему достал от Порты список (копию. – Н. П.), которого, государь, списка, равною мерою написав, я чертеж посылаю ныне к тебе, государю моему».
Факт, как видим, любопытный. Он свидетельствует о том, что управитель пограничной территории Юсуф-паша тоже зря времени не терял и располагал лазутчиками, сумевшими добыть план русской крепости.
Отклонил Толстой и требование об уничтожении азовского флота. Вопрос был поставлен в лоб: «Во Азовском уезде по какому рассмотрению корабли блюдете?» Османское правительство считало, что их надобно ради поддержания мира либо сжечь, либо продать империи.
Посол резонно заметил, что флот в Азовском море находился до заключения Константинопольского договора, в котором, кстати, ни слова не сказано об обязательстве России уничтожить корабли. Строит же султан корабли на Черном море, хотя видимых причин укреплять свой флот у него там нет: на море царит мир, корсары мореходству не препятствуют. Толстой резюмировал свои рассуждения заявлением, что сооружение крепости, как и содержание флота, – внутреннее дело Российского государства и он, посол, даже не рискует доносить об этих требованиях царю.
Тем не менее османы возобновляли претензии в 1703, 1704, 1705 и 1706 годах. Отвергая их, Петр Андреевич повторял и развивал мысли, высказанные им в декабре 1702 года, ровно столько раз, сколько раз побуждали его к этому султанские министры, выдвигавшие свои несуразные требования. Он не уставал твердить, что Россия имела право, не спрашивая ни у кого ни разрешения, ни согласия, соорудить крепость на своей территории и содержать корабли в принадлежавших ей гаванях. Но османское правительство по внушению крымцев рассуждало иначе.
В отклонении османских претензий Толстой проявлял твердость даже и после того, как в 1703 году получил из Москвы инструкцию, разрешавшую ему пойти на некоторые уступки. Послу, например, дозволялось заявить османам – правда, весьма туманно, – что царь готов ради сохранения мира оказать султану «довольства» при обсуждении вопроса о Каменном Затоне, и, кроме того, предоставлялось право вести переговоры о продаже за достойную цену азовских кораблей.[405]
Султанскому двору, видимо, стало известно содержание полученной послом инструкции. Догадка эта подтверждается характером обвинений в адрес Толстого во время одной из конференций. В феврале 1704 года Асан-паша, «сердитуя», высказал удивление, что «посол стоит в сем деле в великом упорстве» и действует не в соответствии с царским указом, а «своим произволением». Именно поэтому османское правительство решило отправить в Россию посла в надежде, что он, минуя Толстого, сможет получить согласие царя на разрушение Каменного Затона и продажу кораблей азовского флота.
Личность османского посла Мустафы-аги настолько колоритна, что его деятельность заслуживает некоторого внимания.
В противоположность «утеснениям», которым подвергался русский посол в Адрианополе и Стамбуле, в Москве решили оказать османскому послу должное внимание и уважение. «Послу турецкому с великою честию прием и достаток во всем покажем», – делился Головин с Толстым.
Пребывание Мустафы-аги в России сопровождалось бесконечными недоразумениями, возникавшими не за столом переговоров, а на почве нарушения им не только дипломатического этикета, но и элементарных норм этики. В Стамбуле посла аттестовали «великим и чесным человеком», а на поверку оказалось, что это был вздорный, невоспитанный, а главное, неумный человек.
С характером Мустафы-аги представители дипломатической службы России познакомились тотчас, как только он пересек границу. Головин писал Толстому: «…везли его сперва тихо, и о том говорил, чтоб вести скоряе, а как по указу везли скоро – зело сердитовал, что везут скоро». С горем пополам добрались до столицы. К Донскому монастырю была отправлена царская карета, но османский посол заявил, что будет продолжать путь в своей колымаге. В конце концов уговорили его пересесть в карету, но тут новый каприз: Мустафа-ага никак не соглашался, чтобы рядом с ним сидели приставы.
Бестактности следовали одна за другой. Головин поздравил посла, «яко доброго гостя», с благополучным прибытием, но тот не ответил ни благодарностью, ни даже приветствием. Так же бестактно вел он себя и во время аудиенции у царя – не передал, как того требовал этикет, поздравления от султана и норовил «стать на престол». Главная же странность в поведении Мустафы-аги состояла в том, что он игнорировал многократные приглашения Головина явиться на переговоры: «…не только с ним в разговоры не вступал, но и видеться не восхотел». Тем не менее Мустафе-аге продолжали оказывать всякое почтение.
Из Москвы посла отправили в Новгород – сочли, что там будет удобнее вести с ним переговоры царю, находившемуся на театре военных действий. Накануне отъезда Мустафа-ага пожаловался, что «от жестоких морозов озяб и ехать в чем не имеет». Тут же он получил соболей на 300 рублей для изготовления шубы. В Новгороде, как и в Москве, ему выдавалась огромная по тем временам сумма кормовых – по 25 рублей в день. Стоило послу пожаловаться, что «он без жены толь долгое время быть не может, а робят-де таковых с ним не привезено», и попросить «сыскать которого-либо места из бусурман», как был снаряжен нарочный в Касимов для доставки двух «девок-татарок».[406]
Вызывающе повел себя посол и при въезде в только что завоеванную Нарву. Петр решил показать ему крепость, чтобы он убедился в мощи русского оружия. Удивляло русских дипломатов и другое: вот уже несколько месяцев Мустафа-ага находился в России, а до сих пор не удосужился отправить в Стамбул ни одного курьера. В столице Османской империи полагали, что посла держат в России «в утеснении», не подозревая о том, что он молчал по собственной инициативе.
Самый непристойный поступок Мустафа-ага совершил в Каменном Затоне. В Москве ему приглянулся царский портрет, украшавший триумфальную арку. Петр подарил свою «персону» послу, и тот «воспринял бутто приятно и в великую милость и взял ее с собою». Однако, находясь в Каменном Затоне, последнем пункте его пребывания на русской территории, он кинул «персону» под лавку, предварительно ее «изрезав и замарав оную ругательно всяким смрадом, так что позорно о том слышать».
В Стамбуле Мустафа-ага сделал клеветническое заявление о том, что ему не предоставлялось никаких «повольностей». Более того, он утаил от султана и везира послания Петра и Головина. Толстой был информирован и о поведении посла в России, и о его жалобе султану, что русские содержали его «в великом утеснении и в скудости», и о «зелом желании» Мустафы-аги, чтобы русскому послу «вящее примножилось всякого утеснения».
Задача Петра Андреевича состояла в том, чтобы опровергнуть ложные заявления Мустафы-аги и добиться сурового наказания посла за его кощунственный поступок.
Первую часть задачи выполнить было нетрудно. Петр Андреевич представил султану и его правительству копии грамот царя и Головина на имя султана и везира, которые утаил Мустафа-ага. Показал Толстой и копию благодарственного письма Мустафы-аги за дружелюбие и гостеприимство, направленного Головину накануне отъезда на родину. В нем посол выдавил даже комплимент в адрес царя: «…его царское величество есть храбрый, и от храбрых всегда доброе творитца».
Виновность Мустафы-аги была доказана. Спор возник по поводу меры наказания. Толстой потребовал смертной казни. Но везир хотя и считал, что Мустафа-ага – «совершенный дурак и учинил-де то (с портретом царя. – Н. П.) безумством», но полагал возможным ограничиться ссылкой его, так как по мусульманскому закону «за такое дело убить человека не повелевается».[407] Дело закончилось опалой Мустафы-аги – домогательства Толстого лишить его жизни успеха не имели.
Поездка Мустафы-аги в Россию не способствовала укреплению «любви и дружбы» между двумя государствами. Напротив, она в дополнение ко всему прочему ужесточила режим жизни русского посла в Стамбуле, а также потребовала от него дополнительных усилий.
Попробуем проследить за действиями Петра Андреевича в месяцы, когда к Мустафе-аге было приковано внимание сначала в России, затем в Османской империи. Они показательны в том смысле, что характеризуют стиль работы Толстого в качестве посла. Кажется, самыми выразительными чертами этого стиля являются планомерные, рассчитанные до мелочей действия, отсутствие спешки и стремления форсировать события. Темперамент Толстого позволял ему терпеливо выжидать того момента, когда предпринятые им шаги окажутся наиболее эффективными.
Первые сведения о поведении Мустафы-аги Толстой получил 20 апреля 1704 года. Головин дал османскому послу достаточно определенную характеристику: «Кратко написать – человек суров и политических дел необыкновенен, а про посольские – знатно что мало и слыхал». В другом письме Головина, полученном Толстым 7 августа, аттестация Мустафы-аги приобрела более резкие черты: «А послом их, мню, здесь с таким дураком и упрямцом делать нечего. Истину тебе пишу – немного таких глупцов сыщешь, как сей».
Казалось бы, Петр Андреевич, получив такую информацию, должен был добиваться у везира немедленной аудиенции, чтобы выразить ему мнение русского правительства о после. Но этого не произошло. Толстой извещал Головина 26 августа: «… у Порты о том (о поведении Мустафы-аги. – Н. П.) ничего не ведомо, и я ныне о том умолчу до времени». Это время наступило только в следующем году. Главные свои козыри для компрометации Мустафы-аги – его письма Головину и копии грамот султану и везиру – Петр Андреевич приберег на будущее. 10 марта 1705 года он доносил Головину: «А писем ево, которые милость твоя изволил ко мне прислать, еще я не явил, усматривая в том благополучного времени».[408]
Почти два с половиной месяца Толстой терпеливо наблюдал, как будут развиваться события и какие новые выпады совершит Мустафа-ага. Наконец 21 мая 1705 года Толстой счел, что наступил благоприятный момент для нанесения решающего удара, – в этот день он передал османским властям все документы, компрометирующие незадачливого посла.
За время пребывания Толстого-дипломата в недружелюбном окружении в полной мере проявились не только его неутомимая энергия и неистощимое терпение, но и такие качества натуры Петра Андреевича, как гибкость и умение соразмерять свои поступки с изменчивой обстановкой. Эти черты характера оказывали Толстому неоценимую услугу, тем более что ему приходилось иметь дело с часто менявшимися везирами и министрами. Каждый вновь назначенный везир или министр – это новый характер, иная манера вести переговоры, разная дань религиозному фанатизму. Все эти обстоятельства если и не оказывали решающего воздействия на переговоры и выполнение миссии посла в целом, то и не относились к числу тех, которыми можно было безболезненно пренебречь.
При знакомстве с содержанием и формой переговоров на конференциях с османскими министрами создается впечатление о Толстом как о человеке многоликом, умевшем быть вкрадчивым и предупредительным, деликатным и спокойным и в то же время несгибаемым и твердым, напористым и жестоким.
Вспомним первую встречу посла с рейс-эфенди в декабре 1702 года, положившую начало переговорам. Рейс-эфенди высказал претензии султана к русскому правительству в таком безапелляционном и даже ультимативном тоне, что, не прояви Петр Андреевич выдержки и достоинства, переговоры могли бы прерваться. Но посол заявил своему заносчивому собеседнику, что он, Толстой, «пренебрегая жестокостью предреченных слов, возответствует на предложение ваше с тихостью». И далее потекли спокойные и рассудительные слова, отметавшие одно за другим вздорные требования рейс-эфенди. Закончил Толстой свой монолог в восточном стиле – назидательным вопросом: «Недавно обновившаяся любовь и дружба зело еще млада сущи и такого ли себе сурового воспитания требует, и такими ли неполезными предложениями может умножатися?»
Патриарх Досифей, которого посол известил о ходе переговоров, был в восторге от умело проведенной Толстым партии. По его мнению, Толстой отвечал «зело разумно, чего невозможно было лутчи говорить», а дерзость и кичливость, проявленные рейс-эфенди, «суть боязни знамение, но смысленный и мужественный разглагольствует осмотрительно и приметливо, смиренно и тихо». Досифей полагал, что медоточивые речи и щедро расточаемые улыбки лучше всего обезоружат грубых и невежественных партнеров по переговорам. Однажды он преподал послу урок поведения на конференциях: «Егда пойдете к ним свидеться, будите сладколичны, сладкословны, веселы, приятственные… и тако исходатайствуешь себе честь велику и в делах своих велику пользу».[409]
Приглядевшись к нравам османских вельмож, Толстой решил, что не всегда следует руководствоваться рекомендацией патриарха и что не во всех случаях слова «сладше паче меда и сота» могут оказывать должное воздействие на собеседника. Он умел также быть жестким и проявлять характер.
В июне 1706 года Толстой имел встречу с везиром Али-пашой, отличавшимся, с одной стороны, надменным и гордым нравом, а с другой – неосведомленностью в делах управления. Аудиенция протекала так: сначала везир «показуется горд паче прежде бывших и начал было разговаривать с великою гордостию. А когда увидел, что и я возответствовал маленько сурово, потом склонился и говорил зело ласково и с любовию отпустил». Как видим, везир подобрел после того, как получил отпор.
В феврале 1704 года Толстой достиг договоренности с уполномоченным султана Асан-пашой о пропуске в Стамбул трех торговых кораблей, в том числе одного с грузом для посла. Прошло три недели, и везир дезавуировал эту договоренность. Послу было заявлено, что обещание дано «без указу султанова величества и без приказу крайняго везиря, самовлаством и никогда-де то состоятися не может, чтоб московские корабли по Черному морю плавали».
Главному переводчику Александру Шкарлату, сообщившему Толстому весть об отмене договоренности, пришлось выслушать резкие слова посла, рассчитанные конечно же на уши везира. Посол заявил своему собеседнику, что происшедшее «безмерным стыдом явится», что переговоры не подобает превращать в «децкое игралище», что османские министры могут утратить всякое доверие. Высказал посол сомнение и в том, что разрешение на пропуск кораблей было дано без ведома султана и везира.
Во время беседы, которую Толстой вел отнюдь не в дружелюбном тоне, Шкарлат высказал любопытные соображения о том, как могло случиться, что послу было дано обещание пропустить корабли: «…или он (Асан-паша. – Н. П.) был убежден такие слова говорить некакими дарами, или-де ево посольскими многими словами притеснен, не возмогши противного учинить ответу».[410]
Доподлинно известно, что Асан-пашу Толстой не одаривал. Следовательно, уполномоченному султана довелось испытать искусство полемиста и силу аргументов Толстого, против которых невозможно было возражать. Шкарлат, чаще прочих чиновников встречавшийся с Толстым, хорошо знал эти его достоинства.
Беспокойство Толстого вызывало и поведение некоторых лиц из свиты посольства. Его донесение от апреля 1705 года показывает, насколько жестоко расправлялся он с теми, кто готов был принять мусульманскую веру и изменить православию и своему государю. «У меня уже было такое дело, – докладывал Петр Андреевич в Москву, – молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками, вздумал обусурманиться; Бог мне помог об этом сведать. Я призвал его тайно и начал ему говорить, а он мне прямо объявил, что хочет обусурманиться; я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер; так его Бог сохранил от такой беды».
В каком ритме протекала жизнь посла?
Было бы ошибочно полагать, что с утра до вечера Толстой находился в постоянных заботах и не располагал ни минутой свободного времени. Такого времени у него было предостаточно, ибо напряженная, а иногда и лихорадочная деятельность сменялась затишьем, когда – по крайней мере внешне – ничто не обременяло посла. Отчасти покойная жизнь Петра Андреевича была прямым следствием спокойной обстановки в столице империи: противники мира между двумя странами не давали о себе знать. Но безделье Толстого нередко было вынужденным, проистекавшим от ритма деятельности государственного механизма Османской империи. Медлительность османских чиновников прямо-таки обескураживала Толстого, и ему понадобились годы, чтобы приспособиться к ней. Иногда его одолевало отчаяние от сознания бесполезности своего пребывания в стране. То и дело посол «докучал» османским властям напоминаниями о нерешенных делах.
Первое такое напоминание относится к началу сентября 1702 года, когда Толстой поручил своему переводчику заявить Шкарлату, что уже пошла вторая неделя его пребывания в Адрианополе, «а дело ево, посольское, начала не восприемлет». Вынужденное ожидание «наносит ему, послу, великую скучность».
Случалось, что «скучать» приходилось месяцами. 1 января 1703 года посол велел заявить Шкарлату, что пошел пятый месяц, как он «предложил Порте надлежащее дело, а по се время ответу никакова не может восприяти». Османские министры просто уклонялись от встречи. «…А сами министры видитца со мною не хотят», – писал Толстой в 1703 году. «Я ныне, – доносил он в 1705 году, – пребываю кроме всякого дела и ни о чем с министры и говорить не могу». В 1707 году посол сетовал: «…уже-де девятый месяц проходит, как-де оный Мегмет-эфенди с ним, послом, на разговоры определен, и до сего сего времени не мог ни единого сношения учинить».[411]
Как распоряжался Толстой свободным временем?
Кстати, этот вопрос заинтересовал одного из везиров. Он как-то спросил у посольского пристава: «Как пребывает посол московский и в каких забавах управляется?» Пристав ответил, что посол живет в стране уже четыре года «все единой мере тихо и безмятежно, а забавы-де никакие не имеет, разве-де упразняется в прочитании книг».
Так проводил время Толстой в стране, где на его долю выпало немало тяжких испытаний. Он их стоически переносил, ибо был убежден, что «всякого посла художества и хитрость суть строити между государи и государствы тишину и покой обоим странам в пользу».[412]
Облава
Два с лишним года, отделявшие возвращение Толстого из Османской империи (1714 год) от участия его в так называемом деле царевича Алексея, не были насыщены сколь-либо знаменательными событиями. Монотонно текла служба в Посольской канцелярии – в эти годы внешнеполитическое ведомство России не совершило ни одной памятной акции. Оживления можно было ожидать лишь в 1716 году, когда царь вместе с супругой отправился за границу, чтобы попытаться преодолеть противоречия, раздиравшие Северный союз, и ускорить завершение конфликта со Швецией военным или дипломатическим путем. Во время переговоров с датским королем было достигнуто соглашение о совместной высадке десанта в шведскую провинцию Сконе (Шонию). Из Копенгагена Петр отправился в Париж, куда были вызваны виднейшие дипломаты страны – Куракин, Шафиров, Толстой, Рагузинский.
Какова была роль Петра Андреевича в переговорах русских дипломатов в Париже и Амстердаме, в точности не известно. С достоверностью можно сказать лишь одно: находясь за пределами России, он быстро разобрался в международной обстановке и достаточно подробно информировал приятелей о европейских событиях. Из Амстердама он, например, сообщал о провалившейся затее Карла XII свергнуть английского короля и посадить на престол угодного ему претендента. С этой целью шведский король «принял в свою службу 700 человек офицеров шкоцких, которые бунтовали против короля английского, и намерен был послать в Шкоцию войск своих 10 000 в пользу претендентову». В других письмах он извещал о безуспешных переговорах Петра с датским двором, о слухах, впрочем не подтвердившихся, будто бы наместники Англии и Голландии намеревались прекратить торговлю со Швецией и даже объявить ей войну.
С адмиралом Апраксиным Петр Андреевич поделился своими соображениями относительно общей обстановки в Западной Европе и ее влияния на дела Северного союза: «Мнится мне, что настоящие конъюктуры чинят немалое отдохновение короне швецкой. Дай боже, без продолжения паки возобновить доброму согласию между высокими северными алиятами». Находясь с царем в Спа, он сообщал Меншикову о завершении переговоров с Францией и заключении договора, которым, «однако же, не разменялись, понеже в том же трактате включен король прусской, которого министр господин Кинпгоузен, не имея от короля своего полной мочи, подписать оного трактату не мог».[413]
Переговоры с французским правительством завершились заключением в Амстердаме договора, значительно ослабившего позиции Швеции. К тому времени обессиленная Швеция не могла, опираясь на собственные ресурсы, продолжать войну с Россией. Ей оказывала финансовую помощь Франция. Главное значение Амстердамского договора состояло в отказе правительства Франции выдавать субсидии Швеции.
Военные действия в шведской провинции Сконе планировались на осень 1716 года. 26 августа царь отправил из Копенгагена вызов сыну, чтобы тот, если пожелает, прибыл в Данию для участия в десантных операциях.
26 сентября 1716 года царевич Алексей налегке, прихватив с собой любовницу Евфросинью, ее брата Ивана Федоровича и трех служителей, отбыл из Петербурга.
Проходит месяц, другой, царевич по всем расчетам должен быть в Копенгагене, а его там нет. Отсутствие сына вызвало у царя тревогу. Он рассудил, что царевич либо стал жертвой дорожного происшествия – нападения разбойников, либо бежал. Для подозрений относительно бегства царевича существовали глубокие основания: отношения отца с сыном уже давно обострились настолько, что год назад Петр потребовал от Алексея либо активно помогать ему в преобразовательных начинаниях, либо постричься в монахи и отречься от престола. Вызвав сына в Данию, царь предоставил ему последнюю возможность примирения.
9 декабря Петр велел генералу Вейде, командовавшему корпусом в Мекленбурге, организовать поиски сына. Одновременно он вызвал из Вены резидента Авраама Веселовского и 20 декабря вручил ему указ: «…где он проведает сына нашего пребывания, то, разведав ему о том подлинно, ехать ему и последовать за ним во все места и тотчас о том чрез нарочные стафеты и курьеров писать к нам». Веселовскому, кроме того, было вручено письмо царя для передачи его цесарю Карлу VI.
Содержание указа Веселовскому, как и письма цесарю, свидетельствует об уверенности царя, что его сын бежал во владения австрийского императора, доводившегося царевичу шурином. Царь обращался к цесарю с просьбой: «…ежели он (царевич. – Н. П.) в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом… к нам прислать».
Начались интенсивные поиски царевича. Офицеры генерала Вейде не обнаружили никаких следов пребывания исчезнувшего сына русского царя. Успешнее действовал Веселовский. Расспрашивая владельцев гостиниц и служителей почтовых станций, он напал на след, который привел его в Вену. Однако попытки обнаружить царевича в столице империи или в ее окрестностях оказались тщетными.
В то время как царские уполномоченные сбились с ног в поисках царевича, он под чужой фамилией прибыл в Вену, добился аудиенции у вице-канцлера Шенборна и попросил убежища и защиты от несправедливого отца, будто бы ни за что стремившегося лишить его наследства и упрятать в монастырь.
В Вене не рискнули публично предоставить царевичу убежище. Венский двор решил, что куда безопаснее приютить его тайно, держа в глубочайшем секрете не только место пребывания царевича и его спутников, но и сам факт нахождения его в цесарских владениях. Сначала царевича поселили в местечке Вейербург, неподалеку от Вены, а три недели спустя перевезли его в Тироль, где он должен был жить под видом государственного преступника в крепости Эренберг. Коменданту крепости велено было содержать заключенного в полной изоляции и непроницаемой тайне. Для ее обеспечения инструкция запрещала выпускать за пределы крепости солдат и их жен.
Долго держать в тайне место заточения царевича не удалось: один из чиновников шепнул Веселовскому, что тот находится в Тироле. Этого было достаточно, чтобы из многих направлений поисков остановиться на одном. Задачу Веселовского упрощало также и то, что к нему на помощь царь прислал гвардии капитана Александра Румянцева с тремя офицерами. Им поручено было схватить царевича и доставить в Мекленбург. Такое поручение, быть может, и было бы выполнимо, если бы царевич находился в Вейербурге. В крепости Эренберг подобная операция исключалась. Посовещавшись, резидент и гвардии капитан решили ограничиться наблюдением за тем, что происходило в Эренберге.
А как повел себя венский двор? Что ответил цесарь русскому царю? Послание Карла VI являет образец пустословия. Цесарь клялся в любви, дружбе и преданности, но от прямого ответа на вопрос царя уклонился. В его письме тщетно искать признания, находится ли царевич под его протекцией или, наоборот, не проживает на территории Австрийской империи. В письме есть лишь туманное обещание сделать все возможное, «дабы ваш сын Алексей, его любовь, не впал в неприятельские руки».
Уклончивый ответ цесаря, с одной стороны, и его стремление получше припрятать царевича – с другой, убедили Петра, что предстояла сложная дипломатическая борьба с венским двором, намеревавшимся использовать Алексея в качестве разменной монеты. О недобрых намерениях австрийского правительства свидетельствовал перевод царевича из Эренберга в Неаполь – Румянцев и его помощники проследили за перемещением Алексея, неотступно следуя за его каретой. Петр поручил возглавить дело доставки сына на родину опытному дипломату Толстому.
Появление Толстого в Вене с посланием цесарю от царя для австрийского правительства было подобно грому среди ясного неба: сам цесарь и его министры были абсолютно уверены, что им удалось упрятать царевича так основательно, что его никто не сможет обнаружить.
Петр Андреевич, как только прибыл в Вену, немедленно потребовал аудиенции у цесаря и, добившись ее, 29 июля 1717 года вручил ему письмо Петра. Царь без обиняков выразил «любезному другу и брату» свое удивление по поводу того, что царевич тайно содержится в цесарских владениях и «по прошению моему ко мне не отослан». Более того, в письме указывались точные координаты пребывания сына: сначала он находился в тирольской крепости Эренберг, а теперь отправлен в Неаполь. Царь извещал цесаря, что послал в Вену чужестранных дел коллегии тайного советника с поручением «и письменно и изустно волю нашу и отеческое увещание оному (сыну. – Н. П.) объявить» и «просить вас, дабы оный сын наш немедленно с ним к нам был отпущен». Петр нарочито подчеркнул, что Румянцев своими глазами видел, как царевича перевозили из Эренберга в Неаполь.
Отпираться и юлить венскому двору было уже и бессмысленно, и непрестижно.
Инструкция Толстому и Румянцеву предусматривала возможные варианты поведения как цесаря, так и царевича. Если император и впредь будет уклоняться от определенного ответа и ссылаться на свою неосведомленность о местонахождении царевича, то Толстой должен был прибегнуть к угрозе, изложенной, правда, в самой общей и туманной форме: «… и против того свои меры брать принуждены будем». Если, напротив, император признает, что царевич находится в его владениях, но откажется его выдать, поскольку царевич «отдался под его протекцию», то надлежало заявить, что никому не дано выступать судьей в отношениях между отцом и сыном, тем более что отец заявил о готовности простить его проступок.
Инструкция предусматривала поведение Толстого и в том случае, если сын будет жаловаться на отца за «принуждение». Самым убедительным документом против этого обвинения считалось письмо царя к сыну из Копенгагена, которое Толстой должен был показать Карлу VI, чтобы тот убедился, «что неволи не было». Толстой должен был поведать цесарю, как отец долго и упорно пытался сына «на путь добродетелей поставить», но сын оказался невосприимчивым к подобного рода заботам и, вероятно под влиянием недобрых людей, решился на неразумный шаг. В общении с цесарскими министрами Петру Андреевичу следовало в зависимости от обстоятельств применять «ласку или угрозу». В случае отказа выдать царевича Толстой и Румянцев должны были домогаться разрешения на свидание с ним. Если будет отказано и в этом, то цесарю надлежало объявить, «что мы сие примем за явный разрыв». Царь тогда будет апеллировать к общественному мнению Европы.
Два пункта инструкции определяли, как нужно было уговаривать царевича возвратиться на родину: надлежало взывать к совести сына, разъяснять ему, какое он отцу «тем своим поступком безславие, обиду и печаль, а себе бедство и смертную беду нанес»; гарантировать прощение поступка, если уговоры подействуют и царевич напишет письмо цесарю о своем желании вернуться в Россию; грозить родительским проклятием и намерением царя домогаться выдачи его с оружием в руках в случае отказа от возвращения.[414]
Лучшего исполнителя повелений царя, чем Толстой, трудно было сыскать, ибо именно он искуснее других владел диаметрально противоположными системами переговоров – лаской и угрозами. Петр Андреевич умел быстро переходить от доверительного и обаятельного бормотания к металлу в голосе. Кроме того, он обладал еще двумя очень важными в данном случае преимуществами: хорошо знал итальянский и два десятилетия назад бывал в Неаполе, где скрывался царевич.
Толстой не ограничился аудиенцией у цесаря. На следующий день, 30 июля, он отправился к герцогине Вольфен-бюттельской – матери супруги цесаря и покойной супруги царевича Шарлотты Христины Софии. Хотя теща Алексея поначалу заявила, что она ничего не знает о месте его пребывания, но затем под напором фактов вынуждена была выдавить обещание всячески содействовать возвращению беглеца.
Итак, игра в прятки закончилась. Цесарь был загнан в угол, и ему надлежало дать четкий ответ на запрос царя. Три министра на тайной конференции 7 августа выработали рекомендации цесарю, как вести себя в дальнейшем в этом щекотливом деле. Коль скоро царю стала известна тайна пребывания сына, то решено было подать факт предоставления ему убежища как акт милосердия и благодеяния цесаря: то было сделано ради избежания угрозы «попасть царевичу в неприятельские руки». Царю надлежало заявить, что его неправильно информировали, будто «сына его перевозят как арестанта», что в действительности его «трактовали как принца» и сам этот «принц» просил, чтобы ему предоставили уединенное и безопасное убежище. Если царевич, ознакомившись с содержанием письма Петра к Карлу VI, все же откажется выехать в Россию, то Толстой мог рассчитывать на разрешение встретиться с ним.
Это был уже частичный успех Толстого – для него открывались пути непосредственного воздействия на царевича. Правда, Толстому было заявлено, что цесарь не выдаст Алексея вопреки его воле. Но это заявление можно было игнорировать, ибо и Толстой, и австрийские министры великолепно понимали, что упрямство цесаря чревато нежелательными последствиями – вторжением русских войск в Силезию или Богемию и пребыванием их там до тех пор, пока царь не получит сына.
Цесарь утвердил рекомендации конференции. В Неаполь курьер вез его повеление вице-королю графу Дауну оказывать всяческую помощь Толстому. Перед отъездом в Неаполь Толстой еще дважды навестил тещу Алексея и получил от нее увещательное письмо. Впрочем, увещательным письмо можно назвать лишь условно, ибо герцогиня всего-навсего написала, что желает его «примирения с отцом».
Толстой и Румянцев выехали из Вены 21 августа 1717 года и в Неаполь прибыли более месяца спустя – 24 сентября. На следующий день они явились к Дауну, чтобы договориться о встрече с царевичем.
Первое свидание Толстого и Румянцева с царевичем состоялось 26 сентября. Для царевича встреча с доверенными людьми отца была такой же неожиданностью, как и для цесарских министров их появление в Вене. Алексей полагал, что терпит режим арестанта ради того, чтобы оставаться в неизвестности, а на поверку оказалось, что никакой тайны нет и отцу хорошо известно место его пребывания. Царевич онемел от страха. В особенности его приводило в трепет присутствие гвардейского капитана, который, полагал царевич, прибыл для того, чтобы лишить его жизни.
Толстой вручил царевичу два письма: одно от герцогини, другое от отца, написанное в Спа 10 июля 1717 года. Письмо Петра свидетельствует о его незаурядном литературном даровании, отличается краткой выразительностью и колоссальным эмоциональным напряжением. Приведем его полностью:
«Мой сын! Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему; но наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом, при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию междо наших детей, но ниже междо нарочитых подданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!
Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцов будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься.
Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властию, проклинаю тебя вечно. А яко государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться – что б хотел, то б сделал».[415]
Мы не знаем, сколь продолжительным было свидание, какие монологи произносил Толстой и что на них отвечал царевич. Бесспорно одно: Петр Андреевич, руководствуясь инструкцией, пытался воздействовать на Алексея Петровича и ласками, и сказками, и угрозами, и, наконец, уговорами. Все старания, однако, оказались бесплодными. Выслушав Толстого, царевич заявил: «Теперь ничего не могу объявить, потому что надобно мыслить о том гораздо».
Следующая встреча состоялась через два дня, 28 сентября. Ее результаты тоже были неутешительными. Тем не менее это собеседование отличалось от первого. Тогда царевич испуганно молчал. Теперь состояние шока миновало, и Алексей стал словоохотливее. Обдумав содержание письма отца и обещания Толстого, на которые тот, естественно, не скупился, он наотрез отказался вернуться в Россию: «Возвратиться к отцу опасно и пред разгневанное лицо явиться не безстрашно; а почему не смею возвратиться, о том письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству».
После того как ласки не подействовали, Толстой перешел к языку угроз. Он заявил, что царь не удовлетворится до тех пор, пока не получит его живым или мертвым. Чтобы вернуть блудного сына в лоно семьи, отец не остановится и перед военными действиями. О себе Толстой сказал, что он не уедет отсюда и будет следовать за ним повсюду, куда бы он ни отправился, до тех пор, пока не доставит его отцу. Последняя угроза, кажется, произвела на царевича неотразимое впечатление, и он позвал Дауна в другую комнату, чтобы спросить, может ли он, царевич, положиться на покровительство цесаря, ибо не желает возвращаться к отцу. Получив положительный ответ, удрученный угрозами царевич воспрял духом и вновь заявил собеседникам, что ему надобно время для размышлений.
Толстой и Румянцев 1 октября 1717 года отправили письмо царю с отчетом о результатах свиданий: «Сколько, государь, можем видеть из слов его, многими разговорами он только время продолжает, а ехать в отечество не хочет, и не думаем, чтобы без крайнего принуждения на то согласился». Второе письмо Толстой отправил резиденту Веселовскому. Оно тоже не отличалось оптимизмом: «…ежели не отчаети наше дитя протекцию, под которой живет, никогда не послушает ехать».
У Толстого созрел план, как оказать на царевича «крайнее принуждение», как его «отчаети», чтобы он согласился на выезд. Здесь надо сказать, что Петр Андреевич не всегда действовал честно и прямо: в арсенале его средств влияния находились и шантаж, и запугивание, и подкуп. Он считал возможным ради достижения цели пользоваться всеми способами без разбора. Упомянутое выше письмо Веселовскому, где царевич назван «наше дитя», Толстой заключил словами: «…сего часа больше не могу писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Думается, что, называя царевича «зверем», Толстой имел в виду, что царевич, подобно зверю, был обложен со всех сторон.
Коварный план Толстого состоял в том, чтобы лишить Алексея уверенности в готовности императора ради него пойти на все, в том числе и на вооруженный конфликт с Петром.
Подкупленный Толстым секретарь графа Дауна, непосредственно общавшийся с беглым царевичем, по заданию Петра Андреевича как бы невзначай, мимоходом, но под большим секретом должен был сказать ему, чтобы он не надеялся «на протекцию цесаря, который оружием ево защищать не может при нынешних обстоятельствах, по случаю войны с турками и гишпанцами».
Вторую акцию, тоже призванную оказать давление на царевича, должен был осуществить вице-король. Графу Дауну Толстой поручил высказать Алексею Петровичу намерение отобрать у него Евфросинью «для того, чтобы царевич из того увидел, что цесарская протекция ему не надежна и поступают с ним против ево воли».
Наконец, третью дезинформацию Петр Андреевич взял на себя: во время очередной встречи он был намерен сказать царевичу, что сию минуту получил письмо от царя, в котором тот будто бы писал, что, «конечно, доставать его намерен оружием» и что русские войска, сосредоточенные в Польше, готовы перейти границу.
Самое же сильное впечатление на царевича произвело сообщение Толстого о том, что отец вот-вот появится в Неаполе. Оно привело царевича в такой страх, что он, доносил Толстой, «в том моменте мне сказал: „Еже всеконечно ехать к отцу отважится“». Этот разговор состоялся 1 октября. Закончив его, Толстой отправился к графу Дауну, чтобы тот «немедленно послал к нему (царевичу. – Н. 77.) сказать, чтобы он девку (Евфросинью. – 77. 77.) от себя отлучил».
Толстой рассчитывал на эффект: «И того ради просил я вицероя (вице-короля. – 77. 77.) учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли ему противные ведомости, т. е. что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцев к нему вскоре приезд и прочая, а вицерой разлучение с девкою и противно воле его учинить хочет, чтоб тем его привесть к резону, ибо иного ему делать нечего, что ехать к отцу с повиновением».
Толстой определил безошибочно: царевич находился в состоянии неуверенности и колебаний, он переживал душевные муки. Отсюда вывод – надо усилить давление.
2 октября Толстой получил записку Алексея: «Петр Андреевич! Буде возможно, побывай у меня сегодня один и письмо, о чем ты вчера сказывал, что получил от государя батюшки, с собою привези, понеже самую нужду имею с тобою говорить, не без пользы будет». Толстой поначалу отказался от свидания, поскольку такого письма от царя он не получал и удовлетворить любопытство Алексея, разумеется, не мог, потом согласился встретиться.
Не знаем, сколь удачно он выпутался из положения, бывшего плодом его собственной мистификации. Для нас важен конечный результат облавы на «зверя». 3 октября Толстой и Румянцев явились к царевичу и услышали от него долгожданные слова. В тот же день царевич известил цесаря: «…резолюцию взял ехать в Вену и за превеликую милость вашего величества, когда сподоблюся видеть, персонально благодарить, и о некоторых своих нуждах просить и по оном, с воли вашего величества, возвратиться во своя к отцу своему, государю». Толстой и Румянцев поспешили поделиться приятной вестью с царем: «Его высочество государь царевич Алексей Петрович изволил нам сего числа объявить свое намерение, оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С.-Питербурх едет безпрекословно с нами».
Письмо сына к отцу о принятом решении помечено 4 октября 1717 года и составлено по канонам канцелярской практики того времени, то есть в известной мере повторяет обещание царя простить вину: «Письмо твое, государь, милостивейшее чрез господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, государя, мне всякие милости, недостойному в сем моем своевольном отъезде, будет, буде я возвращуся, прощение… И, надеяся на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в С.-Питербурх.
Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей».[416]
О решении царевича известил цесаря и граф Даун. Он сообщил Карлу VI, что «царевич долго колебался дать положительную резолюцию», но наконец 3 октября согласился ехать к отцу. Царевич выразил желание отправить цесарю благодарственное письмо и, кроме того, просил разрешения прибыть в Вену для изъявления ему личной благодарности.
Как реагировали на полученное известие в Вене и Петербурге?
В реакции двух столиц можно найти общее: и здесь и там решение царевича вызвало вздох облегчения. Царь был, несомненно, рад, что удалось привести к благоприятному концу скандальное дело, наносившее ущерб его престижу в европейских дворах. Рад был и цесарь, поскольку решение царевича избавляло его от неприятных хлопот и даже конфликта.
Тайная конференция, созванная в связи с письмами царевича и Дауна, приняла постановление рекомендовать цесарю дать аудиенцию царевичу. Конференция полагала необходимым направить к царю специального чиновника, который должен был убедить Петра проявить к сыну милосердие, любовь и милость.
Из Петербурга царь ответил на письмо сына 17 ноября 1717 года: «Мой сын! Письмо твое, в четвертый день октября писанное, я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толстого и Румянцова письменно и словесно обещано, что и ныне паки подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволяются, о чем он вам объявит». Под «некоторыми желаниями» подразумевалась просьба царевича разрешить ему жениться на Евфросинье, чтобы затем жить в деревне.
Действительно, царь одновременно с письмом царевичу 17 ноября отправил послание Толстому, поручив ему объявить, что оба желания сына будут удовлетворены: ему будет разрешено «жениться на той девке, которая у него, также, чтоб ему жить в своих деревнях».[417]
Казалось, что инцидент исчерпан. Толстому понадобилось всего восемь дней (с 26 сентября, когда состоялось его первое свидание с царевичем, по 3 октября, когда царевич дал согласие вернуться в Россию), чтобы сломить сопротивление непутевого царского сына. Задание Петра Толстой выполнил блестяще. День за днем усиливал он давление и так плотно обложил своего «зверя», что тому оставлен был единственный выход – дорога к отцу.
Зная неуравновешенный характер царевича, его способность поддаваться чужому влиянию, Толстой не считал свою задачу выполненной настолько, чтобы предаваться беспечности, ибо понимал, что, до тех пор пока Алексей Петрович находился за пределами России, он мог множество раз переменить свое решение. Отсюда две заботы Петра Андреевича, находившиеся в центре его внимания до того момента, пока карета с царевичем не пересекла русскую границу: полностью изолировать царевича от постороннего влияния и держать в тайне его согласие вернуться в Россию. Обе заботы были тесно связаны между собой и в конечном итоге преследовали одну цель – исключить возможность, чтобы кто-нибудь шепнул Алексею слово, могущее посеять сомнения и призывающее его отказаться от принятого решения.
Еще 3 октября Толстой в отдельной от письма цидулке «дерзнул» донести царю: «…благоволи, всемилостивейший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того, ибо, когда сие разгласится, то небезопасно, либо кому то есть противно, чтоб кто не написал к нему какого соблазна, отчего (сохрани Бог) может, устрашась, переменить свое намерение». В тот же день Петр Андреевич обратился с аналогичной просьбой к Веселовскому, правда, без объяснения причины, почему факт возвращения царевича надлежит держать в тайне: «А буде услышишь в Вене, что государь царевич изволит возвращаться в свое отечество, о сем не изволь отнюдь никому в С.-Питербурх писать, о чем тебя приятельски остерегаю. Того ради при сем случае и я в дом свой писем не послал и прошу вас, пожалуй, прикажи сыну моему Петру, чтоб при сем случае ни к кому в С.-Питербурх не писал. А какие ради то причин – желаю о том я токмо к одному его царскому величеству писать».[418]
Труднее было не допускать свиданий и конфиденциальных разговоров царевича с посторонними людьми. Толстой и Румянцев не спускали глаз с Алексея Петровича и неотступно за ним следовали. Пожелал царевич поклониться мощам святого Николая в Бари – желание поклониться святому угоднику выразили Толстой и Румянцев; вице-король предложил для этой поездки казенные кареты и эскорт из офицеров, но любезность была отклонена – мало ли как будут вести себя офицеры. «За что мы ему, благодарствуя, весьма то отрекли, – доносил Толстой, – и просили его, чтобы нам отправил как можно больше инкогнито, на нашем иждивении».
Итак, стараниями Толстого и Румянцева общение царевича с простыми смертными было исключено. Но как предотвратить свидание царевича с Карлом VI?
Вспомним, что Алексей Петрович еще 3 октября высказал желание лично поблагодарить цесаря за предоставление ему убежища. О своих опасениях по поводу этого намерения Толстой написал царю: «Из Венеции намерен сын ваш ехать в Вену, но мы его всякими мерами отговаривались, однакож доныне зело в том стоит упорно, говоря, что будто ему, не возблагодаря цесаря, проехать не мошно, и только хочет медлить в Вене один день. А понеже, государь, неволею нам его не пустить в Вену не мошно, того ради писал я к резиденту Веселовскому, дабы он трудился всякими мерами при дворе цесарском то сделать, дабы его в Вену под каким ни есть претекстом не допустить».
Судя по всему, Толстой не терял надежды уговорить царевича не заезжать в Вену. Такой вывод напрашивается при чтении письма Толстого Веселовскому, в котором он велел резиденту выслать слуг царевича в Инсбрук. Распоряжение имело смысл лишь в том случае, если Толстой намеревался либо не останавливаться в Вене, либо если и остановиться, то не медля ни минуты покинуть ее.
Царевич выехал из Неаполя 14 октября. Его маршрут пролегал через Рим, Венецию, Инсбрук, Вену. Алексей Петрович медленно, по осеннему бездорожью, двигался навстречу своей гибели. До Рима царевича сопровождала Евфросинья, но затем ее отправили по более безопасному и спокойному маршруту, ибо она находилась на четвертом месяце беременности. На пути к Вене, а этот путь в общей сложности занял более полутора месяцев, Толстой, царевич и царь обменялись письмами. Петр еще раз подтвердил свое обещание разрешить сыну жениться «на той девке» и жить в деревне. Толстой сообщал царю: «Он без того и мыслить не хотел (ехать в Россию. – Н. 77.), ежели вышеписанные две кондиции позволены ему не будут».[419]
Французский консул в Петербурге Виллардо решающую роль в согласии царевича вернуться на родину приписывает Евфросинье: «До отъезда в Италию был выработан план, с помощью которого он (Толстой. – 77.77.)надеялся добиться успеха. План заключался в привлечении на свою сторону любовницы царевича, которую он взял с собою из Петербурга. Она была финкой, довольно красивой, умной и весьма честолюбивой. Как раз эту слабость Толстой решил использовать: он убедил ее с помощью самых сильных клятв (он не затруднялся давать их, а еще меньше – выполнять), что женит на ней своего младшего сына и даст тысячу крестьянских дворов, если она уговорит царевича вернуться на родину. Соблазненная таким предложением, сопровождаемым клятвами, она убедила своего несчастного любовника в уверениях Толстого, что он получит прощение, если вернется с ним в Россию».[420]
Ни один источник не подтверждает слов Виллардо. Доподлинно известен факт безграничной любви царевича к Евфросинье. Его подтверждают и свидетельства современников, и в еще большей мере письма царевича к Евфросинье, полные нежной заботы о любимой женщине, находившейся в положении. Обращают на себя внимание беспредельно ласковые обращения: «Маменька, друг мой», «Матушка моя, друг мой сердешный, Афросиньюшка!» В одном из писем царевича читаем: «А дорогою себя береги, поезжай в летиге, не спеша, понеже в Тирольских горах дорога камениста, сама ты знаешь. А где захочешь – отдыхай, по скольку дней хочешь. Не смотри на расход денежной: хотя и много издержишь, мне твое здоровье лучше всего. А здесь, в Инсбруке, или где инде купи коляску хорошую, покойную».
Еще одним свидетельством серьезности намерения царевича превратить наложницу в супругу являются многочисленные просьбы Алексея Петровича, обращенные к отцу, чтобы он разрешил ему жениться на Евфросинье.
Виллардо называет Евфросинью Федоровну женщиной умной. Как могла умная женщина принять всерьез заверения Толстого, пусть даже сопровождавшиеся клятвами, в том, что он, Толстой, женит на ней своего младшего сына? Тем более что со стороны горячо любившего ее царевича не было ни малейшего намека на разрыв или охлаждение.
Не подтверждают версию Виллардо и ответные письма Евфросиньи. Правда, они более сдержанны и менее пылки, чем письма царевича, но из их содержания непреложно следует, что Евфросинья отвечала Алексею Петровичу взаимностью. Накануне нового 1717 года, 31 декабря, Евфросинья, будучи в Нюрнберге, получила от царевича письмо с извещением о разрешении оформить их отношения брачными узами и тут же ответила своему возлюбленному: «…изволишь писать и радость неизглаголанную о сочетании нашего брака возвещать, что всевидящий Господь по желанию нашему во благое сотворит, а злое далече от нас отженет, и что изволили приказать, чтоб брату и господину Беклемишеву и молодцам сию нашу радость объявить, и я объявила им, и повеселились».
Допустим, что слова о «неизглаголанной радости» были чистым лицемерием и что Евфросинья участвовала в дьявольском плане. Тогда зачем ей было сообщать своему окружению об ожидавшейся свадьбе?
Кроме того, Виллардо было неизвестно содержание писем Петра сыну и он, естественно, упускал из виду их воздействие на царевича.
В итоге свидетельство Виллардо можно отнести к крайне сомнительным. И тем не менее роль Евфросиньи в описываемой эпопее отрицать не приходится. Толстой в письме к ней из Твери, сообщая о прибытии «в свое отечество государя царевича», добавил: «…все так исправилось, как вы желали». Конец фразы можно интерпретировать только однозначно: Евфросинья желала возвращения царевича в Россию. Сама Евфросинья после прибытия в Петербург на допросе показала: «А когда господин Толстой приехал в Неаполь и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала».[421]
Царевич вместе с Толстым и Румянцевым прибыл в Вену поздно вечером 5 декабря 1717 года. Рано утром следующего дня кортеж покинул столицу империи. Итак, встреча с цесарем не состоялась. Ясно, что инициатором отказа от свидания с Карлом VI был не царевич. За полтора месяца пути Петру Андреевичу удалось уговорить Алексея Петровича уклониться от аудиенции у цесаря и ограничиться лишь кратковременной остановкой в Вене.
До сих пор дела у Толстого шли наилучшим образом: ему удавалось все, его желания исполнялись беспрепятственно, будто он держал в руках волшебную палочку. Ему осталось перешагнуть через границу империи, чтобы выйти на финишную прямую. Здесь уже ничто не угрожало бы успешному завершению его миссии. Но после отъезда из Вены Толстого подстерегла неприятность, едва не перечеркнувшая все его старания. Поспешный выезд царевича из Вены и отказ от встречи с цесарем вызвали у последнего подозрения: не являлся ли поступок царевича результатом воздействия на него Толстого и не находился ли он на положении пленника уполномоченных царя?
Когда утром 8 декабря 1717 года кареты с царевичем, Толстым и Румянцевым прибыли в Брюнн, моравский генерал-губернатор граф Колоредо уже имел на руках следующее предписание цесаря: «Царевич, испросив дозволения благодарить меня в Вене за оказанное покровительство, 16(5) декабря поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюнн, не бывши у меня; да и Толстой ни у кого из моих министров не был. Из этого беспорядочного поступка ничего иного нельзя заключить, как то, что находящиеся при царевиче люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу». Цесарь велел генерал-губернатору задержать царевича под любым предлогом и постараться встретиться с ним наедине, чтобы спросить, добровольно ли он возвращается к отцу или принужден к тому силой. Если царевич заявит, что он намерен продолжать свой путь, то так тому и быть; если, напротив, он откажется от своего намерения, то графу Колоредо надлежало принять «все нужные меры к удобному его помещению».
Когда 9 декабря граф Колоредо отправился к царевичу, то, по словам Толстого, «царевич его к себе не допустил по совету моему». Петр Андреевич объяснил и причину отказа: свидание было бы «не бесподозрительно». В ответ Колоредо задержал царевича до получения дальнейших инструкций.
Карл VI по совету своих министров отправил генерал-губернатору указ: «Я повелеваю вам непременно каким бы то ни было образом, даже силою, видеться с царевичем». Толстому ничего не оставалось, как согласиться на встречу Колоредо с Алексеем Петровичем. Царевич объяснил, почему он не явился к цесарю: «…не имел приличного экипажа и в таком грязном виде после путешествия не смел представиться ко двору». Разговор Колоредо с царевичем происходил в присутствии Толстого и Румянцева. Как только он закончился, Толстой демонстративно запер дверь за вышедшим в свои покои Алексеем Петровичем и тут же велел готовиться к продолжению пути.
Карл VI не удержался от жалобы Петру на бестактность Толстого, которого считал виновником несостоявшейся аудиенции. «Доказательством служит, – писал цесарь царю, – воспрещение генерал-губернатору нашему в Брюнне видеть царевича». Царь взял Толстого под защиту. В ответной грамоте от 17 марта 1718 года Петр вопреки истине писал Карлу VI: «Толстой всячески его (царевича. – Н. 77.)склонял видеться с вами, но сын не согласился, отговариваясь необыкновенностью в таких обхождениях и неимением при себе пристойного экипажа, а вероятнее всего, стыдился с зазрения, что оклеветал нас перед вами». Не соответствовало действительности и другое утверждение царской грамоты: «Также к принятию губернатора Колоредо в Брюнне Толстой долго уговаривал нашего сына и едва в том чрез несколько дней успел склонить».[422]
Пять дней, проведенных Толстым в Брюнне, надо полагать, были самыми беспокойными в облаве на «зверя». Там у царевича появился последний шанс ускользнуть из рук Толстого, но Петр Андреевич мобилизовал всю изворотливость и настойчивость и в конечном счете продиктовал царевичу свою волю.
Путь от Брюнна до Москвы, куда царевич прибыл поздно вечером 31 января 1718 года, был преодолен без происшествий. Начались знаменитое следствие по делу царевича и так называемый суздальский розыск, главным действующим лицом которого была бывшая супруга Петра царица Евдокия Федоровна, ставшая в Суздальском монастыре инокиней Еленой.
В нашу задачу не входит освещение перипетий расследования бегства царевича и причастности к этому побегу других лиц, поскольку предлагаемая глава посвящена не царевичу, а участию в его деле Толстого. Заслуживает быть отмеченным, что сам Петр руководил следствием и оно выявило бесспорную вину царевича, отнюдь не ограничившуюся тем, что он, по собственному признанию, «забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении». Царевич хотя лгал и изворачивался, но под влиянием показаний свидетелей был вынужден признать, что намеревался, опираясь на иностранные штыки, добиваться трона. Кроме того, царевич Алексей внутри страны в борьбе за власть ориентировался на силы, враждебные преобразованиям. Немало компрометирующих сведений сообщила во время допросов Евфросинья: ей он развивал планы, которые осуществит, как только завладеет троном.
В самом начале следствия Петр предупредил сына: «Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочаго тому подобного, а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота». Возникла весьма щекотливая ситуация. Вспомним, в письме от 10 июля 1717 года Петр обещал сыну: «…никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься». Эту гарантию царь выдал в то время, когда не знал и половины того, что замышлял сын и как он намеревался свои замыслы осуществить. Следствие вскрыло множество тайн, которые царевич старательно скрывал. Алексей Петрович сознавался лишь под давлением показаний свидетелей и, следовательно, был далек от раскаяния и чистосердечного во всем признания. Такое поведение сына будто бы освобождало царя от ранее выданных заверений.
Петр, как самодержец, мог, разумеется, сам определить и меру виновности царевича как сына и подданного, и меру наказания за вину. Что же удерживало его от этого шага? Почему он передал судьбу сына в руки духовных иерархов и светских чинов?
Два обстоятельства, как свидетельствовал сам царь, вынудили его передать дело царевича на рассмотрение «верно-любезным господам министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому». Одно из них – опасение, «дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их». Главная же, по-видимому, причина состояла в стремлении царя освободить свою совесть от ранее данной клятвы: «Я с клятвою суда божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет; но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего».
«Преосвещенные митрополиты, и архиепископы, и епископы, и прочие духовные» не определили меры наказания, ограничившись выписками фраз из церковных сочинений, приличествующих данной ситуации: одни высказывания грозили виновному смертью; другие – призывали власти предержащие проявить милосердие и великодушие. Общее заключение церковных иерархов было таково: «Сердце царево в руце божии есть», как царь решит, так и будет справедливо.
Решение светских чинов было суровым и однозначным: «…царевич себя весьма недостойно того милосердия и обещанного прощения государя отца своего учинил». Таким образом, освободили царя от данного им клятвенного обещания светские чины. Царевич достоин смерти и как сын, и как подданный – таков был их приговор.
Согласно официальной версии, 26 июня 1718 года «в 7-м часу пополудни царевич Алексей Петрович в С.-Питербурхе скончался». По другим, неофициальным данным, вызывающим, кстати, большие подозрения относительно их достоверности, царевич был удушен, отравлен, казнен отсечением головы и т. п.[423]
Вернемся, однако, к освещению роли П. А. Толстого в деле царевича Алексея. Его причастность к этому делу не завершилась доставкой «непотребного сына» в Москву: он принимал самое деятельное участие и в следствии. Фактическим руководителем следствия был, как отмечалось выше, царь. Он составлял вопросы, на которые должны были ответить царевич, Евфросинья и прочие обвиняемые. Человеком, вытягивавшим показания из подследственных, был Толстой.
Усердие Толстого в деле царевича Алексея было вне всяких сомнений. Благодаря проявленному рвению Петр Андреевич стал пользоваться у царя большим, чем раньше, доверием. Петру приписывают ставшие хрестоматийными слова, сказанные им в адрес Петра Андреевича во время одной из пирушек, когда Толстой, чтобы уклониться от возлияний, сделал вид, что спит, а сам украдкой, одним глазом наблюдал за происходившим. Хитрость не ускользнула от внимания царя. Подойдя к Толстому, он сказал: «Голова, голова, кабы ты не была так умна, я давно бы отрубить тебя велел».
Версия, видимо, не принадлежит к числу легенд – слишком много в ней реалий. Толстой, как известно, не жаловал горячительных напитков. На этот счет имеется свидетельство иерусалимского патриарха Досифея, уговаривавшего Толстого еще в 1706 году увеличить дозу принимаемого вина. Сомневаться в уме Петра Андреевича тоже не приходится: доказательств тому бесчисленное множество. Вряд ли нуждается в аргументации и коварство Толстого.
В распоряжении историков имеется два бесспорно веских свидетельства возросшего влияния Толстого. Одно из них – щедрые награды, полученные Толстым.
Первое пожалование относится к 26 марта 1718 года, когда царь «приказал двор Авраама Лопухина, что на Васильевском острове, с палатным и протчим строением и со всякими припасы» отдать Толстому в вечное владение. В тот же день Петр Андреевич получил ранее пожалованное одному из Нарышкиных, а теперь конфискованное у него загородное дворовое место.
Перечисленные пожалования выглядят ничтожными по сравнению с тем, что он получил 13 декабря 1718 года в награду за блестяще завершенное дело царевича Алексея. «За показанную так великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству, в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества» Толстому был пожалован чин действительного тайного советника. Кроме чина он получил 1318 крестьянских дворов. По обычаю тех времен, в раздачу шли вотчины, конфискованные у жертв розыска. Петру Андреевичу достались 1090 дворов Авраама Лопухина и 228 дворов Федора Дубровского. Если учесть, что мужское население двора в среднем составляло четыре души, то Толстой получил свыше 5200 душ, то есть около половины крепостных, которыми он владел к 1727 году. Петр Андреевич начинал службу беспоместным дворянином, а к концу жизни в его вотчинах, разбросанных по 22 уездам империи, числилась 12 521 мужская душа.
Другое, пожалуй, более убедительное свидетельство возросшего влияния Толстого – его назначения. Уже указом от 15 декабря 1717 года, то есть в то время, когда Толстой вместе с царевичем еще находился в пути из Брюнна в Москву, он был назначен президентом Коммерц-коллегии, а позже – сенатором. Оба назначения отражали крутой взлет карьеры Петра Андреевича.
Коммерц-коллегия ведала внешней торговлей России. Задача коллегии состояла в том, чтобы проводить в жизнь меркантилистские взгляды Петра, который, как и большинство экономистов того времени, считал признаком успеха внешнеторговой политики достижение активного торгового баланса. Еще более почетной была должность сенатора. Получив ее, Толстой вошел в число 10–12 вельмож страны, составлявших верхушку формировавшейся российской бюрократии. Но обе эти должности не шли ни в какое сравнение с третьей – начальника Тайной розыскных дел канцелярии.
История этого грозного и мрачного учреждения генетически связана с делом царевича Алексея. Следствие по этому делу расчленялось как бы на три ветви: собственно царевичев розыск; кикинский розыск и суздальский розыск. Два последних розыска были полностью завершены в Москве. В старой столице привели в исполнение и приговоры: Степан Глебов, признавшийся в блудном сожительстве с бывшей царицей Евдокией, был посажен на кол; ростовский епископ Досифей за сводничество и попустительство Евдокии, обрядившейся при его молчаливом согласии в мирскую одежду, низложен и колесован. Евдокию Федоровну, в иночестве Елену, отправили в Ладожский монастырь с более суровым режимом содержания.
Главным следователем по суздальскому розыску был Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это ему 9 февраля 1718 года царь отправил собственноручное послание: «Ехать тебе в Суздаль и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привесть с собою купно с письмами, оставя караул у ворот». Три дня спустя Скорняков-Писарев получил новое задание: «…розыщи, для чего она не пострижена, что тому причина и какой был указ в монастырь о ней…»
Кикинский и царевичев розыски в Москве вел Толстой; ему помогал гвардии майор Андрей Иванович Ушаков. По кикинскому розыску приговор был вынесен, как выше отмечалось, в Москве: бывший любимец царя Александр Васильевич Кикин, приятель и главный советник царевича, подвергся жестокой казни – колесованию.
После казней в Москве Петр отправился в Петербург. Туда же он велел доставить сына, родного брата бывшей царицы Авраама Лопухина и князя Василия Долгорукова. Следствие продолжалось, причем к трем следователям, главным среди которых был П. А. Толстой, прибавился четвертый – генерал Иван Иванович Бутурлин. Следователи назывались «министрами». Толстой, Ушаков, Скорняков-Писарев и Бутурлин вместе с канцелярским аппаратом образовали в Петербурге учреждение, получившее название Тайной розыскных дел канцелярии. Запомним эти имена. Речь о них пойдет и в следующей главе, где они выступят в роли не следователей, а подследственных.
На последнем этапе следствия к царевичу применялись пытки. С 19 по 24 июня 1718 года Алексея пытали шесть раз. Истязания лаконично и бесстрастно регистрировались в записной книге Петербургской гарнизонной канцелярии. Читаем запись под 19 июня 1718 года, когда царевич побывал в застенке дважды: «Его царское величество и прочие господа сенаторы и министры прибыли в гварнизон по полуночи в 12 часу, в начале, а именно светлейший князь (А. Д. Меншиков. – Н. П.), адмирал (Ф. М. Апраксин. – Н. П.), князь Яков Федорович (Долгоруков. – Н. П.), генерал Бутурлин, Толстой, Шафиров и прочие; и учинен был застенок; и того ж числа по полудни в 1 часу разъехались.
Того ж числа по полудни в 6 часу, в исходе, паки его величество прибыл в гварнизон; при нем генерал Бутурлин, Толстой и прочие; и был учинен застенок, и потом, быв в гварнизоне до половины 9 часа, разъехались». Царевичу было дано 25 ударов.
Отметим деталь, подчеркивающую роль Толстого в следствии: он присутствовал на всех шести пытках, царь и Бутурлин – на пяти. Ушаков и Скорняков-Писарев персонально не упоминались. Скорее всего, они входили в число «прочих» присутствовавших.
Развязка наступила 26 июня. В 8-м часу утра в Петропавловскую крепость прибыли Долгоруков, Головкин, Апраксин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, Толстой, Шафиров и Бутурлин. «И учинен застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа по полудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком роскате, в гарнизоне, царевич Алексей Петрович преставился».[424]
Казалось бы, смерть царевича должна была положить конец существованию Тайной канцелярии. Учреждение должно было умереть, так сказать, естественной смертью, поскольку повод, вызвавший его появление, более не существовал. Тайная канцелярия, однако, продолжала существовать, превратившись в постоянно действующее учреждение политического сыска, расследовавшее так называемые государственные преступления.
Тайная канцелярия занимала особенное положение среди центральных учреждений страны. Ее исключительность состояла в том, что, по свидетельству В. И. Веретенникова, изучавшего историю этого учреждения, около 70 процентов дел, расследуемых канцелярией, возникло по инициативе Петра. Другим свидетельством живейшего интереса и пристального внимания Петра к работе Тайной канцелярии является тот факт, что царь раз в неделю слушал доклады «министров» по важнейшим процессам и выносил по ним определения о прекращении или продолжении следствия, а также приговоры.
Главным средством получения сведений от обвиняемых были физические истязания. В повседневной практике Тайной канцелярии пытки были настолько обыденным делом, что у зачерствелых сердец тех, кто заносил показания колодников на бумагу, они не вызывали ни боли, ни сострадания, ни удивления, ни отвращения. Смерть от пыток тоже не возводилась в ранг чрезвычайного происшествия.
Следственный процесс обычно начинался с допроса, производимого канцелярскими служителями. Заключения по делу, так называемые экстраты, поступали на столы «министров», резолюции которых определяли дальнейший ход розыска. Чаще всего в пыточных камерах орудовали подручные «министров» – канцелярские служители разных рангов. Иногда в застенках присутствовали сами «министры» – они задавали вопросы и определяли вид пытки.
Служебная переписка Толстого с «министрами» и канцелярскими служителями не дает оснований полагать, что
Петр Андреевич принадлежал к числу людей сердобольных и отзывчивых на чужую беду. Впрочем, жестокость была присуща не только Толстому. В такой же степени ее проявляли все «министры» Тайной канцелярии и сам царь. «Дьякона пытать… Другого, Иону, до обращения или до смерти», – писал Петр в Тайную канцелярию в феврале 1720 года. Петр Андреевич тоже как-то писал дьяку Палехину, что колодника Костромитинова надо пытать, можно и до смерти, «ибо памятно, как царское величество изволил о нем говорить, когда изволили быть в Тайной канцелярии». Здесь ссылка на царя, но у Петра Андреевича не дрогнула рука написать также слова: «…не надобно ему исчислять застенков, сколько бы их ни было, но чаще его пытать, доколе или повинится, или издохнет, понеже явную сплел ложь».
Ушаков, прославившийся исключительной жестокостью в годы царствования Анны Иоанновны, в письме Толстому мрачно шутил по поводу истязаний: «В Канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные, по которым тако же, яко и прежде, я доносил, что кнутом плутов посекаем да на волю отпускаем».
То ли служба в Тайной канцелярии становилась Толстому в тягость и вызывала душевные муки у немолодого человека, готовившего себя к покаянию перед тем, как отправиться в лучший мир; то ли он руководствовался какими-то личными выгодами; то ли считал для себя обременительным руководить Тайной канцелярией и заседать в Сенате (от должности президента Коммерц-коллегии он был освобожден в 1721 году); то ли, наконец, полагал, что для руководимого им учреждения наступило безвременье и к нему не поступало заслуживавших внимания колодников, – но Петр Андреевич выказал неподдельную радость, когда узнал, что в середине января 1724 года царь велел новых дел в канцелярию не принимать, а незаконченные передать Сенату. Это означало близкую ликвидацию Тайной канцелярии. В ответ на новость, сообщенную Ушаковым, Толстой писал: «Об отсылке дел в Сенат я уповаю, что вы, мой государь, потрудитесь скоряйше от той тягости освободить меня и себя, а ежели за бесчастие наше скоро канцелярия наша с нас не сымется, то, мнится мне, небезопасно нам будет оного (одного оставшегося дела) не следовать».[425]
Тайная розыскных дел канцелярия при Петре так и не была упразднена, ибо царь, издав указ, запрещавший принимать новые дела, вопреки своему же указу продолжал направлять колодников в канцелярию. Ликвидировала ее Екатерина I только в 1726 году. Указ 28 мая, адресованный
Толстому, гласил: Тайная канцелярия была учреждена в 1718 году «на время для случившихся тогда чрезвычайных тайных розыскных дел… подобные дела и ныне случаются, однако не так важные», которые расследует князь И. Ф. Ромодановский в Преображенском приказе, поэтому ему и надлежит передать все дела и приказных служителей к 1 июля 1726 года. Тайная канцелярия прекратила свое существование.
В. И. Веретенников высказал не лишенную основания догадку, что указ о ликвидации Тайной канцелярии был составлен самим Толстым, переживавшим в короткое царствование Екатерины I звездный час своей карьеры.
Начало блистательному взлету карьеры Толстого положило расследование им дела царевича Алексея. Сказать, что Петр Андреевич купался, подобно Меншикову в пору его процветания, в лучах славы и находился в таком же, как тот, фаворе, будет преувеличением. Бесспорно одно – известная настороженность Петра по отношению к Толстому исчезла, и он находился в числе немногих лиц, которых царь в последние годы жизни приблизил к себе и которым давал ответственные поручения.
Например, в 1719 году, когда в Петербурге были получены известия о намерении Пруссии заключить союзный договор с враждебной России Англией, а посол в Берлине А. Г. Головкин, сын канцлера, по мнению Петра, недостаточно энергично противодействовал англо-прусскому сближению, царь отправил в Пруссию более опытного и изворотливого дипломата, каким слыл Петр Андреевич. Приехав в начале июля 1719 года в Берлин, Толстой сразу же взялся за дело. Кабинет-секретарю А. В. Макарову он писал: «Я уже в Берлине живу неделю и во вся дни в конференциях трудимся; однакож вижу трудности немалые, и весьма сей двор намерен возобновить свою дружбу с королем аглинским, и хотя мы прилежно трудимся удержать, чтобы известного трактату без включения в оный его царского величества не заключили, но едва можем ли удержать, понеже они ласкают себя, что чрез сей трактат могут себе получить великие авантажи».
Толстой вел переговоры с прусским королем и его министрами до октября 1719 года. Ему не удалось помешать заключению договора Пруссии с Англией, но он сумел заручиться заверением прусского короля, что тот не станет ни тайно, ни явно действовать в ущерб интересам России.[426]
Не кто иной, а именно Толстой 7 февраля 1722 года объявил в Сенате, на заседание которого были приглашены и «две персоны» из Синода, Устав о наследии престола. Это был заключительный аккорд дела царевича Алексея: указ предоставлял право царствующему государю передавать престол не старшему, а любому из сыновей.
В том же 1722 году Петр Андреевич воспользовался обстоятельствами, чтобы войти в доверие к будущей императрице Екатерине I. Петр Великий, отправляясь в Каспийский поход, прихватил с собой и супругу, а также некоторых вельмож, среди них – Толстого. Как знаток стран, соседствовавших с Россией на юге, Толстой возглавил походную посольскую канцелярию царя. В то время как Петр во главе армии двинулся на юг завоевывать западное побережье Каспийского моря, двор Екатерины, а также посольская канцелярия находились в обозе. Петр Андреевич сумел сблизиться с императрицей. Здесь Толстой блеснул еще одной гранью своего таланта – он оказался интересным собеседником для скучавшей от безделья Екатерины. Видимо, поэтому Екатерина пожелала, чтобы церемонией провозглашения ее императрицей в мае 1724 года заправлял Толстой.
Перечисленные признаки роста влияния Толстого не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло 28 января 1725 года, когда умер Петр Великий. Екатерина была обязана восшествием на престол двум сановникам покойного супруга – Меншикову и Толстому. Их объединил страх за будущее. Оба они отдавали себе отчет в том, что утверждение на троне сына погибшего царевича Алексея ничего хорошего им не сулило. Напротив, Екатерина могла им гарантировать сохранение власти и богатства. Но как только Екатерина водрузила корону на свою голову, давно копившаяся неприязнь и соперничество за влияние на императрицу наложили печать на их взаимоотношения. Сначала они были прохладными, а затем стали и враждебными.
Одним из средств обуздания честолюбия светлейшего Толстой считал создание Верховного тайного совета. Петр Андреевич был в числе вельмож, вошедших в его состав. Однако его надежды на то, что новое учреждение ослабит влияние Меншикова, не оправдались. Назревала острая схватка двух вельмож, закончившаяся, как увидим ниже, полным поражением Петра Андреевича и крахом его блистательной карьеры. Гроза разразилась над его головой в то время, когда он, доживая последние годы, нуждался в покое. Поэтому его схватку с Меншиковым нельзя объяснить ни страстью к интригам, ни честолюбивыми замыслами. Это был акт самозащиты.
В заточении
«Самый темный для меня эпизод из жизни наших предков, это изгнание в Соловецком, где умерли Петр и Иван».[427] Слова эти принадлежат Льву Николаевичу Толстому. Известно, что он в 70-х годах XIX века изучал эпоху Петра Великого, с тем чтобы написать о ней роман. Живо интересовала писателя и судьба его далекого предка, родоначальника графов Толстых – Петра Андреевича. Сведения о его жизни и деятельности Лев Николаевич мог почерпнуть в трудах таких историков, как Н. Г. Устрялов, М. П. Погодин и С. М. Соловьев. Однако последние годы жизни П. А. Толстого выходят за рамки трудов Устрялова и Погодина, а у С. М. Соловьева о них сказано бегло. Статья Е. П. Ковалевского «Суд над графом Девиером и его соучастниками»[428] хотя и была опубликована в 1871 году, но не раскрывает в полной мере участия в заговоре П. А. Толстого, поскольку центральной фигурой следствия был А. М. Девиер.
В пятницу, 28 апреля 1727 года, в покоях царского дворца в Санкт-Петербурге наступило некоторое успокоение: придворным, находившимся в напряженном ожидании близкой кончины императрицы, стало известно, что она почувствовала облегчение и даже подписала два указа, круто изменившие судьбы по крайней мере трех видных сподвижников Петра.
В этот день в Петропавловскую крепость были приглашены действительный тайный советник и канцлер граф Гавриил Иванович Головкин, действительный тайный советник князь Дмитрий Михайлович Голицын и четыре человека в военных мундирах: генерал-лейтенант Дмитриев-Мамонов, генерал-лейтенант князь Григорий Юсупов, генерал-майор Алексей Волков и обер-комендант столицы бригадир Фаминцын. Все названные лица, согласно именному указу, назначались членами следственной комиссии, получившей несколько позже наименование Учрежденного суда.
Комиссии поручалось расследовать поступки генерал-полицеймейстера Санкт-Петербурга Антона Мануиловича Девиера. Ему было предъявлено обвинение в том, что он, как сказано в указе, «явился подозрителен в превеликих продерзостях, но и, кроме того, во время нашей, по воле Божией, прежестокой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все ево боялись». Указ содержал зловещее дополнение: «…кто к тому делу приличится, следовать же и розыскивать и нас о всем репортовать обстоятельно».[429] Второй указ, тоже именной, разъяснял суть обвинений, предъявленных Девиеру.
Первоприсутствующим Учрежденного суда значился канцлер Головкин. Фактическим же, так сказать, закулисным руководителем суда, пристально наблюдавшим за его деятельностью, был А. Д. Меншиков. Так думать нас вынуждает прежде всего состав суда, укомплектованного его людьми. Светлейший, видимо, полагал – и, кстати говоря, не ошибся в своих расчетах, – что два действительных тайных советника – Г. И. Головкин и Д. М. Голицын – готовы безропотно подчиниться его воле. Что касается генералов и бригадира, то достаточно беглого просмотра «Повседневных записок» князя Меншикова, чтобы убедиться в том, что они были не только его подчиненными, поскольку он занимал пост президента Военной коллегии, но и близкими ему людьми, ибо являлись завсегдатаями его дворца.
Девиер был взят под стражу еще 24 апреля. В освещении «Повседневных записок» арест выглядел так: в тот день, во втором часу, Меншиков отправился к Екатерине «и, немного побыв, вышел в переднюю и приказом ея императорского величества у генерал-полицеймейстера графа Девиера изволил снять кавалерию (орден. – Н. 77.)и приказал гвардии караульному капитану арестовать и потом, паки побыв у ея императорского величества с полчаса, изволил возвратиться в свои покои». Саксонский посол Лефорт при описании этого события сообщил некоторые подробности: «К Девиеру, находившемуся в покоях дворца, явился караульный капитан и, объявив ему арест, потребовал от него шпагу. Девиер, показывая вид, что отдает шпагу, вынимает ее с намерением заколоть князя Меншикова, стоявшего сзади его, но удар был отведен».[430]
Аресту Девиера предшествовал секретный разговор Меншикова с Голицыным, состоявшийся 24 апреля. В тот же день за обеденным столом в покоях дворца Меншикова сидели два будущих члена суда – Юсупов и Волков. Два дня спустя Меншиков вел разговоры не только с Голицыным, но и с Головкиным. О чем они беседовали, причем не публично, а, как подчеркнуто в записках, «тайно»?
Позволим себе высказать предположение, что не о погоде, хотя кто-нибудь из собеседников и мог посетовать на ее ухудшение. В «Повседневных записках» под 26 апреля помечено: «…сей день было хладно, и ветер, и Невою шел лед». По всей вероятности, Меншиков уговаривал своих собеседников войти в состав суда и обговаривал его задачи.
Встречи Меншикова с членами Учрежденного суда Дмитриевым-Мамоновым, Юсуповым, Волковым и Фаминцыным состоялись 29 и 30 апреля. 4 мая светлейший «с час» разговаривал с князем Юсуповым, а 5 мая – с Волковым и Дмитриевым-Мамоновым. В «Повседневных записках» отмечен еще один любопытный факт: светлейший в этот день посетил Петропавловский собор и коменданта крепости. В том, что Меншиков слушал обедню, ничего необычного, разумеется, не было, а вот визит к коменданту несомненно был связан с содержанием в крепости Девиера.
Другим свидетельством активного участия Меншикова в следствии являются его частые встречи с вице-канцлером Андреем Ивановичем Остерманом. О содержании разговоров между ними упомянутый выше источник тоже молчит, но вряд ли будет ошибочным предположение, что собеседники обсуждали дело Девиера и вопросы, с ним связанные: о наследовании престола и сватовстве дочери Меншикова. Заметим, кстати, что ни с кем из вельмож светлейший так много не встречался в те дни, как с Остерманом. Этот факт сам по себе наводит на мысль, что Остерман, ловкими интригами набиравший силу, был главным консультантом Меншикова.
Князь отправился к Остерману в день ареста Девиера и пробыл у него около трех часов. Тайный разговор с ним он вел у себя и на следующий день, а 26 апреля снова поехал к нему сам. В воскресенье, 30 апреля, Остерман сидел у Меншикова за обеденным столом. Но особенно участились встречи Меншикова с Остерманом в начале мая, когда состояние здоровья императрицы вновь ухудшилось, а следствие по делу Девиера – Толстого подходило к концу: 1 и 2 мая они виделись по два раза в день.[431]
Сохранились следы и прямого вмешательства князя в работу Учрежденного суда. Так, Меншиков отправил суду два недатированных письма. В первом он изложил дополнительное обвинение в адрес Девиера. Оно состояло в том, что Девиер, как только императрица «изволит от сна востать», выспрашивал у девушек обо всем, что происходило в покоях больной. Однажды он задавал такого рода вопросы в бане, где Меншиков застал его «с некоторою девушкою».
Второе письмо касалось процедурных и организационных вопросов. Меншиков предлагал Головкину, чтобы тот объявил всем членам суда о необходимости дать присягу, «дабы поступать правдиво и никому не манить, и о том деле ни с кем не разговаривать». Князь предлагал начать следствие «завтре поутру» и предупреждал: «… а розыску над ним (Девиером. – Н. П.) не чинить», то есть не прибегать к пыткам.
Следствие началось 28 апреля. Девиеру во время первого же допроса велено было ответить на 13 вопросов. На первый взгляд вопросы, как и ответы на них, больших опасностей допрашиваемому не сулили.
Первое и, вероятно, самое главное обвинение состояло в том, что Девиер, находясь в царском дворце в день обострения болезни императрицы, не проявлял печали, а, напротив, веселился. Допрашиваемый разъяснил, что он просто назвал лакея Алексея, у которого попросил пить, Егором. Эта ошибка вызвала у присутствовавших, и среди них у великого князя Петра Алексеевича, смех потому, что на его зов обернулся придворный шут князь Никита Трубецкой, которого прозвали Егором. Смех, разумеется неуместный, был вызван непреднамеренно и стал своего рода разрядкой в ожидании трагической развязки.
Девиеру удалось отвести и обвинение в непочтительном отношении к цесаревнам Елизавете и Анне Петровнам. Граф разъяснил, что Елизавете Петровне он «решпект» отдавал, а при появлении Анны Петровны он хотел встать, но цесаревна сама не только ему, но и всем присутствовавшим в покоях «вставать не приказала».
Согласно обвинению, Девиер будто бы сказал рыдавшей Анне Петровне:
– О чем печалисся, выпей рюмку вина.
Девиер заявил, что не помнит, произносил ли он подобные слова, но признал, что, когда цесаревна села за стол и отведала вина, сказал ей:
– Полно, государыня, печалитца, пожалуй и мне рюмку вина своего, и я выпью.
Обвиняемый наотрез отказался от слов, будто бы сказанных великому князю Петру Алексеевичу:
– Поедем со мною в коляске, будет тебе лутче и воля. А матери твоей уже не быть живой.
В ряде случаев, по показаниям Девиера, приписываемые ему слова были искажены до неузнаваемости. Так, его обвинили в том, что он заявил великому князю, что за невестой, с которой у князя состоялся сговор, будут «волочитца» поклонники. Девиер подал разговор в выгодном для себя свете: он, Девиер, «говаривал его высочеству часто, чтоб он изволил учиться. А как надел кавалерию – худо учился. А как зговорит женитца – станет ходить за невестою и будет ревновать, учиться не станет». Разговоры эти, разъяснял Девиер, он вел, «чтоб придать охоту к учению ево».
О Софье Карлусовне Девиер показал:
– Вертел ли вместо танцев плачущую Софью Карлусовну или нет, не упомню, а такие слова, что не надобно плакать, помнитца, говорил, утешая.
Отметим, что заявление допрашиваемого «не упомню» расценивалось в судебной практике ХVII-ХVIII веков как полупризнание или признание справедливости выдвинутого обвинения.
На вопросы, заданные по предложению Меншикова, Девиер показал, что он разговаривал с девушками «о здравии ея императорского величества, как изволила почивать и встать». Что касается случая в бане, то о нем, заявил Девиер, он не помнит. Впрочем, он признал, что «з девушками и с мужеским полом в бане сиживал и разговаривал». Кстати, допрошенная Учрежденным судом «придворная девица Катерина» призналась, что она разговаривала с Девиером в бане, но об «обхождении при дворе он у ней не спрашивал».
Сняв допрос, члены Учрежденного суда немедленно отправились с докладом к императрице. Все ответы Девиера суд разбил на три группы, а именно: «которые слова не весьма важные, оные отчасти сказал он, что говорил только в противной какой разум»; о других сказал, что «не помнит, а что помнит и то другим образом»; о самых важных обвинениях сказал, «что того весьма не чинил».
Выслушав заключение, императрица – конечно же по подсказке Меншикова – устно «изволила повелеть ему, Антону Девиеру, объявить последнее, чтоб он по христианской и присяжной должности объявил всех, которые с ним сообщники в известных причинах и делах, и к кому он ездил и советовал и когда, понеже-де надобно то собрание все сыскать и искоренить ради государственной пользы и тишины. А ежели-де не объявит, то ево пытать». В подтверждение устного указа Головкину «с товарищи» был направлен письменный за подписью Екатерины и датированный тем же 28 апреля. Указ заканчивался угрозой: «Ежели он всех не объявит, то следовать розыском немедленно».
Два обстоятельства не могут не обратить на себя внимание при знакомстве с содержанием следственного дела.
Одно из них состоит в невероятной поспешности в проведении следствия. В самом деле, в течение лишь одного дня 28 апреля был создан Учрежденный суд, подписано императрицей два указа, составлены вопросные пункты, снят допрос с Девиера, произведен анализ полученных ответов, доложен императрице, от которой тут же последовал новый указ. Здесь виден почерк Меншикова, человека столь же напористого, как и решительного. Он, разумеется, спешил, ибо знал, что дни Екатерины сочтены и следствие надлежало закрыть при ее жизни, чтобы она успела подписать указ о наказании виновных.
Еще более поражает воображение метаморфоза, происшедшая с самим делом в течение одного дня. Вспомним, первоначально речь шла о «предерзостных» поступках одного Девиера. Теперь заговорили о сообщниках, «к кому он ездил и советовал и когда». Вначале суть обвинений ограничивалась, если можно так выразиться, ущербом, наносимым представителям царствующей фамилии. В конце дня речь уже шла о действиях, направленных «к великому возмущению», и, следовательно, о необходимости виновников «сыскать и искоренить ради государственной пользы и тишины».
Итак, Девиер «предерзостный» росчерком пера превратился в Девиера – опасного политического преступника, причем непосредственная связь между первыми показаниями обвиняемого и последующей квалификацией его вины не прослеживается: ни из вопросов, ни из ответов на них не вытекало, что государству грозило «великое возмущение».
Тщетно искать в источниках объяснений происшедшему повороту. Наиболее простым и вероятным объяснением случившегося могло бы быть предположение, что Меншиков именно к концу дня 28 апреля получил от кого-то дополнительную информацию о действиях Девиера, далеко выходивших за рамки нарушения придворного этикета и направленных лично против него, Меншикова. Но в этом построении есть одно уязвимое место: если Меншиков не знал о кознях, затеянных против него, то зачем ему понадобилось прибегать к таким суровым мерам в отношении Девиера, как его арест и снятие с него «кавалерии»?
Не лишено оснований и другое объяснение: Меншикову было заведомо известно о замыслах Девиера, но он первоначально предпочел выдвинуть в качестве обвинения не действия против своей персоны, а пренебрежение к представителям царствующей фамилии. Видимо, князь решил, что так ему легче будет убедить смертельно больную императрицу в необходимости организовать суд и начать следствие. Меншиков понимал, что в данном случае важен первый шаг, а потом закрученная пружина придаст делу движение, которое можно будет без особых усилий повернуть в угодном ему направлении.
В пользу подобного хода мыслей говорят, правда глухо, слова первого указа Екатерины о том, что Девиер во время ее «прежестокой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все ево боялись». Не относились ли бросаемые несдержанным Девиером угрозы к Меншикову?
Некоторый свет на причины поворота в следствии проливает показание княгини Аграфены Петровны Волконской, гофдамы императрицы, возглавлявшей оппозиционный Меншикову кружок, в состав которого входили менее влиятельные люди, чем в кружок Девиера – Толстого.
27 апреля фактотум Меншикова Егор Пашков обратился к Волконской с просьбой рассказать ему о том, «с каким доношением на его светлость господин Толстой хочет быть и доносить ея императорскому величеству». Рассчитывая на благосклонность Меншикова при решении своей судьбы, княгиня сообщила Пашкову сведения, значение которых трудно переоценить: «…Толстой говорил, якобы его светлость делает все дела по своему хотению, не взирая на права государственные, без совета, и многие чинит непорядки, о чем он, Толстой, хочет доносить ея императорскому величеству и ищет давно времени, но его светлость беспрестанно во дворце, чего ради какового случая он, Толстой, сыскать не может».[432]
Княгиня Волконская этим признанием себя не спасла. Под 2 мая 1727 года в «Повседневных записках» читаем: «Сего числа дана дорожная княгине Волконской до Москвы и объявлено, что ея императорское величество указала ей жить в Москве или в деревнях своих, а далее чтоб никуда не ездить».
Сведения, полученные от Волконской, надо полагать, дали основание Меншикову заподозрить, что Девиер был не одинок, что из него можно вытянуть показания куда более важные, чем те данные, которыми он располагал на 28 апреля.
Ночь с 28 на 29 апреля Девиеру дали провести наедине с тревожными думами о будущем. Но уже утром ему был зачитан именной указ, подписанный Екатериной накануне, с угрозой применить пытку. Ответ Девиера отличался категоричностью: «Он никаких сообщников ни в каких известных притчинных делах у себя не имеет. И ни х кому он для советов и к нему никто ж о каком злом умысле к интересу ея императорского величества и государству не ездил и не советывал никогда». Поразмыслив, он все же признался, что после своего возвращения из Курляндии нанес визит герцогу Голштинскому (супругу Анны Петровны. – Н. 77.), у которого спросил, слышал ли он о заговоре великого князя. Тот дал утвердительный ответ и в свою очередь спросил: «Как-де ты думаешь, не будет ли то противно интересу ея императорского величества?» Девиер ответил: «Мне-де кажетца то ж». Далее он показал, что «о том же говорил с Иваном Ивановичем Бутурлиным, и положили о том доносить ея императорскому величеству и на то искать времяни».
Суд счел признания недостаточными и велел отвести Девиера в застенок. Дыбу он стерпел, продолжая утверждать, что «никаких сообщников у себя о злом каком умысле к интересу ея императорского величества и государства не имеет, и ни х кому он для советов о каком злом умысле не ездил, и ни от кого о том такого злаго побуждения не имел». Но вынести 25 ударов было выше его сил, и он хотя и «утверждался в прежних своих речах», но признался, что к Бутурлину ездил не один раз, а дважды «и говорил с ним о свадьбе великого князя». Тут же Девиер сообщил, как увидим ниже, явную ложь: «…а более того никуды не ездил».
Итак, было названо два новых имени: герцог Голштинский и генерал Бутурлин. Этого было достаточно, чтобы круг лиц, привлеченных к следствию, расширился, ибо каждый из оговоренных называл новые имена. Правда, герцога Голштинского оставили в покое, но и без него суд в общей сложности допрашивал пять человек: Ивана Ивановича Бутурлина, Петра Андреевича Толстого, Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, Александра Львовича Нарышкина, князя Ивана Долгорукова.
С 29 апреля, когда была произнесена фамилия Бутурлина, Учрежденный суд как бы забыл о «продерзостях» Девиера во время жестокого «пароксизма» императрицы. Словно охотник, напавший на след более крупной дичи, суд занялся выяснением вопроса, который в одинаковой мере интересовал как Меншикова, так и его противников, оказавшихся под следствием. Чтобы прояснить его суть, следует вернуться к более раннему времени.
Петр Великий, как известно, не оставил завещания. Среди возможных преемников – а их было несколько – наибольшие шансы занять престол имели царевич Петр Алексеевич, внук Петра Великого и сын казненного царевича Алексея, а также супруга умершего царя Екатерина Алексеевна. Право было на стороне двенадцатилетнего Петра Алексеевича, но троном распоряжалось не эфемерное право, а реальные политические силы.
Ближайшему окружению покойного царя, равно как и овдовевшей его супруге, воцарение малолетнего Петра Алексеевича, поддерживаемого аристократическими фамилиями Голицыных и Долгоруковых, ничего хорошего не сулило. Утвердившись на троне и повзрослев, рассуждали они, Петр станет мстить всем, кто повинен в смерти его отца, и первыми жертвами его расправы будут те, кто поставил свои подписи под смертным приговором царевичу Алексею. Список подписавшихся возглавил Меншиков, за ним следовали
Головкин, Апраксин, Толстой, Шафиров, Бутурлин и десятки менее видных сподвижников Петра. Если и не всех их ждала виселица, то опала, означавшая конец карьеры, подстерегала едва ли не все 127 персон, отправивших Алексея Петровича на эшафот.
Опасение за будущее заставило их объединиться вокруг Екатерины и таким образом воспрепятствовать воцарению Петра Алексеевича. Во главе ее сторонников стоял Меншиков. Силой, на которую он опирался при возведении на престол Екатерины, были гвардейские полки.
Но вот Екатерина Алексеевна утвердилась на троне, и от единства не осталось и следа. Повод для распрей и размолвок подал сам Меншиков. Он не довольствовался тем, что подчинил своей воле больную и не интересовавшуюся делами управления императрицу и прибрал к рукам фактическую власть в стране. Он глядел вдаль, размышляя о недалеком будущем, когда Екатерины не станет и он останется без опоры, предоставлявшей ему статус полудержавного властелина.
Короче, Меншиков решил породниться с царствующей династией, выдав замуж свою дочь за Петра Алексеевича. Надумав осуществить этот дерзкий план, князь, естественно, сделал крутой поворот в своем отношении к воцарению Петра и к бывшим единомышленникам, вместе с которыми он не так давно противился его вступлению на престол. Из противника вступления на престол Петра светлейший превратился в горячего сторонника наследования им короны.
Как ни тайно готовилось завещание Екатерины, его содержание стало достоянием придворных кругов и вызвало среди них смятение. Оно еще более усилилось, когда состоялась помолвка дочери светлейшего князя и Петра. Над одними нависла угроза оказаться в опале, другие усматривали главную беду в укреплении позиций Меншикова, который на положении регента будет распоряжаться всем и вся.
В нашу задачу не входит подробное изложение хода следствия и показаний каждого из обвиняемых. Остановимся лишь на важнейших из них.
29 апреля в крепость был вызван Бутурлин. Он показал, что Девиер приезжал к нему дважды и каждый раз затевал разговор о сватовстве: «Светлейший князь сватает свою дочь за великого князя. Как бы то удержать, чтоб не было такой опасности высокому интересу ея императорского величества. А особливо опасно, когда светлейший князь с великим князем будут заодно: чтоб тою персону, которая в Шлютенбурхе (Евдокию Лопухину. – Н. 77.), не взяли сюда и ея величеству, государыне императрице, какой худобы не было. И для того как мочно удерживали. И чтоб он, господин генерал Бутурлин, вкупе с адмиралом (Ф. А. Апраксиным. – Н. П.) и графом Толстым шли к ея величеству и о том предлагали».
В Бутурлине Девиер обрел единомышленника. Иван Иванович не возражал против необходимости оказывать планам Меншикова противодействие, но сомневался в целесообразности коллективного визита к императрице:
– Всем вместе нельзя, а станет один говорить, когда будет время.
Обсуждались также угодные для собеседников кандидатуры на престол.
Бутурлин. Анна Петровна «на отца походит и умна».
Девиер. То правда, она и умильна собою и приемна и умна. А и государыня Елисавет Петровна изрядная, только-де сердитее ее. Ежели б в моей воле было, я б желал, чтобы цесаревну Анну Петровну государыня изволила сделать наследницею.
Бутурлин. То б не худо было, и я б желал, ежели государыне не было противно.
Никто из обвиняемых не проявлял такой готовности давать показания, как Девиер. После пытки 29 апреля его более не обременяли душевные сомнения, и он лихорадочно напрягал память, чтобы припомнить детали своих разговоров и поведать о них Учрежденному суду. В общей сложности его допрашивали девять раз, в том числе дважды под пыткой. Для сравнения сообщим, что Скорняков-Писарев давал показания трижды, Долгоруков и Бутурлин – по два раза, а Толстой, Нарышкин и Ушаков – по одному.
Однажды, показал Девиер, к нему приехал Толстой. Визит был настолько неожиданным для хозяина, что он не удержался от вопроса гостю:
– Что тебе зделалось, что ты отроду у меня не бывал. Толстой, опытный и умный делец и интриган, не стал
сразу раскрывать все карты, решив прощупать настроение собеседника:
– Я недавно проведал, что жена твоя родила, для того и приехал.
От разговоров об этом семейном событии Толстой перешел к хлопотам о судьбе своего сына Ивана:
– Мне крайняя нужда пришла тебя просить…
– О чем?
– Сын мой в продерзость впал, и государыня гневна.
– Я также слышал, что безделицу зделал.
Девиер согласился оказать помощь Толстому в его хлопотах, но при одном условии: «Ежели при том буду, готов просить».
Убедившись в благожелательном к себе отношении Девиера, Толстой перешел к обсуждению вопроса, ради которого приехал к нему. Начал он издалека:
– Говорил ли тебе королевское высочество (герцог Голштинский. – Н. П.) что-нибудь?
– Нечто он мне говорил, – ответил Девиер.
– Ведаешь ли ты, что делаетца сватовство у великого князя на дочери светлейшего князя?
Девиер, если верить его показаниям, осторожничал и выжидал, что не соответствовало его темпераменту.
– Отчасти о том я ведаю, а подлинно не ведаю. Токмо его светлость обходитца с великим князем ласково. Тому надобно противитца.
Толстой стал развивать мысль о грозившей им всем опасности и излагать план действий:
– Надобно о том донесть ея величеству со обстоятельством, что впредь может статца: светлейший князь и так велик в милости; ежели то зделаетца по воле ея величества – не будет ли государыне после того какая противность, понеже того он захочет добра больше великому князю. Он и так чести любив, потом зделает, и может статца, что великого князя наследником и бабушку ево (бывшую супругу Петра I Евдокию Федоровну. – Н. П.) велит сюда привесть. А она нраву особливого, жестокосердна, захочет выместить злобу.
У Толстого было и конкретное предложение: надобно уговорить, «чтобы ея императорское величество для своего интереса короновать изволила при себе цесаревну Елисавет Петровну, или Анну Петровну, или обеих вместе. И когда так зделаетца, то ея величеству благонадежнее будет, что дети ее родные».
А как быть с царевичем Петром Алексеевичем? У Толстого и на этот счет были соображения:
– Как великий князь научитца, тогда можно ево за море послать погулять и для обучения посмотреть другие государства, как и протчие европские принцы посылаютца, чтоб между тем могли утвердитца здесь каранция их высочеств.
Толстой добавил, что об этом плане осведомлен Иван Иванович Бутурлин, который «хочет ея величеству о том донесть». Толстому довелось услышать от Девиера слова упрека.
– Что-де вы молчите? Светлейший князь овладел всем Верховным советом! Лутче б-де было, коли б меня в Верховный совет определили, – выпалил он без ложной скромности.[433]
2 мая Девиер «в дополнку» ранее данным показаниям о разговорах с Бутурлиным относительно сватовства привел любопытные суждения старого генерала об отношениях между вельможами. Девиер, выгораживая себя, старался оставить в тени свое участие в разговоре и, естественно, выпячивал роль Бутурлина. По его словам, Иван Иванович произнес длинный монолог о том, что вельможи не любят Меншикова.
– Токмо-де светлейший князь не думал бы того, чтоб князь Дмитрей Михайлович Голицын и брат ево князь Михайла Михайлович и князь Борис Иванович Куракин и их фамилия допустили ево, чтоб он властвовал над ними. Напрасно-де светлейший князь думает, что они ему друзья… Ему скажут-де: «Полно-де, миленькой, и так ты над нами властвовал, поди прочь!» Правда, светлейший князь не знает, с кем знатца. Хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен. Токмо для своего интересу (он это делает).
Бутурлин объяснил и причины своего недовольства: «И понеже давно служу: и при государе блаженные памяти показывал великую службу, когда была ссора у его величества с сестрою, царевною Софьею Алексеевною. И ныне б служить готов, токмо б искать государственной пользы».
– Очень-то хорошева дела, и всем так надобно делать, – бросил реплику Девиер.
Бутурлин ему возразил, ибо был готов «искать» государственную пользу только в том случае, если она совпадала с его личными интересами.
– Что-де хорошева, что светлейший князь что хочет, то и делает. И меня-де, мужика старова, обидил – команду отдал мимо ево младшему. К тому ж и адъютанта отнял у меня. Чего ради он так делает? Знатно, для своего интересу. А надеюсь, что государыня о сем не известна. Буду ея величеству жаловатца и ему стану говорить: «Откуда он такую власть взял?» Разве за то, что я много ему добра делал, о чем он, светлейший князь, довольно ведает, а теперь забыто. Так-то он знает, кто ему добро делает!
Такой сентенцией закончил свой монолог Бутурлин.
Новый этап следствия наступил со 2 мая, когда суд привлек к дознанию Скорнякова-Писарева и князя Долгорукова, а позже Толстого и Ушакова.
2 мая суд, руководствуясь устным повелением императрицы, вынес определение: Скорнякова-Писарева и Долгорукова допросить в крепости, «а протчих по дворем». Однако уже на следующий день Толстому был объявлен домашний арест: «…дабы вы без указу из дому своего не выезжали и писем никуда никаких не писали до окончания дела. И у двора вашего поставить караул, чтоб к вам никто не приезжали». 4 мая аналогичный указ был объявлен и Бутурлину.
Из допроса Скорнякова-Писарева следует, что он более всего был озабочен намерением Меншикова передать престол Петру Алексеевичу. Признаки этого намерения он обнаружил еще в ноябре 1726 года, когда намечался фейерверк по случаю тезоименитства императрицы Екатерины.
План фейерверка был сочинен Скорняковым-Писаревым и Василием Корчминым и представлен на утверждение Меншикову. Тот забраковал его и поручил полковнику Витверу составить новый. Полковник, надо полагать, безоговорочно заложил в фейерверк идею, подсказанную князем: был нарисован столб, а на нем – корона; к столбу прикреплена веревка с якорем, частично зарытым в землю; у столба молодой человек с глобусом и циркулем в одной руке, другой рукой он держал веревку.
Скорняков-Писарев уже тогда не без основания заподозрил, что Меншиков «тою фигурою являет наследником великого князя», и, будучи человеком грубым и прямолинейным, предложил Толстому донести о меншиковской затее с фейерверком императрице. Граф отказался. Писарев пригрозил:
– Ежели ето дело будет шумно, то я скажу ея величеству государыне императрице, что о том тебе сказывал.[434]
Угроза подействовала – Толстой доложил, и чертеж фейерверка в конечном счете был изменен.
Для нас наибольший интерес представляет допрос Петра Андреевича Толстого. Ему было предложено ответить на 14 вопросов. В своих ответах он либо подтверждал, либо уточнял, либо отклонял показания других обвиняемых, либо, наконец, объяснял свое поведение и поступки.
Граф Петр Андреевич подтвердил главную свою вину: он действительно развивал перед Девиером план отстранения от престола великого князя путем отправки его за границу и провозглашения наследницей Елизаветы Петровны. Настаивая на этом, он имел в виду прежде всего личную безопасность. «А говорил с ним (Девиером. – Н. П.) такие слова для того, – показал Толстой, – что… по указу блаженные и вечнодостойные памяти императорского величества привез царевича Алексея Петровича из чюжих краев в Росию. И когда о том деле были розыски, у тех розысков по указу его же величества был… Того ради опасался, чтоб… не припамятовано было впредь». По этой же причине он ничего хорошего не ожидал и от освобождения из заточения бабки Петра Алексеевича Евдокии Лопухиной: «Ежели бабка великого князя будет взята (ко двору. – Н. П.), будет мстить за грубость… к ней и блаженныя памяти государя императора дела опровергать».
Толстой сначала отклонил показание Девиера, будто он, Толстой, высказывался за коронование цесаревны Анны Петровны или обеих цесаревен вместе. По его признанию, он на эту тему выражал верноподданнические чувства. «Все то положим на волю Божию, – говорил Толстой Скорнякову-Писареву, – и, кого Бог учинит наследником, тому мы должны служить верно». Но, проявив в данном случае рабскую покорность обстоятельствам, Толстой на вопрос следователей, заданный позже, ответил, что в дни кризиса болезни императрицы он полагал, «чтоб ея величество изволила учинить наследника или наследницу, кого изволит, чтоб государство не осталось без наследства и не воспоследовало б в народе какое смущение». В конечном итоге он признал, что они с Бутурлиным много раз обменивались мнениями на этот счет и «желали, чтоб ея императорское величество изволила учинить наследницею дочерь свою Елисавету Петровну».
4 мая, когда следователи допрашивали Нарышкина в его доме, туда прибыл секретарь Меншикова Яковлев с повелением, чтобы они «ехали немедленно ко двору ея величества». Здесь императрица «указала всему собранию Учрежденного суда сказать, чтоб к будущей субботе изготовить к решению экстракты изо всего дела и приличные указы как из воинских, так и из статских прав». 5 мая это устное повеление было оформлено письменным указом, подписанным императрицей, причем сроки завершения дела еще более ужимались. Указ предлагал сентенцию (приговор) из дела «доложить нам, кончая в 6 день сего месяца, поутру».
Расследование дела не было закончено. Например, остались невыясненными разноречия в показаниях Толстого и Бутурлина. Нуждались в проверке показания княгини Волконской о намерении Толстого проникнуть в покои императрицы, чтобы донести ей о самоуправстве Меншикова. До конца не ясным остался и вопрос о привлечении к заговору адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Обвиняемые возлагали на него надежды, вели на этот счет разговоры между собой, но делились ли они с ним своими планами – неизвестно. Учрежденный суд пропускал мимо ушей наветы на Апраксина. Да и репутация члена Учрежденного суда Д. М. Голицына показаниями Бутурлина оказалась подмоченной.
Характерно, что факт незавершенности процесса признавал и именной указ от 5 мая: «А буде кто еще из оных же, которые уже приличились следованием, не окончано, и то за краткостию времени оставить. И ежели некоторых по тому же делу вновь что показано, а они не допрашиваны – тех допрашивать впредь». Эта часть указа осталась пустым пожеланием – Меншикову было не до тонкостей и не до точного определения степени виновности каждого из привлеченных к следствию. Ему во что бы то ни стало надобно было, чтобы его противники оказались поверженными еще при жизни императрицы и ее именем. Именно такой ход событий обеспечивал ему успешное завершение задуманного – возведение на престол великого князя Петра Алексеевича и женитьбу его на своей дочери.
Выполняя указ императрицы о выписке «из воинских и статских указов» приличествующих случаю «артикулов», Учрежденный суд обратился к Уложению 1649 года. Но в нем подходящих статей не удалось обнаружить. Статья первая второй главы хотя и была выписана, но прямого отношения к данной ситуации не имела, ибо предусматривала смертную казнь тем, кто «каким умышлением учнет мыслить на государское здоровье злое дело».
Приличествующие случаю «артикулы» оказались не в кодексе семидесятипятилетней давности, а в нормативных актах более позднего происхождения – в Уставе о наследии престола 1722 года и Правде воли монаршей, опубликованной в 1726 году. Бросается в глаза важная деталь: канцелярский аппарат не располагал ни минутой свободного времени, чтобы тратить его на выписки из воинских и статских регламентов и указов. Сентенция составлялась, что называется, с листа, без промежуточного этапа, под которым подразумевались требуемые указом выписки.
Спешка видна и в другом: экстракты, то есть краткие резюме допросов обвиняемых, и сентенция были написаны четырьмя разными почерками. Это дает основание считать, что отдельные части документов составлялись разными лицами одновременно. Впрочем, даже такая организация работы не обеспечила завершения ее в назначенный срок. Вспомним, что указ повелевал доложить сентенцию, «кончая в 6 день сего месяца, поутру», а докладывали ее, как явствует из документов, много позже – после трех часов дня.
Первую половину дня 6 мая Учрежденный суд в полном составе слушал экстракты, затем поручил канцеляристам сочинить сентенцию. «Потом, – читаем в журнальной записи суда, – пополудни в 3-м часу слушали вышеозначенной сентенции и, подписав своими руками, ездили все собрание во дворец для докладу по той сентенции ея императорскому величеству». В журнальной записи значатся слова «и докладывали, а вслед за ними сказано, что „дан им имянной ея императорского величества указ за подписанием собственные ея императорского величества руки“.[435]
Последовательность столь обстоятельно зарегистрированной процедуры, происходившей у смертного одра императрицы, вызывает сомнения. Не могла Екатерина за несколько часов до кончины слушать доклад и тем более выражать свое мнение по поводу выслушанного, а она умерла в тот же день, 6 мая 1727 года, в девятом часу вечера.
В делах Учрежденного суда действительно имеется указ, о котором шла речь выше, и под ним значится подлинная подпись Екатерины. Остается предположить, что в минуту, когда смерть, перед тем как окончательно одолеть свою жертву, на миг отступила, Меншиков, не спускавший глаз с императрицы, подсунул ей указ, который та, как говорится, не глядя подписала.
Вернемся, однако, к содержанию сентенции. Первая ее часть не представляет большого интереса, поскольку в ней в сжатом виде перечисляются «вины» каждого из подследственных, нам уже известные. Новая информация заложена во второй части приговора, являвшейся своего рода обвинительным заключением, в котором действия и помыслы обвиняемых подведены под статьи законов.
Главное преступление обвиняемых состояло в том, что они, зная «все указы и регламенты, которые запрещают о таких важных делах, а наипаче о наследствии, не токмо с кем советовать, но и самому с собою разсуждать и толковать, кольми же паче дерзать определять наследника монархии по своей воле, кто кому угоден, а не по высокой воле ея императорского величества», противились этой воле. Поэтому они будут «за изменника почтены» и подлежат смертной казни и анафеме.
Второе преступление обвиняемых связано со сватовством великого князя. В сентенции написано, что все «персоны, которые тщилися домогаться не допускать до того (свадьбы. – Н. П.), весьма погрешили как против высокой воли ея величества, так и во оскорблении его высочества великого князя».
Виновность привлеченных к следствию усугублялась тем, что «все вышеписанные злые умыслы и разговоры чинены были от них по их партикулярным страстям, а не по доброжелательству к ея императорскому величеству». Так, «граф Толстой сказал, что боялся великого князя, а протчие сказали, что боялись усилования светлейшего князя».
Далее следуют определенные судом меры наказания: Девиера и Толстого, «яко пущих в том преступников, казнить смертию»; генерала Бутурлина, лишив чинов и данных деревень, отправить в ссылку в дальние деревни; князя Ивана Долгорукова «отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки»; Александра Нарышкина лишить чина и отправить в деревню безвыездно; Андрея Ушакова за то, что он не донес о слышанных им разговорах относительно престолонаследия и сватовства, отстранить от службы.
Одна деталь сентенции требует пояснения. Материалы следствия свидетельствуют о различной степени участия в заговоре Девиера и Толстого: активность проявлял первый из них. Это он затевал разговоры то с одним, то с другим обвиняемым, привлекал их к участию в заговоре, увещевал действовать, в то время как Толстой не обнаруживал инициативы и осторожно, а иногда и уклончиво отвечал лишь на предложения, сформулированные собеседником. Между тем и тому и другому сентенция определила одинаковую меру наказания – смертную казнь.
Недоумение прояснится, если учесть, что для Меншикова главным противником был Толстой. Светлейший конечно же понимал, что ни Девиер, ни Скорняков-Писарев были не способны свалить его, Меншикова. Такое было под силу только Толстому.
В указе, подписанном Екатериной 6 мая 1727 года, мера наказания была смягчена. Толстому и Девиеру сохранили жизнь, причем первому определили ссылку в Соловецкий монастырь, а второму – в Сибирь. Просьба родной сестры Александра Даниловича, Анны Даниловны, супруги Девиера, была оставлена без внимания. 30 апреля Анна Даниловна обратилась к брату с посланием: «Светлейший князь, милостивой отец и государь, приемляю я смелость от моей безмерной горести труднить вас, милостивого отца и государя, о моем муже, о заступлении и милостивом предстательстве к ея императорскому величеству, всемилостивейшей нашей государыне, дабы гнев свой милостиво обратить изволили». Ответа не последовало.
Смягчено было наказание еще одному участнику заговора – Бутурлину: его сослали в деревню, оставив за ним владения.
Обращает на себя внимание несоразмерность между квалификацией содеянного преступления и мерой наказания, определенной как в приговоре Учрежденного суда, так и в указе императрицы. В самом деле, следуя букве законодательства того времени, все обвиняемые без исключения подлежали смертной казни, ибо они противились установленному законом порядку престолонаследия. В сентенции, кроме того, есть ссылка на устав воинский, в котором определено: равное наказание чинится над тем, «которого преступление хотя к действу и не произведено, но токмо ево воля и хотение к тому было».[436]
Мы видели, что «воля и хотение» были у всех обвиняемых, за исключением, быть может, Андрея Ушакова.
Отметим и другое: ни в экстрактах, ни в сентенции, ни, наконец, в именном указе не упомянут герцог Голштинский, хотя его имя то и дело встречается в показаниях обвиняемых. Из этих показаний следует, что заговорщики уповали на герцога прежде всего как на передаточную инстанцию. Именно он и его супруга, как родственники императрицы, должны были рассказать ей о двух затеях Меншикова: о сватовстве и желании видеть наследником престола Петра Алексеевича. Впрочем, сам герцог претендовал на активную роль в заговоре. Он мечтал, если верить показанию Толстого, стать президентом Военной коллегии, то есть утвердиться в должности, которую занимал Меншиков. С герцогом вели доверительные разговоры все лица, привлеченные к следствию, он был в курсе всех их намерений и даже стращал их безрадостной перспективой: «…ежели ея императорское величество прекратит жизнь без завету о наследстве, и мы все пропадем».
Родственные связи герцога с царствующей фамилией избавили его и от допросов, и от упоминания его имени в сентенции и в указе. Тем не менее следствие оказало влияние на его дальнейшую судьбу. Именно оно проливает свет на причины поспешного удаления герцога из России: Меншиков стремился как можно быстрее избавиться от конкурента за влияние на верховную власть. Правда, со смертью Екатерины шансы герцога на первую роль в правительстве практически исчезли, но испорченных отношений уже было не восстановить. Как ни ненавидел Меншиков герцога, но все знаки внимания ему оказал: когда корабль с герцогом и Анной Петровной следовал по Неве мимо дворца Меншикова, князь из окна помахал ручкой отъезжавшим.
Субботний день 6 мая 1727 года был, по свидетельству «Повседневных записок» А. Д. Меншикова, «пасмурной, и великий ветер». В этот день в столице империи произошло множество событий. Их перечень не исчерпывается смертью императрицы и подписанием ею указа с определением меры наказания обвиняемым. На этот же день падает и исполнение указа.
Напомним, что Толстой и Бутурлин давали показания у себя дома и Толстой даже исхлопотал себе право принимать родственников – стоявшие у его двора караульные пропускали их к нему. Оба подследственных в первые дни домашнего ареста почтительно назывались полными титулами. Теперь, 6 мая, титулы стали «бывшими»: «…взяты во оный Учрежденный суд бывшие действительный тайный советник и кавалер граф Петр Толстой, генерал кавалер Иван Бутурлин, и при оном собрании сказан им арест и сняты с них кавалерии святого апостола Андрея и с лентами голубыми и шпаги. И оные Толстой и Бутурлин отданы под караул». В этот же день состоялась экзекуция над Девиером и Скорняковым-Писаревым: оба они были биты кнутом.
Светлейший не имел обыкновения останавливаться на полпути. Несмотря на суматоху при дворе, вызванную кончиной императрицы, он продолжал держать судьбу осужденных в своих руках: «Оные Антон Девиэр и Петр Толстой с сыном ево Иваном (имя которого, кстати, не упоминалось ни в сентенции, ни в указе. – Н. П.), Григорий Скорняков-Писарев посланы в ссылки за караулом в указанные места». Указ был приведен в исполнение и в отношении остальных обвиняемых.
Меншиков не угомонился и на этом. День 6 мая был ознаменован еще и тем, что Учрежденный суд отправил два указа: один из них был адресован архангелогородскому губернатору Измайлову и предписывал доставленных в Архангельск Петра Андреевича Толстого с сыном немедленно отправить на судах в Соловецкий монастырь «и велеть им в том монастыре отвесть келью, и содержать ево, Толстого с сыном, под крепким караулом: писем писать не давать, и никого к ним не допущать, и тайно говорить не велеть, токмо до церкви пущать за караулом же, и довольствовать брацкою пищею».
Другой указ касался Девиера и Скорнякова-Писарева. Их велено было «как дорогою, так и на квартирах содержать под крепким караулом и всегда быть при них по человеку с ружьем или со шпагою и писем писать и чернил и бумаги им давать не велеть, и тайно ни с кем говорить не допускать, и весть их наскоро». Указ запрещал заезжать как в старую столицу, так и в деревни, принадлежавшие колодникам.
Учрежденный суд определил место ссылки Девиера и Скорнякова-Писарева в общих чертах: когда они будут доставлены в Тобольск, то их надлежало «розвесть по разным дальним городам, чтоб они, Девиер и Писарев, между собою свидания не имели».
Несколько позже были выдворены из столицы жены и дети осужденных. В паспорте, выданном Анне Даниловне Девиер, было написано: «Отпущена из Санкт-Петербурха бывшего генерала-лейтенанта Антона Девиера жена ево Анна, Данилова дочь, з детьми Александром, Антоном, Иваном. А велено ей жить в деревнях своих, где она пожелает». Днем раньше такой же паспорт получила и супруга Скорнякова-Писарева Катерина Ивановна.
Итак, Меншиков во всем преуспел: когда императрица сделала предсмертный вздох, по майскому бездорожью на ямских подводах в сопровождении караульных солдат тряслись его противники. Светлейшему казалось, что им сметены все помехи, препятствовавшие осуществлению задуманного: теперь и провозглащение наследником Петра Алексеевича, и брак его с дочерью Марией будут встречены если не ликованием, то безропотным молчанием.
И все же одно дельце князь не успел провернуть: протяни Екатерина еще пару дней или даже несколько часов и не окажись она на смертном одре в тот самый день, 6 мая, Меншиков наверняка представил бы ей для подписи манифест с разъяснением подданным случившегося. Но это уже была деталь, не повлиявшая на ход событий.
Манифест был обнародован от имени Петра II только 27 мая. Новых оценок происшедшего по сравнению с сентенцией Учрежденного суда он не содержал. Подданные извещались, что осужденные «тайным образом свещались противу того Уставу и высокого соизволения ея императорского величества во определении нас к наследствию». Заговорщики противились и волеизъявлению покойной императрицы «о сватовстве нашем на принцессе Меншиковой, которую мы во имя божие ея же величества и по нашему свободному намерению к тому благоугодно изобрели».[437]
Приспело время взглянуть на описанные выше события, так сказать, изнутри и оценить их. Внешне они выглядели как дворцовая интрига, но по существу их следует рассматривать как неудавшуюся попытку произвести дворцовый переворот.
Перевороты, как известно, отличались двумя свойствами: они готовились в глубокой тайне кучкой заговорщиков без привлечения к участию в них широких слоев населения; перевороты не изменяли ни социальной, ни политической структуры общества, они отражали борьбу за власть соперничавших группировок господствующего класса. Это последнее свойство дворцового переворота было совершенно справедливо отмечено в сентенции Учрежденного суда: «…все вышеписанные злые умыслы и разговоры чинены были от них по их партикулярным страстям, а не по доброжелательству к ея императорскому величеству». Столь же справедливы были и слова сентенции о том, что участники заговора действовали ради «своей собственной безопасности».[438]
Так квалифицировала цели Девиера – Толстого победившая в этой сваре группировка, возглавляемая Меншиковым. Но, окажись в роли победителей Девиер – Толстой, они без околичностей могли бы бросить тот же упрек поверженному Меншикову. Как у Меншикова, так и у его противников побудительные мотивы распри находились в одной плоскости: они помышляли о своекорыстных интересах или, как написано в сентенции, руководствовались «партикулярными страстями».
Впрочем, Девиер – Толстой победить не могли. Когда знакомишься с содержанием документов Учрежденного суда, то невольно удивляешься наивности всех обвиняемых, и прежде всего такого многоопытного в политических и придворных интригах человека, как Петр Андреевич Толстой. Невозможно отрешиться от впечатления, что участники заговора только тем и занимались, что упорно убеждали друг друга в необходимости донести о своих опасениях императрице. Вместо энергичных действий – игры ва-банк – разговоры, и только разговоры.
Скорняков-Писарев говорил Девиеру:
– Надобно того не проронить и государыне донесть. Девиер согласен:
– Чтоб донесть ея императорскому величеству ныне, а после-де времени не будет, и вас не допустят.
Диалог Девиер – Бутурлин велся в том же ключе. Девиер. Для чего они к ея императорскому величеству не ходят?
Бутурлин. Нас не пускают.
Девиер. Напрасно затеваете, сами ленитесь и не ходите, а говорите, что не пускают.
Но Девиер все же полагал, что только Бутурлин был способен выполнить эту рискованную миссию. Как-то герцог Голштинский сказал Девиеру: «Иван Иванович о том же деле хочет доложить ея величеству». Девиер с ним согласился: «Он-де посмеляе и может донесть». Сам Бутурлин доносить, однако, не спешил: «Как ея императорское величество придет в свое здоровье, тогда он, улуча время, ея императорскому величеству, может быть, станет доносить».
Что касается Толстого, то он либо из осторожности, либо по убеждению занимал уклончивую позицию. Однажды он заявил: «…когда время придет, тогда доложит ея величеству», но в другом разговоре наотрез отказался это сделать: «…а докладывать ея императорскому величеству он дерзновения не имеет».[439]
Впрочем, Толстой лукавил. Из признания княгини Волконской известно, что Петр Андреевич искал случая получить аудиенцию у императрицы, но, убедившись в бесплодности своих попыток (так как «его светлость беспрестанно во дворце»), решил прибегнуть к посредничеству гофдамы, бесспорно сочувствовавшей затее Толстого. Случая такого, однако, не представилось.
Итак, из следственного дела вытекает, что Толстому не удалось свидеться с императрицей и поведать ей о пагубном влиянии замысла Меншикова на судьбу ее дочерей. Согласно же версии упоминавшегося выше консула Виллардо, аудиенция Петра Андреевича у императрицы состоялась. В своей «Краткой истории жизни графа Толстого» он описал ее так:
«Согласие царицы на брак великого князя с дочерью Меншикова было подобно удару грома для герцога Голштинского, его супруги и Толстого. Они боялись возражать: герцог из-за отсутствия смелости, а герцогиня (Анна Петровна. – Н. П.) слушалась плохих советов; но Толстой, полный огня, крайне разгневанный, пришел к царице, как только узнал эту новость. Объяснив ей с благородной смелостью, какой ущерб она нанесет себе и своим детям, он закончил свою речь со страстной смелостью, которая привела в восхищение всех присутствующих.
«Ваше величество, – сказал он, – я уже вижу топор, занесенный над головой Ваших детей и моей. Да хранит Вас господь, сегодня я говорю не из-за себя, а из-за Вас. Мне уже больше 80 лет, и я считаю, что моя карьера уже закончена, мне безразличны все события, счастливые или грозные, но Вы, ваше величество, подумайте о себе, предотвратите и избегите удара, который Вам грозит, пока еще есть время, но скоро будет поздно».
Когда он увидел, что у царицы не было сил забрать назад слово, данное Меншикову, он ушел с твердым намерением во что бы то ни стало предотвратить вступление на русский трон молодого великого князя».[440]
Не подлежит сомнению, что если бы подобный монолог был произнесен, то какие-нибудь его отголоски непременно попали бы на страницы следственного дела. Но никаких следов и даже намеков на них нет ни в документах Учрежденного суда, ни в следствии по делу княгини Волконской. Виллардо в своем сочинении собрал и изложил самые разноречивые слухи, ходившие при дворе, придав им стройность. Однако в приведенном отрывке желаемое выдано за действительное, а быль причудливо переплетена с небылицами.
Единственным человеком, один-единственный раз осмелившимся разговаривать с Екатериной на щекотливую тему, был герцог Голштинский. Он как-то заявил Девиеру:
– Я уже нечто дал ея величеству знать, токмо изволила умолчать.[441]
Впрочем, нет возможности проверить, насколько достоверно и это заявление.
Итак, заговорщики уповали на Екатерину и полагали, что достаточно ей раскрыть глаза на замыслы и проделки Меншикова, как последуют угодные им перемены: расстроится сватовство и Петр Алексеевич не будет значиться наследником.
Подобные рассуждения были чистой иллюзией. Императрица, как мы видели, оказалась глухой к предостережениям своего зятя. Не способна она была воспринять и доводы других заговорщиков, ибо, во-первых, находилась под неограниченным влиянием Меншикова и безропотно выполняла его волю; под контролем светлейшего находился и доступ к императрице; во-вторых, в дни, когда заговорщики намеревались убедить Екатерину воспрепятствовать осуществлению намерений Меншикова, в шкатулке, хранившейся в Верховном тайном совете, уже лежал ее Тестамент (завещание), в котором она благословляла и назначение своим преемником Петра Алексеевича, и его брачные узы с дочерью Меншикова.
В этих условиях реальным результатом беседы кого-либо из заговорщиков с императрицей могло быть только более раннее их разоблачение. Мечты о перевороте без применения силы – пустая затея. Эту азбучную истину хорошо усвоили организаторы переворотов более позднего времени, неизменно опиравшиеся на гвардию.
Путь от Санкт-Петербурга до Архангельска занял свыше месяца: губернатор Иван Измайлов донес Учрежденному суду, что он принял ссыльных 13 июня 1727 года. В тот же день Петра Андреевича вместе с сыном отправили в Соловецкий монастырь. Два дня спустя, 15 июня, губернатор подписал новое донесение: его одолевали сомнения относительно четырех слуг, сопровождавших ссыльных. Хотя, рассуждал Измайлов, «о недопускании никого к ним и написано, однакоже без известия вышереченной суд оставить не посмел, и впредь тем их людям при них быть ли, о том покорно прошу резолюции».[442] Дальнейшая судьба этих четырех человек документами не освещена.
Поначалу ссыльных должна была сторожить команда, состоявшая из 12 солдат, капрала и офицера архангелогородского гарнизона. Но затем в Учрежденном суде рассудили, что охрана станет более надежной, если команду укомплектуют солдатами и офицером гвардейских полков.
3 июля 1727 года был вызван в суд лейтенант Лука Перфильев для вручения ему запечатанного пакета с инструкцией. «На конверте написано тако: из Учрежденного суда инструкция лейб-гвардии Семеновского полку лейтенанту Луке Перфильеву запечатанная, которую по прибытии ему к городу Архангельскому роспечатать. А в Санкт-Петербурхе и в пути оную ему до помянутого города не роспечатывать». Конверт был вскрыт в Архангельске, куда Перфильев с командой прибыл в августе 1727 года, но самостоятельно ознакомиться с его содержанием лейтенант не мог, ибо был неграмотен. Неграмотность начальника караула, как увидим ниже, накликала немало бед как на соловецких узников, так и на команду, день и ночь их сторожившую.
По сравнению с указом от 6 мая 1727 года инструкция Перфильеву ужесточила режим жизни ссыльных. По указу 6 мая велено «им в том монастыре отвесть келью и содержать ево, Толстова с сыном, под крепким караулом». Согласно инструкции, надлежало «розсадить их, Толстых, в том же монастыре по тюрьмам, а именно Петра Толстого в среднюю, а сына ево, Ивана, в тюрьму же, которая полехче». Указ 6 мая разрешал ссыльных «до церкви пущать за караулом же». Инструкция лишала их этой возможности: «…ис тех тюрем их никуды не выпускать и между собою видетца не давать». Лишь в случае если кто-либо из них заболеет и пожелает исповедоваться, можно было допустить к ним «искусного и верного священника», рекомендованного архимандритом.
Указ 6 мая предписывал караулу ссыльным «писать не давать, и никого к ним не допущать, и тайно говорить не велеть». Инструкция Перфильеву перечисленные ограничения дополнила еще одним: «А которые письма к ним будут приходить, оные тебе принимать и розсматривать. И ежели важность какая явитца и буде того монастыря кто явитца подозрителен, то таких брать тебе на караул и во Учрежденный суд писать, и те письма присылать немедленно».
Инструкция предусмотрительно исключала возможность каких-либо подлогов относительно изменения положения ссыльных. Перфильев был обязан подчиняться только тем указам, которые исходили от Учрежденного суда и были подписаны всеми его членами, начиная от канцлера Головкина и заканчивая генерал-майором Фаминцыным.
Учрежденный суд обрекал ссыльных на верную гибель, ибо условия жизни в каменных мешках, к тому же неотапливаемых, полная изоляция от окружающего мира, весьма скудный «братцкий», то есть монастырский, рацион гарантировали медленное угасание. Это в первую очередь относилось к престарелому Петру Андреевичу, давно уже страдавшему подагрой.
По прибытии в монастырь Перфильев оказался перед трудной задачей устройства Толстых. Дело в том, что в Петербурге были плохо осведомлены о тюремных помещениях монастыря. Согласно инструкции Перфильеву, Петра Толстого надлежало поместить «в среднюю, а сына ево, Ивана, в тюрьму же, которая полехче», но на поверку оказалось, что «средней тюрьмы» не было. По словам архимандрита Варсонофия, «имеетца-де у них, в монастыре, тюрьмы тягчайшия, а имянно Корожная, Головленкова; у Никольских ворот – две. Оные все темно-холодные. Пятая, звания Салтыкова, теплая». Все они, кроме Головленковой, были заняты колодниками.
Но дело было не только в этом. Лука Перфильев лично осмотрел все тюрьмы и нашел, что «оных Толстых за тяжелость тех тюрем, а в Салтыковскую за лехкость и теплотою, разсодить нельзя». Лейтенант «возымел мнение, чтоб посадить оного Петра в тюрьму, которая б была ни легчайшая, ни тягчайшая». В конечном счете Перфильев остановил свой выбор на двух пустых кельях, «между которыми двои сени с каменною стеною, у которых, заделав кирпичом окна и ко дверям железные крепкие запоры с замками учиня, Толстых в них розсадил». Таков был последний причал корабля Толстого на его бурном жизненном пути.
Началась монотонная жизнь колодников и команды, их охранявшей. Гробовую тишину нарушал лишь грохот запоров, когда солдат приносил им скудную, изнурявшую силы пищу. «И те тюрьмы имеютца холодные, а пища им, Толстым, даетца братцкая, какова в которой день бывает на трапезе братии, по порцы единого брата».[443]
Если в столице жизнь Петра Толстого, президента Коммерц-коллегии и члена Верховного тайного совета, била ключом и каждый день, несмотря на преклонный возраст, проходил в заботах, деловых встречах и разговорах, мелких и крупных интригах, «машкерадах», то здесь, в сыром неотапливаемом каземате, он располагал лишь одной возможностью – предаваться воспоминаниям о прожитом и пережитом и корить себя за промахи, допущенные в соперничестве с Меншиковым. Падение, круто изменившее уклад жизни блестящего вельможи, могло сломить кого угодно, но похоже, что человек, которому минуло восемьдесят лет, стоически перенес все испытания.
Впрочем, мрак и безмолвие, царившие в кельях-казематах, изредка нарушались, причем в роли нарушителя выступал сам Лука Перфильев, которому было поручено держать узников в полном неведении относительно всего, что творилось за стенами кельи. Личность лейтенанта очерчена документами с далеко не исчерпывающей полнотой. Тем не менее о нем можно почти безошибочно сказать, что это был человек вздорный и одновременно слабохарактерный, нередко не умевший управлять поступками не только подчиненных ему 12 солдат, но и своими собственными. При всем том он не отличался свирепым нравом, в его поступках нет-нет да и промелькнет сострадание к узникам и желание хоть немного облегчить их суровое и беспросветное бытие.
Монотонная жизнь была, вероятно, обременительной не только для узников, но и для караульной команды. Стояние на часах, сон, трапеза… Однообразие скрашивало лишь вино, если были деньги. И так изо дня в день, из месяца в месяц.
Чувство власти и безнаказанности за ее использование в сочетании с грубой натурой позволяло Перфильеву совершать нелепые поступки и переступать грани дозволенного. 18 сентября 1727 года он, например, после обильного возлияния у архимандрита прибежал к монастырским воротам, разогнал дремавший там монастырский караул, крича солдатам своей команды, чтобы они заряжали ружья и перестреляли монастырских старцев. Будучи «шумен», он «тех старцев называл ворами и бунтовщиками».
В другой раз он пришел в келью Петра Андреевича и затеял с ним рискованный разговор. Узнав от богомольцев, что царица Евдокия Федоровна освобождена из заточения, он тут же поспешил поделиться этой новостью с узником. Не утаил он от него, хотя делать это ему запрещалось инструкцией, что вступивший на престол Петр II вместе с двором прибыл в Москву, где должна была состояться его коронация.
В самом начале своего пребывания на Соловках, 7 сентября 1727 года, Перфильев допустил грубое нарушение инструкции: он явился к Толстому вместе с солдатом Зенцовым и велел тому прочитать ссыльному инструкцию. Зенцов читать отказался. Тогда Перфильев отдал инструкцию Толстому, чтобы тот сам ознакомился с ее содержанием.
Чем руководствовался лейтенант, когда совершал поступок, явно нарушавший его служебный долг? Быть может, сделал он это, как говорили тогда, «с простоты». Но скорее всего он руководствовался теми же соображениями, что и губернатор Иван Измайлов, приславший узникам лимоны и вино. Блеск, всего лишь недавно окружавший влиятельнейшего при дворе вельможу, еще не поблек, и сознание сверлила коварная мысль: а вдруг узников велят выпустить на свободу и вернут все, чем они владели? Тогда они конечно же вспомнят об этой маленькой услуге.
Но ни Измайлов, ни Перфильев не могли предположить, что их поступки станут достоянием Учрежденного суда и что солдат, донесших о подарке Измайлова, вызовут в столицу и в ожидании дознания будут долгое время содержать в тюрьме.
Перфильев, давая Толстому прочесть инструкцию, видимо, хотел убедить его, что он всего лишь исполнитель чужой воли и не виновен в суровом режиме содержания ссыльных.
– Смотри-де, за чьими руками инструкция? – промолвил лейтенант, когда увидел, что Толстой оторвал от нее глаза.
– Я-де знаю, кто заседает в Учрежденном суде, – ответил Толстой.
С одной стороны, Перфильев иногда выдавал ссыльным «вместо милости» вино и мясо, а с другой – распорядился изъять у них деньги, чтобы они не награждали ими караульных и, следовательно, не могли рассчитывать на снисходительное обращение.[444]
Спокойное течение жизни команды нарушило служебное рвение лейтенанта: он решил занять солдат экзерцициями, чем вызвал их неповиновение. 12 мая 1728 года произошло событие, описанное в донесении так: «Приказал я им собратца в строй нынешнего 1728, мая, 12 дня, для смотрения ружья и хотел поучить, чтоб не позабыли оне артикулу. И вышепомянутые солдаты в строй не пошли и учинили великой крик: „Чего, дескать, нас смотреть и учить; мы, дескать, суды присланы не учитца“». Прошло пять дней, и новая жалоба Перфильева: «…солдаты команды моей во всем меня ослушны». Отстояв сутки часовыми, они потом расходятся кто куда, не выполняют его приказаний о чистке ружей, не носят палашей.
Если бы Лука Перфильев знал грамоту и писал эти донесения сам, то, надо полагать, он не стал бы посвящать в их содержание солдат. Но поскольку лейтенант был вынужден пользоваться услугами кого-либо из своих грамотных подчиненных, то содержание его донесений стало достоянием всей команды. Солдаты лишь ждали случая, чтобы отомстить своему офицеру. Такой случай вскоре подвернулся.
28 мая на часах у кельи Ивана Толстого стоял солдат Дмитрий Зорин. Вдруг раздался стук и голос узника:
– Господин часовой, доложи господину порутчику, што есть за мною слово и дело его императорского величества.
Зорин, попросив другого солдата занять его пост, отправился к лейтенанту. Лука Перфильев со всей командой прибыл в келью, и младший Толстой подтвердил: «Есть за мною слово и дело его императорского величества».
В изложении лейтенанта суть «слова и дела» состояла в том, что Иван Толстой просил «ради своей тяшкой болезни, чтобы ево перевесть ис тюрьмы в теплую келью, также и довольную пищу давать, а братскою пищею он, Иван, сказывает недоволен, требует довольной пищи, а имянно мяса, молока, яиц, пирошков, вина. А по посным дням, чтоб ему поставлялась живая рыба». Перфильев не пошел на самовольное удовлетворение этих просьб и требовал указа.
Так невинно выглядело происшествие под пером автора донесения, подписанного Перфильевым. Лейтенант умолчал о событиях следующего дня. Из-за позднего времени Перфильев вручил Ивану Толстому бумагу не 29, а 30 мая и при этом предупредил:
– Вразумися! С умом ли говоришь? На всякий случай предостерег:
– Вкратце пиши, что имеши слово и дело за собою. Оторвав глаза от листа бумаги, на котором уже было начертано несколько строк. Толстой сказал:
– Не токмо то, и на тебя есть.
В ответ на угрозу Перфильев отнял у Ивана лист бумаги и велел прочитать написанное солдату Богданову. Солдат страдал плохим зрением и ответил, что «читать не видит». Листок передали солдату Зенцову, но и тот, как ни силился, разобрать написанное не смог. Последняя надежда Перфильева – его человек Кирилл Попов. Однако и его усердие не увенчалось успехом.[445]
Откровенно говоря, я тоже разобрал написанное с большим трудом. Вот что написал Иван Толстой: «1728, мая, 29 дня, сказал я за собою слово и дело государево при самой моей смерти от нестерпимого содержания. Также имею показать и на порутчика Перфильева, некоторые непристойные слова показать, и чтоб я до указу государева, кому повелено мене будет…» Фраза осталась незаконченной; ее прервал Перфильев, вырвав из рук Толстого бумагу.
Таким образом, согласно версии Перфильева, суть «слова и дела» Ивана Петровича состояла в просьбе улучшить рацион и сменить холодную келью на теплую. О том, что Толстой начал писать донос, равно как об угрозе написать донос и на него, Перфильева, наконец, и о том, что у Толстого был вырван из рук лист бумаги, Перфильев не обмолвился ни единым словом. Обо всем этом Учрежденный суд известили солдаты.
В Петербурге доносу солдат придали важное значение. 28 июня 1728 года последовал указ архангелогородскому губернатору Ивану Лихареву, сменившему на этом посту Измайлова, ехать в Соловецкий монастырь и выяснить там, какое «слово и дело» имеет Иван Толстой. Оговоренных им лиц было велено взять под стражу. Лихарев должен был также установить, в чем состояла вина Перфильева и в чем выразилось неповиновение солдат.
Надобность в поездке, однако, отпала, так как Учрежденный суд отправил указ губернатору тогда, когда Ивана Толстого уже не было в живых. О его смерти сообщил в Петербург Перфильев:
«Иван Толстой умре июня, 7 дня, цинготною болезнью. А заболел с великова поста, а перет смертью припала к нему горячка, понеже много бредил, кричал, якобы охотник за зайцы. Також говорил он часовым, а именно Михайлу Потанину, Степану Аверкиеву, чтоб взяли у архимандрита быка да убили, также бы бочьку пива, бочьку меду».
Получив это известие, Учрежденный суд распорядился отправить Лихареву указ: если губернатор еще не съездил на Соловки, то надобности в поездке уже нет, ибо Иван Толстой умер. Этот же указ решил судьбу Перфильева и его команды: их было велено заменить офицером и солдатами местного гарнизона. 28 июля 1728 года Перфильева и солдат-гвардейцев сменил новый караул во главе с капитаном Григорием Воробьевым.[446] Старый караул в полном составе оказался под следствием.
В нашу задачу не входит изучение перипетий следственного дела Перфильева и его солдат. Остановимся коротко – подробнее не позволяют источники – на дальнейшей судьбе Петра Андреевича Толстого. Он не подавал никаких признаков своего существования на Соловках. В частности, ничего не известно о том, как он перенес смерть любимого сына Ивана, как ему удавалось преодолевать, не прося ни у кого ни пощады, ни милосердия, страдания от подагры и прочие невзгоды жизни в каменном мешке.
2 февраля 1729 года новый начальник караула Григорий
Воробьев донес Учрежденному суду: «А в нынешнем 729 году, генваря, с первых чисел, оной Толстой заболел жестоко и духовника требовал. И того же генваря, 13 дня, по требованию ево прежняго духовника иеромонаха Пахомия к нему допущал, и он, иеромонах, ево исповедал и святых таин соопщил. И при нем, иеромонахе, и при мне приказывал он, Толстой, которые пожитки были при нем, по смерть свою отдать в казну преподобна чюдотворцев Зосима и Саватия для поминовения ево, Толстова. И сего же генваря, 30 дня, оной Петр Толстой от той болезни умре». Так оборвалась суровая, полная страданий жизнь блестящего сподвижника Петра Великого.
Капитан спрашивал, как ему поступить с пожитками и телом умершего. «А ныне положен он, Толстой, во гроб и поставлен во особливой каморе при карауле до указу ея императорского величества». Здесь же приложен реестр вещам, оставшимся после смерти Петра Андреевича.
Ответ на этот вопрос Воробьев получил, видимо, не ранее середины апреля: «Петра Толстого погребсти в том монастыре, а оставшие после ево, Толстова, золотые деньги, серебреные суды и прочие все пожитки по реестру оному капитану Воробьеву отдать в Соловецкий монастырь, в казну того монастыря келарю или казначею с роспискою».
При отсутствии документов кое-что о человеке могут поведать принадлежавшие ему вещи. Сохранилось два реестра имущества Толстого: первый из них был составлен в конце июля 1728 года, когда происходила смена команды Перфильева командой Воробьева; второй реестр был составлен полгода спустя, после смерти Толстого.
Среди предметов пара часов – золотые и серебряные, две серебряные табакерки, две пары серебряных запонок и немалое количество серебряной посуды: лохань с рукомойником, поднос с двумя чарками, три пары ножей, три ложки, кружка, солонка. В перечень включена и серебряная готовальня. Оловянная посуда была представлена восемью блюдами, дюжиной тарелок и кружкой, а медная – котлом, тремя кастрюлями, сковородкой.
Металл выдержал испытание сыростью и не претерпел существенных изменений. Более показательна судьба одежды.
Гардероб ссыльного был довольно разнообразным: две шубы, одеяло на беличьем меху, два теплых шлафрока, 18 рубашек, шесть лицевых полотенец, две пары черных кафтанов, два полога и пр. Согласно июльскому реестру 1728 года, в ветхое состояние пришли восемь портов, четыре шапки, две простыни, епанча холодная и четыре «галстуха».
В январском реестре 1729 года уже не значилось ни одного предмета без пометы «ветхий». Ветхими оказались шубы, кафтаны, камзолы, платки и все прочее. Реестр заканчивается двумя фразами: «Два шлафора теплые, которые при нем, Толстом, в тюрьме были, ветхие и згнили. Одеяло при нем же, Толстом, згнило».[447]
Удивление вызывает факт, что восьмидесятидвухлетний старик смог более полутора лет продержаться в атмосфере, где не выдерживали вещи, превращаясь в тлен.
Жизнь Толстого примечательна во многих отношениях. Петр Андреевич был единственным сподвижником Петра, который начинал свою карьеру его противником, а заканчивал его верным слугой. Чтобы совершить подобную метаморфозу, надобно было преодолеть косность и консерватизм среды, на которую он поначалу ориентировался. В ряды сподвижников Петра Толстой влился в зрелые годы, и, несмотря на это, он с усердием стал постигать новое, причем в процессе не обучения, как то делали его более молодые современники, а переучивания. Это всегда сложнее и труднее.
Вряд ли среди дипломатов, которыми располагал царь в самом начале XVIII века, можно было найти более подходящую кандидатуру на должность русского посла в Стамбуле, чем Петр Андреевич. Вряд ли, далее, кто-либо мог проявить столько настойчивости, изворотливости и гибкости, как Толстой. Здесь важен итог его нелегкой службы, выразившийся в том, что ему удалось предотвратить выступление против России Османской империи в тот период Северной войны, когда это выступление таило для нашей страны наибольшую опасность.
Другая, не менее важная заслуга Толстого за время пребывания в Османской империи состояла в том, что с его именем связано утверждение нового статуса посла как постоянного представителя России при султанском дворе. В итоге престиж России был поднят на более высокую ступень.
В 1717 году, после бегства царевича Алексея во владения императора Священной Римской империи, Петр Великий располагал куда большим выбором дипломатов, чтобы отправить кого-либо из них для розысков беглеца и возвращения его в Россию, чем в начале века, – в его распоряжении находились Борис Иванович Куракин, Петр Павлович Шафиров, Василий Лукич и Григорий Федорович Долгорукие и многие другие, но царь поручил это сложное и деликатное дело тоже Петру Андреевичу Толстому. И в данном случае он вряд ли мог сыскать лучшего исполнителя своей воли.
Толстой мог быть и вкрадчивым, и суровым, и мягким, и твердым, и резким, и обходительным, то есть обладал качествами, использование которых обеспечило в тех условиях успех. У Петра не было оснований быть недовольным трудами своего эмиссара – он действовал напористо и в то же время без шума и, с одной стороны, своими действиями не вызвал дипломатических осложнений с венским двором, а с другой – уговорил царевича вернуться в Россию.
Возникает вопрос: как могло статься, что одаренный и, несомненно, проницательный человек, каким был Петр Андреевич, так легко дал загнать себя в угол, оказался в опале и закончил жизнь в каменном мешке Соловецкого монастыря? Почему он, несмотря на то что логика борьбы и соперничества принуждала его быть энергичным и бескомпромиссным, проявил столько нерешительности и пассивности, что практически без всякого сопротивления сдался на милость своего соперника – Александра Даниловича Меншикова? Почему, наконец, Толстой, достаточно опытный политик и интриган, вел себя перед Учрежденным судом как на исповеди и не предпринял ни единой попытки затянуть следствие, отпереться от каких-либо обвинений и т. д.?
Думается, что ничего загадочного в поведении Толстого нет. Его поведение определилось царистской идеологией и царистскими иллюзиями, в плену которых находились не только низы феодального общества, но и его верхи. Вспомним, что все перевороты XVIII века совершались именем претендента на трон. Жертвой этих иллюзий в мае 1727 года стал Толстой, а затем станет и Меншиков, за полгода до этого праздновавший свою победу над противниками. В борьбе с Толстым он действовал именем императрицы. Именем императора был свергнут и сам светлейший. Представления об этике и нормах морали тех времен не позволяли ни Толстому, ни Меншикову, оказавшимся в роли побежденных, лгать и изворачиваться. К слову сказать, отпираться было бессмысленно, ибо Толстой догадывался об осведомленности следователей о своей вине из показаний других подследственных.
Алексей Васильевич Макаров
Кабинет Его Величества
Жизнь Макарова, внешне неброская, без ярких всплесков, трудна для написания биографии прежде всего потому, что она не отличалась динамичностью. На первый взгляд его жизненный путь представляется даже монотонным, будничным, лишенным всякого интереса. В самом деле, Алексей Васильевич не купался в лучах славы, не давал он и сражений, не вел успешных или неудачных дипломатических переговоров, не сооружал кораблей и не командовал ими. Но, внимательно присмотревшись к деятельности Макарова, можно без труда обнаружить в ней скрытое от поверхностного взгляда огромное внутреннее напряжение.
Макаров вносил немалый вклад и в победы русского оружия на полях сражений Северной войны, и в успешные действия русской дипломатии, и в строительство регулярной армии и флота, и в новшества культурной жизни страны. Трудно переоценить лепту, внесенную им в создание отечественной промышленности. Короче, он участвовал во всех преобразовательных начинаниях царя. К этому его обязывала занимаемая должность: он являлся кабинет-секретарем Петра и, следовательно, был причастен к составлению указов, к переписке с агентами и послами царя за границей, к составлению реляций и отправке царских повелений на театр военных действий и, наконец, к проверке того, как выполнялась воля царя.
Алексей Васильевич много путешествовал. Рига, воды Балтики, река Прут, Полтава, Киев, Астрахань, Амстердам, Париж, Копенгаген – далеко не полный перечень пунктов, до которых он добирался либо в почтовой повозке, либо на военном корабле, либо в специальном экипаже, либо, наконец, на барке.
Что побуждало его к странствиям? Отнюдь не любовь к путешествиям. В путь он снаряжался потому, что по долгу службы был неразлучен с царем. Неотложные дела звали Петра к театру военных действий или за границу – вместе с ним отправлялся и Макаров. Образно говоря, Макаров был тенью Петра, его памятью, глазами и ушами.
Как и Петр, Макаров работал не зная устали, с полной отдачей сил. Царю, бесспорно, импонировали спокойствие, уравновешенность, благоразумие и пунктуальность кабинет-секретаря.
Итак, деятельность Макарова протекала в тиши кабинета, где не бурлила, а убаюкивающе журчала жизнь. В его четырех стенах воплощались в указы замыслы царя-преобразователя. Там могли бы зарождаться и интриги, будь Макаров к ним склонен. К счастью, он был чужд интриг.
Биографа Макарова подстерегает еще одна трудность: его личная жизнь скрыта плотной завесой и приподнять ее практически невозможно, ибо при кажущемся обилии сохранившихся от той поры источников с упоминанием имени нашего героя они крайне бедны для раскрытия его личных качеств. Среди этих источников многие сотни, если не тысячи, писем Макарову и ни одного ответа на них. Макаров, отличавшийся аккуратностью, разумеется, отвечал своим корреспондентам, но никто из них не сохранил этих ответов. Да и сами письма являются служебными документами, пригодными для использования совсем в иных целях, и лишь в редких случаях в них вкраплены сюжеты, раскрывающие характер отношений между корреспондентами.
Макаров принадлежал к числу сподвижников Петра, которые, подобно Меншикову, Девиеру, Курбатову и многим другим, не могли похвастаться своим родословием. О его детстве и начале карьеры известно крайне мало. Темно и его происхождение: историкам удалось лишь установить, что он был сыном подьячего вологодской воеводской канцелярии, но года его рождения и поныне доподлинно никто не знает.
Первые шаги Макарова на служебном поприще окутаны романтическими подробностями и небылицами всякого рода. Знаменитый историк, любитель петровского царствования Иван Иванович Голиков, писавший во второй половине XVIII века, включил в свое сочинение молву о первой встрече Макарова с Петром: «Великий государь в бытность свою в Вологде в 1693 году увидел в воеводской канцелярии между приказными молодого писца, именно же сего г. Макарова, и с первого на него взгляда проникши в его способности, взял его к себе, определил писцом же в Кабинет свой и, мало-помалу возвышая его, произвел в помянутое достоинство (тайного кабинет-секретаря. – Н. П.), и с того времени был он неотлучен от монарха».
В сообщении Голикова по крайней мере три неточности: никакого Кабинета в 1693 году не существовало; Макаров начинал службу не в вологодской, а в ижорской канцелярии у Меншикова; наконец, начальной датой его службы в Кабинете следует считать 1704 год, что подтверждается патентом на звание тайного кабинет-секретаря.
Итак, согласно версии Голикова, проницательный царь с первого же взгляда обнаружил у Макарова незаурядные способности и тут же приблизил его к себе.
Существует, однако, диаметрально противоположный взгляд на способности Макарова. Его высказал немец Гельбиг, автор известного сочинения «Случайные люди в России». О Макарове Гельбиг писал, что он «сын простолюдина, толковый малый, но настолько несведущий, что не умел даже читать и писать. Кажется, это невежество и составило его счастье. Петр взял его в свои секретари и поручал ему списывание секретных бумаг, работа для Макарова утомительная, потому что он копировал механически».[448] Гельбиг пустил в оборот миф о неграмотности Макарова, видимо, с целью придать своему рассказу о нем пикантность и занимательность.
Достаточно даже поверхностного знакомства с документами, к составлению которых был причастен Макаров, чтобы убедиться в нелепости свидетельства Гельбига: Макаров не только умел читать и писать, но являлся неплохим стилистом. Было бы преувеличением считать перо Макарова блестящим, но письма, указы, экстракты и прочие деловые бумаги он составлять умел, с полуслова понимал мысли Петра и придавал им приемлемую для того времени форму.
Некоторые сведения о прохождении службы Макаровым можно почерпнуть у него самого. Так, он засвидетельствовал, что в 1703 году «жил в приказе Меншикова». Как уже отмечалось, в указе о выдаче Макарову патента названа точная дата начала службы «при дворе нашем» – 1704 год. Судя по всему, он ведал тогда денежными делами.[449]
Чины Макарова регистрировались сделками на приобретение крестьян и земли. Самая ранняя из них относится к 1708 году, когда Макаров купил у адмирала Федора Матвеевича Апраксина село Богословское. В купчей он назван «государева двора подъячим». В 1710–1713 годах Алексея
Васильевича величали на иноземный лад «придворным секретарем», а с конца 1713 года – кабинетсекретарем. Впрочем, Шафиров, отправивший письмо Макарову 1 августа 1711 года, то есть после того, как он оказался заложником у османов, сделал на конверте такую надпись: «Моему государю Алексею Васильевичу Макарову, его царского величества кабинетному секретарю».
Отсутствие указа об учреждении Кабинета, равно как и указа, определявшего круг его обязанностей, вынуждает нас решать оба вопроса эмпирически, исходя из содержания обширного комплекса документов, отложившихся в этом учреждении.
Крайнее напряжение ресурсов страны в первые годы Северной войны наложило отпечаток на содержание документов того времени: в них решительно преобладала военная тематика, связанная со строительством флота и созданием регулярной армии, проведением военных операций. Это прежде всего реляции о сражениях, донесения военачальников с театра военных действий о намерениях неприятеля и перемещениях своих войск, многочисленные ведомости и табели об укомплектовании армии рядовыми и офицерами, сведения о потерях личного состава, о потребностях полков и дивизий в шпагах, фузеях и артиллерии, а также в снаряжении. Даже лица, служившие в гражданском ведомстве, такие, как князь-кесарь Ромодановский или Стрешнев, отправляли в Кабинет информацию, связанную с войной: о сборе денег, предназначенных на военные расходы, о запасах обмундирования, продовольствия, фуража и т. п.
Разгром шведов под Полтавой и овладение побережьем Балтийского моря, а также завершение неудачного для России Прутского похода резко изменили соотношение документов военного и гражданского назначения. У Петра появилась возможность сосредоточить свою энергию на проведении административных реформ и осуществлении важных социально-экономических преобразований, что сразу же отразилось на характере документов, отложившихся в Кабинете: военная тематика уступила место гражданской.
Губернаторы находились в непосредственном подчинении коллегий и Сената. Это, однако, не мешало им обращаться с доношениями в Кабинет: в одних случаях для информации о своем усердии, в других – для того, чтобы кабинет-секретарь «во благополучное время» исхлопотал у царя какую-либо поблажку в исполнении указов.
Губернаторы, аккредитованные при иноземных дворах дипломаты, президенты коллегий, прочие должностные лица разных рангов и даже канцлер обращались с доношениями лично к царю в тех случаях, когда какое-либо дело находилось под его наблюдением и он проявлял к нему особый интерес либо когда учреждение, не имея прецедента, затруднялось принять какое-либо решение. В месяцы отсутствия царя в столице Сенат отправлял в Кабинет указы, подписанные всеми сенаторами. Такие доношения отложились в Кабинете за время Прутского похода и путешествия царя за границу в 1716–1717 годах. В Кабинете оседали разнообразные личные обращения к царю: в одних из них челобитчики излагали свои жалобы и просьбы, на страницах других можно прочесть предложения и советы прибыльщиков и прожектеров.
Таким образом, в Кабинет стекалась огромная масса материалов общегосударственного значения. Все документы, прежде чем попасть к царю, проходили через руки кабинет-секретаря.
Но на попечении Кабинета находилось множество других дел: одни из них были обусловлены сугубо личными вкусами царя, его пристрастиями; другие были связаны с материальным обеспечением царской семьи. К числу первых, например, относится желание Петра изготовить чучело любимой собаки Лизетты. Хирург Николай Бидлоо получил на этот счет царский указ. 27 августа 1708 года он, выполнив повеление, писал царю: «А ныне, государь, как и живая является. Многим, государь, трудом щасливо от смолы все избавил и на многое время сохранить возможно».
В 1724 году умер француз-великан Николай Бурже, приглашенный царем в Россию в качестве раритета во время пребывания во Франции в 1717 году. Петру пришла в голову странная мысль изготовить из него чучело. Работа была поручена иноземцу Еншау. Тот не назначил цены, так как, по его словам, «такая вещь ему необычайна и такой ему не случалось работы». Заказ был выполнен, но Еншау множество раз отказывался выдать его посыльным, ссылаясь на то, что он за труд не получил денег. 28 ноября Кунсткамеру посетил царь и поинтересовался причиной отсутствия чучела. К мастеру тут же отправили солдат, но тот стоял на своем. Наконец в мае 1725 года, то есть уже после смерти Петра, мастер в поданном счете выразил желание получить к четырем рублям еще 60 рублей 75 копеек. Библиотекарь Шумахер заподозрил Еншау в рвачестве. Дело дошло до императрицы, которая в декабре 1725 года велела выдать мастеру 100 рублей, обязав его выполнить дополнительную работу: «…ногти оной кожи француза-великана вставить и оную кожу привесть в совершенство».[450]
Удельный вес документов с таким курьезным содержанием, разумеется, невелик. Значительно больше внимания Кабинет уделял руководству сооружением царских дворцов и их благоустройству. Летний и Зимний дворцы в Петербурге, загородные резиденции в Петергофе и Екатерингофе, дворец под Ревелем сооружались под его присмотром. Кабинет же надзирал за строительством канала и фонтанов, а также за разбивкой Летнего сада и парка в Петергофе. Деревья для парков, в том числе каштаны, специальные агенты Кабинета приобретали в Голландии и Пруссии, скульптуры и картины для украшения парков и дворцов – в Италии и Голландии.
В Летнем саду был организован зверинец – первый в стране регулярный зоопарк. Его комплектованием и содержанием также ведал Кабинет. Основание зверинцу положили диковинные животные и птицы, подаренные царю иранским шахом и доставленные в новую столицу в 1713 году. Среди экзотических животных находился слон. Любопытен его рацион: суточная норма продуктов включала 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, столько же коровьего масла, 30–40 и даже до 60 калачей. Четырем попугаям и одному какаду выдавалось в сутки по три четверти фунта сахару, столько же коровьего масла, 2 фунта муки, 2 фунта персидских орехов. Судя по рациону, слон и какаду с попугаями были любителями горячительных напитков. Слону ежедневно выписывалось по ведру простого вина, а птицам – более изысканный напиток: бутылка рейнского. Надзиратели, надо полагать, по-братски делили вино со слоном и птицами.
Зверинец пополнялся животными и птицами различных климатических зон России. Архангелогородскому губернатору повелено было обеспечить зверинец белыми медведями, и тот отправил в Петербург шесть экземпляров. В астраханских степях и в Приазовье были выловлены птицы, а нарвский комендант получил указ поймать пару «летучих белок». Видимо, эта порода белок была редкой, ибо удалось отправить в столицу одну живую и одну убитую белку.
Экзотические животные не выдерживали сурового климата и быстро гибли. В 1717 году Меншиков отправил Макарову, находившемуся вместе с царем за границей, письмо с извещением о гибели слона: «…слон умер, который нимало на ноги вставал, лежал тридцать дней, ничего пищи употреблял, в которой ево болезни кожа на нем вся згнила и облезла. Правда, что немало жаль такого знатного зверя». Та же участь постигла льва, который, как доносили Макарову, в январе 1722 года «умре без всякие причины скорым временем», а также неведомой породы ежа. Впрочем, потери восполнялись новыми партиями зверей и птиц. Артемий Петрович Волынский в 1718 году вывез из Ирана зверей, лошадей и птиц, которых, как он сам признавался, ему ранее не приходилось видеть.[451]
Из кабинетных сумм выдавались наградные всем, кто доставлял в Кунсткамеру – первый музей в России – монстров, то есть уродов, и всякие редкости.
На Кабинете также лежала обязанность блюсти здоровье царской семьи. Строго говоря, этого рода обязанность ограничивалась двумя сферами. Одна из них – информация царской четы о здоровье детей. В Кабинете сохранилось множество писем от той поры, когда царь с супругой находились за границей в 1716–1717 годах и на Марциальных водах в 1719 году. Более активной была роль Кабинета в организации курортного дела в стране. Известно, сколь горячо взялся Петр за устройство первого в России курорта близ Петровских заводов в Карелии. Сам он трижды пользовался его водами и отправлял туда своих вельмож. Анализ химического состава воды, проверка эффективности воздействия ее на больных, а также благоустройство курорта осуществлялись под общим наблюдением Кабинета.
Большой переполох в Кабинете вызвало сообщение об «умалении марциальных вод», начавшемся с августа 1719 года. Последовало распоряжение о запрещении копать в окрестностях курорта болотную руду для металлургического производства. Тревога, однако, оказалась напрасной: падение напора воды было связано с тем, что «в лето и в осень время было сухое», а также с рано наступившими морозами. Пользование марциальными водами таило немало неудобств, главные из которых состояли в отдаленности курорта и трудностях пути к нему. Поэтому велись поиски целебных источников, расположенных поближе к столице.
Медикам того времени казалось, что они справились с этой задачей более чем успешно: целебная вода была обнаружена не за тридевять земель, а в самом Петербурге. В феврале 1722 года столичный генерал-полицеймейстер А. М. Девиер уведомил Макарова об излечении больных, страдавших желудочно-кишечными и прочими заболеваниями: «Солдат Астраханского полку Федор Кудрявцев одержим был 6 месяцев кровавым поносом, и после стал у него живот туг, и ворчание в животе, и весь он был жолт, и чрез употребление сей воды 3-х недель от всего того избавился». Другой пациент – «господин Пальчиков имел у себя непрестанную головную болезнь и на ногах желтые пятна». Лечение на Марциальных водах не помогло, «токмо чрез употребление сей свое здравие в головной получил, а в пятнах некоторую свободность». Еще один больной – г-н Машков страдал «желудкоболением» и отсутствием аппетита, но «чрез употребление сей же воды здравие во всем получил». Скорбь секретаря Осипа Павлова никакого отношения к желудочно-кишечным заболеваниям не имела – у него был «лом в спине, в руках и в ногах», но и он исцелился «от оной же воды».
Таким образом, столичная вода обладала множеством целебных свойств и была способна придавать «свободность» от разнообразных болезней.
В истории с открытием минеральной воды в столице поражает одно: больные начали употреблять воду на год раньше установления ее химического состава – придворный лекарь Блюментрост произвел анализ только в январе 1723 года, а заключение о целебных свойствах было отправлено в Кабинет в январе 1722 года. Из трех проб воды, взятых в Переведенской слободе, близ Морского госпиталя и в доме у царицы Прасковьи Федоровны, лучшей была признана переведенская.
Вряд ли царь удержался от употребления переведенской воды, но она ему, надо полагать, не принесла никакого облегчения. Только этим и можно объяснить поездку Петра и Екатерины на Марциальные воды в 1724 году, где они пробыли с 23 февраля по 17 марта. Продолжительное лечение, видимо, дало кратковременное улучшение, ибо царь после торжественной коронации Екатерины в Москве отправился пить воду на Угодские заводы. Новая вспышка обострения болезни наступила в августе, когда царь находился в Петербурге. На этот раз воду из Марциальных источников было решено доставлять в столицу. На курорт был послан кабинет-курьер Степан Чеботаев, который изо дня в день без малого месяц отправлял воду в бутылках и в бочонках сухим и водным путем. В Кабинете отложилось множество рапортов Чеботаева.[452]
Кабинет принимал деятельное участие в отправке волонтеров за границу и в организации там их обучения. В каждой стране к ученикам были приставлены своего рода «дядьки», которым Кабинет поручал надзор за поведением учеников и их успехами в науках. В Голландии, где молодые люди овладевали военно-морским делом, обязанности «дядьки» выполнял князь Львов, во Франции – Конон Зотов, в Англии – Федор Салтыков, в Италии – сначала Петр Беклемишев, а затем Савва Рагузинский. Чаще всего с Кабинетом, а точнее, с Макаровым общались надзиратели. Их донесения колоритно рисуют жизнь учеников на чужбине.
В бесхитростном, отличавшемся непосредственностью письме Макарову из Амстердама князь Львов сетовал на свою горькую судьбу: «…дела мои есть вельми тяжкие для того, что те люди, кем мне то делать, все молодые, надежные, всяк надеетца на своих сродников, на свои знати и богатства. А я человек бедной, безродной, к тому же больной и весьма полуумерший, не токмо бы такими людьми управлять здесь, в таких вольных странах, воистинно и во отечестве нашем трудно». Сложность своего положения «дядька» объяснял тем, что он не имел, как тогда говорили, «характера», то есть его статус не был юридически оформлен. «Моя комиссия тайная», – писал он. Поэтому Львов настойчиво домогался царского указа, чтобы великородных балбесов приводили к послушанию государевы послы, которые «у тех дворов обретаютца публично».[453]
Львову вторил Конон Зотов, писавший Макарову из Парижа: «Господин маршал Дестре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамотных поступках наших гардемаринов в Тулоне: дерутся часто между собою и бранятся такою бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради отобрали у них шпаги». Некоторое время спустя новое доношение: гардемарин Глебов поколол шпагой Барятинского и поэтому «за арестом обретается». Это происшествие поставило французского вице-адмирала в затруднение, ибо, как доносил Зотов, во Франции «таких случаев никогда не приключается: хотя и колются, только честно, на поединках, лицом к лицу»[454].
Большинство волонтеров с усердием овладевали науками, приобретали опыт в кораблестроении и кораблевождении. Но среди них встречались бездельники и моты, транжирившие присылаемые родителями деньги на удовольствия и менее всего заботившиеся о выполнении поручения, ради которого они были отправлены за границу. К их числу относились, например, два сына известного военачальника петровского времени князя Аникиты Ивановича Репнина. Поведение сыновей за границей приводило князя в отчаяние. «Печаль ево (А. И. Репнина. – Н. П.),– писал Макарову хлопотавший о Репнине князь Василий Владимирович Долгоруков, – непотребное житье детей ево, о чем вам известно». Суть просьбы Долгорукова: «И я вас, моего государя и друга, прошу о сем, изыскав час, благополучно о сем доложи его величеству, чтоб с ним сотворил высокую милость, избавил бы от той несносной печали». Долгоруков приложил копию письма слуги Василия и Юрия Репниных их отцу, из которого следует, что оба сына князя, обремененные долгами, пребывают «в великой мизерии». Причина затруднений – мотовство. Братья, например, взяли на иждивение двух встречных французов, которые их обокрали. Оказавшись без денег, княжеские отпрыски продали за бесценок лошадей и одежду, оставив для себя «по одному кавтану», но выручку издержали в мгновение ока, так что «и купить хлеба не на что».
Таким же транжирой оказался и Василий Шапкин, не имевший столь знатного родителя, как братья Репнины, но зато доводившийся двоюродным братом кабинет-секретарю. Шапкин обучался кораблестроению в Англии и молил Макарова, чтобы тот «приказал прислать хотя малое число денег, чрез вексель перевести… в Лондон на росплату… долгов, також на покупку инструментов и книг. А я истинно, – плакался непутевый братец, – в великой нужде обретаюсь здесь, почитай, наг и бос, а должники (кредиторы. – Н. П.) мои уже не дают мне свободности во времени, хотят посадить в тюрьму». Обучение не пошло Шапкину впрок, и он себя ничем не прославил.
Вероятно, не привлек бы внимания и Абрам Петров Аннибал (Ганибал), если бы судьба не определила ему быть предком великого Пушкина. Аннибал обучался инженерному делу во Франции с 1720 года. В 1722 году ему, как и прочим волонтерам, царским указом велено было отбыть на родину. Сохранилось семь писем Аннибала Макарову. В каждом из них он настойчиво повторял три просьбы, и прежде всего доказывал целесообразность продлить свое пребывание во Франции еще на три года на том основании, что, по его словам, в «прошедшее время учился» он «токмо теории, а практике ничего не имел». Теперь, рассуждал Аннибал, есть возможность овладеть и практикой: в инженерной школе, где он учился, соорудили земляной город, под который на полевых занятиях будут вести подкопы.
Далее Аннибал хлопотал о том, чтобы ему было предоставлено право возвращаться на родину не морем, как это предписывалось всем волонтерам, а сушей. Мотивировал эту свою просьбу он тем, что крайне болезненно переносил морское путешествие. «Лутче я пешком пойду, – писал Аннибал Макарову, – нежели морем ехать». А затем следовали не менее решительные слова: «…милостыню стал бы просить дорогой, а морем не поеду».
Наконец, Аннибал, как, впрочем, и многие другие волонтеры, жаловался на нужду в деньгах: «…мы здесь в долгу не от мотовства, но от бумажных денег», то есть от инфляции. Тут же бытовая подробность жизни в Париже: «Ежели бы здесь не был Платон Иванович (Мусин-Пушкин. – Н. П.), то б я умер с голоду. Он меня по своей милости не оставил, что обедал и ужинал при нем по все дни». Это, однако, не помешало ему задолжать 250 рублей: «…я не имею за душею ни единую копейку».
В «великой мизерии» пребывали и два купеческих сына Семенниковы, отправленные в Испанию «для обучения купечеству» и овладения бухгалтерской наукой[455].
Наряду с организацией обучения русских молодых людей за границей Кабинет ведал также наймом на русскую службу зарубежных специалистов. К кабинет-секретарю стекались донесения о найме ученых, мастеровых, деятелей культуры, копии заключенных с ними контрактов, а также отчеты о выдаче им прогонных денег из фондов Кабинета. Усилиями Кабинета и его агентов на русскую службу помимо квалифицированных мастеровых (в частности, специалистов паркового и фонтанного дела, мастеров горнорудной и легкой промышленности) были наняты лица, оставившие заметный след в развитии русской культуры и науки: архитекторы Трезини и Леблон, скульптор Растрелли, врачи Блюментрост и Бидлоо и многие другие.
После победоносного окончания Северной войны царь возложил на Кабинет еще одно поручение – написание ее истории. Выбор Петра вызывает некоторое недоумение: почему эту сложную, требовавшую соответствующей подготовки работу должен был выполнять Макаров, а не Прокопович или Шафиров, уже имевшие репутацию опытных авторов исторических сочинений. На этот счет можно высказать несколько догадок.
Петр, надо полагать, опирался на свои многолетние наблюдения за работой кабинет-секретаря и верил в способность Макарова справиться с заданием. Макаров действительно превосходно сочинял деловые бумаги, его стиль отличался ясностью и лаконичностью. Преимущество Макарова как автора состояло и в том, что в его распоряжении находилась основная масса источников о войне, отложившихся в Кабинете. Ему не стоило большого труда затребовать недостающие материалы как у частных лиц, так и у правительственных учреждений: Сената, Военной и Иноземной коллегий.
Кандидатура Макарова имела еще одно преимущество: сам он, как и необходимые для написания истории материалы, находился под боком у Петра. Известно, что царь властно вторгался в текст, написанный Макаровым, безжалостно вычеркивал ненужные, с его точки зрения, подробности, вносил существенные дополнения и т. д. В намерение Петра, по всей вероятности, с самого начала работы входило редактирование сочинения и общее руководство всем начинанием.
Сразу же оговоримся – литературный талант Макарова уступал дарованиям Шафирова, не говоря уже о Прокоповиче. Впрочем, сочинению Макарова, как и сочинениям Прокоповича и Шафирова, была присуща одна общая черта: все они носили откровенно апологетический характер. Но апологетика Макарова отличалась примитивизмом и прямолинейностью, в то время как Прокопович умел прославлять поступки и подвиги царя изысканно тонко. В целом текст «Гистории Свейской войны» утрачивает значительную дозу выразительности, если из него изъять вставки, написанные Петром.
И все же сочинение Макарова имеет достоинство, с лихвой перекрывающее его недостатки: оно в высшей степени достоверно отразило события. Точность изложения событий была заложена в самой организации работы над «Гисторией». Здесь чувствуется рука Макарова, его манера все, чем бы он ни занимался, делать основательно и последовательно. Составление «Гистории Свейской войны» можно разделить на четыре этапа: сбор материалов, написание текста, его, выражаясь современным языком, рецензирование и, наконец, редактирование, осуществлявшееся Макаровым и Петром.
Обращает внимание стремление к возможно более полному выявлению и сбору источников. Значительную их часть составляли донесения, реляции и царские указы, которые хранились в Кабинете. Но Макаров требовал от военачальников копий документов, которыми Кабинет не располагал. 12 мая 1721 года он обратился с просьбой к адмиралу Апраксину, чтобы тот прислал копию журнала о походе в «Синус Ботникус» в 1714 году. Четыре месяца спустя новая просьба к Федору Матвеевичу – представить копии журналов за 1716–1719 года. Макарова, в частности, интересовали сведения о действиях морских и сухопутных сил в Финляндии. Годом раньше у Репнина был затребован журнал военных действий во время Прутского похода. Ответ Аникиты Ивановича проливает свет на степень сохранности документов, освещавших кампанию 1711 года и события, ей предшествовавшие. «А паче опасен я, – писал Репнин Макарову, – о тех прошлогоцких юрналах, не сожжены ли в прошлом 1711 году в бытность у Прута. По приказу при пароле от господина фельтмаршала графа Шереметева многие письма сожечь повелено, что во всей армеи и учинено».
Из документов Кабинета явствует, что к написанию «Гистории» был причастен и помощник Макарова Иван Антонович Черкасов. «Писал я к тебе, – читаем в послании Макарова Черкасову от 2 сентября 1721 года, – чтоб ты выправился с записками и указами, что потребно к сочинению гистории с 1717 году, о чем и ныне напоминаю». Далее следовало повеление Черкасову «собирать вновь материал за 1718–1720 годы, а также внести исправления и дополнения в текст, относящийся к описанию событий 1711 и 1714 годов».
В ходе работы над «Гисторией Свейской войны» Петру пришла мысль расширить тематику сочинения, придав ему характер истории собственного царствования. О существовании подобного замысла свидетельствует требование царя внести в текст дополнения об административных преобразованиях, промышленном строительстве и новшествах в области культуры. Это намерение подтверждается и распоряжением Макарова своему помощнику Черкасову, чтобы тот организовал сбор материала «с девяностого года», то есть с 1682 года. Макаров наметил и узловые сюжеты первых лет царствования Петра, которые надо было обеспечить источниками: вступление Петра на престол и стрелецкий бунт 1682 года, Крымские походы, потехи под Кожуховом и Семеновским, Азовские походы.
Этот план, однако, остался неосуществленным. Гражданские сюжеты в «Гистории Свейской войны» раскрыты столь поверхностно и неполно, что не идут ни в какое сравнение с обстоятельным освещением военных событий. Что касается начальных лет царствования Петра, то текст на эту тему не был составлен даже в первом варианте ни при Петре, ни после его смерти, хотя попытка в этом направлении и предпринималась. В апреле 1725 года Меншиков уведомлял Макарова, что написание истории царствования Петра до 1700 года Екатерина поручила Петру Павловичу Шафирову и в связи с этим «указала надлежащие к тому сочинению известия», в том числе и хранившиеся в Кабинете, передать Шафирову[456].
Точность изложения событий подвергалась тщательной проверке. В январе 1722 года Макаров отправил советнику Иностранной коллегии Василию Васильевичу Степанову текст «Гистории» с описанием в хронологической последовательности событий за 1716 год. Макаров допускал, что его текст неполно и неточно отразил происшедшее, так как, пояснял он Степанову, «писал уже на память для того, что подлинная черная записка ноября и декабря месяцев пропала»; по этой же причине о встрече Петра с прусским королем и о пребывании царя в Амстердаме «гораздо коротко писано». Ответ Степанова отчасти рассеял сомнения Макарова. Рецензент нашел, что свидание Петра с прусским королем «изрядно… записано»; к описанию пути в Амстердам «прибавливать, кажется, нечего»; во время пребывания царя в Голландии тоже ничего «знатного не происходило», если не считать того, что Петр «изволил смотрением тамошних работ и бытностию в комедии забавлятца».
Какие-то замечания на «Гисторию» давал и П. П. Шафиров. 15 июня 1722 года секретарь Иноземной коллегии сообщил Макарову о получении тетрадей с текстом «Гистории» с 1711 по 1716 год и о передаче их Шафирову «к пересмотрению». «И когда высмотрит, то я, – доносил Макарову секретарь, – оные перебеля к вашему благородию пришлю». Сам Шафиров уведомил Макарова в июле, что полученную «Гисторию» «пересматривает».
В роли рецензентов выступали также директор Печатного двора Федор Поликарпов и обер-секретарь Иноземной коллегии Иван Юрьев. Задача первого, правда, ограничивалась подбором иллюстративного материала – печатных изображений фейерверков и «триумфальных входов», а второго – трактатов для помещения их в приложении.
В одном из писем Макаров ориентировал Степанова на проверку правильности транскрипции географической номенклатуры иностранных государств: «…також извольте в ымянах мест польских и деревень, также и других государств городы и деревни и протчие иноземские или французские имяна и речи, чтоб правильно было написано»[457].
Итак, круг обязанностей Кабинета был достаточно широк, причем со временем этих обязанностей становилось все больше. Сам Макаров после смерти Петра составил в 1725 году длинный, но все же неполный перечень дел, которыми занимался Кабинет. Перечень включал переписку с русскими послами и агентами за границей, с губернаторами, коллегиями, Синодом и Сенатом; заботы о найме иностранных специалистов и отправке русских людей за границу; руководство строительством царских дворцов, устройством парков. Кабинет ведал содержанием придворного штата, расходами на Кунсткамеру, выдачей вознаграждений за «монстров». Важной прерогативой Кабинета являлся прием челобитных на царское имя. В Кабинете отложилось множество документов военного содержания. Наконец, в последние годы жизни царя немало сил Кабинета поглощало написание «Гистории Свейской войны».
Если прием челобитных, как и донесений разного рода, а также дипломатическая переписка не требовали от Кабинета значительных денежных затрат, то наем специалистов, отправка русских волонтеров за границу, строительство дворцов, приобретение скульптур и картин, содержание дворцового штата сопровождались огромными расходами. Откуда Кабинет черпал необходимые средства?
На первом этапе доходы Кабинета пополнялись из двух источников. Одним из них являлись суммы, причитавшиеся царю за его службу корабельным мастером, а также капитаном и затем полковником. Эти поступления предназначались на карманные расходы царя: свадебные подарки, подношения роженицам и т. п. Значительно больший вклад в бюджет Кабинета приносили так называемые «подносные деньги» – подарки разного ранга должностных лиц и купеческих корпораций.
Впрочем, с «подносными деньгами» не все ясно. Когда в 1705 году староста Басманной слободы в Москве подарил царю 100 рублей или в 1707 году братия Троице-Сергиева монастыря от щедрот своих поднесла ему 3 тысячи рублей, характер этих подношений не вызывает сомнений: то были подарки. Но вот в 1710 году казанский губернатор Петр Матвеевич Апраксин преподнес царю 55 тысяч, а в следующем году и того больше – 70 тысяч рублей, а архангело-городский губернатор Петр Алексеевич Голицын отвалил царю свыше 90 тысяч ефимков[458]. Совершенно очевидно, что эти крупные суммы не являлись в прямом смысле «подносными деньгами», ибо нельзя подносить то, что дарившему не принадлежало. «Подносные деньги» такого рода были обязаны своим происхождением служебному рвению и изобретательности Апраксина и Голицына, сумевших собрать деньги сверх оклада, причитавшегося им с управляемых губерний.
Столь же затруднительно установить существование строгого порядка в расходовании денежных поступлений. Некоторая часть финансов Кабинета тратилась на личные надобности царя: на стол, экипировку и пр. Поскольку Петр отличался прижимистостью, то траты этого рода были невелики. Во много крат больше денег Кабинет расходовал на военные и дипломатические нужды, причем невозможно объяснить, почему в 1711 году 60 тысяч рублей было отправлено вице-канцлеру Шафирову, находившемуся заложником в Османской империи, из кабинетной, а не из государственной казны. Таким же случайным выглядит расход на изготовление мундиров для двух гвардейских полков.
В последующие годы появились новые источники финансовых поступлений: казна Кабинета стала систематически пополняться деньгами, присылаемыми губернскими канцеляриями. Но самые крупные суммы Кабинет получал от эксплуатации соляной регалии. Продажу соли царь объявил государственной монополией, и весь доход, составлявший в среднем около 600 тысяч рублей в год, поступал в Кабинет. Царь присвоил себе право распоряжаться соляными деньгами и широко им пользовался, тратя их на экстренные государственные нужды: сооружение и эксплуатацию казенных заводов, укрепление Кронштадта, Адмиралтейство, русских агентов за границей и т. д. Надзор за финансовой деятельностью Кабинета, распоряжавшегося сотнями тысяч рублей, тоже осуществлял Макаров.
Нас, однако, занимает не история Кабинета, а роль в нем Макарова.
Кабинет-секретарь
Карьера Макарова не взмывала вверх, как, например, у Меншикова. Напротив, восхождение к власти у него протекало медленно, не осложняясь, впрочем, ни падениями, ни крутыми подъемами. И все же две вехи на его долгом пути можно отметить, и обе они были связаны с более или менее длительным совместным пребыванием царя и Макарова за пределами страны.
Первый раз это случилось в 1711 году, во время Прутского похода, и затем повторилось в 1716–1717 годах, когда они совершали путешествие за границей. Месяцы, проведенные вместе, сблизили царя с Макаровым. Петр в полной мере оценил многие достоинства своего кабинет-секретаря: трезвую голову и ясный взгляд, способность трудиться не покладая рук, быть слугой верным и надежным. Прямых свидетельств, что дело обстояло именно так, нет, но одно косвенное весьма убедительно: после каждой такой вехи поток писем в адрес Макарова значительно возрастал. А это означало, что придворные, а также вельможи и столичные чиновники среднего пошиба, чутко реагировавшие на изменения в положении кого-либо из приближенных к царю, улавливали укрепление позиций Макарова.
При знакомстве с входящими в Кабинет документами бросается в глаза, что они поначалу были адресованы царю и лишь изредка – Макарову. Так, за 1705 год нет ни одного письма, адресованного Макарову. В следующем году он получил два письма: одно служебное от Шафирова, другое, так сказать частное, от Федора Матвеевича Апраксина. Будущий адмирал извещал Макарова, что он передал через канцлера Федора Алексеевича Головина челобитную царю и письмо Меншикову. Вслед за этим две просьбы: «Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебя надежду». К Петру Макаров был вхож, и челобитная Апраксина не могла миновать его даже в том случае, если бы Головин вручил ее через голову кабинет-секретаря непосредственно царю. Другое дело Меншиков. Он был независим от Макарова, как и Макаров от него. Апраксин, разумеется, об этом знал, тем не менее написал: «Також-де посылано письмо до милостивейшего моего патрона Александра Даниловича. По возможности изволь разведать и по своему приятству ко мне отпиши».[459]
С подобной просьбой Апраксин мог обратиться лишь в том случае, если знал о дружбе между Макаровым и Меншиковым. Действительно, несмотря на несходство характеров, они отлично ладили друг с другом и нуждались друг в друге. Правда, роли у них со временем поменялись: первоначально в поддержке царского фаворита, когда тот был ближе всего к царю, нуждался Макаров; в последние годы жизни царя в дружбе с кабинет-секретарем был более заинтересован Меншиков, фавор которого пошатнулся настолько, что все ожидали близкого его падения. Петр Андреевич Толстой не лукавил, когда в тяжелые для князя времена аттестовал Макарова так: он «есть вашей светлости доброй приятель»[460].
Постепенно перечень лиц, обращавшихся к Макарову с разнообразными просьбами, расширялся. Мало-помалу кабинет-секретарь укрепился настолько, что к нему стали писать не только люди его круга – Александр Кикин, Антон Девиер – или близкие ему по социальному облику такие корреспонденты, как Алексей Курбатов, Василий Ершов, но и вельможи, высшие офицеры: фельдмаршал Шереметев, князья Михаил и Петр Голицыны, Яков Брюс, князья Василий Долгоруков и Матвей Гагарин и многие другие. Пост Макарова позволял ему заводить знакомства со многими людьми. Все они жаждали завязать с ним близкие отношения, ибо знали, что он располагал возможностями помочь, но мог и навредить. Одни относились к нему с назойливой почтительностью, другие – снисходительно, третьи – с уважением, вызывавшим зависть у недоброжелателей, четвертые – настороженно, злобно выжидая момента, когда он попадет под горячую руку вспыльчивому царю и окажется в немилости. Всяк понимал, что быть помощником столь беспокойного и своевольного человека, как Петр, не так-то просто, и временами казалось, что карьере Макарова пришел конец. Но завистники ошибались: проходили годы, а работяга Макаров оставался у дел.
Показательна форма обращения к Макарову. На первый взгляд она кажется пустяком, не достойным внимания, чистой формальностью. В действительности за словами приветствия скрывались мера зависимости корреспондента от кабинет-секретаря и степень близости к нему этого корреспондента.
Приятели Кикин, Курбатов, Ершов и Василий Зотов обращались к Макарову так: «Государь мой, милостивый и истинной друг Алексей Васильевич», «Премилостивейший мой государь, батька», «Мой государь и друг истинный», «Государь мой, всенадежный друг». Все названные лица претендовали на дружбу и держали душу, как говорится, нараспашку.
Другие корреспонденты проявляли сдержанность и независимость. Например, дипломат Борис Иванович Куракин начинал свои послания с обращения «Мой господин, Алексей Васильевич!», Яков Вилимович Брюс – «Государь мой, Алексей Васильевич!».
Третьи, зная силу Макарова, заискивали перед ним. В обращении таких авторов непременно присутствует слово «благодетель». «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй», – писал Ф. М. Апраксин. Или нарвский комендант Кирилл Нарышкин: «Государь мой и милостивый благодетель, Алексей Васильевич!» Исключение составлял Меншиков. Его надменность и высокомерие выражались в том, что он был единственным корреспондентом Макарова, который не называл его по имени-отчеству. Даже в тех случаях, когда Меншиков излагал личную просьбу, он величал кабинет-секретаря официально, без тени подобострастия и теплоты: «Господин Макаров!» или «Господин секретарь!» Лишь позже, в 1720-х годах, он, оставаясь верным своей привычке, стал писать: «Благородный господин кабинет-секретарь!»
Чем обширнее становились обязанности Кабинета и чем больше поступало донесений, реляций, ведомостей, челобитных и прочих документов, тем весомее становилась роль Макарова. Царю, естественно, было не под силу самому разобраться в массе входящей корреспонденции. Предварительный ее просмотр и систематизацию, а также определение важности существа дела производил кабинет-секретарь; он же докладывал о ней Петру, он же отвечал сам или готовил проекты ответов, подписываемых затем царем. В промежутке между этими заботами Макаров выслушивал повеления Петра, управлялся с финансовыми делами Кабинета и даже выкраивал время для управления собственными вотчинами.
Трудно себе представить, когда он успевал все это делать. Сил у Макарова должно было быть чуть больше, чем у простого смертного. Это «чуть больше» и превращало Макарова в помощника, крайне необходимого царю. Правда, Алексей Васильевич имел сотрудников, но независимо от них он тянул такой воз и с такой щедростью растрачивал свою энергию, что это возводило его в ранг незаурядных людей.
В фонде Кабинета Петра хранятся тысячи писем, адресованных Макарову. Взятые вместе, они представляют обильный материал для изучения характеров, нравов и человеческих судеб той поры.
Одни обращались за милосердием к царю, другие его выпрашивали у Макарова. Отметим, что царю докучали челобитными в редких случаях: руку челобитчиков удерживали несколько указов Петра, строго каравших за подачу ему прошений. Челобитчики, однако, научились обходить указы: они обращались с просьбами не к царю, а к Макарову, чтобы тот исхлопотал у монарха положительное решение вопроса. Как правило, авторы деловых бумаг отправляли их в два адреса: царю и Макарову. Содержание прошений было одинаковым. Единственное различие можно обнаружить в конце писем Макарову, где его просили «предстательствовать» перед царем и доложить ему «во благополучное время» или «со временем». Князь Матвей Гагарин изобрел несколько иную формулу: «Пожалуй, милостивый государь, усмотря случай, донести его царскому величеству».
Что означала формула «во благополучное время»? Время, когда Петр благодушествовал и пребывал в превосходном настроении, или когда царь не был целиком поглощен какой-либо одной заботой, был готов отвлечься и переключить свое внимание на другое дело, или, наконец, время досуга Петра? Скорее всего, все три варианта подходят под понятие «благополучное время». А что Макаров терпеливо его ожидал и эти слова не являлись простой данью вежливости, свидетельствует донесение Апраксина о бедствии, постигшем русский флот в Ревельской гавани в результате небывалой силы шторма. Получив это печальное известие, Макаров не помчался с докладом к царю, а терпеливо выжидал наступления этого самого «благополучного времени», дождался и тем самым предотвратил вспышку царского гнева.
Неподходящим временем, способным вызвать у Петра отрицательные эмоции, вероятно, считалось то, когда царя отрывали от занятий, которыми он был увлечен. Так, один из аккредитованных при царском дворе иноземных дипломатов утверждал, что царь как-то на недели запирался в кабинете и отказывался слушать какие-либо дела, ибо был поглощен конструированием корабля и претворением своих идей в чертежи. На первый взгляд подобное свидетельство кажется досужим вымыслом, но эти сведения подтверждает помощник Макарова по Кабинету Черкасов. В письме своему шефу Иван Антонович сообщал, что царь прибыл в Петербург 4 марта 1723 года, но прошло уже три дня, а он, Черкасов, не может выполнить поручение Макарова, так как «его императорское величество по се число ни за какое дело здесь не изволил приниматца, только изволит трудитца за чертежем нового корабля».
Кстати, и сам Макаров, до тонкостей изучивший характер своего повелителя, тоже употреблял понятие «во благополучное время». В 1724 году, когда на Марциальные воды вместе с царем отправился Черкасов, кабинет-секретарь просил своего помощника не терять из виду челобитную советника Иностранной коллегии Степанова «о деревнях». «И ежели усмотришь время, – наставлял Черкасова Макаров, – то доложи его величеству, о чем он, Степанов, прилежно вас чрез письмо свое просил»[461].
Какими только просьбами не осаждали Макарова! Марья Строганова просила его ходатайствовать перед царем об освобождении от службы ее племянника Афанасия Татищева, поскольку в нем «есть нужда» в доме. Княгиня Арина Трубецкая выдавала замуж свою дочь и в связи с этим домогалась, чтобы Макаров исходатайствовал у Екатерины разрешение на заем 5–6 тысяч рублей, «чтоб нам сию свадьбу отправить». Князь Иван Трубецкой, долгие годы томившийся в шведском плену, исхлопотал обещание Петра построить ему дом на казенный счет, но оно не было оформлено указом, и Трубецкой уже после смерти Петра просил Макарова, чтобы тот «подал совет» его жене, как действовать, чтобы хлопоты увенчались успехом. Анна Шереметева, вдова фельдмаршала, жаловалась Макарову, что ей жизни не стало «от челобитчиков в беглых крестьянех, ищут за пожилые годы превеликих исков». Графиня просила кабинет-секретаря «во благополучное время» доложить царю и царице, чтобы те «оборонили» ее от истцов.[462]
Иногда лица, лично известные Макарову, искали у него содействия в устройстве дел своих родственников. Генераладъютант Семен Нарышкин просил Макарова похлопотать у Б. П. Шереметева о повышении чином своего брата Василия Гурьева. Василий Степанов, называвший Макарова братом и сватом, писал ему: «Прошу вас, моего государя, явить свою милость к брату моему Борису Пахомовичу, о чем он будет вас просить». Даже сам светлейший князь Меншиков выступал просителем за своего шурина поручика Василия Арсеньева: когда царь затребует список офицеров, подлежащих повышению в чине, то Макаров должен был «в тое роспись внести» его имя.[463]
Не лишены интереса действия Артемия Петровича Волынского, выступившего ходатаем о неком Василии Ивановиче Яковлеве. Они любопытны, поскольку являют образец коварства тех времен.
Составленное письмо Макарову Волынский показал Яковлеву, и тот, надо полагать, был в восторге от лестной аттестации. В самом деле, Макаров, получив послание Волынского, прочел следующую характеристику Яковлева: «…он мне древний благодетель и человек заслуженной, ибо во многих кровавых боях под Конотопом и Чигирином бывал и проливал кровь за веру христианскую», а вслед за ней – две просьбы: исхлопотать у царя назначение Яковлева пензенским воеводой и пожалование ему чина окольничьего или думного дворянина. Но письмо сопровождала цидулка, напрочь дезавуировавшая все хвалебные слова и отражавшая подлинное мнение Волынского о своем подопечном: «…сей старичок зело честолюбив и спесив, также и лжец жесток».[464]
Другие корреспонденты Макарова были скромнее и ограничивались лишь просьбой о том, чтобы кабинет-секретарь уведомил их, как будет воспринято царем их доношение. Ф. М. Апраксин заканчивал многие свои послания Макарову так: «Письмо его царскому величеству изволь вручить, и как оное будет принято, пожалуй, не изволь оставить без известия». А. И. Репнин подал челобитную царю о пожаловании ему мызы в Лифляндии. Не получив ответа, он просил Макарова известить его, «…есть ли на помянутое мое прошение какой указ или отказано». С таким же вопросом обратился к Макарову и Конон Зотов, пожелавший знать об отношении царя к его деятельности в Париже: «…по се число не имею ни похвалы, ни гневу».[465]
Выше упоминалось, что подавляющая масса писем Макарову носила деловой характер и, как правило, дублировала содержание доношений царю. Однако существовали отклонения от этого правила.
Первое из них допускали корреспонденты, хорошо осведомленные о порядке прохождения дел в Кабинете. Они справедливо полагали, что писать Макарову столь же пространно, как и царю, не было резона, ибо со всеми доношениями предварительно знакомился кабинет-секретарь. Например, Ягужинский извещал Макарова, что о делах ему не пишет: «…из письма к его царскому величеству довольно уведомиться можете». Так поступал и князь В. В. Долгоруков: «О чем мне надлежало писать, о всем писал я пространно до царского величества, ис чего изволите сами уведомитца». Князь Петр Голицын к письму Макарову от 14 февраля 1711 года сделал собственноручную приписку: «А с письма царского величества копии не послал я до вашей милости для того, что оное будет в руках ваших».
Второе отступление заключалось в том, что доношение царю существенно отличалось от письма Макарову, уступая последнему в богатстве содержания. Меншиков такие отступления мотивировал нежеланием утруждать царя всякого рода мелочами: «О протчем, не хотя ваше величество утруждать, писал я пространно секретарю Макарову». Алексею Васильевичу князь по этому же поводу писал: «А я его величеству сими малыми делами докучать не хотел, на что ожидать буду от вас ответу».
Генерал-фельдцейхмейстер Яков Брюс, человек лично хорошо известный царю, тоже не счел для себя возможным обращаться непосредственно к Петру по поводу того, что майора Молоствова, определенного к варению селитры на Ахтубе, полковник Кошелев назначил на другую службу. Жалобу на действия Кошелева Брюс отправил Макарову.
Не решился беспокоить царя и А. И. Репнин, отправивший Макарову сопроводительное письмо с объяснением причин своего отсутствия на свадьбе князя-папы Аникиты Зотова. С оправданием – и опять не к царю, а к Макарову – обратился Алексей Дашков, которому царь повелел присутствовать на церемонии встречи османского посла: «…и я б его величества указ исполнить готов по должности моей, но истинно, государь, Богом свидетельствуются, также и все куриеры, которые ко мне от вашего превосходительства приезжают, видят, что уже я три недели с постели не встаю и учинить того отнюдь не могу болезней ради моих. Того ради покорно вашего превосходительства прошу сотворить со мною милость и донесть о том его величеству, чтоб на мене в том надеяния не было и какова медления не произошло». Объяснение неявки по вызову царя адресовал Макарову казанский губернатор Петр Салтыков. Царь обязал его прибыть в Петербург в ноябре 1714 года, но тот занемог и искал заступничества у Алексея Васильевича: «Прошу тебя, моего государя милостивого, охрани меня, дабы в том его величество на меня, раба своего, не прогневался».
Брюс, бесспорно, имел полное основание не тревожить царя по поводу такого пустяка, как изъятие из его ведомства безвестного майора Молоствова. Можно согласиться и с доводами Репнина и Дашкова, полагавших, что их донесения следовало адресовать не царю, а Макарову. Однако в некоторых случаях авторы писем, похоже, преднамеренно умаляли значение вопроса, чтобы на этом основании не докучать царю.
Тот же Брюс, например, в мае 1712 года в письме Макарову обстоятельно описал постигшую его неудачу при попытке заполучить от магистрата Данцига 100 тысяч талеров за игнорирование горожанами указа царя о запрещении торговли со шведами. «Но паки от них ничего, кроме стыда, не получил», – жаловался Брюс. В магистрате отклонили его требование и рассуждали так: «Хотя бы де вы что захотели над нами учинить, и мы ведаем, что вы ныне не в таком состоянии… А мы, слава Богу, в таком состоянии, что довольное число всего ко обороне имеем». Вопрос, как видим, не мелкий. Весомость ему придавали не только престижные соображения, но и 100 тысяч талеров. Тем не менее Брюс писал Макарову: «…не хотя его царское величество безпутным делом докучать, того ради прошу вашей милости удобным часом его величеству донести».[466]
Меншиков, как, впрочем, и другие корреспонденты, находившиеся с Макаровым в доверительных отношениях, нередко информировал кабинет-секретаря о фактах и событиях, которые считал целесообразным скрывать от царя. Так, в июле 1716 года Меншиков писал Макарову, находившемуся вместе с царем за границей: «Також в Питергофе и Стрелиной в работниках больных зело много и умирают непрестанно, ис которых нынешним летом больше тысячи человек померло. Однакож о сем работничьем худом состоянии пишу к вам во особливое ваше ведение, о чем, разве какой случай позовет, то тогда донести можете, понеже, чаю, что и так многие неисправления здешние его царское величество не по малу утруждают». В доношении царю, отправленном в тот же день, о массовой гибели работников – ни единого слова. Правда, князь сообщил, что работы на острове Котлин он обрел «в слабом состоянии», но причиной тому были непрерывные ливневые дожди.
4 мая 1723 года Меншиков отправил из Вышнего Волочка, где находился проездом, доношение царю и письмо Макарову. Оба документа – об одном и том же: он, Меншиков, находится в Вышнем Волочке и на днях покинет его. Однако в письме Макарову есть существенная деталь, отсутствующая в доношении царю: «Не мог и сего оставить, чтоб вашей милости не объявить, что от Москвы до сих мест в пути сена и овса и людем пищи нигде купить сыскать не могли, в чем великую имели нужду».
Напомним, в 1723 году, как и в предшествовавшем, губернии Центра России и Поволжья постиг неурожай. Народ испытывал бедствие, с отзвуками которого познакомился и светлейший. Остается гадать, почему он не сообщил об этом царю. Возможно, он полагал, что о недороде и голоде Петр был хорошо осведомлен и поэтому испытанные им, Меншиковым, путевые неудобства носили столь личный характер, что не заслуживали упоминания. Более вероятно, однако, предположение, что опытный царедворец считал, что Петру не следует знать о неприглядных сторонах своего царствования.
Меншиков был не единственным корреспондентом, информировавшим Макарова обстоятельнее, нежели царя. Подобным образом поступал и рижский губернатор Петр Голицын, правда по иным мотивам. Он как-то пожаловался царю, что начиная с 1714 года у него ежегодно вычитают из жалованья по 1200 рублей штрафных денег, а служителей губернской канцелярии держат на правеже: «…бутто за мое губернское неизправление». Челобитная губернатора отличается сухостью и деловитостью, в ней отсутствуют эмоции. Зато в письме Макарову, отправленном в тот же день, Голицын дал волю своим чувствам. Он просил кабинет-секретаря «…учинить вспоможение, чтоб на мне и на оных бедных канцелярских служителях, которые, кроме жалованья, никакова имеют иждивения и весьма нужные, того жалованья не править и людей моих и их чрез ваше ходатайство с правежа освободить». И далее следовал морально-престижный аргумент, о котором он в челобитной царю упомянуть не осмелился: «…воистину, мой милостивой, пред здешним народом в том правеже превеликой стыд, какого, надеюсь, как и Рига зачалась, не бывало».[467]
Откровеннее с Макаровым, нежели с царем, был и фельдмаршал Б. П. Шереметев. В июле 1717 года он отправил царю челобитную об освобождении от службы. Сочинена она была в характерном для Шереметева ключе, с присущим ему умением плакаться и канючить. Ссылаясь на «лета… престарелые и слабость здоровья» своего, Борис Петрович испрашивал у царя разрешения «…ехать прямо в домишко свои и в деревнишки для управления и для розделу невески своей, чтоб я их успел при себе розделить з детьми своими». Далее следовали жалоба, что он «сколько лет домишка своего» не видел, и соображения, как он организует свою жизнь в столице, когда туда переедет. Если, рассуждал фельдмаршал, ехать туда сейчас, то «прожить будет в Питербурху нечем и совсем не только себя, но и жену з детьми разорю».
В письме к Макарову Шереметев подробнее объяснял, почему он не может тотчас поселиться в столице: «…хоромишки, которые были мазанки, и о тех пишут ко мне, что сели, жить в них никоими мерами нельзя». Щедрее делился он с Алексеем Васильевичем и своими планами на будущее: «Зимою бы нынешнею и на весну водою приготовил бы припасами и основательно б все мог управить». Письмо заканчивалось собственноручно написанной фразой: «Покорне вас прошу, не оставь моей прозьбы при таком приличном случае».
Увольнения в отставку домогался и казанский вице-губернатор Никита Кудрявцев, причем его письма Макарову тоже отличались от доношений Петру. Царь обещал удовлетворить желание Кудрявцева после своего возвращения из-за границы. Петр вернулся из путешествия в 1717 году, но Кудрявцев отставки не получил. Повременил царь с удовлетворением его просьбы и в следующем году, на этот раз по той причине, что губернатор Салтыков отправился на лечение в Москву. Кудрявцев, вынужденный тянуть непосильную из-за старости лямку управления губернией, 22 сентября 1718 года написал два послания: челобитную царю и письмо Макарову. В челобитной он сетовал на то, что Салтыков отправился в Москву «на малое время», «но изволит быть в Москве и доднесь». Между тем о себе Кудрявцев писал: «…так весьма уже ослабел, что часто непамятством одержуся, говоря многое не то, что надобно».
В письме Макарову деликатные слова о том, что губернатор, излечившись от недуга, «свободно изволит быть в Москве», заменены более резкими, причем старик не удержался от жалоб на своего начальника и колкостей в его адрес: «…превосходительный мой губернатор оставил меня во всяком бедстве и в тягосте и живет в Москве не для пользы болезни своей, только продолжает время, чтоб ему прожить, по коих мест разделитца всякое правление по коллегиям».[468]
Автор не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что Кабинет работал, подобно хорошо отлаженному механизму, без сучка и задоринки; что возглавляемому Макаровым учреждению не были присущи черты, свойственные любому учреждению абсолютистского государства. Напротив, имеется множество свидетельств тому, что бюрократизм, волокита и производное от них медленное, как в сонном царстве, течение дел составляли характерную черту работы Кабинета.
То, что Кабинет функционировал далеко не безупречно, явствует из наличия повторных донесений с напоминаниями, что ни на одно из них не получено ответа. Таких напоминаний и просьб – бесчисленное множество. Так, рижский губернатор Петр Голицын испрашивал царского повеления на свое доношение от 28 августа 1713 года: «…на мои пункты, которые я прежде послал до его величества». Прошло более месяца, и Голицын вновь напомнил Макарову об отсутствии указа на ранее отправленные доношения. Свидетельство на этот счет Василия Долгорукова: «Писал я до царского величества многократно о многих самых нуждах, ни на одно не получил отповеди, ис чего немалой труд и печаль я принимаю». Канцлер Гавриил Иванович Головкин тоже сетовал на несвоевременные ответы на запросы. «Однако же, – писал он Макарову 26 мая 1713 года, – не на все дела, изображенные в тех письмах, решение к нам прислано, но о многих умолчено».
Случалось Макарову получать и сердитые письма – не с просьбами, а с упреками. Одно из них, отправленное 18 февраля 1718 года, принадлежит русскому резиденту в Лондоне Федору Веселовскому: «Я уже, государь мой, не могу больше писать к вам о комиссиях, положенных на меня, ибо сколько кратко к вашей милости не писал, однакож по се время ни одной строки в ответ не получил и так оставлен, что уже никакого способа не имею, как исправитца… Все сие становитца в немалой убыток за тем, что нескоро от вас указ получить могу».[469]
Трудно сейчас ответить, кто повинен в том, что Веселовский и Голицын своевременно не получили указов на свои запросы: сам царь, хранивший молчание после заслушивания доклада и по каким-то соображениям считавший нужным повременить с решением вопроса, или его кабинет-секретарь, ожидавший «благополучного часа», чтобы доложить, а доложив и получив указ, не спешивший уведомить о нем заинтересованное лицо. Вряд ли, однако, Макаров осмеливался доводить дело до того, чтобы в его адрес раздавались упреки и жалобы корреспондентов или брань разбушевавшегося царя. Для покорно послушного Макарова, неизменно учтивого и обходительного, последнее исключалось: он умел рассчитывать свои действия, соразмерять их с последующими ответными шагами, взвешивать последствия.
Впрочем, иногда Макаров шел на риск, причем тогда, когда он не сулил лично ему выгод. Рисковать побуждали его доброта, приятельская верность и стремление выручить друзей из беды. В подобных случаях Макаров, надо полагать, сознательно клал под сукно бумаги, усугублявшие положение людей, нуждавшихся в его помощи.
Алексей Васильевич имел репутацию человека отзывчивого и душевно щедрого. Один из его корреспондентов, видимо лично ему незнакомый, писал: «…не имея ни малого услужения до вашей, моего государя, персоны, токмо разсуждая и видя ваше благое и милостивое склонение ко убогим…» Сразу же оговоримся, что автор этих строк, Иван Измайлов, не принадлежал к «убогим» в подлинном смысле слова. Он зря уничижительно называл себя человеком «мизерным», ибо владел 70 дворами крепостных. Поэтому Измайлова можно заподозрить в стремлении подхалимством расположить к себе кабинет-секретаря. Но вот что писал Макарову Конон Зотов, сын знаменитого князя-папы: «Одним словом, Никите Моисеевичу обязан за рождение и за воспитание, а вам – за благодеяние и милосердие».[470]
Существует, кроме того, такой объективный показатель добродушия и благожелательности Макарова, как призывы к нему о помощи опальных, попавших в немилость. Он оказывал заступничество даже тем, покровительство которым было опасно и могло накликать беду. Среди них – первый прибыльщик, ставший затем архангелогородским вице-губернатором, Алексей Курбатов, московский вице-губернатор Василий Ершов, любимый денщик царя, а затем адмиралтеец Александр Кикин и многие другие. Не стеснялся обращаться за «предстательством» к Макарову и сам Меншиков.
Содержание многочисленных писем Курбатова Макарову, а также донесений его царю дает основание для заключения, что первый прибыльщик России был обязан Макарову сохранением жизни: если бы не советы и заступничество кабинет-секретаря, то, возможно, Алексей Александрович распрощался бы с земными заботами в тюрьме под пытками или на эшафоте.
У истоков опалы Курбатова находилась его ссора с Меншиковым. Поначалу отношения между ними были такими, что, казалось, их водой не разольешь: князь споспешествовал карьере Курбатова, а последний всячески угождал своему патрону. В одном из писем царю Курбатов называл Меншикова «избранным от Бога сосудом, единственным человеком, который без порока перед царем».[471] Изредка между ними случались размолвки, но они были кратковременными.
Положение круто изменилось после 1711 года, когда царь назначил Курбатова архангелогородским вице-губернатором. Прибыльщик отправился в Город, как тогда называли Архангельск, и там обнаружил противозаконные действия агента Меншикова Дмитрия Соловьева. Вопреки царскому указу, запрещавшему вывоз хлеба за границу, Соловьев продавал его в Голландию. Курбатов настрочил донос царю. С этого времени Меншиков и Курбатов стали непримиримыми врагами и так крепко вцепились друг в друга, что разняла их лишь смерть Алексея Александровича.
К следствию по делу Соловьева был привлечен и Курбатов, который, несмотря на кратковременность пребывания в должности вице-губернатора, успел совершить ряд непристойных поступков. Ему пришлось оправдываться. Делать это было непросто, так как следственные комиссии испытывали давление со стороны всесильного Меншикова и его клевретов.
Здесь не место для обстоятельного изложения перипетий следствия. Наша задача скромнее – описать роль в этом деле Макарова. Она была сложной и требовала от кабинет-секретаря не только ловкости, но и отваги. Ему приходилось лавировать между противоборствовавшими силами – Меншиковым и Курбатовым, с каждым из которых он находился в приятельских отношениях. Кроме того, Макарову надлежало считаться и с самим царем, внимательно следившим за ходом следствия и считавшим Курбатова казнокрадом.
Дружеские отношения Курбатова с Макаровым не составляли тайны для окружающих. Иван Хрипунов, многие годы служивший под началом Курбатова, когда тот еще был руководителем Оружейной палаты, писал о себе Макарову в 1713 году: «Больши четырех лет служил его величеству при верном его величества рабе, а вашем друге, во определении математических школ и многотысячного збора крепосных дел и дел же оружейных». Знал о приятельских отношениях между Макаровым и Курбатовым князь Михаил Волконский, отправленный в Вологду и Архангельск для следствия по доносу Курбатова. Волконский делился с Макаровым сомнениями относительно успешности выполнения своего поручения, в частности, потому, что полагал: Курбатов «будет по любительной вашей дружбе до вас, моего государя, писать…».
До начала следствия Волконский, похоже, не питал неприязни к Курбатову. В спокойном и благожелательном тоне он извещал Макарова из Вологды: «… к Алексею Александровичу послал указ великого государя, чтоб к прибытию моему изготовил сведения, кои надлежат к тому делу». Следователь обещал вести дело «без всякого ухищрения… сколько глупово умишку моего есть».
Курбатов тоже поначалу не выказывал настороженности и подозрений относительно намерений следователя. В августе 1713 года он писал Макарову о Волконском: «А каковым усердием во оном розыске послужит – неизвестно». В дальнейшем отношения между Волконским и Курбатовым ухудшились настолько, что вести следствие стало практически невозможно. От следователя и подследственного посыпались взаимные жалобы. Курбатов закусил удила, стал в позу, считал себя крайне обиженным прежде всего тем, что его, человека, разоблачившего проделки Соловьева, привлекают к следствию. Свое негодование он изливал Макарову: «Господин маэор князь Волконский подавал мемориал на Москве в Сенате. Ежели по Соловьеву розыску надлежит мене допрашивать или взять скаску, или дать очные ставки, дабы я ему в том был послушен. И по ево желанию, жалея меня, и учинили. Разсуди, мой милостивый государь, каковая ко мне милость – не во ино что тщатся, точно безславие мне в народе зделать. То ли моя вина, что, всякой страх оставя, писал на Соловьева, видя ево неправость, за что было меня их милости, яко верным сущим, надлежало любить, а они начали губить».
Жаловался на Курбатова и Волконский: «Только что, государь мой, за чем не посылаю указы, ни на что отповедывания нет». В другом письме Макарову гвардии майор сокрушался по поводу полного игнорирования подследственным его распоряжений: «Не знаю, что мне и делать».
Вряд ли Курбатов вел бы себя столь заносчиво, если бы не рассчитывал на безоговорочную поддержку Макарова. Из его писем кабинет-секретарю явствует, что он согласовывал с ним каждый свой шаг: либо спрашивал совета, следует ли ему подавать доношение на имя царя, либо интересовался отношением царя к уже поданному доношению, либо, наконец, просил Макарова, чтобы тот «предстательствовал» за него перед царем и защитил его от всяческих «турбаций».
В первые годы работы следственной комиссии Курбатов пытался убедить всех и вся в своей невиновности. «Ей, ей, – писал он Макарову, – ни в чем же (при помощи Божии) надеются быти виновен, разве что по неведению многих ради моих суетств учиних, и в том, уповаю на Бога, едва сыщется». Виновником своих бед Курбатов считал Волконского, якобы предвзято к нему относившегося: «Не бегу от правосудия царска, но к нему прошуся, а он (Волконский. – Н. П.) – злоковарной лукавец и, всякие неправды исполненный, явно от того правосудия бежит».[472] Курбатов в эти годы вел себя так, будто он стал жертвой недоразумений, что все в скором времени образуется и возведенные на него обвинения развеются в прах.
Но по мере того как следствие подтверждало одно обвинение за другим, тон Курбатова менялся и он все менее категорично отрицал свои преступления: «А что до самих нужд моих и прокормления и брал сверх жалованья небольшое, и то не тайно, но с росписками, которой долг и доныне на мне явен есть». В доношении царю Курбатов напомнил о том, как в течение своей ревностной службы он «без тягости народа» принес казне «многосотные тысячи рублев» прибыли. В 1705 году он, будучи в Ратуше, увеличил питейный сбор только по одной Москве на 112 тысяч рублей, а в 1711 году сверх оклада собрал по Архангелогородской губернии 300 тысяч рублей. Гербовая бумага, введенная по его предложению, обеспечила поступление в казну 50 тысяч рублей прибыли. Перед нами типичный образец рассуждений казнокрада XVIII века, не видевшего ничего зазорного и тем более преступного в том, что он из полученных его радением казенных доходов малую толику, какие-то крохи, присваивал себе.
Но воззрений Курбатова почему-то не разделял царь. Следствие продолжалось, и Макаров делал все возможное, чтобы облегчить судьбу приятеля. Сохранилось письмо Макарова своему помощнику Черкасову с Марциальных вод, где в январе 1719 года он находился вместе с Петром: «Алексею Александровичу поклонись и скажи, что я всеми мерами об нем старатца буду, а по се время еще (кроме того, что при тебе в Шлютебурхе) на разговор об нем часу удобного не сыскал».[473]
Можно не сомневаться, что Макаров «сыскал» в конце концов «час удобный» для разговора с царем, – он был человеком обязательным. Но столь же бесспорно, что старания кабинет-секретаря оказались тщетными и веру царя в виновность Курбатова он не поколебал. Если бы Макарову удалось добиться угодного Курбатову решения, то последний не стал бы подавать царю челобитную с признанием своей вины. Впрочем, по сути дела это было не признание, а полупризнание, ибо Курбатов изворачивался и хитрил.
Общеизвестно, что обвиняемый тех времен если не располагал убедительными доводами для своей реабилитации, то прибегал к одной из трех формул: проступок-де он совершил либо «с простоты», либо «в беспамятстве», либо «спьяна». Курбатов, например, признал, что получил от хлебных подрядчиков взятку в 1500 рублей, и тут же придумал более изощренное, но не менее нелепое объяснение, которое, как ему казалось, могло убедить царя в том, что он, беря взятку, руководствовался благими намерениями: «А те деньги приняты под таким видом, чтоб донесть о том царскому величеству, а во уверении того писал он о пресечении дорогих подрядов». Итак, хотел донести, но не донес – слишком велик был куш, чтобы устоять от соблазна его прикарманить.
Жители Кевроля и Мезени дали Курбатову «в почесть» 300 рублей, чтобы он сквозь пальцы смотрел на уменьшение налогоплательщиков. Курбатов признал получение денег и опять попытался превратить порок в добродетель: «…он, приняв 300 рублей, запамятовал их отослать в Канцелярию на содержание школ и шпиталя, но за нуждами в то время не отосланы и по розыске Волконского дослать не успел».
Следственная комиссия подсчитала, что за три года Курбатов получил от городского населения управляемой им губернии «харчевых и почесных подносов» на сумму до 4 тысяч рублей. Курбатов оспаривал эту сумму, считая, что ему перепало до тысячи рублей, и тут же подчеркивал, что он брал «из мирских, а не государевых» доходов. В «почесть» он принимал виноградное вино, водку, деньги и пр. Кроме того, он, по собственному признанию, с 1705 по 1714 год присвоил 9994 рубля казенных денег.
Комиссия не завершила следствие: в дополнение к изученным 12 делам надлежало рассмотреть еще 15. Но и расследованные дела позволили предъявить Курбатову обвинение в присвоении им 16 422 рублей. В разгар следствия Курбатов умер. Комиссия затруднялась определить, по какому, так сказать, разряду его надлежало хоронить – как честного человека или как преступника. При этом майор Михаил Нарышкин, сменивший Волконского на посту руководителя следственной комиссии, извещал Макарова, что «о винах ево, Курбатова, его величеству не докладывано и эксекуции над ним, Курбатовым, никакой не чинено».[474]
У другого опального – Василия Ершова было немало общего с Курбатовым. Ершов происходил из холопов Б. П. Шереметева и, подобно Курбатову, тоже занимал должность вице-губернатора. Оба они считали себя жертвами навета людей, завидовавших их блестящей карьере. Курбатов писал Макарову в 1713 году: «Истину реку ти: едва не вси мя возненавидеша, а за что – не вем, разве за усердие мое ко всемилостивейшему нашему государю». В другом письме Курбатов восклицал: «Ой, батько мой, вижду, что мне учинила ревность моя». Ход мыслей Курбатова перекликался с рассуждениями Ершова. Последний жаловался Макарову: «А за земские труды мои, тяжкие и верные, и за доброе мое отважное сердце, и за незазренную мою совесть, того ль я, сирой, ожидал». И далее: «…мнози жаждут изтребления моего».
Налицо и некоторая общность психологии опальных. Ершов, как и Курбатов, ссылался на огромные прибыли, полученные казной благодаря его усердию. В челобитной царю Ершов сообщал, что «ревностишкою моею» только в 1711 году при заключении винных и провиантских подрядов, а также питейных и таможенных сборах учинено прибыли 116 тысяч рублей. Кроме того, в результате его усилий Дворцовая и Мундирная канцелярии получили 400 тысяч рублей прибыли.
В остальном они были несхожи. Курбатов – человек дела, его письма и доношения отличаются лаконичным и ясным изложением цели, ради которой они были написаны. Письма Ершова, напротив, многословны, велеречивы, с нотками разочарования в суетной жизни и стремления разжалобить кабинет-секретаря описанием болезней и предчувствием скорой кончины. Степень близости каждого из них к Макарову тоже была различной. Курбатова, как свидетельствуют его письма, с Макаровым связывала дружба. Отношения кабинет-секретаря с Ершовым, видимо, были хотя и приятельскими, но менее доверительными.
Наконец, различными были и причины опалы: Курбатов обвинялся в казнокрадстве и мздоимстве, а Ершову было предъявлено обвинение всего лишь в несвоевременной доставке Сенату приходно-расходных книг за 1710 год и в невыполнении Московской губернией поставок провианта. Тем не менее Ершов тоже был отстранен от должности московского вице-губернатора и лишен вотчин и, подобно Курбатову, просил у Макарова заступничества и покровительства. Ершов, однако, заметил некоторое равнодушие Макарова к своим просьбам. «Прости меня в сомнении моем, – атаковал он в лоб Макарова, – но точию больши полагаю на то, что есть вашей милости от некоторых на меня теснота, что так я оставлен вашей древней милости без показания мне к тому причин». Но, подозревая Макарова в безразличии, Ершов, кажется, ошибался. Такой вывод напрашивается при чтении его следующих слов: «…но видно по всему, что есть на то воля божия, что никакое ваше старание в действо не приходит ни в которую сторону».[475]
Давнишним приятелем Макарова был Александр Васильевич Кикин. Письмо, полученное Макаровым в 1711 году, мог отправить только близкий человек, во всем доверявший адресату. «Понеже я на вас, моего милостивого государя, имею такую надежду несумненную, яко на единоутробного моего брата, – писал Кикин Макарову, – того ради прошю вас, сотвори со мною милость: уведомь мене, не происходило ли от кого о мне по отлучении моем каких противностей и не было ли какого упоминовения от царского величества». На этот раз Кикин отделался легким испугом.
Серьезные неприятности подстерегали Кикина в 1713 году, когда Александр Васильевич, если бы не заступничество Екатерины, мог лишиться всего, в том числе и жизни. Но потерял он лишь доверие Петра и должность, то есть оказался в опале. Кикин, разумеется, был хорошо осведомлен о весьма ограниченных возможностях кабинет-секретаря чем-либо помочь ему и поэтому в отличие от Курбатова просьбами о «предстательстве» его не донимал. Посредничество Макарова могло нанести непоправимый вред, ибо раздражение царя против Кикина, растоптавшего уважительное к себе отношение преступными махинациями с подрядами, не знало границ. Коварный Кикин решил действовать исподволь. Он узнал, что избежал виселицы благодаря Екатерине, и просил Макарова передать ей «всенижайший поклон». В другой раз Кикин попытался потрафить царю тем, что просил Макарова доложить Петру о желании его племянников отправиться за границу изучать навигацию или какую-нибудь другую науку.
Активное участие Кикина в деле царевича Алексея решило судьбу некогда любимого царского денщика – он был казнен. Трагическая гибель Александра Кикина отразилась и на его родственниках. Один из них, Иван Кикин, астраханский обер-комиссар, просил Макарова помочь ему вернуть конфискованные вотчины, иконы и прочие «пожитки». Это не первое обращение Ивана Кикина к Макарову, ибо в этом же письме он благодарил кабинет-секретаря «за показанные твои ко мне многие милости».[476]
Не оставил Макаров без внимания и интересы семьи казненного князя Матвея Петровича Гагарина. Ходатаем о них выступил Петр Павлович Шафиров, а не ближайшие родственники – вдова или сын казненного. Поведение вице-канцлера становится понятным при ближайшем ознакомлении с обстоятельствами дела. Во-первых, Шафиров тоже принадлежал к числу родственников Гагарина: дочь Шафирова была замужем за сыном Матвея Петровича; во-вторых, Петр Павлович входил в круг близких Макарову людей. Казнь Гагарина сопровождалась конфискацией всего его имущества, причем заодно были описаны в казну и приданое вдовы, и приданое дочери Шафирова. К своим хлопотам вице-канцлер привлек царицу Екатерину Алексеевну, Петра Андреевича Толстого и Макарова.
Первую челобитную, «дабы оставлено им (вдове и сыну. – Н. П.) какое-нибудь, хотя малое, пропитание», Шафиров адресовал царю. Петр распорядился удовлетворить просьбу, но учреждения, куда обратился Шафиров, отказались выполнить устное распоряжение царя, требуя письменного указа. Шафиров просил Макарова, чтобы «о том указ к ним был прислан». Выполнение просьбы задерживалось, видимо, потому, что кабинет-секретарь ждал «благополучного времени», чтобы доложить о ней Петру.
Неделю спустя, 31 марта 1721 года, Шафиров повторил просьбу и добавил новую: «…ежели возможно, исходатайствовать телу погребение». Судя по дневнику Берхгольца, тело Гагарина не было предано земле и в августе. 7 августа 1721 года камер-юнкер записал: «Из крепости мы пошли на площадь, где совершаются казни (там, рядом с 4-мя другими головами, выставлена голова брата прежней, впавшей в немилость царицы, урожденной Лопухиной), чтобы взглянуть на князя Гагарина, казненного незадолго перед отъездом царя в Ригу. Он был повешен сперва перед домом Сената, куда кроме сенаторов были собраны смотреть на казнь и все родственники преступника, которые потом должны были весело пить с царем».
Не двигалось с места и возвращение имений. В письме Макарову, отправленном полгода спустя, Шафиров вновь просил «при добром случае напомнить о деле бедных Гагариных».
Макаров не остался безучастным. Как явствует из письма Шафирова от 27 июля 1722 года, он-таки «предстательствовал» перед царем, но, кажется, опять безрезультатно, ибо вице-канцлер в который раз повторял просьбу: «…ту милость к ним, бедным, совершить, чтобы насущный хлеб имели».[477] Чем закончились хлопоты Шафирова, неизвестно, ибо он сам вскоре попал в немилость и едва не лишился жизни.
Звездный час
Звездный час Макарова, как и Меншикова, наступил в годы непродолжительного царствования Екатерины I, когда был создан Верховный тайный совет.
Историки не располагают документальными данными, позволяющими шаг за шагом проследить зарождение и развитие идеи организации нового учреждения, а также воплощение этой идеи в жизнь. В точности неизвестен ход мыслей на этот счет Меншикова, самой императрицы и вельмож, причастных к организации высшего органа власти. Одно можно сказать с уверенностью: самыми активными создателями Верховного тайного совета были Меншиков, Остерман и Макаров. Такой вывод вытекает из свидетельств, правда косвенных, «Повседневных записок» А. Д. Меншикова.
«Повседневные записки», регистрировавшие каждый выезд светлейшего из своего дворца и прибытие в него других лиц, отметили такой любопытный факт: с 1 января по 6 февраля 1726 года, то есть по день, когда был обнародован указ о создании Верховного тайного совета, Меншиков чаще всего встречался с Макаровым и Остерманом. С каждым из них он беседовал с глазу на глаз по 11 раз. Из этого, разумеется, не следует, что роль их была одинаковой, – никто из современников не мог тягаться с Остерманом в интригах и умении методично, с немецкой пунктуальностью взбираться со ступеньки на ступеньку к вершине власти. Даже такой глухой и лаконичный источник, как «Повседневные записки», отдает пальму первенства Остерману.
Согласно записи от 2 января 1726 года, к Меншикову приезжал Остерман, разговаривали они «тихо», а «что говорили – не слыхать». 6 января Меншикову нанес визит Макаров. Князь «изволил с ним разговаривать тихо, а потом с ним же изволил пойтить в спальню и был тамо с полчаса».[478] Спальня была местом конфиденциальных разговоров Меншикова. Заметим, что в эти дни Меншиков не вел доверительных бесед, отмеченных словами «тихо» или «в спальне», ни с кем из вельмож и те навещали его значительно реже: Апраксин и Головкин нанесли ему только новогодний визит, Шафиров навестил его пять раз, а князь Дмитрий Голицын – четырежды. Особенно интенсивно Меншиков встречался с Остерманом за две недели до 6 февраля, причем 28 и 30 января, а также 6 февраля не Остерман приезжал к Меншикову, а светлейший изволил посетить Остермана. Такое бывало крайне редко: то ли Андрей Иванович, как и всегда в таких случаях, то есть в преддверии крутых поворотов, сказался больным, то ли он действительно недомогал, а нужда Меншикова в советах интригана была столь неотложной, что ждать его приезда к себе не было времени.
И еще одна любопытная деталь: «триумвират» ни разу не собирался в полном составе. Меншиков беседовал с каждым из визитеров в отдельности. Что это – признак настороженности к затее, поначалу казавшейся князю опасной, или этот факт следует расценивать как свидетельство роста влияния Остермана, ловко оттиравшего Макарова на задний план?
Принимая деятельное участие в подготовке создания Верховного тайного совета, Макаров, надо полагать, рассчитывал войти в его состав. Этого, однако, не произошло, и сейчас невозможно дать подтвержденный источниками ответ на вопрос, кто отвел его кандидатуру – сам Меншиков или ему подсказал эту мысль Остерман. В том, что отсутствие Макарова в составе Верховного тайного совета было выгодно Остерману, сомнений быть не может. Но не менее ясно и другое: угодный Остерману поворот событий в перспективе ослаблял позицию Меншикова, ибо лишал его верного союзника в лице Макарова.
Впрочем, Макаров, не входя в Верховный тайный совет, оказывал на его работу огромное воздействие. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на страницы журналов и протоколов Верховного тайного совета – они опубликованы в сборниках Русского исторического общества. Фамилия Макарова мелькает там довольно часто, что объясняется прежде всего возросшей ролью Кабинета и кабинет-секретаря в правительственном механизме.
Известно, что Екатерина не имела ни склонности, ни желания управлять страной. Она довольствовалась тем, что царствовала. Императрица хотя и намеревалась председательствовать в Верховном тайном совете, но сочла это крайне обременительным и не могла принудить себя присутствовать в учреждении даже в тех сравнительно редких случаях, когда обещала там быть.
В документах Верховного тайного совета даже в первые месяцы его существования можно встретить такие записи: «И того ж числа (18 марта 1726 года. – Н. П.) пополудни в Верховный тайный совет пришед кабинет-секретарь господин Макаров и объявил, что е. и. в. быть не изволит». Запись от 2 сентября 1726 года: «Вначале приходил тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров и объявил, что е. и. в. сего дни в Верховном тайном совете быть не изволит, а намерена быть во оном завтра после полудни». Действительно, императрица участвовала в заседании 3 сентября, но присутствовала там чуть более часа. Случалось и так, что обещание присутствовать в Верховном тайном совете оставалось благим намерением. В журнале под 26 октября 1726 года записано: «… в Верховный тайный совет приходил тайный кабинет-секретарь Макаров и объявил, что хотя е. и. в. намерение иметь изволила, чтоб сего дня пополудни высокою своею особою присутствовать в Верховном тайном совете для слушания дел, однакож е. и. в. соизволила то отложить до будущей пятницы, то есть до 28 сего октября». Смотрим журнальную запись от 28 октября, но никаких признаков присутствия Екатерины «высокою своею особою» там не обнаруживаем.
При подобном отношении императрицы к своим обязанностям неизмеримо возрос престиж Кабинета и кабинет-секретаря. К традиционным обязанностям секретаря Кабинета прибавилось несколько новых, радикально изменивших положение этого чиновника в служебной иерархии. С одной из них, едва ли не самой главной, была знакома практика работы кабинет-секретаря уже при Петре I. Речь идет о его посредничестве между царем и Сенатом. Тогда роль посредника он выполнял эпизодически, а с 1722 года эта обязанность перешла к генерал-прокурору. Теперь посредничество кабинет-секретаря стало повседневным, причем одинаково часто он являлся передаточной инстанцией от императрицы к Верховному тайному совету и наоборот, от Верховного тайного совета к императрице.
От имени Екатерины Макаров созывал Верховный тайный совет, объявлял на его заседаниях именные указы, передавал ему на рассмотрение челобитные, адресованные императрице. «И, пришед в Верховный тайный совет, тайный кабинет-секретарь объявил, что е. и. в. указала им собраться для того, чтобы помыслить, каким образом поступить с тайным советником Петром Бестужевым, который был в Курляндии и поныне сюды приехал, в худых его поступках, и чтоб его в том допрашивать и судить в Верховном тайном совете». Иногда кабинет-секретарь объявлял о созыве чрезвычайных заседаний. Так, 8 февраля 1727 года Макаров предложил «верховникам» собраться еще раз в вечерние часы, «понеже он в собрание будет со объявлением е. и. в. указа о убавке подушной подати».
В свою очередь Верховный тайный совет использовал кабинет-секретаря для общения с императрицей. «Приказано те два доношения отослать для докладу е. и. в. в Кронштат к тайному Кабинета секретарю Макарову», – читаем в журнальной записи от 12 августа 1726 года. 10 апреля 1727 года Верховный тайный совет пригласил Макарова, для того чтобы он выслушал реляцию посла в Швеции Долгорукова и доложил императрице, что «все Верховного тайного совета персоны просят о допущении их для сих дел к ее величеству, когда е. и. в. на то соизволит». Нередко Верховный тайный совет поручал Макарову отправиться к императрице с докладом в часы заседания, с тем чтобы, вернувшись, он информировал «персон» о принятом Екатериной решении. Случалось, однако, что он возвращался от нее ни с чем. Подобное произошло 4 мая 1726 года: «И тайный кабинет-секретарь, возвратясь от ее величества, объявил, что когда ее величеству свободное время будет оного слушать, то тогда соизволит прислать, кому с тем к ее величеству быть»[479].
Формально роль Макарова была будто бы пассивной, чисто механической. Но если внимательно присмотреться к деятельности Верховного тайного совета, то можно легко обнаружить, что реальное назначение кабинет-секретаря отнюдь не ограничивалось посредничеством между носительницей верховной власти и высшим правительственным учреждением. Роль Макарова трудно переоценить прежде всего потому, что он состоял кабинет-секретарем при инертной и бездеятельной императрице.
Мы имели возможность наблюдать работу кабинет-секретаря при Петре I. Но царь имел обыкновение самолично вникать во все дела, в том числе и в мелочи, и высказывал собственное суждение в каждом случае, в то время как его супруга вполне довольствовалась чужим мнением. Макаров был вторым после Меншикова человеком, к предложениям которого императрица прислушивалась и выражала готовность согласиться с ними.
Из сказанного, разумеется, не следует, что Верховный тайный совет испытывал на себе тяжелую руку Макарова и безропотно подчинялся его воле, освященной волей императрицы. Такого не было и не могло быть прежде всего потому, что в характере Алексея Васильевича отсутствовали – или во всяком случае ярко не проявлялись – черты, столь необходимые временщику: его трудно заподозрить в коварстве, не умел он также плести тонких интриг, наносить кому-либо удары исподтишка и получать ответные, словом, ему было несвойственно находиться в гуще то явной, то закулисной борьбы. Если бы даже Макаров не проявлял свойственных ему выдержки и обходительности и претендовал на роль, ущемлявшую интересы вельмож, то они – и среди них первый Меншиков – нашли бы способы быстро урезонить зарвавшегося кабинет-секретаря. Но Макаров ладил с ними, как и во времена Петра, и не проявлял ни заносчивости, ни высокомерия. Отказался он и от соперничества с Меншиковым за влияние на императрицу, что лишило князя возможности заподозрить его в честолюбивых замыслах. Во всяком случае следов трений между Макаровым и Меншиковым источники не оставили.
Макаров часто переступал границы своих традиционных обязанностей регистратора событий. При Петре он как бы безмолвствовал: не было засвидетельствованного источником случая, когда бы он открыто вмешивался в решение какого-либо вопроса или от своего имени его оспаривал. Теперь Макаров заговорил, и эта его активность отмечена журналами и протоколами Верховного тайного совета. Макаров, например, считал, что многие ссыльные в Сибири «от безсовестных злых своих обычаев» пишут доносы «на невинных людей», отчего этим людям «чинитца разорение и великая обида». Кабинет-секретарь предложил – а Верховный тайный совет согласился с его предложением – запретить вызов доносчиков и ответчиков в столицу и поручить расследование доносов губернской канцелярии[480]. Тем самым жертвы доносов освобождались от обременительных дорожных расходов.
Другое предложение Макарова, тоже оформленное указом, вытекало из опыта работы Кабинета, захлестываемого потоком разного рода челобитных на имя императрицы. Чтобы освободить Кабинет от обузы, Верховный тайный совет решил передать прием челобитных специально назначенному для этого должностному лицу – рекетмейстеру.
Наибольшая активность Макарова прослеживается при обсуждении вопроса об «обложении крестьян в податях». Начало его рассмотрению положила записка, поданная императрице Меншиковым, Остерманом, Макаровым и Волковым. Ее авторы исходили из посылки, что крестьянство «в великой скудности обретается и от великих податей и непрестанных экзекуций… в крайнее и всеконечное разорение приходит». Среди рекомендаций, как учинить крестьянам облегчение, на первом месте стояло предложение уменьшить размер подати и усовершенствовать приемы ее взимания: отрешить от сбора налога военные команды, половину или треть подушной подати взимать вместо денег натурой и т. д.
Интерес Макарова к способам «облехчения тягости народной» не относился к числу преходящих: он возник до подачи записки и не ослабевал после ее составления. Еще в июне 1726 года Макаров, присутствовавший в Верховном тайном совете при обсуждении вопроса об организации управления Украиной, «представлял, чтоб к тамошнему народу показать, какое милосердие, а именно в убавке податей». Какие-то суждения «о тягости народной» он высказывал в Верховном тайном совете и 14 ноября 1726 года[481].
При Екатерине Кабинет, а вместе с ним и кабинет-секретарь достигли наивысшего авторитета и влияния. В сентябре
1726 года был разослан именной указ – составленный, надо полагать, Макаровым – о том, чтобы все учреждения и должностные лица «о всяких вновь важных делах прежде писали в Кабинет, и когда с такими письмами будут посылаться курьеры, а те б являлись прежде в Кабинете». Однако в бумагах Кабинета не сохранилось следов реализации этого указа: шесть месяцев, в течение которых он действовал, – слишком небольшой срок для регистрации экстраординарных событий. Но киевский губернатор Иван Трубецкой успел донести кабинет-секретарю, что им получен указ, «дабы, когда случатца какие новые и важные дела, например ведомости со стороны турецкой и о протчем тому подобном, о таких прежде писать вашему величеству в Кабинет»[482].
Возможно, что этот указ, ущемлявший прерогативы Верховного тайного совета в пользу Кабинета, стоил Макарову карьеры – он был отменен тотчас после смерти императрицы.
Одним из свидетельств укрепления позиций кабинет-секретаря, его возросшей роли и процветания было пожалование ему 24 ноября 1726 года чина тайного советника. В табели о рангах этот чин занимал третью строку сверху – он следовал за канцлером и действительным тайным советником.
Смерть Екатерины вызвала важные перемены в жизни Макарова. Судьба как Кабинета, так и его секретаря была решена, видимо, еще в дни, когда состояние здоровья императрицы казалось безнадежным. 10 апреля 1727 года она «впала в горячку», после которой наступило временное облегчение и появилась надежда на выздоровление. Затем больную стал донимать кашель, и она «в большее безсильство приходить стала». Наступил кризис: «…по великом кашле прямой гной в великом множестве почала ее величество выплевывать». Екатерина «6 дня мая с великим покоем преставилась»[483].
Неделю спустя после похорон, 23 мая 1727 года, Верховный тайный совет принял два указа, круто изменившие налаженную жизнь Макарова и ее ритм, остававшийся неизменным свыше двух десятилетий. Один из них положил конец существованию Кабинета: Верховный тайный совет повелел составить описи дел Кабинета, а также подать сведения о наличной казне и драгоценностях. Другой указ определил новую ипостась руководителя упраздненного учреждения: Макаров был назначен президентом Камер-коллегии.
Это назначение обеспечило Макарову жалованье, в три раза превосходившее то, которое он получал, будучи кабинет-секретарем. Вместе с тем новая должность низводила Макарова до положения чиновника хотя и высокого ранга, но в общем заурядного. В те времена степень влиятельности вельможи определялась не чинами, а близостью к трону. Для Макарова новое назначение означало почетную ссылку, поскольку он, чтобы встать во главе Камер-коллегии, должен был удалиться от двора, покинуть столицу и жить в Москве.
Документы Верховного тайного совета тут же отреагировали на новое назначение Макарова. Когда Алексей Васильевич находился у подножия трона, занимая должность кабинет-секретаря, его присутствие в Верховном тайном совете отмечалось в журналах и протоколах такими почтительными словами: «При собрании всего Верховного тайного совета приходил тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров» или: «Потом пришед тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров». Теперь же, когда по каким-либо надобностям в Верховный тайный совет вызывали Макарова в качестве президента Камер-коллегии, в журнале записывали: «Потом впущен был… тайный советник Макаров» или «…допущен был тайный советник Макаров»[484].
Слова «впущен» и «допущен» вместо прежних «приходил» и «пришед» ярче всего отразили перемены в положении Алексея Васильевича. Обращает на себя внимание и другой факт: в журналах Верховного тайного совета кабинет-секретаря уважительно величали Алексеем Макаровым, а президента Камер-коллегии удостаивали одной лишь фамилии.
Перечисленные изменения в ипостаси Макарова на первый взгляд представляются ничтожными и не заслуживающими внимания. Подлинное значение отмеченных нюансов в отношении к Макарову состояло в том, что они обозначали конец его карьеры: он уже не только не поднимался до прежних высот, но катастрофически скатывался вниз.
Кому был обязан Макаров новым назначением, кто был заинтересован в пресечении его карьеры? На этот счет известные нам документы хранят молчание. Сохранились лишь косвенные показания источника, дающие основание считать виновником падения Алексея Васильевича не иного кого, а Меншикова.
Документ возвращает нас ко времени, когда велось следствие по делу Девиера – Толстого. Один из главных обвиняемых – Антон Мануилович Девиер – 1 мая 1727 года дал следователям любопытное показание. Однажды ему довелось ехать в одной карете с Макаровым к графу Сапеге.
Сначала они вели беседу о том о сем, а затем кто-то из них (Девиер «не упомнит, он ли… или Макаров») затеял разговор о предстоявшей женитьбе Петра II на дочери Меншикова. Макаров сказал тогда Девиеру: «…светлейший-де князь паче усилитца. И так-де он на нас сердит, а потом паче сердит будет».
Хотя Макаров и не привлекался к следствию по этому делу, но для Меншикова, видимо, было достаточно приведенных весьма осторожных слов Алексея Васильевича, чтобы усмотреть в набиравшем силу кабинет-секретаре своего недруга.
Можно с большой долей уверенности сказать, что Меншиков был осведомлен об этом показании Девиера, и с такой же долей уверенности заявить, что Макарову оно осталось неизвестным.
Сохранилась недатированная записка Макарова с изложением его отношения к своему новому назначению. Восторга оно у него не вызвало.
Записка начинается с часто употреблявшейся Петром I присловицы: «Лехче всякое новое дело з Богом начать и окончать, нежели старое испорченое дело починивать». Под «старым испорченым делом» Макаров подразумевал Камер-коллегию, которую ему пришлось возглавить: «…посажен я бывшим Меншиковым уже к испорченым делам в Камер-коллегию в неволю». Как видим, Макаров составлял записку после падения Меншикова. Если бы Алексей Васильевич знал о признании Девиера, то он наверняка не удержался бы от слов упрека в адрес опального «полудержавного властелина», тем более что ему за них ничто не грозило. Но в записке тщетно искать даже намека на причины, побудившие светлейшего прибегнуть к столь скорой и суровой расправе с кабинет-секретарем.
Как прилежный ученик Петра Великого, Макаров считал, что «испорченность» дел Камер-коллегии была обусловлена ее регламентом, неразумно составленным известным камералистом того времени Фиком. Регламент, по мнению Макарова, «не на таком основании сочинен, как оному быть надлежало, и нимало не сходен с положением и правами Российской империи». В этом видел Макаров причину возникновения недоимок и полагал, что стоит только исправить регламент, упорядочить окладные книги, и в поступлении налогов наступит полный порядок.[485]
Ход мыслей Макарова типичен для деятелей петровской школы, уповавших не столько на реальные ресурсы налогоплательщиков, сколько на «добрый порядок». Новый регламент Камер-коллегии, принятый в 1731 году, нисколько не улучшил состояние финансов страны. Впрочем, при сопоставлении его с прежним регламентом 1719 года можно обнаружить некоторые различия, но они касались преимущественно технической стороны дела. Так, по регламенту 1719 года, единицей обложения был двор, после проведения первой ревизии такой единицей стала мужская душа. Другое новшество состояло в том, что регламент 1731 года объявил ответственными сборщиками налогов с крестьян их помещиков. С них надлежало править и недоимки. Наконец, регламент 1731 года предполагал упорядочение книг учета налогоплательщиков по каждому населенному пункту.
Служба Макарова президентом Камер-коллегии – предмет особого изучения. Здесь мы ограничимся лишь констатацией общеизвестного факта: ни усилия Алексея Васильевича, ни новый регламент коллегии нисколько не упорядочили государственных доходов и расходов. Более того, недоимки из года в год росли, несмотря на ужесточение их выколачивания.
Портрет Макарова будет выглядеть ущербным, если не осветить, хотя бы контурно, насколько позволяют сохранившиеся источники, его хозяйственную деятельность. Алексей Васильевич принадлежал к типу помещиков, представленных такой колоритной фигурой, как Меншиков. Конечно, земельные богатства Макарова не шли ни в какое сравнение с владениями Шереметева и особенно Меншикова. Тем не менее Макарова можно отнести к помещикам выше среднего достатка.
С Меншиковым Макарова сближает не только практичность, но и происхождение вотчинного хозяйства. Оба они начинали с нуля, не имея ни земли, ни крестьян. Превращение сына вологодского посадского человека в помещика – плод собственных усилий и предприимчивости Макарова. В нем чиновник, знавший себе цену на бюрократическом поприще, бок о бок уживался с расчетливым дельцом, умевшим округлить свои богатства. К концу жизни Макаров стал довольно крупным помещиком. За его сыном Петром Алексеевичем в 1759 году числилось 1223 крепостные души мужского пола. Эти данные нельзя считать полными. Дело в том, что у Макарова было еще и две дочери – Анна и Елизавета. Первая из них вышла замуж за статского советника Андрея Ивановича Карташева, а вторая – за главнокомандующего в Москве генерал-аншефа Михаила Николаевича Волконского. Надо полагать, что именитых женихов привлекал не только блеск чина тайного советника отца невест, но и деревеньки, полученные ими в приданое. Поэтому можно без риска ошибиться предположить, что Алексей Васильевич владел не менее чем полутора тысячами крепостных крестьян.
С Меншиковым Макарова-помещика сближала и структура хозяйства. Оно было многоотраслевым и опиралось не только на традиционное земледелие, но и на ростовщичество, торговлю и промышленное предпринимательство. Новая знать в отличие, например, от боярина Шереметева, извлекавшего доходы из стародавнего источника – эксплуатации крепостного труда на пашне, быстро усвоила ту несложную мысль, что собственный бюджет можно интенсивно пополнять путем занятий, ничего общего не имевших с патриархальной жизнью деревни. Не обремененная аристократической спесью и чванством, новая знать не гнушалась ни ростовщичества, ни торговли, ни тем более промышленного предпринимательства, всячески поощряемого самим царем.
Как формировалось вотчинное хозяйство кабинет-секретаря?
Известную долю его земельного богатства составили два пожалования. Первое из них царь совершил в 1709 году. Макаров тогда получил в Брянском уезде 17 дворов и 260 четвертей земли. Второе пожалование – во много крат крупнее первого – Макарову досталось много лет спустя, в 1723 году, когда происходил дележ вотчин, конфискованных у обер-фискала Нестерова и провинциал-фискала Попцова. Всего в Переславль-Залесском и Юрьевском уездах Макаров получил 110 дворов, то есть около 440 душ, если считать, что на каждый двор в среднем приходилось по четыре мужские души.
Трудно объяснить, почему Макаров, будучи доверенным лицом Петра и особенно Екатерины, воспользовался их благосклонностью лишь дважды, и притом в столь скромных размерах. Вполне вероятно, что он не проявлял настойчивости, а возможно, и расторопности. Но о том, что он не исключал нового пожалования, свидетельствует его недатированное письмо, адресованное, видимо, брату, в котором он просил своего корреспондента разведать, нет ли в Московской губернии выморочных вотчин, и делился с ним собственными планами: «…я бы у того, кто Московскою губерниею ведает, надеялся их выпросить».[486]
Некоторый вклад в вотчинное хозяйство Макарова, размеры которого, впрочем, в точности неизвестны, внесла вторая супруга Алексея Васильевича – княгиня Одоевская. Наверняка вдова, выходя за Макарова замуж, не была бесприданницей.
Главным источником формирования земельного фонда кабинет-секретаря была скупка крепостных и земли. Лишь дважды Макаров совершил довольно крупные сделки. В 1708 году он купил у адмирала Апраксина село Богословское в Юрьевском уезде за 1600 рублей; в нем в 1719 году жило 119 душ мужского пола. В 1716 году он приобрел у жены стольника Петра Михайловича Долгорукова в Переславль-Залесском уезде село Петровское, уплатив за него 3 тысячи рублей. Можно назвать еще две-три сделки, но они были помельче, и на каждую из них покупатель затрачивал от 100 до 250 рублей. Остальные акты, а их несколько десятков, были оформлены на приобретение крестьянских семейств и отдельных крепостных.
Обращают на себя внимание приемы приобретения крепостных. Один из них связан с просрочкой уплаты взятой у Макарова ссуды. Капитан Сергей Федорович Костеев вместо уплаты 5 рублей должен был поступиться своим дворовым человеком Иваном Белым. Таким же путем Макаров заполучил крепостного Татьяны Шапкиной.[487]
Чаще всего Макаров скупал беглых крестьян, чем в какой-то степени предвосхитил гоголевского Чичикова. Возникает естественный вопрос: какую выгоду мог извлечь из таких сделок Макаров? Не была ли эта затея пустой тратой денег или авантюрой чичиковского пошиба? При ближайшем рассмотрении оказывается, что из этой нехитрой операции Макаров извлекал немалую выгоду, во всяком случае в накладе он не оставался.
Общеизвестны масштабы побегов крестьян от помещиков в первой трети XVIII века. В соответствии с законодательством тех времен сыск беглых, равно как и взыскание так называемых пожилых денег, то есть штрафа с помещика, приютившего беглого, возлагался на местную администрацию. Однако практика сыска и возвращения беглеца, а также взыскания пожилых денег была сопряжена с такой волокитой и издержками, что заинтересованное лицо, помаявшись не один год по закоулкам различных канцелярий, в конце концов отказывалось от своих притязаний. Вернуть беглеца было трудно даже в том случае, когда помещик знал место, где тот укрывался: то лицо, приютившее беглеца, было, как тогда говорили, «сильным», то есть влиятельным, и оказывало неповиновение властям, а воеводская канцелярия не рисковала вступить с ним в конфликт; то местная администрация не располагала нарядом солдат для изъятия беглеца; то, наконец, укрыватель беглеца спускал исковое дело на тормозах, выдав канцелярским служителям соответствующую мзду.
Таких беглецов Макаров, судя по всему, покупал с превеликой охотой прежде всего потому, что беглец стоил значительно дешевле крестьянина, которого при купле-продаже можно было передать из рук в руки. В конечном счете для владельца крестьянина-беглеца любая сумма, полученная от покупателя, являлась своего рода манной небесной, ибо такой помещик давно распростился с мечтой восстановить утраченные права на крепостного. Макарову сделать это было во много раз легче. Попробуй какой-либо воевода не выполнить законных претензий кабинет-секретаря и ослушаться указов вышестоящих инстанций!
Услужить Макарову почитали за честь не только воеводы, но и губернаторы. Письма своим приказчикам до Казани Макаров отсылал обычной почтой, а доставку таких писем в Курмышский уезд, где находились его вотчины, взял на себя казанский губернатор Петр Салтыков, отправлявший их туда с нарочным. Предупредительность Салтыкова простиралась до того, что он «и к коменданту курмышскому, чтоб он их во особливом своем хранении имел, писал». Губернатор клялся Макарову, что он «служить всегда рад», и эту свою готовность подкреплял делом: по первому требованию разрешил фискалу курить вино для выполнения подряда. Салтыков, кроме того, уведомил Макарова, что отправил ему арбузы, виноград, рыбу и икру[488].
Драгун Евстигней Трифонович Шишкин дважды, в 1712 и 1713 годах, бил челом о возвращении двух беглых семейств с их пожитками, и оба раза безуспешно. И вдруг драгуну пофартило: в 1718 году он продал Макарову обе семьи, правда за сущий пустяк – всего за 15 рублей. Драгун указал и точный адрес, где жили беглые семьи[489].
Впрочем, иногда Макаров платил за беглецов значительные суммы. В 1729 году он уплатил за беглого крестьянина 150 рублей. На первый взгляд цена выглядит баснословной. Заметим, однако, что купленный Макаровым крестьянин находился в бегах с 1709 года, поэтому кабинет-секретарь вместе с правом собственности на купленного крестьянина автоматически приобрел право на взыскание пожилых денег. За 20 лет таких шрафных денег накопилось не менее 400 рублей. Конечно же, чтобы не оказаться в убытке, приказчики Макарова, да и сам кабинет-секретарь перед оформлением акта купли наводили справки о платежеспособности лица, с которого надлежало взыскивать пожилое.
Остается выяснить источник, из которого Макаров черпал немалые суммы, чтобы покупать вотчины, землю и крестьян без земли. Ясно одно: жалованья, получаемого сначала в размере 300, а затем 600 рублей, было совершенно недостаточно для столь значительных расходов. О побочных его доходах источники, как правило, молчат и лишь в некоторых случаях сообщают любопытные сведения.
Брал ли Макаров подношения? Безусловно, брал, иначе он не был бы сыном своего века. Но брал он, видимо, в таких размерах, что этого рода проступки, считавшиеся в те времена обычными, не привлекли внимания трех следственных комиссий и изветчиков, сочинявших доносы. Должность кабинет-секретаря предоставляла Макарову тысячи возможностей для получения посулов, подношений «в почесть» и т. п. Между тем источники донесли до нашего времени единственное признание самого Макарова о получении им мзды. Речь идет о попытке одного из доносчиков обвинить Макарова в расхищении конфискованного имущества Петра Андреевича Толстого, отправленного в ссылку. Алексей Васильевич отвел это обвинение так: «Оного-де жеребца подарил ему Толстой до кончины Петра года за три за то, что он, Макаров, по челобитью того Толстова докладывал о деревнях, которые-де ему, Толстому, пожалованы».
Подарки подешевле, означавшие скорее знак внимания, чем приобретение благосклонности, подносились чаще. Девиер, например, одарил Макарова «паруком» (париком), пожелав носить его «в добром здравии», а Шафиров в том же 1712 году прислал из Адрианополя «малый мой гостинец – муштук турецкой с серебреным набором».[490]
Макарову был доступен еще один – видимо, крайне редкий – источник доходов. Его можно назвать даже уникальным, ибо за многие десятилетия работы в архивах он встретился единственный раз. По терминологии того времени, этот доход деликатно назван «презентальными деньгами». История их возникновения такова.
В 1715 году у царя родился сын Петр Петрович и внук Петр Алексеевич. В честь этого события, к которому, естественно, Макаров никакого отношения не имел, адмирал Федор Матвеевич Апраксин велел «отослать из губернеи Воронежской кабинет-секретарю Алексею Макарову в презент 2000 рублев», собрав эту сумму с губернских чиновников всех рангов, а также с купцов. Не дожидаясь сбора денег, Апраксин велел вице-губернатору Степану Андреевичу Колычеву выдать 2 тысячи рублей из губернских доходов, а потом погасить эту сумму собранными с воронежцев взносами. История с «презентальными деньгами» потому и оставила след в документах Сената, что подаяние воронежцев оказалось не столь щедрым, как предполагалось, и удалось собрать вместо 2 тысяч только 827 рублей. Шесть лет спустя, в 1721 году, с Колычева было взыскано только процентов 586 рублей. Колычев опротестовал это взыскание, мотивируя его неправомочность тем, что деньги надлежало взыскивать с тех плательщиков, по вине которых «учинилась оная доимка».[491] Чем закончилось дело – неизвестно.
Сколь часто вельможи выступали благодетелями за чужой счет и произвольно вводили новые налоги для «презентальных» расходов, мы не знаем. Возможно, что в других случаях взимание «презентальных денег» проходило более гладко, не вызывало конфликтных ситуаций и не оставило поэтому никакого следа в архивах высших учреждений.
Девиз хозяйственной деятельности Макаров сформулировал сам: «…люди ж всякого себе добра ищут, что и нам мочно делать». Слово у него не расходилось с делом. Кабинет-секретарь действительно всю жизнь был озабочен поисками для себя «добра», то есть повышением доходности вотчин. Но не во всех случаях ему сопутствовал успех.
Агротехническая мысль в то время находилась в самом зародыше и еще не вооружала помещиков рекомендациями относительно внедрения эффективных новшеств: изменений в соотношении злаковых и технических культур, разведения улучшенных пород скота, птицы и т. п. В сохранившейся черновой инструкции приказчику Макаров ориентировал его на веками складывавшиеся приемы возделывания пашни: «Також о пашне и всяком хлебном посеве, и об убранстве, и о молодбе чинить так, как в протчих деревнях водитца, не испустя времени, как бы в чем было прибыльняе и крестьяном излишней тягости не было». Инструкция грозила приказчику суровыми карами, если «учинитца ево, прикащиковою, оплошкою в деревенских каких приплодах и прибытках утрата или иное какое худо». Напротив, приказчику, усердием учинившему изобилие, было обещано изрядное вознаграждение.[492]
Живя в Петербурге, вдали от вотчин, кабинет-секретарь чутко прислушивался к рыночной конъюнктуре и стремился не упустить своего шанса. «Я слышал, – писал Макаров брату в 1712 году, – что дело там лехко мочно учредить – торг пеньковой, ибо там пенька зело дешева и мужики наши на чюжих скупают, которые скупщики отпускают в Ригу, и от того богатятца». Для начала он рекомендовал пустить в дело 450 рублей. А вот другое распоряжение, свидетельствующее, как и первое, о предприимчивости Макарова. На этот раз его взоры были устремлены не в сторону брянских вотчин, а на село Богословское. «Також вели, – советовал он брату, – там больше завесть скотины рогатой, и мочно ли оную оттоль для продажи пригонять к Москве. И ежели мочно, то ис того может быть немалая прибыль».
Хватка дельца видна и в распоряжении основать винокуренный завод в селе Богословском. В 1712 году он спрашивал брата: «Завел ли ты в Богословском винной завод?» – и тут же давал ряд советов: если есть надежда на извлечение из завода прибыли, то тогда надо соорудить и мельницу. «Также и то вам предлагаю в Богословском не вовсе переводите лес, ибо х куренью вина дров, чаю, много исходит». Вино с Богословского винокуренного завода Макаров поставлял в кабаки. В 1713 году он подрядился поставить 5 тысяч ведер вина. Винными подрядами Макаров занимался недолго: в 1716 году царь издал указ, запрещавший должностным лицам участвовать в подрядных операциях.
При взимании повинностей с крестьян Макаров-помещик придерживался умеренных позиций и предостерегал брата от самовольства не в меру ретивых приказчиков: «Однакож поговори ему или инак как остереги, чтоб он крестьян не разгонял з бешенства, а особливо з злости той, что крестьяне на него сказали, что он непорядочно живет». Когда приказчики обратились к Макарову с конкретным вопросом, взыскивать ли с крестьян недоимку за два года, он дал совет, из которого явствует нежелание рубить сплеча и стремление действовать осмотрительно, сообразуясь с обстановкой: «…отдаю на ваше разсуждение, или лутче дать сроку, чтоб после в том исправили».
Проявляя заботу о крестьянах, Макаров, как и всякий не лишенный здравого смысла помещик, конечно же хлопотал о собственных интересах. Будучи рационалистом, он руководствовался мыслью, что перенапряжение крестьянского хозяйства повинностями чревато нежелательными последствиями – разорением их хозяйства и побегами. Эти опасения звучат в одном из писем к брату: «Опасно, чтоб они от того не разбежались, ибо и сам ты писал, что прикащика хотели убить».[493]
О торговых операциях Макарова сохранились отрывочные сведения, весьма скупо характеризующие этот вид его деятельности. Известно, что он владел в Москве лавками, а в 1728 году в Петербург был доставлен хлеб с Гжатской пристани, предназначенный для продажи. Более обстоятельные сведения дошли до нас о ростовщических сделках Макарова.
Отдачей денег в рост Макаров начал заниматься с 1710 года. В течение 15 лет было зарегистрировано десять сделок. Интенсивность ростовщических операций возросла после
1724 года, причем виновницей этого была, видимо, вторая супруга Алексея Васильевича. В том году финансовые возможности семьи возросли за счет ее приданого в размере 6 тысяч рублей. Энергичная женщина тут же пустила их в дело. За десятилетие, заканчивавшееся 1734 годом, когда семья оказалась под домашним арестом, было заключено 15 сделок, причем 11 из них падают на 1734 год. В этом году супруги Макаровы предоставили ссуд на сумму свыше 14 тысяч рублей. Сам Макаров после ареста считал, что его клиенты были ему должны 16 300 рублей.
Обращает на себя внимание состав клиентуры Алексея Васильевича. Среди них почти не встречаются представители «крапивного семени», посадской мелкоты, крестьян, то есть люди, одалживающие мелкие суммы. Такого рода клиенты обращались за ссудами к брату кабинет-секретаря Ивану Васильевичу. Подавляющее большинство из них получало в кредит несколько десятков рублей, но брали и по рублю и по пяти.[494]
Супруги Макаровы ссужали знать – людей богатых, закладывавших под долг свои вотчины: князя Алексея Голицына, княгиню Марью Долгорукову, графа Андрея Матвеева, полковников, подполковников. Самая крупная ссуда была выдана княгине Анне Васильевне Щербатовой – 3400 рублей.
В первой четверти XVIII века помещики стали приобщаться и к мануфактурному производству. Правда, в петровское время они делали лишь первые шаги в этом направлении. Среди дворян, владевших мануфактурами, было несколько вельмож, и в их числе Макаров.
Заметим, что вельможи при основании предприятий не всегда руководствовались экономическими соображениями. Когда Меншиков, Апраксин и Толстой основали шелковую мануфактуру, ими двигало стремление угодить царю. А. Д. Меншикову, инициатору основания этой мануфактуры, из письма его секретаря Волкова, сопровождавшего царя во время заграничной поездки, стало известно, что Петр, будучи в 1717 году в Париже, посетил шпалерную мануфактуру. При ее осмотре царь обронил реплику: «Дабы и у нас такая работа как наискоряе завелась». Но в России «еще ничего в зачине не бывало, понеже ни инструментов, ни шерсти, ни красильщиков нет». «Зачин» решил положить Меншиков. Он обратился к находившемуся в свите царя Макарову с просьбой: «…извольте во Франции надлежащие к тому инструменты купить и сюды выслать, дабы, когда сюды мастеры прибудут, могли что делать и не праздны б были».[495]
Известно, что шелковая мануфактура вельмож, несмотря на грандиозные вложения в нее средств, влачила жалкое существование и приносила немалые убытки. Если бы не неуемное желание потрафить царю и не огромные богатства ее владельцев, то она быстро пустила бы их по миру. Но сундуки вельмож выдерживали убытки, и эксперимент продолжался.
Макаров был не настолько богат, чтобы бросать деньги на ветер, и не настолько непрактичен, чтобы браться за сомнительные затеи. Рационалист с хозяйственной хваткой, он конечно же прикинул, чем может завершиться его предпринимательское начинание. Но столь же бесспорно, что Макаров поддался внушениям царя и пошел по стопам вельмож. В правомерности этой догадки убеждает то обстоятельство, что Алексей Васильевич встал на путь промышленного предпринимательства после возвращения из-за границы и образования компании вельмож.
Упреждая развитие событий, сообщим, что начинания Макарова были столь же бесплодными, как и начинания вельмож. Доходов он не извлек, но неприятными хлопотами был сыт по горло. Пример вельмож и самого Макарова лишний раз подтверждает ту простую истину, что предпринимательство на любом поприще требует к себе самого пристального внимания, в то время как «господа интересанты», равно как и Макаров, такими возможностями не располагали и вынуждены были рассчитывать не столько на собственную распорядительность, сколько на пронырливость, опыт и честность приказчиков либо компаньонов. Макарову на компаньонов явно не везло.
Суконная мануфактура ведет свою историю с 1718 года, когда под Москвой, в Красном Селе, начали работать 15 станов, выпускавших стамед и каразею, то есть сукно низкого качества. Возникновение предприятия сопровождалось некоторой загадочностью: оно было основано на деньги Макарова, но значилось за жителем Огородной слободы Иваном Собольниковым. Макаров перевел мануфактуру на свое имя только в 1723 году. Она постепенно расширялась, и в середине 20-х годов ее оборудование состояло из 32 станов годовой производительностью 10 тысяч аршин стамеда и 70 тысяч аршин каразеи.
Предприятие, видимо, приносило мизерную прибыль, а может, было и убыточным. Если бы дело обстояло иначе, то Макаров не искал бы способов избавиться от Красносельской мануфактуры. Наконец в 1731 году он сдал ее в аренду Федору Серикову сроком на 10 лет. О далеко не блестящей постановке дела свидетельствует невысокая арендная плата – 200 рублей в год.
Получив мануфактуру на полном ходу, Сериков обязался ее «содержать и производить своим коштом», а также своевременно чинить плотину, здания, оборудование и инструменты. Арендатору разрешалось расширить мануфактуру, если в том возникнет надобность.
В 1738 году появился документ, позволяющий судить о состоянии предприятия в руках арендатора: в январе канцелярист по заданию Мануфактур-коллегии осмотрел Красносельскую мануфактуру и составил опись. Из нее следует, что Федор Сериков хищнически эксплуатировал предприятие и не ремонтировал сооружения. Повсюду видны были признаки запустения: обветшали постройки, поизносились или пришли в негодность инструменты. У трех светлиц, где стояли прядильные станы, готовы были обрушиться потолки. В ветхом состоянии находилась и красильня. Более того, обследование зарегистрировало остановку предприятия. Все это дало основание Макарову обратиться с жалобой на Серикова, беспардонно нарушившего контракт. Спустя некоторое время, в мае 1739 года, он из своего домашнего заточения подал вторую челобитную, на этот раз с жалобой на то, что при сдаче предприятия в аренду на нем было занято свыше 150 работников, а теперь осталось только 24 человека. Алексей Васильевич, кроме того, требовал от Серикова уплаты свыше 2200 рублей, вырученных арендатором за продажу материалов, изготовленных на Красносельской мануфактуре.
Сериков был себе на уме. Дела у него шли не столь плачевно, как могло показаться при осмотре арендованной им мануфактуры. Подлинное состояние промышленного хозяйства этого предприимчивого купца было таким, что он в 1735 году получил разрешение на основание собственной мануфактуры. Именно туда, радея о своекорыстных интересах, он перевел мастеровых с Красносельской мануфактуры Макарова. Более того, сам Макаров способствовал процветанию Серикова: в 1734 году он одолжил ему 3 тысячи рублей сроком на один год. Сериков выдал ему вексель на 3300 рублей – 300 рублей, видимо, являлись ростовщическим процентом.[496]
Мрачное десятилетие
В самом начале царствования Анны Иоанновны карьера Макарова круто оборвалась. Жизнь его настраивалась на иной, трагический лад: бывший кабинет-секретарь и бывший президент Камер-коллегии оказался не у дел. Имя Макарова было предано забвению. О его существовании можно узнать лишь из документов, вышедших из недр следственных комиссий и Тайной канцелярии. С 1731 года до смерти в 1740 году Алексей Васильевич находился под следствием, причем следствия накатывались одно на другое, подобно волнам, обрушивая на его голову непрерывные испытания. Они тянулись на протяжении томительно долгого десятилетия.
Во времена Анны Иоанновны Макарову надо было либо менять многое из того, что он впитал в себя за годы более чем двадцатилетнего общения с Петром, и в частности представления о ценности людей, о долге, об отношении к иноземцам; либо лицемерить и угодничать людям, не пользовавшимся его расположением в предшествующее время; либо, наконец, не утрачивая собственного достоинства, вести себя в меру возможности независимо от немецкой камарильи, окружавшей трон.
Успех сопутствовал тем, кто жил по притче, рассказанной Макарову в 1731 году его двоюродным братом Василием Шапкиным. Самому Шапкину поведал ее какой-то иноземец. Притча такова: старушка принесла в церковь две свечи; одну из них она зажгла перед Михаилом Архангелом, а другую – «под ногами ево, перед дьяволом». На вопрос священника, почему поставлены две свечи, бойкая старушка ответила: «Не знаю, куды пойду, в рай или в муку, но, дойдя, везде надобно друзей иметь». Мораль притчи в изложении Шапкина звучит так: «…такое время пришло, надобно везде иметь друзей, как в раю, так в аде».[497]
Макаров то ли не умел, то ли не хотел подлаживаться, ставить всем свечи. В итоге он обрел могущественных врагов: императрицу Анну Иоанновну, кабинет-министра Андрея Ивановича Остермана и президента Синода Феофана Прокоповича. Где истоки неприязни этих людей к Алексею Васильевичу?
Пока Анна Иоанновна жила в Митаве, ее отношения с Макаровым можно назвать миролюбивыми. Курляндская герцогиня, постоянно испытывая нужду, осаждала то Петра, то его супругу письмами с унизительными просьбами о выдаче денег. Средств у герцогини не было не только на содержание пристойного двора, приобретение драгоценностей и украшений, но и на соответствовавшую ее сану экипировку. Понимая, сколь зависело удовлетворение ее вымогательств от кабинет-секретаря, она заискивала не только перед ним, но и перед второй его супругой, княгиней Одоевской. В письмах герцогиня называла ее «своей любезнейшей приятельницей» и «дорогой сестрицей». Сам Макаров как мог помогал племяннице царя. Во всяком случае, источники не зарегистрировали ни тени недовольства курляндской герцогини его поведением.
Но вот «дорогая сестрица» волей случая возложила на свою голову императорскую корону. Вряд ли ей, женщине грубой и мстительной, доставляли удовольствие воспоминания о жизни в Митаве и присутствие подле нее человека, более всех осведомленного об этой жизни. Такие свидетели, естественно, были людьми не только лишними, но и нежалательными ни в дальнем, ни тем более в ближнем окружении императрицы.
Враждебность к Макарову Остермана, видимо, питалась теми же соками, что и враждебность императрицы. В свое время Остерман гнул спину и униженно заискивал перед Макаровым. На этот счет имеется несколько документов. Разве мог Остерман забыть, например, случай, когда Макаров его не принял? В одном из писем кабинет-секретарю Андрей Иванович сетовал на то, что «в сих днях больше десяти раз» он домогался аудиенции, но безуспешно. В этом же письме есть такие строки: «Но понеже я, ведая, что многодельство ваше не допустило меня к себе допустить, того ради я письменно сим вас, милостивого моего государя, всепокорно прошу меня в протекции своей в нынешнем моем отсутствии не оставить».
Домогательства Остермана были связаны с попыткой использовать кабинет-секретаря в качестве посредника в улаживании конфликта с Брюсом. Мелкие интриги Остермана во время переговоров на Аландском и Ништадтском мирных конгрессах, направленные на то, чтобы обратить на себя внимание царя, вывели из равновесия спокойного и рассудительного Брюса, являвшегося, как и Остерман, членом русской делегации на обоих конгрессах, и тот обратился к Петру с жалобой. Так как Остерман был уверен, что Брюс послушается совета Макарова, то и обратился к нему с просьбой: «…извольте к нему (Брюсу. – Н. П.) партикулярно от себя написать, чтоб он жил со мною согласно». А вот заключительная фраза этого письма: «Милостивый мой государь, не оставьте мене, бедного, хотя иноземца, а истинно верного слуги государства». Доподлинно не известны причины отказа Макарова в аудиенции. Быть может, он действительно был крайне занят, но скорее всего кабинет-секретарь догадывался о цели визита и не желал вмешиваться в интригу, которую плел вице-канцлер.
В дальнейшем отношения между Макаровым и Остерманом, надо полагать, улучшились. Об этом можно заключить по щедро расточаемым Остерманом благодарностям Макарову. 2 июня 1721 года вице-канцлер благодарил кабинет-секретаря «за высокую милость, которую вы без всяких заслуг ко мне показать изволили». Два месяца спустя он вновь благодарил Макарова за «милостивое вспоможение» при оформлении пожалованных ему деревень. А сколько было клятв в верности и вечной признательности: «Я прошу и извольте и обо мне обнадежены быть, что до смерти моей верным за то рабом вашим буду и не оставлю по всей моей возможности стараться, дабы в самом деле мое истинное благодарение показать». Апофеозом клятвенных заверений стало письмо Остермана Макарову от 5 сентября 1721 года из Ништадта: «Все, что я чинить могу, есть то, что я до смерти моей верным и одолженным вашим рабом пребыть обещаюся и стараться буду, дабы сколько возможно в самом деле имеющую к вам великую облигацию показать».[498]
Ниже мы увидим, что интриган не страдал избытком благородства и отплатил Макарову черной неблагодарностью. Поведение Остермана во время следствий над Макаровым высветило еще одну черту характера этого дельца – свойственную мелким натурам мстительность.
Десятилетнее правление Анны Иоанновны вошло в историю под названием «бироновщина». Было бы правильнее именовать это время «остермановщиной». По сути фаворит императрицы Бирон – марионетка в руках Остермана. За спиной невежды, грубияна и проходимца стоял ловкий и коварный делец, не гнушавшийся никакими средствами для достижения карьеры, умевший терпеливо ждать своего часа. Он шел к власти крадучись, устраняя с пути соперников коварными приемами. Многих русских людей он отправил в ссылку и на плаху.
Отношение двора быстро уловила челядь Макарова и в прошлом близкие к нему люди. Именно от них исходили первые доносы на своего патрона, они же являлись инициаторами следствий, долгих и унизительных разбирательств.
Первый донос последовал в 1731 году, когда в ночь с 23 на 24 июля в летней резиденции Анны Иоанновны было обнаружено подметное письмо императрице и Сенату. Анна Иоанновна поручила расследование доноса Тайной канцелярии. Заметим, что в обвинениях, выдвинутых анонимными авторами доноса, не было ни одного пункта, который бы давал основание передать дело на расследование учреждению, занимавшемуся разбирательством политических преступлений. Тайной канцелярии удалось без особого труда установить авторов, подписавшихся словами «нижайшие рабы ваши». Оказалось, что под ними скрывались два лица: приказчик Макарова, его крепостной Федор Денисов, и солдат лейб-гвардии Измайловского полка Филимон Алтухов. Первый из них сочинил черновик доноса, а второй переписал его набело и затем подбросил в покои императрицы.
Доносчики обвиняли Макарова, выражаясь современным языком, в разного рода уголовных преступлениях: в хищении пожитков опальных Петра Андреевича Толстого и обер-фискала Алексея Нестерова; в уклонении от уплаты оброчных денег за слободу Шибекину; в захвате земель и насилиях, творимых крепостными Макарова над крестьянами других помещиков; в продаже вина с утайкой пошлины; в укрывательстве дворян и беглых рекрутов от службы; в покровительстве провинциал-фискалу Петру Тютчеву, выполнявшему вопреки запретительным указам винные и хлебные подряды. Все обвинения, за исключением одного, оказались чистой воды наветом.
Единственное противозаконное действие Макарова состояло в том, что он пошел на мировую «с смертоубийцами, с Васильем да Павлом Потресовыми». Оба они избили до смерти крепостного Макарова. Алексей Васильевич подал челобитную в Юстиц-коллегию, та поручила разбирательство севской провинциальной канцелярии, которая переправила дело в брянскую воеводскую канцелярию. Убедившись в том, что дело приняло затяжной характер и его исходу не видно конца, Макаров пошел на мировую с братьями Потресовыми. Денисов в извете написал, что убийцы откупились от Макарова, отдав ему «многих крестьян». Может, так оно и было, но юридически сделка была оформлена по всем правилам, и к Макарову не могли предъявить претензий никакие инстанции: братья продали Макарову крестьян, живших у него в бегах.
Получив от Макарова челобитную с обязательством не предъявлять соседям иска, брянские власти прекратили дело. Это постановление воеводской канцелярии, как и мировая челобитная Макарова, противоречило Уложению 1649 года, запрещавшему мировые по делам, связанным с убийствами. Следствие установило и побудительные мотивы написания извета.
Федор Денисов, управляя рыльскими вотчинами Макарова, пользовался тем, что у помещика не было возможности навещать их и контролировать действия приказчика, и вел себя так, что вызвал жалобы крестьян. Денисов стал выдавать себя то за отставного солдата, то за курского дворянина, женился на дочери обедневшей вдовы-дворянки и занялся скупкой земли и крестьян на имя тещи, оплачивая сделки деньгами Макарова. Хлестаковские замашки приказчика крестьяне, возможно, стерпели бы, если бы его хозяйственная прыть не обернулась для них дополнительными повинностями. Дело в том, что Денисов использовал крестьян Макарова в купленных на имя тещи вотчинах: «И за тою-де работою у крестьян ево, Макарова, хлеб в удобное время не убираетца, от чего им убыток и разорение».
Опираясь на жалобу крестьян, Макаров отправил челобитную в севскую провинциальную канцелярию. Но «Денисов против оного челобитья в роспрос не пошел, а сказал, что-де он по тому челобитью во всем виновен, а отставным солдатом писался от недознания». В Севске Денисов подвергся суровому наказанию: он был бит вместо кнута батожьем и «отдан ему, Макарову, з женою и з детьми в холопство».
Совершенно очевидно, что приказчик, лишившись неправого стяжания, затаил злобу, да и сам он признался, что написал донос, чтобы отомстить Макарову за учиненные «ему, Денисову, и теще ево обиды». Что касается Алтухова, то Денисов привлек его в сообщники потому, что слышал от Алтухова, что «многие ему, Алтухову, от Макарова чинятся обиды».
Мера наказания Денисова неизвестна. Видимо, ее должен был определить сам Макаров, поскольку Денисов был его крепостным. Что касается Алтухова, то Тайная канцелярия указом от 22 марта 1733 года велела его «бить кнутом и послать в Сибирь на серебряные заводы вечно». Вынося суровый приговор Алтухову, канцелярия руководствовалась отнюдь не стремлением защитить Макарова и отбить охоту подавать на него изветы с ложными обвинениями. Дело в том, что во время следствия у Алтухова были обнаружены «волшебные письма с заговорами и богомерзким содержанием».[499]
Месяц спустя императрица утвердила приговор Тайной канцелярии. Казалось бы, вопрос исчерпан – Макаров реабилитирован, пороки наказаны. Но Макарову от этого не стало легче: не успело закончиться первое следствие, как началось второе, грозившее ему куда более серьезными неприятностями.
Когда перечитываешь список лиц, привлеченных по второму следствию, то создается впечатление, что это семейная свара, ибо главные действующие лица находились между собой в родственных отношениях.
Петр Стечкин являлся племянником А. В. Макарова, а его супруга Наталья была падчерицей умершего Федора Калинина. Следовательно, Федор Калинин доводился Макарову шурином. Автор доноса Василий Калинин и его брат Лев были племянниками Федора Калинина, то есть тоже являлись дальними родственниками Макарова.
Родственные отношения цементировались деловыми связями. «Отставной Акцизной каморы директор» Федор Калинин был своим человеком в семье Макарова. Он состоял компаньоном Алексея Васильевича в содержании суконной мануфактуры и жил в его московском доме. После смерти в 1728 году брата кабинет-секретаря, Ивана Васильевича, Федор Калинин ведал домом и деревнями умершего. Василий Калинин был канцеляристом в Кабинете его величества, то есть находился в подчинении Макарова. В свое время он пользовался полным доверием кабинет-секретаря, ибо, по словам Алексея Васильевича, «несколько лет жил у него, Макарова, в доме, и домовые всякие письма были у него, Калинина, на руках». После ликвидации Кабинета и назначения Макарова на должность президента Камер-коллегии Алексей Васильевич пристроил Василия Калинина канцеляристом в это учреждение.
Во главе клана стоял Алексей Васильевич, среди всех родственников, как ближних, так и дальних, достигший в службе и чинах наивысших успехов. Прочие представители клана довольствовались более скромными достижениями и, естественно, нуждались в попечительстве своего более способного и удачливого родственника. Тот охотно помогал каждому из них. Брат Алексея Васильевича – Иван закончил жизнь дьяком, то есть достиг довольно высокой должности на бюрократической стезе.
Опекал Макаров и двоюродных братьев. Один из них, Петр Шапкин, во время Прутского похода оказался в османском плену. Алексей Васильевич принял энергичные меры, чтобы вызволить родственника из беды. Он подключил к делу двух влиятельных людей, располагавших возможностями помочь ему: вице-канцлера П. П. Шафирова, отправленного царем в османский лагерь в качестве заложника выполнения Россией условий Прутского мирного договора, и фельдмаршала Б. П. Шереметева, командовавшего русской армией, размещавшейся после выхода из окружения на Пруте в пределах Украины.
Шереметев и Шафиров откликнулись на просьбу Макарова и приняли живейшее участие в освобождении пленника. Не прошло и трех недель со дня, когда Шафиров отправился в османский обоз, как Макаров получил от него письмо с известием о судьбе двоюродного брата: «Оной подлинно обретается в Бендере за караулом». Далее вице-канцлер сообщил, что ему удалось связаться с османскими министрами, которые его заверили в том, что «о свободе его (Шапкина. – Н. П.) писать в Бендерь к паше будут и сюда отпустить велят». Утешительные известия были получены и от Шереметева. В конце 1711 года фельдмаршал уведомил Макарова, что для обмена на Петра Шапкина сыскал «здесь турченина и послал в Белую Церковь».
Хлопоты, однако, не увенчались успехом. В августе следующего года Шафиров отправил Макарову письмо с печальным известием: он, Шафиров, «яко о своем присном старался… но за неописанными здешних господ поступками того сперва учинить не мог. А потом, в июле месяце, онои ваш брат, сидя в заключении, умре моровою язвою, которая здесь зело умножилась».[500]
Другого двоюродного брата Макарова – Василия Шапкина судьба забросила в Лондон. Там он обучался, как упоминалось выше, кораблестроению и помогал Федору Салтыкову в закупке кораблей для русского флота. Судя по всему, Шапкину жилось в Лондоне несладко, и он осаждал брата жалобами на материальные затруднения: докучать Салтыкову он больше не мог, так как, сетовал братец, у него «много дела и без моей докуки». Несколько месяцев спустя, в августе 1713 года, он повторил просьбу о назначении ему жалованья, подкрепив ее таким доводом: «ево братья вся у дела», то есть обучается в Лондоне ремеслам и наукам, а он тратит время бесполезно. В конце письма имеется текст загадочного содержания. Шапкин просил Макарова отозвать его «от сего дела, ежели в вашей возможности будет, понеже я опасен весьма, чтоб не прильнуло ко мне в корабельном деле, о чем я пространно писать не могу».
Не свидетельствуют ли эти зашифрованные строки об осведомленности Василия Шапкина о расходовании Салтыковым казенных денег на личные нужды и о его опасениях в этой связи за свою судьбу?
Заботой о жалованье проникнуто еще одно письмо Шапкина, в котором он опять просил об освобождении от службы у Салтыкова. Шапкин претендовал на маленькое, но самостоятельное дело, выполняя которое он располагал бы временем для обучения механике, архитектуре, инженерному делу и т. д.
Макаров, надо полагать, внял просьбам брата. Во всяком случае в сентябре того же 1713 года Василий Шапкин находился уже в Ревеле. Об этом говорит письмо Василия Зотова Макарову, в котором Шапкин аттестован не лучшим образом: «Вашей милости брат господин Шапкин обретается в
Ревеле в добром здравии, только Каневский приносит мне на него о нерадетельном ево учении и о непорядочном обхождении жалобы…» И далее: «…благоволите отписать, какому наказанию за противности позволите приводить. Однако же инако унять невозможно, кроме того как обстоит в солдацком обхождении». Был ли подвергнут непутевый Шапкин экзекуции, мы не знаем. Известно только, что после Ревеля он оказался в Казани, оттуда в недатированном письме он извещал кабинет-секретаря о постройке 100 буеров.[501]
Племянник Макарова Петр Стечкин выбился в потомственные дворяне, надо полагать, тоже не без помощи дяди. Шурину Федору Климонтовичу Калинину Макаров помог стать Акцизной каморы директором. Протежировал Макаров, как уже отмечалось, и Василию Калинину.
Отношения между родственниками до смерти Федора Калинина в конце 1731 года не представляли, по всей видимости, ничего заслуживающего внимания. Но уход из жизни одинокого человека, не оставившего завещания, посеял среди них раздор. Инициатором ссоры был Василий Калинин, претендовавший на получение дома умершего. Другой племянник – Лев Калинин – пребывал в Кирилло-Белозерском монастыре и, надо думать, проявлял меньшее рвение к мирским заботам и к наследованию имущества дяди.
Изучение следственного дела не прояснило вопроса, чем руководствовался Алексей Васильевич Макаров, когда посчитал, что наследовать имущество должен был не Василий, а Лев Калинин. Возможно, что между Макаровым и Василием Калининым к тому времени установились неприязненные отношения, вылившиеся в жестокую вражду. Но столь же вероятно объяснить поведение Макарова воздействием падчерицы покойного Натальи Стечкиной, женщины, по всему видно, энергичной и властной, делавшей все от нее зависящее, чтобы воспрепятствовать удовлетворению алчных намерений Василия Калинина. Возможно, именно она своей настойчивостью вовлекла в свару дядю, которому, быть может, было глубоко безразлично, кому достанутся дом и скарб умершего. Наконец, не лишено оснований предположение, что чувства Макарова и его племянницы к Василию Калинину – человеку, как увидим ниже, весьма несимпатичному – вполне совпадали, но поскольку тайному советнику было непрестижно втягиваться в свару с канцеляристом, то с его молчаливого согласия, а может быть, и высказанного в осторожной форме поощрения, активной силой выступила Наталья Стечкина. От гаданий перейдем к описанию событий, развернувшихся в марте 1732 года.
12 марта Наталья Стечкина в сопровождении Льва Калинина и знакомых канцелярских служителей прибыла в дом Федора Калинина, чтобы выполнить повеление Макарова – изъять те письма и деловые бумаги из архива умершего, которые имели прямое касательство к Макарову. Еще раз напомним, что таких бумаг после Федора Калинина осталось немало, так как умерший был компаньоном Алексея Васильевича и душеприказчиком его брата Ивана.
Василий Калинин был опытным сутяжником и решил воспрепятствовать выполнению этого намерения многозначительным заявлением:
– Макаров в оных письмах власти не имеет. Разбирать их надлежит при отце духовном и при посторонних.
Довод показался Стечкиной настолько неотразимым, что она смутилась и вместе с сопровождавшими ее лицами отправилась в дом неподалеку жившего подьячего Шлякова. Смятение прошло, и полчаса спустя вся компания, но без Стечкиной вновь прибыла в дом Калинина с хитроумным планом. Клевреты Макарова заявили:
– Надобно вышеписанное все разбирать, Алексей Васильевич приказал все к себе принести.
Калинин стоял на своем:
– Без отца духовного и без посторонних разбирать не дам.
– Подите до отца духовного, мы подождем, – ответили непрошеные визитеры.
В то время как Василий Калинин разъезжал по Москве в поисках отца духовного, исполнители поручения Макарова, не ожидая его возвращения, сорвали замок и стали рыться в бумагах. Уложив то, что их интересовало, в два кулька, они отправились в дом Макарова.
После этого посещения клевреты Макарова в марте-апреле 1732 года нанесли еще десять визитов в дом Федора Калинина, причем в отсутствие Василия Калинина, и каждый раз, согласно его версии, открывали чулан и рылись в сундуках. Иногда визитеры являлись ночью и грозились утопить Василия Калинина в Москве-реке.
– Я и ночевать дома завсегда весьма опасаюсь, – скажет позже Калинин.
Василий Калинин понял, что наследство, на которое он претендовал, уплывает из рук и ему не получить его до тех пор, пока в силе Макаров. Он решил свалить влиятельного соперника, нанеся ему удар, после которого тот не мог бы оправиться. Так у Калинина созрела мысль настрочить донос.
В один из августовских дней 1732 года Калинин явился к графу Семену Андреевичу Салтыкову, руководителю московской конторы Тайной канцелярии, и подал ему доношение. Читая его, недруги Макарова, очевидно, потирали руки от удовольствия: теперь уже ему несдобровать. Обвинений в адрес Макарова было выдвинуто столько и таких серьезных, что достаточно было подтверждения только одного из них, чтобы навсегда покончить с бывшим кабинет-секретарем.
Как только не честил Макарова Василий Калинин: «кабинетных дел похищатель», «интересов ее императорского величества подложник», «ее императорского величества нарядной губитель», «ее императорского величества явной корысник или интересант и обидчик люцкой…». Опытный представитель крапивного семени, человек с сомнительной репутацией в моральном плане, Калинин знал, как рассеять у начальства все сомнения относительно достоверности всего изложенного в доносе. Он закончил донос заботой о своей безопасности: «Также прошу придать мне для охранения лейб-гвардии солдат двух или трех человек для того: Алексей Макаров и Петр Стечкин завсегда всезлобные и вымышленно коварные свои происки имеют всякое мне избительство учинить, что я – человек беспомощной, от чего я опасаюсь от них за вышепоказанные их, Макарова и Стечкина, противные дела и смертного убивства». Столь же интригующими были и первые строки доноса. «Повели, государь, – обращался Калинин к Салтыкову, – для обстоятельного вашему превосходительству известия взять меня к себе в аудиенцию, чтоб другие того не знали, о чем пространно донесу вашему превосходительству».[502]
В точности неизвестно, поддался ли Салтыков воздействию окутанного таинственностью начала и конца доноса и согласился ли дать просимую Калининым аудиенцию или велел принять его донос своим подчиненным, но последующие события развивались молниеносно. Тотчас после ознакомления с содержанием доноса в столицу полетела депеша. Ответа на нее Салтыкову долго ждать не довелось. Через шесть дней, 18 сентября 1732 года, он получил именной указ, предписывавший учредить «особливую комиссию» из гвардейских офицеров, которой поручить «без всякого послабления» расследовать донос Калинина. Через пару дней такая комиссия была создана. В ее состав вошли шесть офицеров, от поручика до подполковника. В распоряжение комиссии «для посылок» были назначены гвардии капрал и восемь рядовых, а также десять канцелярских служителей. Главную дирекцию над комиссией именной указ возложил на Салтыкова.
Из многочисленных обвинений Калинина, изложенных на 16 листах убористого текста, состоявшего из 17 пунктов, Макарова могли погубить те из них, где ему ставилась в вину утайка приходо-расходных тетрадей Кабинета, а также писем Петра, царевича Алексея, князя Меншикова и, наконец, казнокрадство. Конечно же, Остермана и императрицу менее всего интересовали наследственные права Василия Калинина на дом умершего дяди, захват Макаровым вотчин Лутковского и прочие мелкие обвинения.
Чтобы не утомить читателя подробностями следствия, изложением содержания допросов Макарова и многочисленных свидетелей, а также дополнительных показаний Калинина, коротко остановимся на самом важном. Начнем с обвинения, которое и Калинин, и комиссия считали совершенно бесспорным.
Согласно версии Калинина, Макаров в 1728 году вел с ним следующий разговор:
– В курмышской моей вотчине много вина и водки на винокуренном заводе изготовлено, не знамо, куды девать: в Нижнем винный подряд дешев, а в Москву нельзя подрядиться – я в Камер-коллегии президент. Напиши письмо к костромским бурмистрам от себя в такой силе, чтоб они обратились с просьбой в Камер-коллегию обеспечить вином кружечные дворы.
«И я по тому ево, Макарова, приказу, – каялся Калинин, – к костромским бурмистрам никакими от него отговорками отойтить не мог. Во оной силе письмо от себя и написал и отдал ему, Макарову». Тот отредактировал письмо и вернул его Калинину для переписки набело.
Обращаясь с доносом к Салтыкову, Калинин полагал, что имеет против Макарова неотразимую улику: предусмотрительно припрятав черновик письма костромским бурмистрам с правкой Алексея Васильевича, он теперь, четыре года спустя, изъявил готовность предъявить его комиссии. Действительно, в делах следственной комиссии и поныне хранится этот черновик, на который так рассчитывал Калинин.
Макаров ответил: относительно отправки письма «за долгопрошедшим временем сказать не упомнит», но в точности знает, что «на костромской кружечный двор вина своего собою и ничьим именем подрядом не ставливал и денег ис Костромской провинции, ис кружечного двора, ни за что он, Макаров, не бирывал и брать никому не приказывал».
В случае если бы дело обстояло именно так, как его изобразил Калинин, Макарову грозило, употребляя современную терминологию, обвинение в злоупотреблении служебным положением. Дело в том, что еще при Петре I был издан указ, запрещавший чиновникам всех рангов под страхом смертной казни заключать контракты на поставку в казну продовольствия, промысловых изделий и вина.
Итак, следствие располагало двумя исключавшими друг друга версиями. Решить спор, кто прав – обвинитель или обвиняемый, могла костромская провинциальная канцелярия, куда и обратилась комиссия. Из Костромы ответили: жители города, бывшие в 1728 году бурмистрами, показали, что они в том году никаких писем ни от Калинина, ни от Макарова не получали. Равным образом они отрицали и факт поставки вина с курмышской вотчины Макаровым или каким-либо подставным лицом. Обвинение, как видим, оказалось несостоятельным.
Калинин, далее, обвинял Макарова в обманном получении в аренду Шибекиной слободы, что находилась в Белгородской губернии. Согласно доносу, Макаров в челобитной, поданной Сенату еще в 1720 году, изобразил дело так, что слобода являлась выморочной. По сведениям же Калинина, у слободы есть законная наследница – сестра умершего полковника Шибеки, которой якобы был выдан указ на право владения ею, подписанный графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Если верить Калинину, Макаров не только незаконно пользовался слободой, но вдобавок к тому 13-й год «оброчных денег ни копейки не плачивал».
Макаров отвел и это обвинение. С присущим ему спокойствием он показал, что ему ничего не известно о челобитной сестры Шибеки, как не известен ему и указ о передаче ей слободы. Что касается оброчных денег, то он их ежегодно вносил в белгородскую губернскую канцелярию.
Калинин, однако, стоял на своем. Он упрямо твердил, что Макаров «никаких оброчных денег не плачивал», что слободка не выморочна, что «Макаров тою деревнею, слободкою Шибекиной, владеет силою своею и, утая законную наследницу, напрасно».
Наведенные справки обнаружили полную несостоятельность обвинения: указа о передаче слободки сестре полковника не существовало в природе. Ложным оказалось и утверждение о неуплате оброчных денег: они, как ответила белгородская губернская канцелярия, «плачены в Белгороде сполна по вся годы».
Не выдержало проверки и обвинение Макарова в том, что он самостоятельно, без ведома Сената, повысил оклады подьячим, составлявшим в 1727 и 1728 годах описи кабинетных дел и участвовавшим в переписывании набело «Гистории Свейской войны». Согласно наведенным справкам, было установлено, что им выплачивалось жалованье, определенное сенатским указом.
На нескольких страницах доноса Василий Калинин живописал о произволе Макарова. Под его пером Макаров предстает человеком зловещим и коварным. Оставаясь в тени, он якобы науськивал то своих служителей, то родственников, чтобы те врывались в дом, на наследование которым претендовал Калинин, и под покровом ночи хозяйничали в нем: изымали документы, письма, растаскивали имущество покойного, избивали или угрожали избиением домочадцам и слугам Василия Калинина.
Макаров, естественно, все это отвергал и признал только одно: лишь однажды он приезжал вместе со Стечкиным и его супругой в дом умершего Калинина, чтобы «собрать и запереть платье и протчей скарб в чулан и, заперши, ключ от чулана к себе ей взять». Макаров объяснял свои действия стремлением выполнить волю покойного: «Он, Федор Калинин, еще будучи живой, просил ево, Макарова, чтоб он по смерти ево ис пожитков ево помянул и церковь достроил». Интерес к деловым бумагам умершего Макаров мотивировал тем, что Федор Калинин «ведал дом ево, Макарова, и деревни, також и завод суконный в небытие ево, Макарова, в Москве».[503]
В искренности показаний Макарова можно было бы усомниться, если бы они не были подтверждены теми, кто, по словам Василия Калинина, тайно навещал дом покойного дяди и множество раз, нагрузившись бумагами, отвозил их Макарову. Заметим, что каждый из клевретов Макарова был заинтересован в том, чтобы, обеляя себя, взвалить вину за свой визит в дом Калинина на Макарова: они, дескать, действовали не «собою», а по наущению бывшего кабинет-секретаря. Допрошенные, однако, показали, что они доставили Макарову лишь документы хозяйственного содержания за те годы, когда Федор Калинин выполнял обязанности его приказчика.
Самую серьезную угрозу для Макарова представляли обвинения в утайке служебных писем Петра, царевича Алексея и князя Меншикова, а также деловых бумаг Кабинета, в том числе приходо-расходных книг. Последние, согласно версии Калинина, Макаров скрыл, чтобы замести следы своего казнокрадства.
Оправдываться Макарову было непросто хотя бы потому, что дела имели двадцатилетнюю, а иногда и тридцатилетнюю давность и он, даже напрягая свою память, не всегда мог припомнить мотивы, которыми руководствовался, оставляя те или иные документы не в кабинетском, а в личном архиве. Тем не менее каждый непредубежденный следователь мог бы убедиться в искренности показаний Макарова.
Алексей Васильевич признал наличие у него писем царя, царевича Алексея и Меншикова, но тут же объяснил, что не сдал их в архив Кабинета потому, что все они носили сугубо личный характер и не имели отношения к Кабинету. О приходо-расходных тетрадях Макаров показал, что это черновики, которые он вел для памяти во время походов, и с них «как приход, так и расход внесен в настоящие расходные книги». Кстати, следственная комиссия располагала справкой, что приходо-расходные книги за 12 лет, с 1705 по 1716 год, обревизованы и в них никаких неисправностей не обнаружено. Журнальные записки с правкой царя тоже были черновыми. По терминологии Макарова, вариант записки, хранившийся в его архиве, «был черной несостоятельной», а в архиве Кабинета хранятся беловой экземпляр и «два или три черненья его же императорского величества». Кстати, «несостоятельной» черновик исчез из архива Макарова, и тот высказал предположение: «…может-де быть, оной журнал похитил означенный же доноситель Калинин».[504] Таким образом, и это обвинение не выдержало проверки.
Для самого Алексея Васильевича еще в начале следствия была очевидной совершенная необоснованность обвинений. Он, надо полагать, считал происходившее неприятным недоразумением, а рвение следственной комиссии – плодом инициативы, о которой там, в Петербурге, понятия не имели. Только подобным ходом мыслей можно объяснить поступок Макарова: во второй половине октября 1732 года он обратился к Остерману с просьбой подать руку помощи.
Нашел же Макаров к кому обращаться за помощью! Современники, похоже, так до конца и не раскусили Андрея Ивановича. Тот обладал удивительной способностью прикидываться доброжелательным человеком и ловко скрывать свое подлинное отношение к людям. Он охотно расточал комплименты с медоточивой улыбкой, умел терпеливо и искусно плести интригу, сеять вражду между своими противниками и сталкивать их лбами. Тяжелобольной Меншиков из своего подневольного путешествия в Ранненбург обращался с просьбой не к Головкину и Апраксину, а именно к Остерману, не подозревая, что именно Андрей Иванович сыграл роковую роль в его судьбе. Точно так же и Макаров, не подозревавший, что все нити следствия находились в руках Остермана и что прежде всего он, а не кто иной рыл ему яму, обратился к нему со словами мольбы, чтобы тот вызволил его из беды.
Макаров писал Остерману, что «плут и подозрительный человек» Василий Калинин клеветнически обвинил его во многих прегрешениях, жаловался на то, что комиссия «спрашивала» с него «лет за двадцать за пять и больше», то есть о делах, им забытых, и просил: «… в сущей моей невинности предстательствовать и от оного злоковарного злодея мене оборонить». Письмо заканчивалось собственноручной припиской Макарова: «Государь мой милостивой, Бога ради, сотворите со мною бедным свою высокую милость, чтоб я от такой безвременной печали не умер, за что Господь Бог и самих вас не оставит».
Остерман остался глухим к мольбам бывшего кабинет-секретаря. Без всякой надежды на помощь оставил Макарова и канцлер Головкин. В конечном счете Макаров, лишенный влиятельных заступников, оказался окруженным равнодушным молчанием.
Между тем следствие подходило к завершению. Одного за другим выпускали на свободу привлеченных к дознанию и находившихся под стражей. Вынесен был и приговор – точнее, определение «со мнением», то есть своего рода проект приговора, переданный на утверждение Салтыкову.
Комиссия не признала доказательным объяснение Макаровым причин хранения у себя приходо-расходных тетрадей, а затем и их исчезновения и предложила держать его под арестом до тех пор, пока он не представит убедительных доказательств. С Макарова, кроме того, решено было взыскать в двойном размере сумму, о расходовании которой он не отчитался. Относительно этих денег Макаров заявил: брал их «на разные расходы, а на государевы или на собственные ево, Макарова, расходы – то он не упомнит». Комиссия тоже не располагала данными о том, что 174 рубля 10 копеек Макаров издержал на собственные нужды, однако определила взыскать с Макарова 348 рублей 20 копеек, что было не чем иным, как проявлением произвола.
А что сталось с Калининым?
С ним произошла метаморфоза: из обвинителя он превратился в обвиняемого. Комиссия была вынуждена признать донос Калинина «неправым», ибо не подтвердилось ни одно из выдвинутых им обвинений. Мера наказания Калинину была такова – бить кнутом, но тут же имелась оговорка, придававшая приговору своего рода условный характер: «Токмо, по мнению следственной комиссии, до того времени, как от тайного советника Макарова положены будут приходные и расходные тетради и учинено по них по следствию окончание, оное наказание чинить ему, доносителю, опасно».
Итак, следствие показало, что донос Калинина был сработан настолько топорно, что комиссия не нашла возможным предъявить на его основе серьезные обвинения Макарову. Правда, Остерман еще предпринимал попытки спасти процесс и подбросил комиссии дополнительные вопросы для расследования, но даже если бы комиссии удалось добыть компрометирующие Макарова данные, они уже не могли ничего изменить. Интерес к следствию у властей предержащих иссяк. Забыт был и инициатор возникновения следственного дела Василий Калинин – он еще многие годы томился в тюрьме.
Канцелярия Кабинета министров зарегистрировала следующее доношение Салтыкова: «Он многими доношениями с 736 года представлял и требовал указу, что чинить с содержащемся там в Москве под караулом доносителе канцеляристе Василии Калинине, который доносил на тайного советника Алексея Макарова, на которые доношения и поныне указу не получил, и требует, что с ним чинить, указу». Доношение было внесено в журнал входящих документов 18 октября 1738 года.[505] Таким образом, после прекращения следствия Калинина еще пять лет держали в заключении. Это обстоятельство можно воспринять как возмездие.
Первое следствие не давало повода для безнадежного уныния. Без существенного ущерба для Макарова закончилось и второе. Но вот третье… Оно было настолько зловещим, что взбаламутило жизнь Макарова и его семьи: благополучное прошлое осталось лишь в воспоминаниях; что касается будущего, то оно не сулило никаких радостей. Потянулись дни, месяцы и годы беспросветной тоски и вынужденного безделья.
На этот раз обвинения не имели никакого отношения ни к злоупотреблениям властью, ни к казнокрадству, ни к службе Макарова вообще. Эпицентром событий были подмосковные Берлюковская и Саровская пустыни, а главными действующими лицами – монахи этих пустынь.
Какая, однако, могла быть связь между монахами и сугубо светским человеком Макаровым, за которым, кажется, ранее не водилось никаких грешков касательно твердости в вере? Чтобы разобраться в сложных переплетениях следствия, вернемся к событиям, происшедшим ровно за год до рокового дня, когда Макаров оказался под надзором тюремщиков.
13 декабря 1733 года в московскую синодальную контору явился саровский монах Георгий с доношением, в котором объявлял себя богоотступником и просил архиепископа ростовского Иоакима, управлявшего пустынью, рассеять все его сомнения. Архиепископ отправил просителя в синодальную канцелярию, и там Григорий Зворыкин – так в миру звали доносителя – показал на себя множество прегрешений: он общался с нечистым духом во плоти немца Вейца и его двух слуг-бесов, отрекся от веры, перестал посещать церковь. За богоотступничество Вейц обещал Зворыкину почести и богатство. Зворыкин, однако, не поддался соблазну. Напротив, ради искупления своих грехов он решил постричься и это свое намерение осуществил в Саровской пустыни. Но преследования Вейца не прекратились: он возобновил требование отречься от Христа, бесы истязали новоиспеченного монаха, сбрасывали его с лестницы, поднимали ввысь. Обо всем этом он рассказал на исповеди своему духовнику Иосии, у которого просил разрешения переселиться в Берлюковскую пустынь, где, по его сведениям, монахи вели суровый образ жизни.
Простой перечень наговоренных на себя обвинений свидетельствовал, что Зворыкин был, по-видимому, психически больным человеком, подверженным галлюцинациям. И тем не менее поведение Зворыкина крайне взволновало монашествующих Берлюковской пустыни и ее строителя Иосию. Дело в том, что еще в августе 1732 года Синод издал указ, вводивший множество строгостей в жизнь монахов. Указом, в частности, велено было произвести чистку монастырей, для того чтобы освободить их от всех незаконно постриженных или самовольно переселившихся из других обителей. Монастыри напоминали потревоженный улей: беды ожидали как самовольно принявшие монашеский чин, так и настоятели, незаконно державшие монахов. Слухи о том, что Зворыкин подал доношение, внесли еще большее смятение.
Иосия терзался сомнениями: не донести на Георгия опасно, ибо Зворыкин во время дознания мог наболтать много лишнего и тогда ему, Иосии, несдобровать, но и донести тоже риск. А вдруг, рассуждал Иосия, «Зворыкин по тому ево доношению в вышепоказанной важности запрется, то ево, Самгина (фамилия Иосии до пострижения. – Н. П.), станут пытать».
Доподлинно неизвестно, сколь долго Самгин-Иосия находился в плену сомнений. В конце концов он все более склонялся к мысли о необходимости подать донос. Самгин рассчитывал, что Зворыкину не сносить головы, ибо на исповеди тот признался, что вместе со своими приятелями хотел извести царя Петра. Перед тем как снести донос графу Салтыкову, Самгин все же решил посоветоваться со сведущими людьми. Отправился он к князю Ивану Одоевскому, но тот не дал угодного ему совета: Одоевский счел неудобным использовать для доноса признание на исповеди. От Одоевского Самгин пошел к Макарову, но не застал того дома. Настало время принимать решение, и Самгин сделал шаг, ставший роковым: он-таки подал донос Салтыкову, правда изъяв из него обвинение в намерении совершить цареубийство. В доносе речь шла о безбожии и чародействе Зворыкина.
Синодальная канцелярия передала донос ктитора Тайной канцелярии, а та распорядилась немедленно арестовать Зворыкина, Самгина и других монахов. Отправленные в Саровскую пустынь нарочные обнаружили там компрометирующие монахов материалы, в том числе тетради с рассуждениями о монашестве и сочинение Родышевского. Оказалось, что Иосия придерживался взглядов, близких к высказываниям Родышевского. Иосия говаривал, что в России подобает быть вместо Синода патриарху, или: «А что вотчины вклад в монастырь давать запрещено, и то весьма противно воле Божией учинено».
Дело представлялось настолько важным, что Тайная канцелярия велела своей московской конторе доставить всех арестованных в Петербург и сама взялась за следствие. К нему был привлечен и Феофан Прокопович. Свое участие в следствии Прокопович начал с подачи императрице критического разбора сочинения Родышевского.
Архимандрит Маркел Родышевский долгое время считался приятелем Прокоповича. Но в 1732 году было найдено подметное письмо с осуждением церковной реформы Петра и отмены патриаршества. Феофан Прокопович заподозрил Родышевского в причастности к сочинению письма. Этого было достаточно, чтобы между приятелями появилась размолвка, быстро переросшая во вражду.
Феофан ревниво следил как за своей репутацией человека беспредельно преданного трону, так и за чистотой веры и не стеснялся в выборе средств борьбы со своими противниками. Великолепно владея пером, он умел придать какому-либо пустячку характер государственного преступления и обвинить своих противников в дерзновенных планах вызвать в стране мятеж против Анны Иоанновны. Изучив характер императрицы и обнаружив в нем крайнюю подозрительность, он ловко использовал эту черту в своих интересах, пугая Анну Иоанновну призраком заговоров.
В сочинении Прокоповича Родышевский изображен опасным бунтовщиком. Полемическое перо Феофана вывело следующие слова, обращенные к императрице: «Но чего я без ужаса видеть не мог, наполнено оное письмишко нестерпимых ругательств и лаев на царствовавших в России блаженные и вечнодостойные памяти вашего величества предков. Славные и благотворные их, государей, некие указы, уставы, узаконения явственно порочит и, яко богопротивные, отметает». Далее следует общая оценка труда Роды-шевского, столь же прозрачная по своим целям, как и содержащая натяжку: «…письмо сие не ино что есть, только готовый и нарочитый факел к зажжению смуты, мятежа и бунта».
Подобным заключением нетрудно было загнать в угол даже Тайную канцелярию и стимулировать активность в угодном направлении самого кнутобойца Андрея Ивановича Ушакова.
Репутация шефа Тайной розыскных дел канцелярии Ушакова хорошо известна. Он не нуждался в понуканиях и сам проявлял изощренную изобретательность, чтобы принудить жертву, попавшую в его лапы, к любым признаниям. Тем не менее даже Ушаков был несколько смущен программой действий Тайной канцелярии, начертанной «смиренным богомольцем»: «Мнение мое на вторую потребу состоит в изследовании советников, укажчиков и помощников и о других в деле сем сообщавшихся ему, також и некиих обстоятельств, которые к ясному затеек показанию надобны». Прокопович был убежден, что у Родышевского «были некие прилежные наустители, которые плутца сего к тому привели, отворяя ему страх показанием новой некоей имеющей быть перемены, нового в государстве состояния, и обнадеживая дурака великим высокого чина за таковый его труд награждением».[506]
Итак, Прокопович нацеливал Тайную канцелярию на привлечение к следствию лиц, которые, оставаясь пока в неизвестности, являлись фактическими подстрекателями и руководителями Родышевского. Последний, по отзыву Феофана, «по природе своей зело труслив» и «скуден в рассуждении». Так была подведена база под преследование Макарова и привлечение его к новому следствию.
У Прокоповича с Макаровым сложились напряженные отношения еще в годы, когда Алексей Васильевич был кабинет-секретарем. При Петре I Феофан гасил свою неприязнь, но при Анне Иоанновне осмеливался заявлять о ней открыто. В доношении, поданном императрице в ноябре
1731 года, об уплате жалованья синодальным членам он писал, что этот вопрос рассматривался еще Петром I в 1724 году и был решен им положительно: царь велел Макарову сочинить соответствующий указ. «Но, – читаем в доношении, – господин Макаров, слышав тот его императорского величества именной про нас указ, никогда нигде не изволил объявить, хотя мы неоднократно о том стужали ему. А для чего не изволил того делать оный господин – совесть его знает, и на суде Божии оправдит или осудит его».[507]
Прокопович, однако, не стал ожидать «суда Божия» и воспользовался судом Тайной канцелярии. Согласно концепции Прокоповича, действиями Родышевского руководили опытные интриганы, рассчитывавшие на «перемены» в правительстве. Роль такого советника Прокопович отвел Макарову. Кстати, не лишена оснований догадка, что Прокопович и сочинил свою концепцию с целью свести счеты с Алексеем Васильевичем.
Как бы там ни было, но 29 ноября 1734 года конной гвардии адъютанту Алексею Извольскому был вручен именной указ, обязывавший его немедленно отправиться во главе восьми рейтар и одного унтер-офицера в Москву. Прибыв в старую столицу, «не заезжая никуда», надлежало держать путь к дому бывшего президента Камер-коллегии Макарова и тут же расставить караул, «чтоб никого не выпускали и пожитков никаких увезено быть не могло». Тюремщику предписывалось все письма и имущество, «ничего не выключая, и положа письма в особливый сундук, а пожитки и вещи в другие, собрав все то в одной палате, запечатать своею и его, Макарова, печатью и приставить пристойный от себя караул, и накрепко смотреть, чтоб ничего утаено или на сторону увезено и утрачено не было». Пожитки велено было оставить в доме Макарова, а письма и документы – доставить в Петербург. Ни Макарову, ни членам его семьи не разрешалось выходить за пределы двора, им запрещалось и кого-либо принимать. Таким образом, для Макарова, его жены и детей устанавливался режим домашнего заключения. Забегая вперед, сообщим, что он продолжался вплоть до смерти Макарова, то есть около пяти лет.[508]
У Алексея Васильевича началась жизнь, полная волнений и тревог. Он, естественно, не мог знать, когда и как закончится следствие, какие планы имела Тайная канцелярия. Быть может, покои собственного дома придется сменить на каземат Петропавловской крепости, а может статься, показания доведется давать вздернутым на дыбу. Сам он, не чувствуя за собой вины, возможно, томительно ожидал, что вот-вот прискачет курьер с извещением, что все обвинения с него сняты, и драгуны, несшие караул у его дома, будут отправлены в гвардейские казармы. Но проходили дни, месяцы и годы, а положение его оставалось прежним.
Причастность Макарова к процессу монахов Саровской и Берлюковской пустынь вызывает ряд недоуменных вопросов. Какие обстоятельства свели Макарова с монахами, стоявшими в социальной иерархии неизмеримо ниже, чем он сам? Как Иосия стал своим человеком в доме Макарова?
В 1733 году у Макаровых умерла дочь. Парчу, покрывавшую гроб, супруга Макарова намеревалась поднести какой-либо убогой церкви. Прослышав об этом, Авдотья Одоевская, родная сестра супруги Макарова, посоветовала:
– Есть Берлюковская пустынь. Она бедна. Тое парчю надобно отдать в пустынь.
Анастасия Ивановна согласилась с мнением сестры, но заметила:
– Я в той пустыни никого не знаю. Авдотья обещала помочь:
– Я пришлю к тебе той пустыни строителя.
Так Иосия стал вхож в дом Макарова. Связи упрочились после того, как по совету той же Авдотьи Иосия стал духовником семьи Макаровых. С тех пор Иосия либо один, либо в сопровождении кого-либо из монахов частенько захаживал к Макаровым то с просьбой похлопотать о монастырских нуждах, то для получения милостыни, то, наконец, для исповеди. Супруга Макарова тоже однажды навестила Берлюковскую пустынь.
Теперь становятся понятными действия Самгина-Иосии, отправившегося в критическую минуту, то есть перед тем, как подать донос, за советом к Макарову: более влиятельного и сведущего консультанта у него не было.
Упоминание имени Макарова в первом же допросе Самгина дало Тайной канцелярии, как говорится, зацепку, путеводную нить. В дальнейшем ей удалось выудить кое-какие дополнительные сведения, благо общительный и словоохотливый Самгин во время своих визитов в дом Макарова вел с главой семьи оживленные беседы на самые разные темы. После таких визитов Иосия делился впечатлениями от бесед с другими монахами, непосредственно с Макаровым не общавшимися. Как только к следствию в качестве эксперта был привлечен Феофан Прокопович, он постарался придать процессу политическую окраску. Такой вывод напрашивается при изучении вопросных пунктов, предъявленных обвиняемым. Тайную канцелярию интересовало отношение Макарова к иноземцам и императрице, к ликвидации патриаршества и положению крестьян, пашни которых были в течение нескольких лет поражены неурожаями.
Известна неприязнь русских к иноземному засилью в правление Анны Иоанновны. Эта неприязненность проникла и во дворцы вельмож, и в хижины пахарей, не миновала она и монашеской кельи. Так, у Самгина настойчиво допытывались, как следует понимать его слова о том, что нашествие немцев в Россию – Божье наказание, и кого он имел в виду, когда говорил, что «большие при дворце иноземцы».
В некоторых вопросах просматривается попытка инкриминировать Макарову неуважительное отношение к императрице. Следователи выясняли, действительно ли Макаров сетовал на изменение отношения к себе Анны Иоанновны: когда она «не соизволила еще быть в России, то соизволила-де писать ко оному Макарову просительные письма, и оный-де Макаров надеялся быть, как ее императорское величество прибудет в Россию, при ней», но этого не случилось.
Насколько шаткой была эта попытка и сколь слабым обличительным материалом против Макарова располагала Тайная канцелярия, можно судить по вопросу, заданному Самгину: «Тогда, как оные Макаров и жена ево о вышеобъявленном говорили, какую в них злобу и свирепость по лицу ты их присмотрел и с великого ль сердца о вышеозначенном Макаров и жена ево говорили?»
Самгин поначалу уклонялся от ответов, ссылаясь на то, что «того не упомнит». Категорический ответ он дал лишь на один вопрос: «Только-де злобы и свирепства от оного Макарова и от жены ево по лицу их ни при каких разговорах никогда он, Самгин, не видал».
После допроса Самгин «вспомнил» одну существенную деталь. Сначала он заявлял, что запамятовал, кто отзывался о Макарове как о человеке «умном и добром», а затем «восстановил» в памяти важный эпизод. Трудно сказать, какими были подлинные мотивы «забывчивости» Самгина.
На основании показаний Самгина во время следствия можно сделать вывод, что он вел себя по отношению к Макарову по-рыцарски. Во всяком случае он не вооружил Тайную канцелярию ни одной уликой против Макарова. Вполне вероятно, что он и в данном случае пытался выгородить Алексея Васильевича, отвести от него обвинение в произнесении слов, косвенно осуждающих поведение императрицы и изобличающих ее неблагодарность. Он «припомнил», что как-то имел разговор с князем Путятиным. Князь, узнав, что Самгин являлся духовником Макарова, обратился к нему за посредничеством, чтобы тот уладил небольшой конфликт с Алексеем Васильевичем.
По свидетельству Самгина, во время беседы князь Путятин произнес следующий монолог: «Оной Макаров, человек умный и милостивой, был приступен, когда-де в силе был, а ныне-де ему не так, как прежде. Мы-де надеялись, и ныне быть ему в прежней же силе. Когда-де государыня еще не воцарилась, писывала ко оному Макарову милостивые письма (а какие именно – не выговорил). А как-де государыня воцарилась, то у одного Макарова взяли к государыне письма, а какие имянно – не выговорил же… Мы-де думали, что государыня, увидя те милостивые письма, велит-де оному Макарову быть при доме своем, а ныне-де зделалось не так, и он-де, Самгин, спросил, для чего-де не так, и Путятин-де сказал: „Ныне при доме ее величества более все иноземцы“».
Самгин, как видим, переложил всю вину на плечи князя Путятина, справедливо полагая, что князь выдержит любые обвинения: к тому времени он был уже мертв.
Старался Иосия, видимо, зря, ибо Макаров признал, что говаривал ему и о получении милостивых писем от курляндской герцогини, и об изъятии этих писем комиссией Салтыкова, и, наконец, поделился с ним своей печалью: рассчитывал быть «при ее величестве, ан-де вот оставили при Камор-коллегии». Всеми этими мыслями Макаров, по собственному его признанию, делился с Иосией «спроста, яко отцу тогда духовному».[509]
Супруга Макарова тоже призналась, что она в разговоре с Иосией сетовала на изъятие писем, потому что «он ей был отец духовной, чтоб об них помолился, что они по оному, Калинина, доношению имеют печаль; что-де присылаемые от ее императорского величества письма в комиссию отобраны у них». На это Иосия ответил:
– Молиться о том я рад, вы не печальтесь.
Макаров, однако, отрицал свою осведомленность о подробностях дела Зворыкина. Отвергал Макаров и обвинение в заступничестве за Самгина.
27 июня 1735 года Тайная канцелярия получила доношение Феофана Прокоповича с разбором показаний Макарова и его супруги. Каждая фраза этого документа пышет подозрительностью и откровенной враждебностью к Макарову. «По моему мнению, – подчеркивал Феофан, – неправо, и не по совести, и не так, как делалось, он, Алексей, ответствовал». Он обнаружил в показаниях супругов разного рода разногласия и на этом основании считал их плодом неискренности, называя их «плутнями», «сказками, веры недостойными», «ложью». Феофан был убежден – точнее, делал вид, что убежден, – в существовании заговора, возглавляемого Макаровым, и требовал ответов от него и его супруги на новые вопросы: «Что с Иосиею говорили (или с другим кем) о воинстве российском, якобы уже слабом, и в какой силе? Что о скудости народа в недороде хлебном? Что о смерти и погребении государя Петра Первого? Что о титуле императорском? Что о возке по Волге корабельных материалов?» и т. п.
На все эти вопросы Макаров и его родственники дали ответы, исключавшие возможность состряпать обвинение. Все они отреклись от разговоров о войне с Польшей, о наследовании престола Анной Иоанновной, об осуждении проводившейся денежной реформы.
Выяснить, сколь откровенны были показания Макарова, и ответить на вопрос, имел ли Прокопович основание не доверять этим показаниям, источники не позволяют. Можно лишь с уверенностью сказать, что разговоры на рискованные политические темы в доме Макарова происходили и что отзвуки этих разговоров попали на страницы следственных документов. С такой же уверенностью можно утверждать, что Макаров в своих показаниях стремился придать этим разговорам лояльную либо невинную окраску. О денежной реформе, например, Макаров дал такие показания: «О переделе-де малых серебряных денег в рублевики и якобы то делаетца от иноземцов ко вреду государства, с Самгиным и з другими ни с кем никогда не говаривали». Более того, Макаров, по его словам, с похвалой отозвался о реформе: «И то-де изрядно для того, что-де мелкая монета тратитца».
Макаров и его супруга отрицали разговоры с кем-либо о преимуществе «иноземцов над российскими, о патриаршестве и Синоде». Что касается хлебного недорода и последовавшей за ним «скудости народной» (речь идет о неурожаях, поразивших огромную территорию Европейской России в 1733–1736 годах), то Макаров об этом «говаривал, сожалея о крестьянех, что хлеб не родился».
Как ни стремился Прокопович – а вместе с ним и Остерман – придать процессу политический характер и представить Макарова главой заговора, этого ему сделать не удалось, что, однако, не помешало держать Макарова и его семью под домашним арестом. В 1736 году умер главный обвинитель Макарова в этом процессе – Феофан Прокопович, но это обстоятельство не принесло облегчения Алексею Васильевичу и его семье. Сказывалась, видимо, сила инерции, свойственная бюрократическому механизму, – его колесики продолжали вращаться в направлении, раз им приданном. Кроме того, и это главное, у кормила правления оставались два грозных противника Макарова – императрица и Остерман.
3 апреля 1736 года Алексей Васильевич подал императрице челобитную: год и пять месяцев он с семьею содержится «за крепким караулом, и пожитки не токмо мои и детей моих и платьишка, но и племянников моих, умершего брата пожитченки ж, платье и прочее тленное в нижней палате запечатаны и от сырости гниют»; без писем и вотчинных документов «деревеннишки мои от посторонних разоряютца, и оправдатца без крепостей нечем». Макаров просил императрицу: «…из-за караула нас освободить, такоже и пожитченки наши распечатать, а по делу моему милостивое решение учинить».
Ответа на челобитную не последовало. Прошло еще восемь месяцев, и Макаров обратился с новой жалобой на суровые условия заточения: «…и не только к нам кого, но и нас до церкви Божии не допускают». Великодушие императрицы не простерлось дальше разрешения пользоваться опечатанными вещами, но без права их продажи и посещать церковь: «…по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь Божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено».[510]
Видимо, с этой же челобитной были связаны изменения в судьбе конфискованных писем и прочих документов Макарова. Вопреки инструкции Извольскому немедленно доставить опечатанные бумаги Макарова в столицу они почти три года покоились в Москве. Лишь в сентябре 1737 года четыре сундука, две скрыни и две коробки с документами были привезены в Петербург. Понадобилось еще пять месяцев, чтобы Остерман удосужился повелеть Тайной канцелярии разобрать их, разделив на две категории: в первую включать «сумнительные» материалы, то есть те, которые, возможно, пригодятся следствию; во вторую – документы, в которых «важности никакой не явилось»: крепости, векселя, ведомости, купчие и прочие бумаги хозяйственного содержания.
Медлительность Остермана красноречива. Она свидетельствует о том, что следствие не располагало обличительным материалом, чтобы отправить Макарова в ссылку или на эшафот. Отметим в этой связи, что приговор по делу монахов, к которому был привлечен Макаров, вынесли и привели в исполнение в конце 1738 года: Яков Самгин и Григорий Зворыкин после вырезания ноздрей были сосланы – первый на Камчатку, второй в Охотск. Понесли наказание и прочие подследственные. Только у одного Алексея Васильевича никаких перемен: его продолжали держать под домашним арестом, правда несколько ослабив режим.
Остается предположить, что у Остермана и императрицы были какие-то надежды привлечь Макарова к громкому процессу бывших «верховников», пытавшихся ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны еще в 1730 году. В 1739 году подвергся мучительной казни Артемий Петрович Волынский, первым осмелившийся решительно выступить против засилья немцев при дворе и громогласно заявивший: «Государыня у нас дура». Быть может, тюремщики Макарова надеялись, что кто-либо из Долгоруковых или Голицыных либо Волынский с сообщниками под жестокими пытками назовут и его имя. Этого не случилось.
Существует мнение, что Макаров был помилован. Оно основано на челобитной, поданной в 1741 году сыном Алексея Васильевича Петром. В ней он писал, что по именному указу «показанной отец мой всемилостивейше освобожден, а в прошлом 740 году волею Божиею умре». Однако из справки Тайной канцелярии следует, что указа «о свободе оного Макарова ис под караула» не было. В июне 1740 года, то есть накануне смерти, Макаров подал челобитную Кабинету министров «о сотворении с ним милости», но она осталась без последствий.[511]
Таким образом, Алексей Васильевич Макаров испытал в полной мере жестокость мрачного времени, когда трон занимала Анна Иоанновна, а страной правил Остерман. В последнее десятилетие своей жизни он стал жертвой «остермановщины» и предстает перед нами как трагическая личность. Макаров принадлежал к числу первых русских людей, поднявших голос против немецкого засилья. Этот голос был еще глухим и робким, но спустя несколько лет его подхватил решительный и энергичный Артемий Петрович Волынский.
Савва Лукич Владиславич-Рагузинский
«Московскому государству благопотребен»
В первых числах ноября 1702 года недалеко от Азова бросил якорь торговый корабль. Понадобилось 25 дней, чтобы он преодолел расстояние от Константинополя до русской крепости. Северный ветер отогнал воду от берега, и даже небольшое судно не могло пришвартоваться у стен города. Через несколько дней новая беда – необычайно рано начавшийся ледостав грозил гибелью и кораблю, и находившимся в трюмах товарам. Купец обратился за помощью к местным властям. Неискушенный в морском праве азовский воевода Степан Богданович Ловчиков ломал голову, как ему поступить.
Перед воеводой, прикованным параличом к постели, предстал средних лет статный мужчина с приветливой улыбкой. Внешний вид приезжего – тонкие черты лица, украшенного роскошными усами и копной вьющихся волос на голове, энергичный рот и выразительные глаза, излучавшие доброжелательность, изысканные манеры – располагал к себе собеседника. Но Ловчиков не поддался обаянию заезжего купца. Его одолевали сомнения: с одной стороны, приезжий предъявил рекомендательное письмо главы русского посольства в Османской империи Петра Андреевича Толстого, в котором посол аттестовал вручителя человеком «изящным», усердно оказывавшим услуги прежним посольствам и ему, Толстому. С другой – воеводу, человека подозрительного, неотступно преследовала мысль: быть может, это вовсе не коммерсант, а турецкий соглядатай, по терминологии того времени – шпик, предъявивший поддельное письмо, и прибыл он в пограничный город, быть может, совсем не для торговых дел. Ловчикова, видимо, смутило и то обстоятельство, что Толстой лестно отзывался о человеке, которого, по собственному признанию, никогда не видел.
Воевода пригласил офицеров-иноземцев и спросил, какие меры принимают в подобных случаях в европейских портах. Те ответили: «Если бы де в их государствах так учинилось, и они б де тому кораблю погибнуть не дали и ввели в гавань, потому что де бывают от того великий стыд и зазрение».[512] Ловчиков принял неотложные меры – корабль был приведен в гавань и разгружен. Среди привезенных товаров общей стоимостью в 8 тысяч рублей оказалось 700 пудов деревянного масла, 300 пудов оливок, кумачи, бумага, изюм, кушаки, венецианские зеркала, 20 бочек сельдей, 15 тысяч лимонов и пр. На берег сошли и три иноземных специалиста морского дела и кораблестроения, нанятые купцом на русскую службу. Помимо товаров и специалистов купец, как увидим позже, привез в Россию свой незаурядный талант.
Прибытие торгового корабля в недавно завоеванный город было событием столь необычным, что воевода немедленно донес о случившемся в Москву. Он не преминул сообщить, что купец изъявил желание отправиться с товарами в столицу, но в Азове нет ни подвод, ни лошадей.
В Москве были осведомлены об этих планах купца, ибо там было получено письмо, отправленное сменившим Голицына русским послом Петром Андреевичем Толстым еще 25 сентября 1702 года. Толстой отзывался о купце так: он «человек добрый, ныне по обнадеживанию моему поехал с товаром в Азов, а из Азова к Москве и просит о нем написать. Яви к нему милость, – обращался посол к руководителю внешнеполитического ведомства Федору Алексеевичу Головину, – а он всеконечно во странах сих Московскому государству благопотребен». На основе этой информации на запрос Ловчикова из Москвы последовал ответ: срочно купить лошадей и отправить купца в столицу.
Пока велась переписка воеводы с Посольским приказом, в Азове и Таганроге шла бойкая торговля. Близилась весна, и купец пожелал отправиться на север Доном. Гонец доставил указ: «Будары с товаром пропускать к Москве без задержания». Наконец 26 марта 1703 года купец прибыл в Москву и в Посольском приказе рассказал о себе: «Родом он шклявонской земли владение Речи Посполитой Рагузинской… благочестивой греческой веры. Отец у него был в той земле шляхтич, имел под собою семь сел, и ныне он жив. И тому ныне з десять лет поехал он из Рагузы в Венецию, а из
Венеции в Царьград с товары для торгового промыслу и жил в Цареграде для торгового промыслу». Цель своего приезда в столицу России он объяснял стремлением повидать Московское государство «и для торгового своего дела»[513]. Так состоялась первая встреча Саввы Лукича Владиславича, в русских документах чаще всего называвшегося по месту своего рождения Рагузинским, с официальными лицами Посольского приказа. Заочное же знакомство русского правительства с Владиславичем состоялось года на три ранее. Во всяком случае, в марте 1699 года царь отдавал Федору Юрьевичу Ромодановскому следующее предписание: «По прошению Савы Рагузинского изволь учинить не мешкоф о лисицах (о чем пространнее писал к тебе Федор Алексеевич), и сие изволь, конечно, учинить, не описываясь паки».[514]
Руководитель приказа Федор Алексеевич Головин, находившийся в это время вместе с царем в Шлиссельбурге, получив известие о прибытии в Москву Владиславича, распорядился «чинить ему довольство и быть ему, пока быть захочет».[515] Гостю было велено выдавать по полтине в день кормовых денег, а его четверым спутникам – по восемь денег (четыре копейки) каждому. Лошади Саввы Лукича тоже были взяты на государственное содержание.
Сведения о жизни Владиславича до появления его в России крайне скудны. В русских источниках они, естественно, отсутствуют, а в Рагузе (совр. Дубровник), где он родился, катастрофическое землетрясение 1667 года и многократные вторжения османов уничтожили архивы. Автор специального исследования о Владиславиче, сербский историк Иован Дучич, опубликовавший монографию в 1942 году, затруднялся назвать точное время его рождения и ориентировочно полагал, что он родился в 1664 году. Тщетно искать время рождения Владиславича в отечественной литературе – оно не указано вообще. Однако опираясь на свидетельство самого Саввы Лукича, можно установить точную дату – он родился 16 января 1669 года.[516] Отец его в Рагузской республике владел деревнями, но, преследуемый османами, стал заниматься купеческим промыслом и имел два торговых дома – один в Дубровнике, другой в Венеции. Сам Савва, видимо, в юношеские годы покинул Дубровник и вел торговлю во Франции, Испании и Венеции, а затем, как он сам писал, «во владение турское приехал и там купеческий дом девять лет под обороной непобедимого французского короля имею».
Доброжелательное отношение и предупредительность, с которыми Владиславича встретили на русской земле, объяснялись двумя обстоятельствами. В 1702 году, когда Савва Лукич впервые появился в России, страна переживала едва ли не самый тяжелый период Северной войны. Были еще свежи в памяти последствия поражения русских войск под Нарвой. И хотя Борис Петрович Шереметев начал одерживать первые победы над шведами и Петру удалось овладеть мощной крепостью Шлиссельбург у истоков Невы, ее устье все еще находилось в неприятельских руках. Следовательно, выход в Балтийское море был закрыт.
Петр еще до начала Северной войны утвердился в Азове и намеревался превратить его в порт для торговли со странами Западной Европы. Однако Керченский пролив, как и Босфор с Дарданеллами, находился в руках османов, враждебно относившихся к стремлению России использовать Черное море для торговли не только с Западом, но даже и с самой Турцией. В ответ на обращение России с просьбой разрешить плавание ее торговым кораблям по Черному морю в Константинополе соглашались лишь на пропуск товаров по традиционному сухому пути через Молдавию, Валахию и Балканы и при этом заявляли: «Салтаново величество имеет Черное море яко дом свой внутренний, а никого внутренний дом свой не может пустить чужеземца»[517]. В лучшем случае можно было рассчитывать на разрешение пользоваться турецкими судами. Чтобы еще более укрепить запоры в «доме», в Константинополе вынашивались планы перекрытия Керченского пролива дамбой или, на худой конец, сооружения в проливе искусственных островов с установкой на них и на берегах мощных артиллерийских батарей.
В этих условиях прибытие в Азов иноземного купца на корабле не могло не вызвать в Москве радужных надежд на превращение города в важный торговый пункт на юге страны. Вспомним, как ласково было встречено позже появление в Петербурге первого иностранного корабля с вином и солью – царь велел петербургскому губернатору Меншикову щедро наградить шкипера и всю команду.
Но заботливое отношение русского правительства к Владиславичу объяснялось не столько тем, что ему первому удалось добиться разрешения султана на морской путь в Азов, сколько высоко оцененными в Москве услугами, оказанными Саввой Лукичом русским посольствам. У русских дипломатов, соприкасавшихся с Владиславичем, сложилось прочное мнение о нем как о верном друге России, готовом рисковать жизнью ради ее интересов. Именно с могущественной Россией Владиславич связывал свои мечты об освобождении христианских народов, в том числе и его родной Рагузы, томившейся под игом «неверных» османов. Поэтому он, имея обширные связи не только в торговых, но и в придворных кругах Царьграда, глубоко изучает внутреннюю жизнь Порты и ее внешнюю политику, в меру своих сил оказывая разнообразную помощь русским послам.
Условия жизни русских послов в Османской империи напоминали режим заключенного. Султанское правительство бдительно следило за каждым шагом посла, лишало его общения с внешним миром, задерживало курьеров, а в месяцы обострения русско-турецких отношений отправляло послов и их свиту в тюрьму Едикуле, или, как называли ее русские источники, в Семибашенный замок. Трудно переоценить бескорыстные услуги Владиславича, снабжавшего русских послов сведениями о намерениях султанского двора, придворных интригах вокруг русско-османских отношений, о происках французского и английского послов против России, о состоянии сухопутных и военно-морских сил Турции и т. д.
Первым русским послом, с которым Владиславич установил личные отношения, был думный дьяк Емельян Иванович Украинцев. Опытного дипломата Украинцева Петр в 1699 году отправил в Константинополь для заключения мирного договора. Глубокая заинтересованность России в мирных отношениях с агрессивным южным соседом объяснялась тем, что заключение договора развязывало ей руки для борьбы со Швецией. Поэтому царь просил, умолял, заклинал своего посла поспешить с завершением переговоров. «Не мешкав, зделай, как Бог помочи подаст», – писал он послу. В другом письме: «Только конечно учини мир: зело, зело нужно»[518].
Сначала Украинцев проявлял по отношению к Владиславичу осторожность, исходя из того, что «двора султанского все министры люди хитрые и лукавые и обыкли всякие тайны выведывать у чюжеземных послов чрез всяких подсыльных». Однако вскоре Емельян Иванович убедился, что Владиславич не принадлежал к «подсыльным» и верно служил интересам России. Он помогал послу как мог: предостерегал от опрометчивых действий, снабдил навигационной картой Черного моря и сведениями о современном состоянии Порты, отправлял своих людей в Москву с донесениями Украинцева, выполнял повседневные задания, помогавшие послу ориентироваться в обстановке. Устроил он и тайное свидание переводчика русского посольства с посланником Венеции. Предварительно он переодел переводчика в свою одежду, чтобы, как писал позже Владиславич, «турки ево не познали». Наконец, Савва Лукич помог русским купцам распродать товары в Константинополе.
Миссия Украинцева завершилась успешно – в июле 1700 года он заключил тридцатилетнее перемирие с Турцией. Получив известие об этом, Петр тотчас двинул войска для осады Нарвы.
Владиславич установил контакт и со следующим послом, Дмитрием Михайловичем Голицыным, отправленным в Константинополь для переговоров о торговле через Черное море. Попытки Голицына заключить торговый договор с османами и добиться права пользования Черным морем русским торговым кораблям не увенчались успехом. Тем не менее деятельная помощь Владиславича была высоко оценена Голицыным. «И я как вашей милости по приезде объявил, так и ныне объявляю, – писал Голицын Головину, – что он человек доброй и в бытность мою Адреанопольскую явил службу государю, а паче мне, и сам, ваша милость, известен чрез Емельяна Украинцева, в каком он служении был».[519]
В ноябре 1701 года в Константинополь прибыл третий посол – Петр Андреевич Толстой. В отличие от предшествующих послов, приезжавших с разовыми поручениями и покидавших страну сразу же по окончании переговоров, Толстого царь отправил туда своим постоянным представителем. Новшество в дипломатических отношениях с Портой султанский двор встретил враждебно. В Константинополе рассуждали: «Никогда московский посол здесь не живал, и сей де посол живет непросто. Иных де государей послы живут для торговых своих дел, а у сего никакого дела нет». Османы, доносил Толстой, опасаются «от меня согласия с хрестияны, под игом их пребывающим».[520]
Не было ни одного донесения Толстого за первые годы его пребывания у османов, в котором он не жаловался бы на чинимые властями притеснения: у дома посла был поставлен караул янычар, «будто для чести, а все для того, чтобы християне ко мне не ходили»; «в великой тесноте живу»; «едино Богу известно, как живу и какое терплю утеснение»; «ничем разнитца житие мое от заключение».
Между тем Толстой перед отъездом в Турцию получил инструкцию, составленную самим Петром. Царь хотел знать состояние османской армии и флота, обучают ли конницу и пехоту по старинке или пользуются услугами европейских офицеров, а также сколь серьезны намерения засыпать Керченский пролив, чтобы навсегда отрезать русским выход к Черному морю.
До своего отъезда в Россию Владиславич не встречался с Толстым. Тем не менее он поддерживал связи с ним через своих «приятелей», организовывал доставку донесений Толстого в Москву и предписаний Головина в Константинополь. Осторожный и в то же время проницательный дипломат, Толстой разгадал в Савве Лукиче ревностного друга России. 25 сентября 1702 года, то есть накануне отъезда Владиславича, Толстой обратился к Головину с просьбой «явить к нему милость, а он всеконечно во странах сих Московскому государству благопотребен и ныне, государь, при отъезде своем прислал ко мне некоторые потребные ведомости». В другом донесении: «Он человек искусен и на многие тайные вещи ведомец».[521] Этот человек действительно с непостижимой проницательностью умел разбираться в людях и безошибочно определял, кому можно довериться, на кого можно положиться, чтобы получать сведения, столь необходимые России. На основе данных, полученных от Владиславича, Толстой прислал в 1703 году пространное «Описание турецкое о кораблях».
Будучи в Москве, Владиславич пожелал встретиться с царем, находившимся в это время в Шлиссельбурге. Федор Матвеевич Апраксин спрашивал у царя: «Без указу его отпускать не смею. Укажи, что с ним делать?» Тут же лестная аттестация Владиславича: «А человек зело надобный, и сведом на тамошние дела, и не глупова состояния». Петр отвечал: «Рагузинскому лутче дождаться нас там», то есть в Москве.[522] Получилось, однако, так, что свидание царя с Владиславичем состоялось в Шлиссельбурге.
Источник не сообщает содержания разговоров между русским царем и сербским патриотом. С уверенностью можно сказать, что Владиславич произвел на царя самое благоприятное впечатление. Петр, как известно, владел редким даром угадывать таланты и умением использовать способности полезных для дела людей. Во Владиславиче он обнаружил не только обаятельного собеседника, но и делового человека, образованного, с широкими политическими взглядами, надо полагать развернувшего программу борьбы христианских народов против османских поработителей. Петру, несомненно, импонировали идеи, развивавшиеся Владиславичем, – ведь османы были традиционными противниками России и борьба подвластных им народов ослабляла их силы. Импонировали царю и такие качества Владиславича, как южный темперамент, лишенный, впрочем, бахвальства, здравый смысл в суждениях, опиравшихся на знание обстановки в Османской империи. Словом, Владиславич завоевал симпатии русского царя. Отражением этой благосклонности явилась выданная Владиславичу жалованная грамота на право свободной торговли во всех городах России.
Итак, в глазах царя и его окружения Владиславич выглядел человеком, заслуживавшим благосклонного отношения. Свою репутацию верного и весьма полезного слуги России он снискал тем, что сочетал глубокое знание турецких дел с практической деятельностью, столь же необходимой, сколь сложной и опасной.
Совсем по-иному характеризовали его английский и французский дипломаты. Им он представлялся интриганом и авантюристом, человеком, скорее приноравливавшим «свой ум к вкусам и стремлениям двора, которому служит, чем вникающим в действительное положение вещей».[523]
Нелестная аттестация Владиславича станет понятной, если мы учтем, что его деятельность и не могла быть оценена иначе, ибо она противоречила интересам Англии и Франции, использовавших всякую возможность ослабить Россию в ее борьбе за выход к Балтийскому морю. Представители обеих держав при султанском дворе с настойчивым постоянством науськивали османов на Россию. Иностранные дипломаты были, кроме того, чужды пониманию побудительных мотивов, которыми руководствовался Владиславич, отдавая свои способности и энергию на службу России. Они относили его к числу наемников-авантюристов, тысячами бродивших по Европе тех времен и предлагавших свои услуги тем, кто больше заплатит. Между тем жизнь и деятельность Владиславича проникнуты глубоким патриотизмом, ненавистью к поработителям и надеждами на Россию в борьбе за освобождение своей родины. Это, разумеется, не исключает наличия у Владиславича черт авантюриста. Риск всегда соседствует с авантюрой, и авантюра не что иное, как риск, закончившийся неудачей.
Распродав товары, Владиславич отправился в обратный путь. Ему было разрешено закупить тысячу пудов первосортной пеньки, пятьсот пудов смолы, тысячу пудов железа, а также сибирские меха. Посольский приказ переправил через Владиславича пушнину для Толстого на 5 тысяч рублей. Перед отъездом в Константинополь он получил от правительства уйму различных поручений.
В феврале 1704 года Владиславич был уже в Константинополе. Его коммерческие дела шли не блестящим образом. «Прибыли надежда малая видитца», – писал он. Поэтому Владиславич решил изменить ассортимент закупаемых в России товаров и просил Головина ко времени его возвращения подготовить для вывоза только меха и «рыбей зуб» на 20 тысяч рублей. О себе сообщал, что «во всякой тишине обретаюсь», то есть находился вне подозрений у османских властей. Последние, кстати, пытались у него выведать сведения о царе, состоянии русской армии и ходе военных действий на театрах Северной войны. Владиславич ссылался на свою неосведомленность, но настойчиво внушал туркам мысль о могуществе России, якобы располагавшей полумиллионной армией, и в то же время о ее миролюбии по отношению к Порте.[524]
Второй приезд Владиславича в Москву состоялся в январе 1705 года. Он прибыл «с письмами посла Петра Толстого и с иными тайными делами», как написано в его обстоятельном донесении. В нем он отчитался о выполнении правительственных поручений. Не всюду ему сопутствовала удача. Так, ему не удалось нанять парусных мастеров, «потому что те мастера все турки и армяне и к Москве ехать не хотят». Турецких купцов он соблазнял выгодами торговли в Азове, но результатов пока никаких. Впрочем, Владиславич полагал, что «то дело помощию Божию и паки временем зделаетца». Вел он переговоры и с французским послом о торговле с Россией через Балтийское море. Тот отнесся к предложению положительно, но сам Владиславич на выполнение обещаний не уповал – Франции, считал он, поглощенной войной с морскими державами, «того дела… недосуг делать». Зато ему удалось нанять на русскую службу опытного кораблестроителя, выкупить из плена преображенца Федора Тимашова, приобрести для правительственных нужд палатки и бумагу. Наконец, он привез несколько мальчиков-арапов. Один из них, Ибрагим Петров, – дед великого Пушкина. Корабль доставил в Азов и товары для продажи в России.[525]
Покинув Турцию в конце 1704 года, Владиславич более туда не возвращался – видимо, пребывание его в Константинополе стало опасным. С тех пор Савва Лукич прочно обосновался в России и жил в ней с перерывом до конца своей долгой жизни. «Желаю жити и умерети на службе царского пресветлейшего величества», – писал он Головину в июле 1705 года.[526] На обретенной им второй родине он продолжал заниматься торговлей. Судя по документам, по меркам того времени талантами коммерсанта Савва Лукич не обладал. Там, где надо было быть подозрительным и осторожным, он проявлял излишнюю доверчивость; в тех случаях, где надлежало поступиться совестью, он выказывал щепетильность и в результате становился жертвой своих коллег, не обремененных предрассудками. Словом, в коммерческих делах он отличался профессиональной чистоплотностью, чего нельзя сказать о его коллегах, бессовестно злоупотреблявших его доверием. Ему не чужды были представления о честности, порядочности и человеческом достоинстве. В одном из писем он, отвергая подозрения во взяточничестве, писал о себе: «И как родился, ничего за бездельные взятки не делал, ибо честная моя природа, человеческая опасность и, по милости всевышнего Бога, домашнее достоинство никогда меня к таким непорядкам не допускали». В другом письме он осуждал лицемерие корреспондента и в образец ставил себя: «Как я родился, что с моими приятелями никогда не умел лицемерить, но обходитца сущею правдою».[527]
С такими качествами купцу тех времен, считавшему, что в основе ремесла, которым он занимался, лежало примитивное надувательство, пришлось бы туговато. Между тем торговый дом Владиславича процветал, и к концу жизни его глава сколотил такое состояние, что слыл одним из самых богатых людей России. Какими способами?
Источником богатства Владиславича являлись прежде всего царские пожалования и щедро предоставляемые ему торговые льготы и привилегии. Чтобы барыши ручьями текли в карман, Владиславичу оставалось не прозевать выгодной рыночной конъюнктуры, проявить расторопность в закупке нужных товаров и своевременно доставить их в порт к прибытию кораблей. Монопольное положение позволяло ему диктовать выгодные цены на товары, закупаемые внутри страны и при продаже их за границей.
Всю черновую работу выполняли приказчики. Но не чурался ее и Владиславич, он не был домоседом и с легкостью отправлялся в дальний путь. Тяготы путешествий тех времен его, кажется, не обременяли, и Савву Лукича можно было встретить в далеко отстоявших друг от друга городах: Нежине и Вологде, Казани и Петербурге, Москве и Киеве.
Немалые доходы Савве Лукичу приносили подряды и откупа, то есть теснейшие деловые связи с казной. При заключении контрактов на подряды он получал авансы от казны – половину подрядной суммы, чем существенно увеличивал свой оборотный капитал. Кое-что ему перепадало и при выполнении финансовых поручений правительства. Заметим, кстати, что честность и обязательность облегчали Владиславичу выполнение этих поручений – его кредитоспособность высоко котировалась в купеческом мире стран Западной Европы.
Благожелательность Петра Владиславич использовал многократно. Жалованной грамотой 1703 года он не удовольствовался и, приехав во второй раз в Москву, обратился к царю с просьбой вознаградить его за оказанные России услуги выдачей трех тысяч пудов икры, а также новой жалованной грамоты на пергамене. «И приписати б некоторые два слова, которые надобны». Сведениями о получении икры мы не располагаем, а «два слова» на пергаменной грамоте, выданной в апреле 1705 года, обнаружить нетрудно – к населенным пунктам, где Владиславичу разрешалось беспрепятственно торговать, были добавлены «малороссийские городы»[528]. Из переписки Владиславича за 1705–1711 годы явствует, что он совершал торговые сделки преимущественно на Украине и главная контора его фирмы находилась в Нежине.
Царь охотно откликался на просьбы Владиславича. В апреле 1707 года он писал азовскому губернатору Ивану Андреевичу Толстому: «Господину Саве в его торговом деле чини всякое вспоможение». Губернатор отвечал царю: «Господину Саве в торговом ево деле всякое вспоможение чинится». В 1709 году Савва Лукич взял на откуп индукту, то есть сбор пошлин на ввозимые на Украину товары. В следующем году на Украине свирепствовало моровое поветрие; торговля, естественно, сократилась, следовательно, уменьшился и сбор индукты. Царь велит гетману Скоропадскому с Владиславичем «снисходительнее поступать… дабы ему в том не было разорения».[529]
Савва Лукич был своим человеком при дворе Петра и встречался с ним довольно часто: то во время пирушек, то выполняя его заказы на поставку заграничных товаров для царского обихода – бархата и материй для гардероба, различного рода инструментов, вин и т. д. В 1708 году он отправил царю доставленные из Турции «некоторые немногие закуски тамошнего строения».
В этих условиях двери правительственных учреждений были широко открыты для Владиславича, что облегчало как торговые сделки, так и заключение контрактов на подряды и откупа.
В 1706 году на обоз, сопровождаемый приказчиком Владиславича, напали разбойники и отбили сани с деньгами и товарами. Если бы челобитную подал ординарный купец, то ее наверняка захоронили бы в ворохе бумаг и претензии истца остались бы неудовлетворенными. В случае с Владиславичем правительственные инстанции проявили такую оперативность, что быстро обнаружили виновников, и тут же казна компенсировала понесенные убытки, а уплаченную сумму взыскала с помещика, чьи крестьяне разбойничали.[530]
В 1707 году царским указом Владиславичу велено было поставить 200 тысяч аршин сукна для экипировки драгунских полков Меншикова, причем покупал он сукно не на свои деньги, а на вырученные от продажи казенных мехов 15 тысяч рублей.[531] Совершенно очевидно, что посредническая операция принесла Владиславичу немалые барыши.
Привилегированное положение Владиславича-коммерсанта позволяло ему извлекать прибыли из операций, недоступных рядовому купцу. Вывоз хлеба из России был запрещен. Однако в порядке исключения Петр разрешил Савве Лукичу закупить на экспорт 8 тысяч четвертей пшеницы.[532] Операция, надо полагать, оказалась выгодной, и Владиславич повторил ее в 1713 году. В компании с английским купцом Гутфелем Владиславич взял на откуп торговлю товарами, продажа которых за границу находилась в государственной монополии, а именно поташа и мачтового леса. Откупная сумма по реализации одного только поташа составляла десятки тысяч рублей.[533]
Щедрость царя в выдаче Владиславичу пожалований и привилегий станет понятной, если мы напомним, что Владиславич, живя в России, продолжал полезную службу консультанта по турецким делам. Сведения о том, что происходило при султанском дворе и каковы были его намерения, он получал, как сам выражался, от своих «приятелей», живших в Константинополе. Они же выполняли обязанности курьеров, они же снабжали Толстого интересовавшими его сведениями. Правда, «приятели» Саввы Лукича не могли в полной мере восполнить его отсутствие и проявляли во встречах с Толстым осторожность, иногда оставляя его на долгое время без необходимой информации.
В апреле 1705 года русский посол доносил Головину: «И зело мне прискорбно, что в такое нужное время не имею такова верного и добросердечного приятеля, как был здесь господин Савва Владиславович, и, чаю, чтобы он в таком нужном времени вящее показал доброе сердце».[534] Впрочем, прервавшиеся связи были вскоре восстановлены, и уже в следующем году Толстой дважды выражал полное удовлетворение услугами «приятелей» Саввы Владиславича. В одном из донесений Головину за 1706 год Толстой писал: «Приятели, государь, господина Савы вельми усердно работают в делах великого государя, и воистинно, государь, через них многие получаю ведомости потребные, понеже чистосердечно трудятся без боязни и от меня никакие заплаты не требуют, ниже чего просят, токмо говорят, что работают и работать будут по повинности своей к господину Саве».[535]
Важные новости из Константинополя получал и Савва Лукич, чтобы тут же поделиться ими с руководителем внешней политики: «А что ко мне особливые друзья пишут, то все благополучно и к мирному разорению еще знака нет».[536] В иных случаях он давал дельные советы дипломатического характера. В 1706 году, когда войска Петра двинулись из Гродно к Киеву, Владиславич считал, что сосредоточение русских сил у южных границ вызовет беспокойство османов. Поэтому он настоятельно рекомендовал «объявить и уведомить (султанский двор. – Н. П.), что то войско царского величества не идут за Днепр, но на Русь».[537]
В день решающей битвы под Полтавой в июне 1709 года Владиславич не находился при армии. Есть, однако, сведения, что в этом году он по крайней мере дважды встречался с царем: в феврале ездил к нему по собственной инициативе, так как «сего часу с нарочным гонцом получил из Константинополя нужнейшее письмо его царскому величеству», а в июле, то есть уже после Полтавской победы, его по каким-то делам к армии вызвал сам Петр.[538]
Царь не пожалел денег, чтобы наградить участников Полтавской виктории. Не был обойден и Владиславич. В феврале 1710 года он получил вотчины, конфискованные у двоих мазепинцев.[539] В том же году ему был пожалован чин надворного советника. Оба пожалования составляли важную веху в жизни Владиславича. Первое из них приумножило богатство Саввы и превратило его в феодального землевладельца; второе обеспечило ему официальный чин, оформило положение, которое он фактически занимал в дипломатической службе России. В итоге серб Владиславич влился в ряды российского дворянства.
1711 год памятен в истории России злополучным Прутским походом. В нем участвовал и Савва Лукич, причем не в роли стороннего наблюдателя, а в роли человека, находившегося в гуще событий и оказывавшего влияние на их развитие.
Уже в предшествующем году в Порте шла напряженная борьба вокруг русско-турецких отношений. Чаша весов не без помощи французской дипломатии, шведского короля и в особенности крымского хана постепенно склонялась в пользу сторонников войны. Симптомом недобрых намерений османского правительства было отсутствие ответов на две миролюбивые грамоты царя. Возобновились набеги крымских татар, активность которых всегда предвещала ухудшение русско-османских отношений.
Подготовка к войне не являлась тайной в Османской империи. Константинопольский корреспондент информировал Владиславича, что ночью 13 октября 1710 года «явися на небеси звезда с хвостом». Появление кометы было истолковано как недоброе предзнаменование: «Царьград будет поборен и взят».
Помимо астрологических предсказаний Владиславич сообщил русскому правительству и более существенные сведения: «християне от турков зело озлоблены и умучены суть»; если бы царь двинул войско против османов, то все порабощенные христиане немедленно восстали бы. Эту мысль, как доложил Владиславич, «некоторый поэт» выразил тяжеловесными стихами:
Пес турский и шведский выет,
А царь Московский обоих по главе биет.
Причастность Владиславича к Прутскому походу выразилась прежде всего в составлении им плана кампании. Хотя документ, известный под названием «Проект плана ведения войны 1711 года», никем не подписан и не датирован, не приходится сомневаться, что его автором мог быть только Владиславич. Только он способен был подробно развивать идею борьбы против Порты подвластных ей славянских христианских народов. Отвлекающие удары надлежало нанести на Кубань и Крым, что позволило бы приковать османские силы к Анатолии, а крымских татар лишить возможности совершать набеги на тылы русской армии. Главное направление – в сторону Ясс и Валахии. И далее – излюбленная Саввой Лукичом тема об отправке царских грамот в Албанию, Македонию, родную ему Рагузскую республику и даже в Венецию с призывом к восстанию, «понеже ныне пришло время избавления их от подданства туранского». Кому как не Владиславичу могла прийти в голову мысль отправить в Рагузу жившего в глуши суздальского дьякона Петра Сербенина, человека, лично известного автору проекта, ибо сказано, что он «не глуп и тамошних стран уроженец, и многих тамо из главных знает».
Идеи Владиславича вдохновили Петра. Царь уверовал в могущественную поддержку славянских и христианских народов. В этом можно убедиться, сопоставив приведенные выше высказывания автора плана с рассуждениями самого царя: «Сербы (от которых мы такое же прошение и обещание имеем), також и болгары и иные христианские народы против турка восстанут, и они к нашим войскам совокупятся, иные же внутрь их, турской, области возмущение учинят, что увидя, турской везирь за Дунай пойтиить не отважится, и может быть, что и бунт учинят».
У нас нет оснований считать план Владиславича лишенным почвы. Поспей русские войска к Дунаю раньше, и события, видимо, развивались бы в соответствии с планом: у валашского господаря Бранкована не было бы оснований для колебаний, и он, возможно, не перешел бы на сторону османов, а остался верным России, поднялись бы на борьбу болгары. Но в том-то и дело, что историк не имеет права пользоваться сослагательным наклонением. Жизнь опрокинула, казалось бы, здравые мечты Владиславича: события развивались не так, как пророчил Савва Лукич.
Из всех расчетов реальными оказались два: молдавский господарь Дмитрий Кантемир открыто перешел на сторону России, а в Сербии поднялось мощное антитурецкое движение. Владиславич имел прямое отношение к обоим событиям.
В начале мая 1711 года, когда армия Шереметева находилась в районе Немирова, царь отправляет к отличавшемуся медлительностью фельдмаршалу двух лиц – князя Василия Владимировича Долгорукого и Савву Лукича Владиславича. Главная задача первого состояла в том, чтобы торопить фельдмаршала с продвижением на юг. Задача Владиславича определена одной фразой: «Да для советов в тамошних делах посылаем надворного нашего советника господина Саву Рагузинского». Сам Савва Лукич понимал свое поручение так: он определен «от лица его величества министром и советником, вкупе с князем Василием Володимеровичем, ибо вскоре имеем маршировать в землю неприятельскую». Следовательно, Владиславич выполнял роль дипломатического советника при главнокомандующем русской армией.
В письмах Петра за май-июнь 1711 года имя Саввы Лукича упоминалось довольно часто: то царь велит Шереметеву вместе с Владиславичем написать обращение к валашскому господарю с призывом, «чтоб по обещанию своему к нам пристали», то спрашивает о продовольственных ресурсах края, то отвечает на тревожное письмо Саввы Лукича, предостерегавшего царя от дипломатической оплошности: ему, Савве Лукичу, стало известно, будто бы Петр, прибыв в Яссы, намеревается остановиться не в доме господаря, а у митрополита; такой поступок мог бы озлобить Кантемира. Царь заверил, что слух ложный и он конечно же воспользуется гостеприимством господаря.[540]
Эпистолярное наследие далеко не полностью отражает напряженную деятельность Владиславича в Прутском походе. Пробелы восполняет счет, предъявленный им Посольской канцелярии в июле 1711 года. Из него следует, что все связи с Кантемиром и валашскими боярами русское правительство осуществляло через Владиславича, он же финансировал курьеров в Порту, производил подношения боярам, перешедшим на сторону России. О масштабах этого рода деятельности можно судить по сумме издержек – они превышали 16 тысяч рублей.[541]
Молдавские хронисты и один источник русского происхождения упоминают об участии Саввы Лукича в мирных переговорах на реке Прут. Однако в доподлинно известном перечне лиц, участвовавших с русской стороны в переговорах, имя Владиславича не значится. Да он и не мог отправиться во вражеский лагерь, ибо османы требовали выдачи как его, Владиславича, так и Кантемира.
Часы переговоров вице-канцлера Шафирова с визирем были тревожными и для русской армии, окруженной четырехкратно превосходившими силами, и для царя, и для Владиславича. Все, однако, закончилось благополучно, Прутский договор зафиксировал сравнительно легкие для России условия мира.
После выхода армии из окружения при дворе носились слухи, попавшие в донесение английского посла Витворта, о якобы имевшем место решительном несогласии большинства генералов с планом продвижения русской армии в глубь Молдавии, но царь послушался советов Шафирова и Владиславича. Теперь генералы настаивали на наказании виновных, но Петр потребовал прекратить эти толки.
В том, что Владиславич был сторонником продвижения русской армии в глубь Молдавии, сомневаться не приходится, но Петр не имел обыкновения сваливать неудачи на других – за ним, за царем, было последнее слово, он и никто иной принимал решения, а следовательно, и ответственность за их последствия. Поэтому тщетно искать следы недовольства царя своим надворным советником. Напротив, Прутский поход нисколько не омрачил отношений между ними, и Владиславич по-прежнему пользовался царским расположением. Свидетельством тому являются последовавшие один за другим два указа, предоставлявшие надворному советнику новые торговые привилегии, а также донесения иностранных дипломатов, отмечавших уважительное отношение Петра к Владиславичу.[542]
В последующие два года напряженность в русско-турецких отношениях не ослабела. Порта располагала двумя козырями, чтобы держать Россию на грани войны: сначала султанский двор выражал острое недовольство и грозил разорвать мир из-за проволочек при передаче османам Азова и разрушении Таганрога, а затем обвинял Россию в нарушении еще одного пункта Прутского мирного договора, по которому царь обязался вывести свои войска из Польши.
Для русской дипломатии важно было знать, сколь серьезны были намерения Порты разорвать мир, в каких случаях она прибегала к шантажу и угрозам, бряцала, так сказать, оружием и когда могла пустить его в ход. Информацию на этот счет русское правительство черпало из двух источников: из донесений посла Толстого и из донесений «приятелей» Владиславича. «Все приятели ко мне единогласно пишут: ежели войска царского пресветлого величества в Польшу хотя малое число вступят, всеконечно мир разорван будет», – сообщал Владиславич в сентябре 1712 года. Аналогичного содержания донесение он отправил и царю. Интересны сведения о султанском дворе и внутреннем положении в Османской империи: «Такого непостоянства и новизны при дворе турецком никогда не бывало, как ныне обретаетца», министры меняются ежедневно, «ожидают вседневно бунта на погибель султану», сам султан проявляет крайнюю подозрительность, «все ходит инкогнито дневно и ночно» и в то же время готовится «к войне богатою рукою».
Тревожные вести, полученные Владиславичем из Константинополя в конце ноября, вынудили его оставить свои торговые дела на Украине и приехать в Москву. «Прибег к Москве, где ожидаю указа и повеления: ежели в чем услужить могу, добросердечно обещаюсь».[543]
Действительно, Порта еще дважды, в 1712-м и в конце 1713 года, объявляла России войну, которая, впрочем, так и не началась.
Другим событием, к которому было приковано внимание Владиславича в эти годы, явилось восстание в Сербии. Османы после Прутского мира отправили туда 40-тысячную армию, но каратели встретили ожесточенное сопротивление. Владиславич представлял интересы восставших перед русским правительством как во время их борьбы с османами, так и после подавления восстания, когда его руководители во главе с полковником Михаилом Милорадовичем эмигрировали в Россию. Савва Лукич многократно предостерегал русское правительство и руководителей восстания от скоропалительных шагов. Так, в июне 1712 года он рекомендовал Головкину отправить Милорадовичу письмо, чтобы он «под именем государевым против турок не воевал, ибо ис того может произойти при дворе турецком немалая противность». Но месяц спустя он от имени восставших просил о дополнительной финансовой помощи на приобретение оружия и амуниции, ибо в противном случае «многие народы погибнут от меча, огня и плена барбарского».
Восстание было подавлено, началась жестокая расправа. Жертвой этой расправы стал и брат Владиславича, замученный в плену. Руководители движения прибыли в начале 1713 года в Москву. Савва Лукич принял в их судьбе живейшее участие, ходатайствуя об определении их на русскую службу, выдаче им жалованья и т. д.
В том же 1713 году, когда османы объявили войну России, канцлер Головкин решил отправить сербов во главе с Милорадовичем на родину, чтобы они возобновили там вооруженную борьбу против общего неприятеля. Владиславич счел эту меру преждевременной, так как движение было обескровлено и организация восстания потребовала бы от России огромных затрат. К тому же, уверял Владиславич, участники движения «поступать будут осторожно, бояться, дабы царское величество с турками не помирились, от чего бы они до конца могли разоритца». Сенату эти доводы показались убедительными, и отправка сербов не состоялась.[544]
С 1714 года связи Владиславича со своими «приятелями» в Порте оборвались. Во всяком случае, среди архивных документов нам удалось обнаружить единственное донесение надворного советника по турецкому вопросу, датированное 30 июля 1714 года: «Король швецкой ис турецкой области ныне рад бы путь свой восприять во свое отечество, только турки не отпускают за причиною его упорства, а наипаче в росплате денег, которые они на него издержали, – блиско два миллиона». Османы, по сведениям Владиславича, предложили незадачливому королю издевательский план выхода из затруднения: «Пусть король уступит некоторую провинцию государства своего своим соседом, с которым турки могут заменитца». Под «соседом», несомненно, подразумевалась Россия, которая взамен земель, полученных от Швеции на севере, должна была уступить какие-то свои провинции на юге.
О пресечении источников информации сообщал Головкину и сам Владиславич, причем настолько глухо, что оставил простор для всяких догадок: «Кореспонденца ис турские земли пресечена, и каким образом оную постановить мошно, словесно донесть могу». Можно предположить, что Владиславич не успел восстановить утраченные связи, ибо вскоре выехал за пределы России, где он провел около семи лет.
В 1716 году Рагузинский покидает Россию. Отправился он в Венецию в качестве частного лица. Правда, встретившись во Франции с царем, он исхлопотал себе два рекомендательных письма: одно – правительству Венеции, другое – Рагузской республике. В челобитной царю Савва Лукич просил, чтобы в рекомендательных письмах было сказано, что он «отпущен во Италию и протчих тамошних мест ради некоторых государевых дел и для осмотрения моей фамилии». Рагузинский, далее, просил, чтобы в рекомендательном письме было сказано, что он имеет чин надворного советника и является графом иллирийским Саввой Владиславичем, «ибо я, – мотивировал свою просьбу челобитчик, – не Рагузинский, но Владиславич по фамилии, а граф илирический по деду, прадеду и отцу». Называть его Владиславичем следует еще и потому, что под фамилией Рагузинский, которой его называли в России, «там меня не знают».
Петр хотя и в урезанном виде, но все же удовлетворил просьбу Владиславича. Одно из отступлений состояло в том, что Савва Лукич просил написать, что целью его поездки являлось выполнение «некоторых государевых дел», в то время как в рекомендательном письме правительству Рагузской республики на первый план поставлены его личные дела: он отправлялся туда «как для свидания там с своими родственниками, так и для домашних своих дел, которому при том и мы некоторые туда принадлежащие дела поручили». Другое отступление касалось титула Владиславича. Рагузинский клялся, что он подлинный граф и если он обманывает, то достоин «не токмо штрафу, но и лишения живота». Царь, однако, не пожелал впутываться в родословные дела Владиславича и в рекомендательном письме ограничился употреблением чина, не вызывавшего никаких сомнений, поскольку он был пожалован ему в России, – Савва Лукич назван надворным советником.
Рекомендательные письма, даже царские, в конечном счете не изменили статуса Владиславича. Отправился он в Венецию и Рагузу не послом, не торговым представителем и даже не резидентом, а человеком, по собственному его определению, не имевшим «характера». Иногда это затрудняло его деятельность, в особенности в общении с коронованными особами и папой римским. И если бы Савва Лукич не обладал необходимым тактом, умением быстро устанавливать связи с полезными людьми, то, быть может, далеко не всегда ему сопутствовал бы успех в выполнении поручений. Но качества характера позволяли Владиславичу успешно преодолевать трудности, порожденные отсутствием официального статуса.
Рагузинский прибыл в Венецию в начале августа 1716 года. «Здешние господа и мои приятели приняли меня зело изрядно», – делился он первыми впечатлениями с Макаровым. Характерная деталь: на свою родину, то есть в Рагузскую республику, он не спешил – там он появился тринадцать месяцев спустя, в конце сентября 1717 года.[545] Объяснения причин, почему он не рвался в родные места, где находилась и его мать, в источниках нет, но, наверное, промедление было связано с опасностью попасть в руки османов. Вспомним 1711 год, когда турки на реке Прут требовали выдачи Рагузинского. Вероятно, год с лишним, проведенный в Венеции, был использован им для выяснения, насколько его пребывание в Рагузе будет безопасным.
Сразу же по прибытии в Венецию Савва Лукич окунулся в торговую жизнь города и занялся выполнением царских поручений. Они были многообразны – от закупки статуй и найма специалистов до устройства гардемарин и присмотра за их обучением, подыскания жениха царской племяннице Прасковье Ивановне и реализации казенных товаров, доставленных в Венецию из России. Это были задания, так сказать, государственного значения. Одновременно он выполнял личные просьбы царя и царицы.
Будучи в Венеции, Рагузинский спросил кабинет-секретаря Макарова, не будет ли ему, Савве Лукичу, повелений «до услуг ее величества во Италии». Ответа на вопрос долго ждать не довелось: Екатерина велела надворному советнику купить четыре собачки – «двух мохнатеньких и двух голых».[546] Снабжал он царицу и модными нарядами. Екатерина осталась довольна покупками и в 1717 году писала Рагузинскому: «Впредь просим, ежели что выдет новой моды какие дамские уборы, а именно платки и прочее, дабы старались хотя по одной штучке для пробы прислать к нам».[547]
За время пребывания в Венеции Владиславич из года в год отправлял царю и царице заморские сувениры и изделия. Их перечень свидетельствует о вкусах и потребностях царской четы. Если Екатерина довольствовалась предметами бытового назначения (платки, муфты, цветы из шелка и перьев, духи, туалетное мыло), то для Петра предназначались микроскоп, чертежи гротов, каскадов и фонтанов с переводами на русский язык их описания, сделанными Рагузинским, восемь книг на немецком языке о зданиях древнеримских театров, храмов и т. д., древесина крепких пород для токарного дела. Царю были отправлены также лорнет («очки ручные») и сукно синего и красного цвета.
Вскоре после прибытия в Венецию Рагузинский через кабинет-секретаря Макарова получил задание закупить пять-шесть тысяч раковин «разных рук» для убранства грота в Летнем саду, а также заказать у лучших итальянских скульпторов 12 статуй. Первое поручение он уточнил по сведениям, полученным у местных мастеров: для грота необходимо было не пять-шесть, а десять – пятнадцать тысяч раковин. Он их приобрел не только в Венеции, но и в Генуе, Ливорно и прочих городах Средиземноморья. Что касается статуй, то, чтобы не прогадать в цене и не ошибиться в мастерстве, Рагузинский решил для выяснения конъюнктуры «по всем италианским городам погулять».
Еще не был выполнен этот заказ, как последовал новый: «на обиход садов» лучшие венецианские мастера должны были изготовить 20 статуй на пьедесталах, четыре – «с крылами, которые употребляют на гротах, без пьедесталов» и 50 статуй «поясных с маленькими пьедесталами, называемых бусти (бюсты. – Н. П.)».[548]
Начиная с 1718 года Рагузинский ежегодно отправлял в Россию партии произведений искусства, закупленных не только им, но и торговым агентом Беклемишевым, а также Юрием Кологривовым. Последнюю партию ценного груза Владиславич снарядил в 1720 году. На этот раз на корабль были погружены предметы старинной работы, среди них две вазы, которые, по словам Рагузинского, могут быть «причтены к удивлению как за старинностию, так и за разностию каменя», а также мраморный стол. «Сей стол, – сообщал Савва Лукич, – причтен в удивление, ибо не находится другой подобный в Риме». По наведенным справкам, он был заказан английской королевой Анной, но остался невыкупленным из-за ее смерти. В этой же партии находились четыре бюста римских императоров. Общая оценка Рагузинским этих приобретений такова: «Все вышеописанные вещи суть достойные галерию какого-нибудь императора».
Самая важная акция Рагузинского связана с доставкой в Россию статуи Венеры, известной, по русским источникам, под именем Венус. Эту статую в 1718 году приобрел Юрий Кологривов, специально отправленный царем в Италию для приобретения скульптур и картин. Кологривов действовал успешно до тех пор, пока пользовался услугами современных скульпторов и живописцев. Но вот ему посчастливилось приобрести скульптуру Венеры, пролежавшую в земле, как считали, две тысячи лет. И хотя у Венус были отломаны руки и голова, значение древнего памятника вполне оценили и покупатель, и римские власти. Как только римский губернатор узнал о состоявшейся сделке, он велел взять под стражу продавшего Венус, а саму скульптуру конфисковать. Как вызволить скульптуру?
Хотя Кологривов и заявлял, что он либо умрет, либо высвободит Венус, надежды на положительные результаты его усилий были ничтожными. К операции подключился Савва Лукич, и то, что Беклемишеву и Кологривову было не под силу, он сделал играючи, без всякого напряжения. Единственное его усилие состояло в том, что ему пришлось отправиться в Рим. Там он воспользовался услугами своего приятеля кардинала Оттобони. Благодаря хлопотам Оттобони благожелательную позицию в этом вопросе занял сам папа, притязания русских уполномоченных были удовлетворены, и в итоге Венус была освобождена.
В судьбе скульптуры живое участие принял и царь. О ценности приобретения он судил со слов Владиславича, называвшего скульптуру «вещью предивной» и полагавшего, что «подобной вещи нет на свете». Получив известие об освобождении Венус, царь писал Рагузинскому: «Трудами вашими, что вы старались о свобождении в Риме из-за аресту статуи Венуса, мы довольны, о чем паки ж и х кардиналом Оттобонию и Албонию писано от министров наших с благодарением». Петр проявил заботу и о том, чтобы скульптура была доставлена в Петербург в полной сохранности. «И понеже, – велел он Савве Лукичу, – как вы сами пишете, что оная лутчая во всей Италии, того для морем послать не без опасности, дабы от погоды не пропала». Статую велено везти сухим путем в качалке до Кракова через Вену, а оттуда в специальной коляске и затем водою до границ России.
Так, однако, сложилось, что маршрут, намеченный царем, пришлось изменить, «ибо, – как объяснял Рагузинский, – в посылке оной чрез Виену приключилися многие препетии». Самая главная из них состояла в том, что цесарский посол отказал в выдаче паспорта на провоз груза через Вену без таможенного досмотра. Между тем статуя была упакована столь добротно, «что, хотя б кристальная была (кроме последнего безщастия), не повредилась бы». Поэтому Рагузинский полагал разумным везти статую «чрез Авсбургх, Берлин, Кинигсберг, Данциг и Ригу».
Маршрут, предложенный Владиславичем, был предпочтительнее еще и потому, что план царя предусматривал перевозку в летние месяцы, а Венус довелось совершить путешествие зимой, когда реки сковал лед.
Когда Венус была доставлена в Петербург, обрадованный царь уготовил ей почетное место – она была поставлена в Летнем саду, причем охранялась круглосуточным караулом.
Немало хлопот доставлял наем специалистов. Этого рода поручения царя Рагузинский начал выполнять еще до своего отъезда в Венецию. В 1715 году его агенты наняли в Италии на русскую службу пять «механистов» – так Рагузинский называл мастеров шлюзного дела. Среди них Дорофей Алемари, по аттестации Саввы Лукича, «славный механист во Италии». По приезде в Венецию Рагузинский нанял там мастера, «который искусен делать якори на полугалеры».
Поначалу царь, как известно, намеревался расположить центр столицы на Васильевском острове, причем вместо улиц там должны были быть прорыты каналы, по которым, как в Венеции, величаво передвигались бы гондолы. Повеление Рагузинскому нанять мастера, «который искусен делать гондули», видимо, было продиктовано попыткой реализовать это намерение.[549] «Гондульного мастера» Рагузинский нанял и в 1717 году снарядил в Петербург. В том же году он заключил контракт с двумя «грепцами гондульными». Позже он нанял двух фонтанных мастеров.
С наймом живописцев Рагузинскому явно не везло. В 1720 году согласился ехать в Россию Александр Гревенброк «писать баталии морские и сухопутные». Контракт, однако, не был заключен, так как, по наведенным справкам, художник писать умеет, «токмо шумница и мало постоянен». По этой причине Савва Лукич не рискнул выдать ему аванс в 400 червонных. Столь же безуспешной оказалась попытка нанять на русскую службу учителя Ивана и Романа Никитиных Томмазо Реди. На предварительных переговорах Реди повел себя так, что дал основание Рагузинскому высказать о нем следующее суждение: «Или очень спесив и чает, что имеем до его большую нужду, и хочет чрез италианскую политику получить большой кредит и великое жалованье, или не имеет охоты ехать на Русию».
Другой способ обеспечения России квалифицированными специалистами состоял в обучении русских волонтеров за границей. Рагузинский был причастен и к этой форме пополнения контингента профессионально обученных работников страны. Известно, что русские волонтеры во время пребывания за границей нередко жили в нищете. Гардемарины, находившиеся в Венеции, не составляли исключения. Жалованья, получаемого гардемаринами из венецианской казны, было совершенно недостаточно для сколько-нибудь сносной жизни, и многие из них пребывали «в последнем убожестве, бесчестя свое отечество». Забота о престиже России заставила Савву Лукича обратиться к кабинет-секретарю Макарову, чтобы тот испросил у царя хотя бы небольшое жалованье, «чем бы могли себя содержать и имя российское в наготы и нищеты не безчестить».
В 1720 году в связи с отъездом в Россию агента Беклемишева, осуществлявшего надзор за русскими учениками в Венеции, попечительство над ними было передано Рагузинскому. Правда, к этому времени их значительно поубавилось: 27 гардемарин, пристроенных по одному на корабли венецианского флота, после стажировки и участия в боевых операциях против Порты были отправлены в Испанию. В Венеции остались лишь два брата Семенниковы, постигавшие бухгалтерские премудрости, и два живописца – Михаил Захаров и Федор Черкасов, обучавшиеся мастерству во Флоренции. Судя по всему, в годы, когда их опекал Рагузинский, нужды они не испытывали.
Едва ли не самая важная услуга Владиславича России в годы пребывания его в Венеции заключалась в укреплении международного престижа страны.
Летом 1720 года русский флот одержал блистательную победу над шведами у мыса Гренгам. Петр тут же известил об этом Владиславича, поручив ему перевести на итальянский язык реляцию о морском сражении и пленении четырех шведских фрегатов. С нею тот отправился на аудиенцию к венецианскому дожу. По словам Владиславича, между ним и дожем состоялась дружественная беседа: тот «оную реляцию принял с радостию и с немалым удовольствием и с наилучшими комплиментами… и мене недостойного, раба вашего, в особой палате посадил на стуле против себя чрез обыкновенно и спрашивал довольно по персоне вашего августейшества».
Позаботился Владиславич и о том, чтобы новость стала достоянием населения Италии. Его стараниями реляция была размножена в типографии и разослана по городам. Победу «не токмо приятели, но и сущие неприятели в неизреченную славу причитают», – доложил царю Савва Лукич.[550]
В третий день триумфального празднества, 11 сентября 1720 года, царь напомнил Владиславичу о Гренгамской победе еще раз. Подробно описывая торжества по этому случаю, Петр, разумеется, рассчитывал, что адресат сделает все возможное, чтобы широко оповестить о победе правящие круги и население республики. Интерес Петра к реакции в Венеции на Гренгамскую победу понятен: республика владела мощным морским флотом, и сражение, выигранное Россией на море, должно было засвидетельствовать появление новой морской державы на далеком северо-востоке. Царь не обманулся в ожиданиях. Владиславич ответил ему, что Европа уже давно была осведомлена о могуществе России на суше: «Сухопутные войска ваши ныне в первом ранге в Европе почитаются». Теперь же Россия успешно демонстрировала свою силу на воде: «И в морском обхождении никто не чаял такого искусия в управлении и храбросте».[551]
Столь же оперативно действовал Владиславич и в связи с получением текста Ништадтского мирного договора: он тут же перевел его на итальянский язык. Россия, как известно, после Ништадтского мира стала называться империей, а Петру I Сенат присвоил титул императора. Сложным и деликатным был вопрос о признании нового статуса России и ее царя европейскими державами – это признание затянулось на многие десятилетия. До сих пор считалось, что при жизни Петра титул императора за ним признали четыре государства: Пруссия, Голландия, Швеция и Дания. Теперь мы можем внести поправку: первым государством, признавшим Россию империей, была Венеция, причем громадная заслуга в этом принадлежит умелой дипломатической деятельности Саввы Лукича Рагузинского. Осенью 1721 года он сначала донес, что уведомил венецианского дожа и сенаторов о новом титуле Петра и что ему под большим секретом сообщили о согласии Сената «трактовать» русского царя императором, а затем, в декабре того же года, он информировал Макарова об официальном решении дожа и Сената на этот счет.[552]
В годы пребывания за границей Владиславич со свойственной ему добросовестностью попытался выполнить еще одно, пожалуй, самое деликатное поручение царя: перед его отъездом в Венецию Петр велел ему подыскать жениха своей племяннице Прасковье Ивановне. Поосмотревшись за несколько месяцев жизни в Венеции, Владиславич в октябре 1716 года представил список женихов, как говорится, на любой вкус. Правда, облика женихов, их человеческих качеств, достоинств и пороков Савва Лукич описать не мог, ограничившись сообщением лишь приблизительных сведений об их достатке. Среди возможных претендентов – тридцатилетний сын дука ди Пальма. Годовой доход дука – миллион ефимков. Два сына дука ди Модена представлялись менее выгодными женихами, ибо они должны были делить между собою доход в 700–800 тысяч ефимков. О доходах дука Савойского Владиславич сведений не добыл, но ему доподлинно известно, что у него есть два сына-жениха.[553]
Остается гадать, почему письмо Владиславича осталось без ответа: то ли предложенные им кандидатуры в глазах царя не имели должного политического веса в делах Европы, то ли русских не устраивала необходимость принятия Прасковьей Ивановной католической веры.
Выполнение перечисленных поручений, вместе взятых, не требовало значительных затрат времени. В заботах Владиславича во время его жизни в Венеции доминировали, разумеется, коммерческие дела. К сожалению, проследить их развитие и оценить степень их успешности по имеющимся у нас источникам нет возможности. Известно лишь, что Савва Лукич занимался реализацией в Венеции казенных товаров, доставленных из России. Так, в 1718 году в Венецию прибыл корабль с русскими товарами. Их Владиславич поделил поровну с Беклемишевым, и, как следует из донесений того и другого, оба они успешно провели операцию. Рагузинский сообщал, что он «продал юфть и смолу по цене высокой, как прежде не продывано». Правда, воск и железо спросом пока не пользовались. Рагузинскому вторил Беклемишев: ему удается реализовать воск и смолу, «о котором рассуждаю, что немалая прибыль получена». Что касается личных торговых сделок, то, совершая их в Венеции, Савва Лукич, как и в России, пользовался покровительством царя. В начале 1718 года он сообщал Петру, что дал задание своим торговым агентам в России закупить шесть-восемь тысяч пудов юфти и воску с правом вывоза их за границу через Архангельск. Просьба была вызвана тем, что царские указы предписывали львиную долю экспорта русских товаров осуществлять не через Архангельск, а через Петербург. Владиславич обращался к царю и с просьбой об освобождении доставленных в Россию венецианских товаров от пошлинного обложения на том основании, что он являлся зачинателем торговли с Венецией.[554]
Трудно определить меру коммерческих успехов Владиславича. Есть, однако, косвенные свидетельства того, что торговые сделки в Венеции вряд ли значительно приумножили богатство Рагузинского. Напротив, к концу своего пребывания в Венеции он заявлял, что испытывал нужду в наличных средствах и, дескать, не мог, как раньше, авансировать нанятых специалистов деньгами на дорожные расходы, оплачивать покупки скульптур и картин и т. д. «За непродажею моих товаров имею ныне в деньгах нужду здесь», – сообщал он Макарову в марте 1720 года. Год спустя он все же уплатил три тысячи ефимков за мрамор, но тут же просил Макарова: «Аще возможно не извольте впредь мене в отдаче денег до моего пришествия в Русию принуждать, в которых имею за непродажею моих товаров немалую нужду». А вот письмо, быть может и преувеличивавшее коммерческие неудачи Владиславича, но подтверждавшее, что дела у него шли не блестяще. 8 мая 1721 года он писал, что ни по чьему письму, даже по царскому, он не может заплатить ни копейки «за последним моим изнеможением и мизериею. Бог сам ведает, сколько мне было сего году убытков, и аще не стану банкротиером, то себе в честь причту».
В Россию Владиславич возвратился не один. Сначала в Северную столицу прибыла «старуха матюша моя и племянник Гавриил Владиславич». Позже в Петербург приехал и Савва Лукич с молодой супругой. О первой жене Саввы Лукича нам почти ничего не известно. Есть лишь сведения, что она родила ему сына Луку и в 1714 году Владиславич ожидал ее прибытия в Россию, для чего приобрел для нее гардероб.[555] Приезд, однако, не состоялся. Похоже, что она много лет содержалась османскими властями в качестве заложницы.
Обе дамы, приехавшие в Петербург, являли собой своего рода достопримечательность столицы. Одна отличалась необыкновенной красотой, другая – возрастом.
Патрицианке Вирджинии Тревизан не исполнилось и 20 лет, когда она в 1718 году вышла замуж за пятидесятилетнего Владиславича. Леди Рондо, супруга английского резидента, неприязненно относившаяся к Вирджинии, писала, что Владиславич скорее не женился, а купил ее, «потому что обладал несметными богатствами». Действительно, за три месяца до свадьбы умер отец невесты, и Вирджиния, возможно, предпочла скудной жизни в солнечной Венеции богатство и возможность блистать при дворе Северной столицы. В приведенных словах леди Рондо есть доля истины. Во всяком случае, ее оценку брачных уз подтверждает, правда косвенно, сам Владиславич. В письме к Петру от 9 сентября 1720 года из Венеции он писал: «Я сегодня венчался чрез благочестивого брака с девицею венецкою от 20 лет, сенатскою дочерью, без жадной приданы, токмо с письменным обязательством, что предбудущаго году последует мне и моей матюшке с племянниками восприяла б со мною в империю Российскую». Аналогичного содержания письма Рагузинский отправил и адмиралу Ф. И. Апраксину. Этому корреспонденту он, кроме того, сообщал, что его супруге всего 20 лет.[556] По свидетельству леди Рондо, супруг «держит ее взаперти и очень редко отпускает куда-нибудь, кроме двора». Она же рассказала о случае, происшедшем с супругой Владиславича при дворе Анны Иоанновны.
Придворные дамы полагали, что Вирджиния, появлявшаяся на приемах увешанной огромным количеством драгоценностей, на самом деле носила поддельные камни. Они решили удовлетворить свое любопытство при помощи шутихи, которая, сделав вид, что намеревалась поцеловать красавицу, в действительности приблизилась к ней, чтобы раскусить жемчужину. Патрицианка отвесила ей пощечину. Это для того, сказала она, чтобы напомнить, что благородная венецианка никогда не носит поддельных драгоценностей. Рондо сокрушалась о том, что гордость и чувство собственного достоинства совмещались у Вирджинии с низостью, выразившейся в брачном союзе со стариком.[557]
Достоинством матери было долгожительство. Именно благодаря этому удивлявшему современников обстоятельству ее имя попало на страницы донесений и мемуаров. «Она гречанка, – доносил правительству французский резидент Лави, – и ей 97 лет. Вот уже 20 лет, как она не ест говядины и своей чрезмерной умеренностью в пище сохраняет здоровье».[558] По другим данным, внушающим доверие, в 1722 году ей исполнилось 105 лет.
Чрезвычайный посланник
На трехлетие с конца 1725 по 1728 год падает кульминационный период жизни и деятельности Владиславича. В эти годы он возглавлял русское посольство в Китай.
Целесообразность назначения Владиславича руководителем посольства не вызывает сомнений – правительство Екатерины I едва ли могло сыскать кандидата, равного ему по жизненному опыту, образованности и умению вести дела в восточных странах, приобретенному во время пребывания в Порте, способности быстро ориентироваться в сложной обстановке.
Нам остается, однако, гадать, что заставило Владиславича, человека преклонного возраста, оставить молодую жену, трех малолетних дочерей и торговые дела, чтобы отправиться в нелегкий путь выполнять нелегкое поручение: шесть тысяч годового жалованья плюс две тысячи четыреста рублей соболями на путевые расходы, или честолюбивое стремление сменить мундир надворного советника на камзол тайного советника, или чувство долга и сознание того, что именно он и никто иной, способен успешно выполнить задание, или, наконец, любознательность и страсть человека, которому наскучила монотонная жизнь в Петербурге, к путешествиям и новым впечатлениям. Скорее всего на решение Владиславича собраться в дорогу оказали влияние все соображения, вместе взятые.
Кстати, эта поездка дает основание отвергнуть свидетельства леди Рондо о том, что Савва Лукич был семейным тираном. Если бы ее слова соответствовали истине, то ничто не могло бы подвигнуть деспота супруга оставить семью.
Между тем один современник на вышепоставленный вопрос дал однозначный ответ. Известный поэт и дипломат Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, в одной из сатир под именем Хрисиппа вывел Савву Владиславича:
По вся утра тороплив, не только с постели, Но выходит со двора, петухи не пели, Когда в чем барыш достать надежда какая, И саму жизнь не щадит. Недавно с Китая Прибыв, тотчас он спешит и в другой край света, Сбирается, несмотря ни на свои лета, Ни на злобу воздуха в осеннюю пору; Презирает вод морских, то бездну, то гору, Сед, беззуб и весь уже дряхл на корабль садится: Не себя как уберечь, но товар, крушится. Скупость, скупость Хрисиппа мучит – не иное: И прячет он и копит денежные тучи.[559]
В изображении Антиоха Кантемира Владиславич – скупой, находящийся во власти денег беззубый старик, которого лишает покоя и сна патологическая алчность. Эта характеристика крайне пристрастна. Дело в том, что дружеские отношения между Дмитрием Кантемиром и Владиславичем, существовавшие до 1711 года, сменились непримиримой враждой, отзвуки которой запечатлены в печатном слове.
Владиславич владел пером и, живя в Венеции, занимался переводами. В Россию он привез переведенные с итальянского две книги. В предисловии и послесловии к одной из них он резко отозвался о переведенном Кантемиром сочинении, посвященном магометанской религии. Владиславич считал, что вместо распространения в России «магометанских рассказов» надобно переводить сочинения, внушающие читателю «святополитичные поступки для исправления совести, духа или ума, сердца и страстей, да и языка». Он грозил сделать подробный разбор перевода Кантемира, «аще Бог не пресечет вскоре жизнь мою». На выпад Владиславича за отца ответил сын злой сатирой, гиперболизировав одну из слабостей Саввы Лукича.
И все же должно признать, что у нас нет оснований сомневаться в прижимистости Саввы Лукича. Документальных свидетельств на этот счет великое множество. Правда, все они хотя и достаточно красноречивы, но принадлежат к числу косвенных. К ним можно отнести подарки, подносимые Владиславичем вельможам. Самым значительным подношением была лошадь, как-то подаренная Саввой Лукичом Меншикову. Подарки Толстому, Апраксину, Головину и Головкину были столь ничтожны, что воспринимаются не как подношения в «честь», а как знаки внимания и готовности услужить. Свидетельством скаредности Владиславича принято считать его отношения с племянником Ефимом, прибывшим в Россию в 1704 году и позже отправленным вместе с прочими волонтерами во Францию для обучения. В архиве сохранилось несколько писем Ефима Владиславича с жалобами на отказ дяди в денежной помощи. Первое такое послание Ефим отправил в Посольскую канцелярию еще в сентябре 1712 года. Племянник сообщал, что он десять месяцев не получал денег от дяди, и просил исходатайствовать у царя, «дабы что-нибудь на содержание к нему прислано было, пока от упомянутого дяди получит».
Четыре года спустя Ефим Владиславич обратился непосредственно к царю. Он просил об «исходатайствовании у дяди ево графа Савы Владиславича на уплату долгов денег». Дело, однако, здесь не в скупости Саввы Лукича, а в поведении племянника. Ефим не проявлял рвения к учению еще в годы пребывания в России. Посылая его под Выборг в распоряжение Григория Скорнякова-Писарева, царь написал письмо, содержание которого, несомненно, было подсказано Саввой Лукичом: «Послали мы к вам Ефима Рагузинского, которому вели быть при себе. И чтоб он не гулял, а учился бомбардирству при вас».[560] Склонность Ефима к праздной жизни пышно расцвела в Париже, где контроль за его поведением стал менее жестким. Дядя, видимо, решил урезонить мотовство племянника отказом в помощи. В одном из писем к царю Савва Лукич называл своего племянника «недостойным», а один из современников-французов, наблюдавший его в свите царя, когда тот находился во Франции, охарактеризовал Ефима «человеком легкомысленным».[561]
На отношение Саввы Лукича к племяннику проливают свет духовные 1725 и 1738 годов. В первой из них написано так: «Четвертого же моего племянника Ефима Владиславича от всего моего наследства отлучаю за ево предерзость и непостоянство». Неприязненные чувства к племяннику Савва Лукич сохранил и 13 лет спустя. Правда, вместо одной тысячи рублей по завещанию 1725 года теперь надлежало выдать ему три тысячи, но с оговоркой, выражавшей презрение: «Ежели он тем доволен не будет и станет по своему обыкновению жить непорядочно», то указанной суммы ему не выдавать, а разделить ее равными долями между сухопутным и морским госпиталями.
За месяц до отъезда в Китай Коллегия иностранных дел вручила Владиславичу инструкцию, по обычаю тех времен подробно излагавшую не только содержание возложенных на него поручений, но и способы их выполнения. Сквозь частокол сорока с лишним пунктов инструкции отчетливо видны три важнейшие задачи посольства: «прежнее доброе согласие и свободное отправление купечества возстановить и утвердить», решить вопрос о перебежчиках и, наконец, произвести разграничение, причем «возстановление и утверждение российского купечества в Китае, – сказано в инструкции, – есть один из наиглавнейших пунктов».
Начало торговых связей между соседними государствами восходит к середине XVII столетия, но интенсивно они стали развиваться после Нерчинского договора 1689 года. В роли экспортера русских товаров, преимущественно сибирской пушнины, выступала казна. В соответствии с указом сибирские воеводы взимали пушнину с ясачных людей, затем в Нерчинск прибывал «купчина» – доверенное лицо правительства, которому поручалась отправка каравана в Пекин, продажа пушнины, приобретение китайских товаров и доставка их в Москву. Все эти операции занимали от трех до пяти лет. Обычно «купчина» и лица, обслуживавшие караван, везли в Китай собственную пушнину и совершали сделки в качестве частных лиц.
Первые караваны оказались прибыльными, и это дало основание правительству Петра I объявить в 1706 году торговлю с Китаем казенной монополией. «Купчина» в соответствии с велением времени стал называться по-иностранному комиссаром. Ему, как и прочим служителям каравана, разрешались вывоз собственных товаров и покупка китайских изделий. Это была своеобразная форма расплаты с комиссаром и служителями, не получавшими вознаграждения за свою службу.
Вскоре, однако, караванная торговля стала приносить казне не прибыль, а убыток. Отчасти это объяснялось тем, что комиссар и его команда радели не столько о казенном интересе, сколько о личной выгоде и в первую очередь стремились реализовать свои товары, а только потом, на менее выгодных условиях, продавали государственные. Сказывалась также и громоздкая форма организации караванной торговли, сковывавшая инициативу «купчины», или комиссара. Но главная причина спада русско-китайской торговли была заложена в политике цинского правительства: вопреки
Нерчинскому договору власти Пекина отказывались пропускать караваны; пока шла занимавшая многие месяцы переписка, сосредоточенная в Нерчинске или Селенгинске пушнина, хранимая в неблагоприятных условиях, а то и под открытым небом, приходила в негодность. Когда же наконец караван прибывал в Пекин, комиссара лишали права свободной торговли, ограничивали доступ к товарам местных купцов. Установлением режима изоляции китайские власти преследовали весьма прозаическую цель: вынудить комиссаров продавать товар не по рыночной цене, а по той, какую предлагали китайские купцы.
Ко времени назначения Саввы Лукича чрезвычайным посланником и полномочным министром нагнетаемые китайской стороной притеснения торговли привели к тому, что она почти прекратилась. Караван, отправленный в 1718 году, свыше двух лет стоял у границы, а когда его все-таки пропустили в Пекин, то в столице Цинской империи он был поставлен в такие условия, что торговать не мог. Через девять месяцев безуспешных попыток реализовать пушнину комиссар был выслан из Пекина со значительным количеством непроданного товара. Вместо обычных трех лет время оборота этого каравана заняло шесть лет.[562]
Еще более печальной была судьба каравана, снаряженного в 1722 году. Он ожидал разрешения на въезд в Китай шесть лет и только благодаря настойчивости Владиславича был пропущен в Пекин. Китайские власти задерживали его под тем предлогом, что сначала надо решить вопрос о разграничении и перебежчиках.
Чтобы преодолеть расстояние от Петербурга до русско-китайской границы, Владиславичу понадобилось без малого десять месяцев – обоз в составе 60 телег отправился из столицы 12 октября 1725 года, а прибыл на речку Буру 24 августа следующего года. Даже с учетом транспортных условий того времени скорость продвижения Владиславича надо признать незначительной, тем более что инструкция предписывала ему ехать «с возможным поспешением». Тому причиной были длительные задержки в пути. Продолжительное пребывание в Москве, откуда Савва выехал только 27 декабря, было вызвано «неустановлением рек, которые и поныне не очень крепки», как объяснял он накануне отъезда. Так как санный путь прокладывали по рекам, то пришлось ждать прочного льда.[563]
Но Владиславича задержали в Москве не только погодные условия – в старой столице он приводил в порядок свои имущественные дела на тот случай, ежели, как он писал, «мене в таком дальном отлучении смерть постигнет». 23 декабря 1725 года он подписал завещание. Его содержание интересно в двух планах: оно проливает свет на семейное положение Владиславича и дает представление о его богатствах. Оговоримся, однако, что супружеские отношения духовная проясняет не до конца. Из ее содержания следует, что ко времени выезда Владиславича из Москвы его супруги Вирджинии и дочери в Петербурге уже не было. Неясно, когда и почему они оставили столицу России, чтобы отправиться в Венецию. Судя по всему, расставание сопровождалось ссорой.
Основанием для подобного суждения является то, что наследником всего имущества Владиславич объявил не дочь и не супругу. Вирджиния должна была довольствоваться всего лишь «алмазным убором» и прочими драгоценными украшениями, увезенными ею в Венецию. Доля дочери в наследстве была более весомой: по достижении совершеннолетия ей надлежало выдать 15–20 тысяч рублей на приданое (две другие дочери к тому времени умерли). Единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества объявлялся старший из племянников – Гавриил Иванович.
На исходе своей жизни Владиславич вспоминал, что он выехал из своего отечества «во младых летах с премалым капиталом родительского имения». С отцом своим он расплатился, еще живя в Константинополе, и за 40 лет сколотил немалое состояние, став богатым человеком.
Сведений о размерах капиталов Рагузинского у нас нет, но, судя по сумме, выделенной на приданое дочери, общее количество денег, находившихся в обороте, составляло многие десятки тысяч рублей. Недвижимое имущество Рагузинского составляли вотчины с крепостными крестьянами, а также дома в Москве, Петербурге и Нежине.
Первое пожалование вотчинами, конфискованными у сторонников Мазепы, генерального обозного Ломиковского и генерального судьи Чуковича, было произведено в 1710 году. По данным на 1730 год, в вотчинах, расположенных в Черниговском, Стародубском, Прилуцком и Гадяцком полках, насчитывался 551 двор, то есть свыше двух тысяч крепостных мужского пола.
Другое дворянское гнездо Рагузинский свил в Прибалтике. Первоначально царь пожаловал ему в том же 1710 году пять верст в длину и столько же в ширину сенокосных угодий в Санкт-Петербургском уезде. Позже, перед его отъездом в Венецию, ему были пожалованы в аренду несколько мыз в Рижском уезде «с обещанием, что по возвращении ево из отечества ему и потомкам ево пожалованы будут в вотчину». По возвращении в Россию Владиславич возбудил ходатайство о передаче ему мыз. Просьба была удовлетворена в 1725 году Екатериной I. В итоге он стал владельцем 52 с половиной гаков.[564] Поскольку эти мызы находились в закладе, Владиславичу пришлось компенсировать прежнего их владельца пятью тысячами ефимков. Таким образом, Владиславич, несомненно, принадлежал к числу крупных помещиков России.
Он понимал, что передача наследства племяннику вызовет недоумение, и поэтому мотивировал ее в духовной следующим рассуждением: «Благоразумному читателю не без противности будет, что я, имея дочь родную прямую наследницу, а вместо ее оставляю наследником и управителем племянника моего Гаврила, что и правы российские не повелевают. Однако же Богу самому известно да будет, что я то чиню за лучшую честь и содержание дому моего, и дабы фамилия Владиславича (которая из ильлирийских первых фамилий графских прибыла в Российскую империю) желаю, дабы по мужской линии оное ими было содержано, графство же и прерогативы не померкнут».[565]
У Саввы Лукича было четыре племянника. Одного из них, Ефима, как сказано выше, он лишил наследства, а остальных братьев Гавриил должен был содержать так, «яко бы были сущие его дети». Впрочем, если жена или дочь пожелают вернуться в Россию, то их Гавриилу надлежало окружить таким вниманием, будто бы они являлись его родной матерью и родной сестрой.
Длительным было пребывание Владиславича не только в Москве, но также в Тобольске и Иркутске. Находясь в этих сибирских городах, он, готовясь к переговорам, изучал документы о русско-китайских отношениях. Надо, наконец, учитывать и возраст посланника – уроженцу теплых краев в год, когда он отправился в путь, минуло 56.
Сведения о том, как переносил сибирские морозы путешественник, отсутствуют. Доподлинно, однако, известно, что Сибирь произвела на него сильное впечатление: «Земля эта обетованная по хлебородию, в рыболовлях и звероловлях и преизобильна рудами разных материалов, разными мраморами и лесами, и такого преславного угодья, чаю, на свете нет». Правда, продолжал Владиславич, край слабо заселен и еще хуже «от глупости прежних управителей» защищен, но посланник уповал на расцвет края в будущем.
На границе состоялась первая встреча Владиславича с маньчжурскими представителями, заранее извещенными о приезде русского посланника, – министрами, имена которых транскрипция тогдашних источников передавала так: граф Лонготу и Секи. Им богдыхан велел встретить посольство и сопровождать его до Пекина.
Читателя, знакомящегося с документами переговоров от первого контакта Владиславича с пекинскими министрами до заключительной с ними встречи во время обмена трактатами, не покидает чувство удивления, причем порою бывает трудно определить, чему больше удивляться: необычайной выдержке, настойчивости и терпению Саввы Лукича, его способностям блестящего полемиста, умению шуткой разрядить напряженность или поразительному упрямству цинских представителей, глухих к логике фактов, точно заученный урок твердивших одно и то же на всех конференциях, их иногда наивным, иногда хитроумным уловкам, чередованию изысканной любезности с грубым игнорированием неприкосновенности иностранного посла, наконец, их «шатливости», как называл непостоянство Владиславич.
Споры начались с первой же встречи с цинскими дипломатами*[1]. 25 августа стороны обменялись пустопорожними фразами, а затем чиновники передали Владиславичу приглашение, звучавшее как повеление, чтобы он «прибыл немедленно к ним, министрам, под шатер для конференции о марше». Савве Лукичу довелось в течение двух дней внушать министрам правила элементарной вежливости:
– Вы, господа министры, по указу его богдыханова величества посланы ко мне, чрезвычайному посланнику, на встречу, для моего приему, а не я к вам, и должность ваша, министров, меня встретить и первую визиту мне отдать.
На этот раз министры уступили. Общаясь с ними, Владиславич обнаружил помимо надменности еще одну черту в их поведении: «Что в вечеру говорят, то завтра слова своего не содержат».
Китайская сторона затеяла спор и по поводу присутствия в составе посольства женщины. Пекинские министры заявили, что это «противно их государственным правам» и вызовет гнев богдыхана. На Владиславича угроза не подействовала, он ее игнорировал, заявив министрам: отсутствие при нем прачки приведет к тому, что «и от него пользы никакой нет в их земле, для того-де он человек старой и без нее ему чистоты ради пробыть невозможно».
Посольство пересекло границу 2 сентября 1726 года и достигло Пекина через сорок дней пути. В городах его встречали музыкой, оружейной пальбой, потчевали чаем и даже развлекали комедиями. 21 октября состоялся торжественный въезд в Пекин: свита посольства в составе 120 человек в парадных одеждах проследовала по улицам города, вдоль которых было расставлено восемь тысяч пехоты и конницы.[566]
Пышность встречи и ласки столь же неожиданно прекратились, как и начались. Предупредительности хозяев достало всего лишь на десять дней. На одиннадцатый посольский двор окружили 600 солдат под командой трех генералов, которые полностью изолировали посольство от окружающего мира.
Подобное гостеприимство, впрочем, не являлось для Владиславича неожиданным. Еще в донесении, отправленном в Петербург до вступления в пределы Цинской империи, он писал: «Не буду в Пекине жить, как при дворах европейских послы и посланники живут, но за честным караулом, как их варварское обыкновение, и либо и до моего возвращения подданнейшая моя корреспонденция пресечется». Чрезвычайный посланник многократно протестовал.
– Для чего посольский двор занимают и никого вон не выпускают? – спрашивал он у одного из министров.
Тот отвечал:
– То наше древнее обыкновение, и дондеже аудиенция тебе, чрезвычайному посланнику, не будет, то и выпуску никому не будет же.
Между тем аудиенция у богдыхана состоялась 4 ноября, но режим жизни посольства был ослаблен лишь на несколько дней, а затем посольский двор вновь оказался под замком. На повторные вопросы министры неизменно твердили: он, чрезвычайный посланник, «живет не за караулом, токмо за лутчую ево честь по их обыкновению держится у него караул и ворота запираются».
– Зело знаю, – ответил Владиславич, – что к чести надлежит и что к такому несносному утеснению.
Министры дали очередное заверение: начнутся, дескать, переговоры, и посольству будет предоставлена свобода.
Начались будни уныло однообразных переговоров: одни и те же лица, одни и те же фразы, одни и те же доводы. Если быть точным, то китайская сторона никаких доводов не предъявляла, упрямо предлагая Владиславичу удовлетворить все их притязания.
Переговоры начались, но обещанной свободы посольство не получило. Чтобы не выпускать Савву Лукича и персонал посольства за пределы посольского двора, министры поступились, так сказать, богдыхановой честью и сами согласились приезжать на конференции на подворье чрезвычайного посланника. В день начала переговоров – 15 ноября – у дверей комнаты, где происходило заседание, Владиславич выставил почетный караул из двух гренадер. Министрам по этому поводу иронически заметил:
– Я у вас за караулом у передних дворовых ворот, а вы у меня за караулом в палате.
Министры шутку поняли, рассмеялись, но продолжали рассуждать о «чести» и «безопасности».[567]
Пекинский двор пользовался и другими средствами давления на Владиславича. Однажды в резиденции посланника появился какой-то генерал и, затеяв с одним из сотрудников посольства доверительный разговор, сообщил, что «нынешний владетель превеликий тиран и кровопролитель», и рекомендовал чрезвычайному посланнику быть покладистым, вести себя «склонно и осторожно», чтобы не навлечь на себя богдыханского гнева. В информации «доброхота» генерала Владиславич не нуждался. Он и без него имел представление о личности свирепого богдыхана Юнчжэна и характеризовал его так: «Нынешним ханом никто не доволен, ибо пуще римского Нерона государство свое притесняет и уже несколько тысяч людей уморил, а несколько миллионов неправедно ограбил и до конца разорил». Следы грабежа посланнику после снятия охраны посольского двора довелось наблюдать самому – на базаре он был свидетелем продажи 20 тысяч шуб. Это была одежда жертв богдыханского произвола и репрессий.[568]
К числу «несносных утеснений» посольства относится также снабжение персонала соленой водой, от которой многие маялись желудками. Министры использовали еще одно средство воздействия на Владиславича – они грозили «выбить», то есть выпроводить, посольство из Пекина. Реализация этой угрозы в студеную пору влекла верную гибель посольства в безлюдной степи.
Цель всех «утеснений» и угроз состояла не в том, чтобы оказать «честь» чрезвычайному посланнику и полномочному министру, а в том, чтобы заставить его быть податливым в переговорах и подписать трактат в ущерб интересам России и в угоду Цинской империи. Владиславич понимал это и многократно заявлял министрам о тщетности их надежд добиться от него уступок угрозами «передавить россиян, как мышей»:[569]
– Я скорее сгнию в тюрьме, нежели нарушу инструкцию. В другой раз он ответил:
– Хотя б десять сажен под землею буду, я не нарушу верности своему отечеству.
Впрочем, откровенный грубый нажим и устрашение чередовались с ласковым обхождением, клятвами министров в «любви и дружбе», лестью, «приятельскими» советами быть уступчивым, доставкой на посольский двор изысканных обедов с кухни богдыханского дворца.
К числу средств, которыми цинский двор намеревался снискать расположение посланника, относится, например, приглашение Владиславича в загородную резиденцию богдыхана на новогодний праздник. Приглашение расценивалось китайской стороной как проявление особой милости богдыхана, за которую конечно же надлежало расплачиваться. Присутствуя на празднике, чрезвычайный посланник должен был убедиться в величии богдыхана и проникнуться безграничным к нему уважением. Владиславич действительно был удивлен, но совсем не так, как того хотелось богдыхану. На новогоднем торжестве Владиславичу не довелось наблюдать ни всплесков радости, ни смеха, ни веселья. В зале царила жуткая тишина, все сидели с каменными лицами и, казалось, ничего так не ждали, как окончания праздника. Пример подавал сам богдыхан, восседавший на престоле подобно истукану.
«Удивлению подобно, – делился Владиславич впечатлениями об увиденном, – что в толиком многолюдстве все сидели в глубочайшем молчании и друг другу ни единого слова не молвили. Также и хан по прибытии на престол до самого возвращения ни единого слова не молвил же и сидел, ни на кого не смотря, якобы статуя была, что у них за величайший магистет (то есть величие) почитается».
В середине февраля 1727 года Владиславич серьезно занемог. Болезнь вызвала переполох во дворце, богдыхан поручил лечение больного своему врачу. Савва Лукич без труда разгадал значение этого жеста: богдыхан руководствовался отнюдь не гуманными соображениями, а страхом за судьбу посланника и возможное обострение отношений. Богдыхан-то хорошо знал о несладкой жизни в Пекине посольства и его главы, об испытываемых ими тревогах и лишениях.[570]
Казалось, что все средства шантажа и давления были исчерпаны, но пекинские власти изобрели еще один хитроумный ход: вместо министров, с которыми Владиславич вел переговоры, были назначены другие, более высокого ранга. Это было сделано с той целью, чтобы выдвинуть против Владиславича обвинение в несговорчивости и представить его виновником срыва переговоров: он, Владиславич, дескать, упрям и не мог найти общего языка ни с теми, ни с другими министрами. Новые участники переговоров обещали выдать чрезвычайному посланнику «великое награждание богдыханова величества». Владиславич с достоинством отверг посулы:
– Я не изменник российской, чтоб русские земли без указу отдавать и продавать.
Тогда министры пригрозили отправить письмо Екатерине I (к этому времени умершей, чего не знали ни Владиславич, ни министры, так как корреспонденция с Петербургом была «пресечена») с жалобой на несговорчивость ее посланника.[571]
Ради чего назначенные богдыханом для переговоров с Владиславичем министры – сначала Та, Тегута и Тулишен, а затем алегоды (действительные тайные советники) – пускались во все тяжкие и широко прибегали к отнюдь не дипломатическим приемам воздействия на партнера? Удовлетворения каких запросов они домогались от Владиславича? Почему переговоры в Пекине, для завершения которых достаточно было нескольких недель, приобрели изнурительный характер, затянулись на семь месяцев и, несмотря на столь длительный срок, все же не закончились подписанием трактата?
Исчерпывающие ответы на поставленные вопросы дают документы переговоров. Дело в том, что переговоры обнаружили диаметрально противоположные позиции сторон. Для России и представлявшего ее интересы Владиславича главная цель переговоров состояла в упрочении мира и торговых связей. Напротив, Цинскую династию с ее традиционной политикой изоляции Китая от внешнего мира торговые отношения с соседями не интересовали. У богдыхана Юнчжэна, правившего в то время Китаем, забота была иная – расширить границы своей империи. Пекинские власти полагали, что для осуществления захватнических намерений наступил благоприятный момент – они были осведомлены о слабой защищенности русских границ, отстоявших к тому же на тысячи верст от основных экономических районов страны. Сам факт отправки посольства Владиславича, прибывшего в Пекин всего лишь через шесть лет после посольства
Льва Измайлова, богдыхан и его министры расценивали как проявление слабости России. Подобную оценку в пылу полемики ненароком высказал Тулишен:
– Ежели б не была россианом необходимая нужда до них, для чего б посылать послов за послом, как и ныне учинили, ис таких дальних стран такую великую персону с такими великими подарками послали, каковы прежде в Пекине не были, что всяк умный разсудить может, что россианом есть необходимая нужда. И ежели не сделает чрезвычайный посланник по их – то с чем может возвратитца?[572]
Исходя из этих посылок, на поверку оказавшихся совершенно ложными, Юнчжэн полагал, что он без единого выстрела, под убаюкивающие заверения своих министров о миролюбии Цинской империи, перемежавшиеся с угрозами, удовлетворит свои притязания.
Владиславич не поддался ни шантажу, ни угрозам. Знал он и цену заверениям министров, ибо десятки раз убеждался в том, что они ничего не стоят. Свыше тридцати раз Владиславич садился за стол переговоров, иные из которых продолжались до глубокой ночи. Два десятка проектов отклонялись то той, то другой стороной. Наконец 21 марта 1727 года Владиславич представил свой последний проект. Вопрос о перебежчиках решался так: где они находятся теперь, там они и остаются; перебежчики же, преодолевшие границу после заключения договора, возвращаются соответственно России и Китаю. Караван, все еще находившийся на границе, должен быть пропущен в Китай. Впредь предусматривалась отправка в Пекин каравана раз в три года в сопровождении не более двухсот человек. На русском посольском дворе разрешалось построить церковь, а также оставить четырех учеников для овладения китайским и маньчжурским языками. Что касается разграничения, то принцип его («Uti possidetis*) Владиславич изложил формулой: „Да владеют обе империи всем тем, чем ныне владеют, без прибавки, ни умаления“. Китайская сторона поначалу полностью приняла проект, но спустя два дня отклонила принцип „Uti possidetis*, лишний раз подтвердив свою «шатливость“. Министры заявили:
– То мы говорили от себя и тебя тешили, а ханское величество на то не согласился.[573]
Последовал резонный упрек Саввы Лукича:
– Какие вы министры – что делаете, от того отступаете. Сие водится между бездельными людьми, а не министрами.
На одной из последних конференций министры заявили:
– Окончим здесь прочие дела и заключим трактат, в котором напишем: когда ты на границе окончишь дела по-нашему, то и прочие дела произведутца в действо.
Савва Лукич справедливо заподозрил в этом предложении ловушку. Скрытый смысл его, как позже писал Владиславич, состоял в том, «дабы я сам себя закабалил границу учинить на границе по их желанию».
В итоге пекинских переговоров был согласован текст будущего договора, за исключением статей о разграничении. Этот пункт обе стороны решили оформить на границе, причем Владиславич заявил, что он не отступится от принципа «Кто чем владеет». 19 апреля богдыхан дал чрезвычайному посланнику прощальную аудиенцию.
– Я тебя принял с радостию, – обратился богдыхан к посланнику, – а когда ты в Пекине был болен, я печалился, понеже я имею такую склонность с Российскою империею вечную дружбу и мир иметь, каковую твоя императрица имеет.
Владиславич, тонко польстив восточной гордости богдыхана, отвечал:
– Ваше императорское величество вылечили меня от болезни, вылечите же от печали: повелите, чтоб дела, представленные чрез меня и не оконченные в Пекине, окончены были на границе и чтоб прежде всего караван, давно уже на границе ожидающий повеления, пропущен был сюда.
Богдыхан заявил, что для печали нет оснований, ибо он посылает на «границу добрых министров, которым велел праведным посредством все окончить».
С двумя «добрыми министрами» Владиславичу уже доводилось встречаться: одним из них был Тулишен, другой – граф Лонготу, человек, по заключению Владиславича, «скудоумный, но крайне гордый». Третьим был некий Цыренван.
Посольство выехало из Пекина 23 апреля 1727 года и достигло пограничной речки Буры в середине июня. У Владиславича было достаточно времени, чтобы привести в систему свои наблюдения о жизни пекинского двора, о внутреннем положении Китая, обычаях народа и пр., – в последние несколько недель перед отъездом из Пекина ему и посольству была предоставлена наконец свобода общения. Наблюдения, которые Владиславич позже изложит в специальной записке для правительства и в донесениях Иностранной коллегии, обнаруживают в авторе литературный талант и проницательность, умение быстро примечать все, что, как ему казалось, будет полезным для России.
Наметанный глаз опытного коммерсанта Владиславича заметил поразившие его обычаи, царившие в торговом мире
Китая. Купцы, записал он, «во всем никогда праведно не поступают и стараются как неправедно взвесить и тем друг друга обмануть, и между ними нет на то запрещения, ни стыда. Друг другу не имеют они никакого кредита, и никто никому денег взаймы не дает, понеже заемные письма на их суде не имеют никакого действа».
Интересны сведения о жизни пекинского двора. Жестокий деспот Юнчжэн жил в постоянном страхе и подозрении – «превеликой суспеции», повсюду шныряли шпионы. «От двадцати четырех ево братьев токмо три в кредите, а протчие некоторые кажнены, а некоторые под жестоким арестом». Поражала чрезмерная роскошь двора и крайняя нищета населения. «Хан тешится сребролюбием и домашними чрезмерными забавами». Правитель Китая жил в иллюзорном мире: «Никто из министров не смеет говорить правду, все старые министры почти отставлены как воинского, так и статского чина, а вместо их собрано молодых, которые тешат его полезными репортами и непрестанною стрельбою, пушечную и оружейную, которую будто екзерцицию кругом Пекина повседневно чинят, а более для устрашения народу и свойственников, дабы не бунтовали».[574]
Переговоры на речке Буре начались 23 июня. Одну конференцию сменяла другая: то в шатре Владиславича, то у Лонготу, а сдвигов в переговорах – никаких. Лонготу в своих территориальных домогательствах далеко превосходил требования, предъявлявшиеся Владиславичу в Пекине, и неизменно твердил:
– Что в Пекине делано и говорено – до того мне дела нет.
Коллеги Лонготу многократно наблюдали, как он, будучи загнанным в угол доводами Владиславича, не мог ничего возразить и лишь краснел и отдувался. После вспышки полемической активности Лонготу, наткнувшись на сопротивление, оказывался во власти апатии. Насупившись, он умолкал и утрачивал всякий интерес к происходившему. Сначала маньчжурские дипломаты вели себя чопорно, затем втихомолку стали подсмеиваться над дядей богдыхана, а затем выражать недовольство:
– Что нам делать, когда богдыхан положил такое превеликое дело на дурака и бездельника.[575]
В иные дни казалось, что все надежды на благоприятный исход переговоров полностью исчерпаны, и Владиславичу приходилось особенно тяжко. Ему и впрямь было от чего прийти в отчаяние – договор, ради которого он прибыл за тридевять земель, ускользал из рук, и уже ничто будто бы не предвещало благоприятного завершения переговоров. Следы этой удрученности запечатлены в отчете, составленном самим Владиславичем.
Савва Лукич терялся в догадках: почему богдыхан в самый последний момент возложил руководство делегацией именно на Лонготу, в то время как ранее намеревался назначить Тулишена, – то ли с тем, чтобы «несносными» запросами выторговать если не все, то хотя бы часть запрашиваемого, то ли выбор пал на «такова дурака и спесивца» преднамеренно, чтобы сорвать переговоры?[576]
Сомнения рассеялись несколько позже. Оказалось, Лонготу давным-давно, еще до отъезда Владиславича из Пекина, находясь у границы, в донесении богдыхану изложил свои представления о пограничной линии и заверил, что он добьется от чрезвычайного посланника желаемых уступок. Тем самым Лонготу рассчитывал поправить свое пошатнувшееся положение при дворе.
После выдачи векселя, разумеется вполне устраивавшего богдыхана, Лонготу, как говорится, отступать было некуда – в случае невыполнения опрометчивых обещаний ему грозила потеря головы. Спасая ее, Лонготу вел себя странным образом: вслед за высокомерными выходками и угрозами наступали долгие минуты прострации, когда он беспомощно молчал. Как-то Владиславич в сердцах заявил ему:
– Ежели б во всем Китайском государстве искать такого человека, чтоб дело разорвать, а не зделать, то б всеконечно против ево сыскать было невозможно.
Наконец чрезвычайный посланник отказался встречаться с Лонготу, поскольку считал его «человеком без резону», «не миротворцем, а разорвателем мира». Переговоры зашли в тупик. Владиславич нашел способ известить об этом богдыхана. Рискнули сообщить ему о «бездельных» домогательствах и два других цинских министра.
Развязка наступила ночью 8 августа, когда неожиданно прибывшие из Пекина офицеры схватили Лонготу и, не дав ему собраться, куда-то увезли. Правда, эту ночь и Владиславич провел в тревожных размышлениях.[577] Как следовало понимать отзыв графа Лонготу: как сигнал к прекращению переговоров или как выражение недовольства богдыханом деятельностью своего дяди?
Правильной оказалась последняя догадка. В Пекине рассудили, что домогательства Лонготу хотя и сулили выгоды Цинской империи, но не могли быть удовлетворены и в конечном счете таили опасность резкого обострения русско-китайских отношений. В итоге рухнули надежды Лонготу обеспечить карьеру за счет русских земель. Он был обвинен в намерении «между двумя государствами ссору завесть», ему припомнили и кое-какие давние злоупотребления. Все это привело к конфискации имущества Лонготу и заключению его в тюрьму, где он, по сведениям Владиславича, содержался «под крепким арестом».
После отъезда Лонготу переговоры были быстро завершены, и 20 августа на речке Буре их участники подписали документ, получивший название Буринского трактата. Остались формальности: надлежало присоединить подписанный Буринский трактат к ранее согласованным в Пекине десяти пунктам генерального трактата, подписать все это и обменяться текстами договора. Так рассуждал Савва Лукич и ошибся. Хотя он и изучил «шатливость» цинских министров, но все же не ожидал, что ему будет преподнесен новый сюрприз, почти на год затянувший его пребывание у границы.
После заключения Буринского трактата маньчжурские дипломаты отправились в Ургу, а Владиславич – в Селенгинск, с тем чтобы вновь встретиться через 40 дней для обмена трактатами – столько времени запросили министры для ратификации Буринского трактата в Пекине.
В Селенгинске Владиславич встретился со своим старым знакомым – Ибрагимом Петровым и второй раз оказал влияние на его судьбу. Мальчиком привез его Владиславич в Москву еще в 1704 году: «И явил робяток трех человек арапов». Два брата предназначались в дом Федора Алексеевича Головина, а третий – в дом П. А. Толстого. Теперь Ибрагим после пятилетнего обучения инженерному делу во Франции и службы в столице России предстал перед ним в чине поручика, причем опального, коротавшего дни на службе в Селенгинске. Меншиков, проведавший о нелестных высказываниях арапа Петра Великого в свой адрес, сослал его в Казань. Светлейшему, однако, эта кара показалась недостаточной, и 26 июня 1727 года Ибрагим получает новый указ, предлагавший ему немедленно отправиться в Тобольск. Сгоряча поручик обратился к Меншикову с челобитной, взывал к милосердию князя, ссылался на свое сиротство, однако на следующий день рассудил, что неповиновением накличет новую беду, и вдогонку к челобитной отправил сухой рапорт, что выедет в Тобольск 28 июня.
Тобольские власти отправили его еще дальше – в Селенгинск, «будто за строением фортецыи, – доносил Владиславич, – а более, чаю, в ссылку». По словам Владиславича, предок Пушкина «жил здесь в десперации» (отчаянии, унынии) еще и потому, что не имел практики в сооружении крепостей. На свой риск, правда небольшой, ибо Меншиков к тому времени пал, Владиславич облегчил участь Ибрагима Петрова, отпустив его в Тобольск.
Точно в установленный срок, 7 ноября 1727 года, Владиславич раскинул шатер у речки Буры. Проект генерального трактата он получил только 13 ноября и, к своему удивлению, обнаружил, что он существенно отличался от того, что был согласован в Пекине 21 марта 1727 года. Чрезвычайный посланник, естественно, отказался подписать трактат, отредактированный в ущерб интересам России.
Начался третий тур переговоров, столь же изнурительный, как и два предшествующих. Китайские министры – Тулишен и Цыренван хотя и не могли толком уразуметь, почему пекинские министры «прежде постановленное в Пекине испровергли», но, получив соответствующие инструкции, настойчиво пытались навязать Владиславичу новый вариант договора, угрожая при этом войной, разрывом переговоров, конфискацией каравана, пропущенного в Пекин сразу же после подписания Буринского трактата. Владиславич и здесь не поддался на шантаж.
Наступили зимние холода, и Савва Лукич 19 ноября отправился в Селенгинск. Переговоры возобновились в марте следующего, 1728 года, когда из Пекина был доставлен проект договора, соответствовавший тексту, согласованному 21 марта 1727 года. Владиславич его подписал. Понадобилось, однако, время, чтобы его подписали в Пекине. Размен трактатами, подписанными в предшествующем году, состоялся 14 июня 1728 года в Кяхте, вследствие чего и договор получил наименование Кяхтинского. На обсуждении церемонии размена трактатами китайские министры возражали против стрельбы из пушек. Владиславич на этот раз уступил:
– Когда из пушек не стрелять, то стрелять из рюмок!
Насколько изнурительными были переговоры, настолько же великой была радость по поводу их завершения. Через день Савва Лукич устроил прием гостей – китайских министров, которых он «трактовал богатым столом»[578].
Кяхтинский договор – важная веха в истории русско-китайских отношений. Статья первая договора начинается торжественной фразой: «Сей новый договор нарочито сделан, чтоб между обеими империями мир крепчайший был и вечный». И действительно, размененный в Кяхте документ вплоть до середины XIX века служил правовой основой взаимоотношений России с Китаем. В интересах обоих государств договор урегулировал спорные вопросы, ранее вызывавшие трения: оба правительства согласились предать забвению дела о перебежчиках, возникшие до 1727 года, а впредь взаимно обязались производить их немедленную выдачу; подданным обоих государств предоставлялось право беспошлинной торговли; караван с русскими товарами в Пекин договорились отправлять раз в три года; составной частью Кяхтинского договора был Буринский трактат, определивший владения двух государств в районе Монголии.
В трудных условиях проходили переговоры. И в том, что ни один пункт инструкции чрезвычайному посланнику и полномочному министру не остался невыполненным, несомненная заслуга Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. Он стойко и умело защищал интересы России, отверг территориальные притязания представителей Цинской империи и добился при определении границ применения принципа: «Каждое государство владеет тем, чем оно владеет теперь». Признание дипломатических дарований Саввы Лукича и его заслуг в установлении добрососедских отношений с цинским Китаем выразилось в присвоении ему чина тайного советника и награждении «кавалерией» – орденом Александра Невского. Указ об этом последовал тотчас после получения в Петербурге известий о заключении Буринского трактата и пропуске торгового каравана в Пекин.
Тайный советник
Посольство Владиславича продолжалось без малого три года. За вычетом времени на переезды и пребывание в Пекине, занявшие в общей сложности около двух лет, остальные месяцы он провел на территории Бурятии – на речке Буре, в Селенгинске и Кяхте. Переговоры чередовались с продолжительными антрактами. Вынужденные перерывы Владиславич заполнял заботами о делах, далеко не всегда связанных с выполнением возложенной на него миссии. Он, как писал сам, «денно и нощно» трудился над совершенствованием администрации Селенгинского дистрикта, составлял подробнейшие инструкции должностным лицам, представлял свое мнение об организации караванной торговли с Китаем, заботился об укреплении пограничных городов. Заметим, кстати, что все инструкции Владиславича обязывали должностных лиц неукоснительно выполнять условия Кяхтинского договора: «Никто ни за какую притчину ни под каким образом не может противно мирному трактату действовать». Этими своими заботами, вместе взятыми, Владиславич проявил качества деятеля государственного масштаба. Два деяния Владиславича оставили добрую память по себе у бурятского народа: основание города Кяхты и письмо-инструкция 1728 года об упорядочении отношений между коронной администрацией и бурятами.
За многие месяцы пребывания на земле бурят Владиславич имел возможность наблюдать вблизи их уклад жизни, обычаи, нравы и проникся к ним глубоким уважением. Он не третировал их как «инородцев», а видел в них людей высокого воинского духа, глубоко преданных России, готовых проявлять «доброусердие» и «с добрым сердцем и учтивостью» оказывать разнообразную помощь посольству.
Другой вельможа ранга Владиславича оставил бы без внимания жалобы бурят на притеснения селенгинской администрации либо воспользовался бы случаем получить мзду и от тех, кто жаловался, и от тех, на кого жаловались. Савва Лукич поддержал бурят, мотивируя свою позицию «государственной пользой».
В XVIII столетии со страниц указов не сходило понятие «польза государственная», имевшая столько же толкований, как и средств ее достижения. Она, эта «польза государственная», освящала и произвол чиновников, и грубое попрание человеческого достоинства «подлородных» людей, особенно «инородцев», и жестокое подавление всякого неповиновения, и, наконец, неумолимое выколачивание податей и ясака. «Польза государственная» в понимании Владиславича была наполнена гуманистическим содержанием и отражала просветительские идеи, которым несколько десятилетий спустя суждено будет овладеть умами передовых людей России.
Владиславич счел обоснованной просьбу бурят о лишении ясачников права сбора ясака и передачи этого сбора улусным начальным людям на том основании, что «их оные ясачники» «разоряют требованием подарков, корму и прочего», причем вымогательства нередко превышали сумму самого ясака. Ясачники, кроме того, в корыстных целях заменяли собранную высокосортную пушнину низкосортной и эту последнюю сдавали в казну, чем наносили ей ущерб.
Чрезвычайный посланник с пониманием отнесся и к просьбе бурят о разбирательстве судебных дел между ними. Служилые люди, разбирая «малые дела, ссоры, кражи и прочее», разъезжали по улусам и «для своих корыстей» вымогали взятки у правых и виновных. Савва Лукич счел целесообразным тяжебные дела всякого рода, кроме «креминальных дел и убийств», передать на суд улусных людей.
У бурят был единственный тайша Лупсан, назначенный на эту должность еще в прошлом столетии послом Федором Алексеевичем Головиным. С тех пор истекло почти четыре десятилетия, численность бурят возросла, и Владиславич счел нужным «произвести в тайши еще два человека из их начальников», так как «исполнение указов его императорского величества одному бывает трудно».
Накануне отъезда из Селенгинска в Петербург, 29 июня 1728 года, чрезвычайный посланник в торжественной обстановке каждому из 20 бурятских родов выдал по знамени, чтобы ими пользовались «в радости на гулянье, а в случае – против неприятеля». Здесь имел место эпизод, характеризующий Владиславича как человека высоких моральных правил: тайша Лупсан в знак благодарности преподнес ему коня и две камки. Коня Савва Лукич принял, чтобы тут же передарить его полковнику Бухгольцу, а от камки отказался, «оговариваясь, что они люди степные и убогие и в их подарках он, чрезвычайный посланник, нужды не имеет».[579] В те времена так мог поступить далеко не всякий вельможа.
Нормы, установленные Владиславичем в письме к селенгинскому земскому комиссару Ивану Чечеткину о его правах в отношениях с бурятами, действовали без малого столетие. Объективно они означали стремление правительства опереться на верхушку бурятского общества. Вместе с тем эти нормы ограждали «брацких иноземцев» от произвола местной администрации.
Благожелательное отношение Владиславич проявлял не только к бурятам, но и к населению Камчатки, активно протестовавшему против произвола местной администрации. Владиславич извещал Сенат об опрометчивых действиях сибирского губернатора князя Долгорукого, намеревавшегося послать на подавление восстания «камчатских иноземцев» отряд войск под командой казачьего головы Шестакова. Этот Шестаков имел «между пограничными народы» репутацию человека «мало доброго состояния и не дельного разсуждения». Савва Лукич предупреждал, что если Шестаков будет отправлен «смирять бунтовщиков», то этими действиями он вряд ли «интерес сыщет».
Другим памятным событием в жизни Бурятии, связанным с пребыванием там Владиславича, было основание города Кяхты. 29 июня 1727 года вызванные Владиславичем на
Барсуковское зимовье две роты солдат Тобольского полка приступили к сооружению на мелководной речке Кяхте плотины. Строительство ее было завершено 18 октября. В этот день на гребне плотины были вбиты четыре столба с крышей, на которой водрузили шест с государственным гербом. Одновременно с сооружением плотины началось строительство «крепосцы». Эта «крепосца, – доносил Владиславич в следующем году, – названа Ново-Троицкая, ибо зачата прошлого году в день праздника Пресвятые Троицы». Ее периметр – 240 саженей, она была огорожена палисадом и окружена рвом; внутри размещались таможня, амбар для хранения солдатского провианта, конюшня, мельница, кузница, баня и церковь.
Рядом с укрепленным местом – хоромы для приезжих купцов и хранения товаров, «дондеже построится новая слобода». Ее постройка предусматривалась Кяхтинским договором. Она должна была стать пунктом мелкой меновой торговли между русскими и китайскими купцами.
Слободу – будущий город Кяхту – Владиславич велел строить в четырех верстах от «крепосцы». В бытность там Саввы Лукича она еще не была готова. Оставленные им инструкция и чертеж предусматривали сооружение 32 хоромин по три избы в каждой, гостиного двора на 24 лавки с таким же числом амбаров на втором этаже. В строительстве слободы участвовали и буряты.
Главный недостаток избранного для торговой слободы места – плохое качество питьевой воды – вполне окупался одним существенным преимуществом: слобода стояла на кратчайшем пути от границы к Пекину. Именно это обстоятельство предопределило дальнейшую судьбу Кяхты. Со времени прекращения казенной караванной торговли в начале второй половины XVIII века Кяхта приобрела значение главного пункта обмена между Россией и Китаем. Время кипучей торговой жизни города приходится на XIX столетие, когда его годовой оборот достигал нескольких десятков миллионов рублей. Почти весь потреблявшийся в России китайский чай, до 400 тысяч пудов ежегодно, доставлялся в Кяхту в обмен на русские сукна, ткани и прочие промышленные товары. Во второй половине XIX столетия торговля в Кяхте постепенно утрачивала прежнее оживление. Окончательный удар ей нанесла железнодорожная Транссибирская магистраль.
За трехлетнее отсутствие Саввы Лукича в его семье произошли большие изменения: в декабре 1725 года, когда он находился на пути в Китай, умерла мать; не стало и двух дочерей. В 1730 году Владиславич лишился и третьей дочери. Ей было только пять лет.
После возвращения из Китая Владиславич прожил еще десять лет. Видимо, силы его были на исходе. Кроме того, сподвижники Петра во времена бироновщины были не в чести. Во всяком случае, имя Владиславича не встречается среди правительственной элиты. Впрочем, сразу же по приезде в столицу он проявил некоторую активность – ему было поручено составление нового тарифа. Сведения об этой сфере деятельности Саввы Владиславича мы извлекаем из донесений французского поверенного в делах Маньяна в Версаль. Рагузинский был сторонником уменьшения ставок покровительственного тарифа 1724 года и ставил под сомнение полезность для России его неукоснительного соблюдения. Он полагал, что высокие таможенные пошлины наносили ущерб интересам прежде всего России, ибо вынуждали потребителей промышленных товаров довольствоваться изделиями низкого качества отечественных мануфактур, владельцы которых приобретали положение монополистов на внутреннем рынке; высокие пошлины, кроме того, вынуждали иностранных купцов изыскивать хитроумные способы преодоления таможенного барьера, в результате чего казна несла значительные убытки.
Из депеш Маньяна явствует, что Рагузинский выступал поборником установления более тесных, а главное, прямых торговых связей России с Францией, минуя посредников, в роли которых выступали английские и голландские купцы, присваивавшие значительную долю барышей. Маньян пророчил графу возможность достичь высших должностей; он, например, доносил о предполагавшемся назначении его президентом Коммерц-коллегии, однако назначение так и не состоялось.[580] К этому времени сошли в могилу или с политической арены его друзья и покровители – Меншиков, Толстой, Апраксин.
В нашем распоряжении мало данных, чтобы ответить на вопрос: как складывались отношения Владиславича с всесильным Меншиковым? Скорее всего, они строились на почве взаимных выгод и относились к числу деловых, а не дружественных. Меншиков, разумеется, знал, что царь покровительствовал Владиславичу. Знал он и о том, что благожелательное отношение царя к Савве Лукичу не простиралось столь далеко, чтобы оттеснить на второй план его, Меншикова. В этом отношении Владиславич не был опасен, и Александр Данилович не проявлял к нему враждебности, но и не питал теплых чувств. У Владиславича также не было резона создавать напряженность в отношениях с царским любимцем, протекция которого всегда могла быть полезна. Расположения светлейшего Владиславич достигал оказанием различных услуг, а также подарками.
Первые из известных нам писем Владиславича к Меншикову относятся к январю 1706 года, когда Савва Лукич поздравил царского фаворита с браком и отправил молодоженам «два ящика и шкатулку за моею печатью с некоторыми премалыми вещицами». В числе «премалых вещиц» восемь медных кубков, 100 свежих лимонов, консервы, пять черепаховых гребней.[581] В другой раз отправленные Меншикову подарки были более щедрыми: походная палатка, лошадь, бочонок малосольных лимонов, бочонок селедки и пр.
Расходы на подарки окупались – Рагузинский извлекал из контактов с князем соответствующую выгоду. В 1707 году он, имея царский указ о монопольном праве на покупку ленских лисиц, счел тем не менее необходимым обратиться с просьбой к светлейшему, чтобы тот повелел Гагарину лисиц в Китай не отправлять.
Затем в переписке наступил десятилетний перерыв, и Рагузинский воспользовался услугами князя только в 1717 году, когда находился в Венеции. В июне этого года Савва Лукич, извещая Меншикова, что корабль с ценным грузом – закупленными в Италии скульптурами для Летнего сада царя – отбыл в Петербург, просил разгрузку его поручить людям осторожным и опытным, «дабы в небрежение людей неискусных и неопытных не поломать, ибо суть статуи и протчие марморовые вещи изрядные».
Английский корабль, доставивший произведения искусства в Петербург, должен был вернуться в Венецию с тысячью бочек смолы. Владиславич просил Меншикова завершить погрузочно-разгрузочные работы в течение 20 дней, в противном случае доведется платить штраф за каждые просроченные сутки. К тому же, добавлял Владиславич, «англински люди спесивы».
Зная характер светлейшего, его страсть превосходить не только вельмож, но и царя в убранстве дворца и парка, Владиславич сообразил, что Меншиков непременно воспользуется его предложением приобрести в Венеции вещи «на обиход сада и дому вашего». Меншиков такой возможности не упустил, и Владиславич получил задание приобрести тысячу аршин венецианской «камки» для обивки покоев дворца князя и «статутов марморных 20 для садного пригожества». Статуи пришлось заказать современным мастерам, ибо, как писал Владиславич, «которые статуи очень старые из старых славных скульпторов работы, тые зело драги и трудно сыскать можно… а худых покупать не по что».
Весной 1719 года статуи были отправлены в адрес Меншикова. Сколько их было и что они изображали, мы не знаем. Но из приведенных данных явствует, что заботам Владиславича столица обязана появлением итальянских скульптур не только в Летнем саду, но и в парке Меншикова.
Изредка Савва Лукич, человек, как мы уже отмечали, прижимистый, позволял себе подносить членам семьи светлейшего подарки – заморские диковинки. В 1716 году Дарья Михайловна родила дочь Екатерину. Савва Лукич отправил роженице и новорожденной «маленький подарунок» – шапки и платки турецкого производства. В следующем году князь заказал для сына Самсона набор детских пистолетов, мушкет, шпагу. За шпагу Савва Лукич денег не взял.
После смерти Петра положение Меншикова и Владиславича существенно изменилось. Первый из них приобрел больше влияния и власти, второй утратил покровителя. Вследствие этого дистанция в их общественном положении увеличилась, что подтверждает письмо Владиславича к Меншикову из Селенгинска. В нем Савва Лукич не рискнул назвать князя протектором – ипостась светлейшего обязывала корреспондента давать клятву верности, что он и делает: «Тружуся неустанно и впредь трудиться обещаюся, елико Бог мне поможет и разум мене допустит».
Более доверительными были отношения Рагузинского с адмиралом Федором Матвеевичем Апраксиным. Причина тому, видимо, крылась в свойствах характера адмирала, не отличавшегося, подобно Меншикову, высокомерием и надменностью. Апраксина, как и Меншикова, Савва Лукич снабжал разного рода иноземными поделками. В 1716 году Рагузинский по просьбе адмирала приобрел сервиз, который заказчик просил доставить в Петербург «как наибезопаснее». Находясь в Венеции, Владиславич на «обиход дому» купил адмиралу тысячу плит. Для шелковой мануфактуры, компанейскими владельцами которой состояли Апраксин, Меншиков и Шафиров, Рагузинский покупал в Венеции шелк-сырец.[582] Коммерческие услуги продолжались и после приезда Рагузинского в Россию. В середине июля 1725 года Савва Лукич уведомил, что получил заказанный адмиралом черный итальянский бархат на кафтан и брокатель «для домового убору такого цвета и состояния, какими убрана меньшая камора в доме моем». 20 аршин бархата по сказочно дорогой цене – три с полтиною за аршин – Апраксин купил.[583] Посреднические услуги, разумеется, ни о чем еще не говорят. Но вот обращение Владиславича к Апраксину накануне отъезда в Китай с просьбой «покрыть великодушным своим покровом матушку, племянника и оставших моих» свидетельствует об их близости. С подобного рода просьбами к чужим людям либо мимолетным знакомым не обращаются. Ясно, что Рагузинский рассчитывал на благожелательный отклик. Подобный вывод вытекает и из другого письма, отправленного Апраксину Саввой Лукичом за день до выезда из Москвы в Китай. На этот раз автор письма отвлеченной просьбе «покрыть великодушным своим покровом матушку, племянника и оставших моих» придал конкретное содержание. О своей матери он не хлопотал, поскольку она находилась «в древнейших летах» и готовилась отправиться в лучший мир. Предмет забот Владиславича составляли два его племянника – Моисей и Гавриил. Первого из них он не только отдавал «кавалерскому великодушию» адмирала «во всяких приключающихся нуждах», но и поручался за него в 500 рублей, если тот в случае надобности одолжит их у Апраксина. Второму племяннику, Гавриилу, поручил собрать вместо себя индукту на Украине. Если Гавриил будет просить «милости и протекции», то Апраксин не должен был оставлять его в беде.[584]
Из всего круга знакомых Рагузинского по степени близости к нему следует, пожалуй, выделить Петра Павловича Шафирова и Петра Андреевича Толстого. Если с Меншиковым и Апраксиным Савва Лукич обменивался мелкими услугами, то его отношения с вышеназванными сподвижниками Петра складывались на основе деловых связей: Шафиров и Толстой, как и Рагузинский, подвизались в сфере русско-турецких отношений, где цена взаимных услуг измерялась жизнью.
Рагузинский, надо полагать, испытывал чувство признательности к вице-канцлеру Шафирову, когда тот вел переговоры с османами на реке Прут. Шафиров решительно отклонил, разумеется с ведома царя, притязания везира на выдачу Рагузинского. Этим он спас Савву Лукича от неминуемой казни.
Когда Шафирова отправили в Турцию заложником выполнения условий Прутского договора, пришел черед Рагузинского. Савва Лукич выступал утешителем жившей в Москве баронессы Шафировой. Он напомнил Анне Степановне, что царь еще на реке Прут обещал ее супругу установить жалованье в пять тысяч рублей в год, и предложил свое посредничество, чтобы передать ее челобитную на этот счет царице. В том же 1713 году Савва Лукич порадовал супругу вице-канцлера приятной новостью, полученной из Царьграда: Шафиров был выпущен из тюрьмы.
Опека Рагузинского над семьей заложника выразилась и в том, что он выступал посредником в брачных делах дочери Шафирова. Ее жених, сын Матвея Петровича Гагарина, обучался за границей военно-морскому делу. Разрешение на его отъезд в Россию для свадебного обряда мог дать только царь.
– Когда жених и невеста желают, я благословляю, – ответил царь на просьбу Рагузинского, но тут же добавил: – Однако же не лутче ли ожидать Петра Павловича?
Рагузинский заметил:
– Воля вашего величества, однако ж кампания пройдет, и жених на практику морскую пойдет и без указу приехать не смеет, и дело продлится. Не лутче ли поскорея, о чем баронеша зело просит, а превосходительнейший барон благословляет.
Доводы убедили царя:
– Пишите, дабы сюда прибыли жених и невеста, где будем играть свадьбу, и отпустим за море их обоих.[585]
И все же близкие отношения между Шафировым и Рагузинским продолжались недолго. Предполагать так дает основание отсутствие переписки между ними в годы, когда Рагузинский находился в Венеции. Скандал в Сенате, разыгравшийся в 1722 году, едва не стоил Шафирову жизни. Ему все же удалось сохранить жизнь, но он попал в число опальных, что обусловило его изоляцию.
Дружеские связи Рагузинского с Толстым сложились еще в годы, когда оба они находились в Турции, и сохранились до падения последнего в 1727 году. В Константинополе русскому послу Толстому довелось жить до 1713 года. Рагузинский выступал ходатаем по делам Толстого в Москве: он в 1707 году напоминал Меншикову, чтобы тот исхлопотал у царя давно обещанные послу вотчины, просил царя временно освободить сына Толстого Ивана от службы, «дондеже исправит свои домашние нуждицы». На Рагузинском лежало общее попечение о детях Толстого. В 1712 году ему было поручено обучать в своем доме сына Петра Андреевича «грамоте руской» и «писать». Адмирал Апраксин наставлял Рагузинского, дабы тот не проявлял к ученику мягкотелости и не поддавался просьбам сердобольной матери ученика: «Когда он к Москве прибудет, изволь ево в том нудить и матери ево воли в нем не давай, чтобы к приезду отцову выучитца мог».
Перед отъездом в Китай у Рагузинского не было человека ближе Толстого. Выше упоминалось, что заботу о семье во время пребывания в Китае Рагузинский отчасти возложил на адмирала Апраксина, но более всего Савва Лукич уповал «на христианское и кавалерское человеколюбие» П. А. Толстого. Именно Толстому он поручил продать свой дом в Москве, а вырученные деньги передать одному из племянников (Моисею или Гавриилу), «дабы те деньги могли они употребить в торг для моей прибыли». Толстой, кроме того, должен был похоронить «по христианскому обыкновению» престарелую мать и больную дочь, если те умрут. Но самым главным свидетельством особого доверия Рагузинского к Толстому является составленная в Москве духовная. Душеприказчиком в ней был назван П. А. Толстой, на которого возлагалось наблюдение за исполнением воли завещателя, точно изложенной в духовной.
Умер Савва Лукич 18 июня 1738 года. Незадолго до смерти, 22 апреля 1738 года, он, «обретаяся уже при самой старости и отягощен непрестанными болезньми», подписал новое завещание. Оно отразило изменения, происшедшие среди родни, и новые штрихи, характеризующие отношение к ней Владиславича. Дочь, упоминавшаяся в первом завещании, умерла. Супруга продолжала жить в Венеции. Вместо Гавриила наследником всего имущества «за отменную ево ко мне любовь и всегдашную послушность и повиновение» был объявлен Моисей Иванович Владиславич. Что касается Гавриила Ивановича – наследника по первому завещанию, – то о нем было сказано, что «он, Гаврил, своими трудами и моими награждениями и так доволен». Быть может, Гавриил вышел из прежнего доверия. Но можно предположить и другое: Гавриил прочно осел на Украине, женился там и жил в вотчинах, судя по завещанию, приобретенных у Саввы Лукича по льготной цене.
Гнев в отношении непутевого племянника Ефима и супруги, продолжавшей жить в Венеции, Владиславич сменил на милость: «Жене моей графине Вергилии Тревизани на память моей к ней любви и дабы не понесла какой-либо нужды, выдать ей сверх вышеписанных ее уборов готовыми деньгами семь тысяч дукатов венецианских называемых малых», что составляло около четырех тысяч рублей. Возможно, что таким способом Савва Лукич вознаградил Вирджинию за их прошлую совместную жизнь.
Ефиму причиталось единовременно три тысячи рублей. Напомним, что по первому завещанию ему отпускалась только тысяча. Как и в первом завещании, здесь тоже есть оговорка: если Ефим станет «турбовать» наследника кляузами, то три тысячи надлежало разделить между морским и сухопутным госпиталями.
Не забыты были и монастыри в Сербии. Требианскому и Житомыслицкому монастырям Савва Лукич отказал по ящику церковных книг, а церкви, что при Кастелнове на Топлах, он завещал богатую утварь, изготовленную в Москве.[586]
Один из «птенцов гнезда Петрова», Владиславич оставил заметный след в истории внешней политики России. Его имя, овеянное легендами, чтят и на родине – в Сербии. Там его знают как пламенного патриота, просветителя и основателя школ, борца против османских угнетателей и горячего сторонника сближения славянских народов с Россией.
Яков Вилимович Брюс
На государевой службе
Так уж случилось, что в России за Яковом Вилимовичем Брюсом прочно закрепилась слава чернокнижника, «колдуна с Сухаревой башни», астролога и алхимика, обладающего неким тайным знанием. Однако, несмотря на все эти «титулы», имя Брюса неизменно произносилось и произносится с уважением. Не только нам, отстоящим от петровского времени на многие поколения, Яков Брюс представляется человеком-загадкой. Его современники тоже чувствовали, что это неординарная личность, непохожая на других соратников Петра. Действительно, в отличие от ряда новоиспеченных вельмож, сочинявших свои родословные и доказывавших свое родство с августейшими предками из Европы или Азии, Брюс был самым настоящим «выезжим» потомком шотландских королей. Благодаря тому, что в его жилах текла королевская кровь, он никогда не страдал комплексом человека, попавшего «из грязи в князи». Ему было присуще внутреннее благородство, не позволявшее идти на сделки с совестью.
В то время как некоторые представители знатных и незнатных родов, волею судьбы оказавшиеся у кормила власти, не могли похвастаться элементарной грамотностью, Брюс был европейски образованным человеком, знавшим несколько языков. Тогда как большинство попутчиков Петра I поддерживали царя в его реформаторской деятельности, не задумываясь о ее глубинном значении и лишь увлекшись ею как азартной игрой, Яков Вилимович всецело понимал смысл приближения России к европейскому миру, поскольку сам был генетическим носителем черт европейского устройства. В противоположность многим российским сановникам, не брезговавшим запускать руку в государеву казну и брать взятки, этот шотландец не был мздоимцем и казнокрадом. Отчасти причиной тому было все то же королевское происхождение, а отчасти – строгий надзор за иноземцами, находившимися в русской службе. То, что могло сойти с рук россиянину, способно было погубить «немца».
Будучи иноземцем, иноверцем, Брюс тем не менее чувствовал себя человеком России. Свято помня о своих шотландских корнях и тщательно изучая английскую генеалогию, он, однако, не мыслил себя вне службы русскому царю и не пытался вернуться на свою историческую родину. Кто знает, переживи семейство Брюсов кромвелевское лихолетье в Англии, туманный Альбион мог бы гордиться великим ученым Якобом Даниэлем Брюсом, поскольку для его научных занятий в Англии условий было куда больше, чем в России. Но, по счастливому стечению обстоятельств, Россия стала родиной русского шотландца, внесшего большой вклад в петровские преобразования. Попробуем же увидеть, кем был в реальности наш герой.
Дальние предки Якова Вилимовича Брюса были августейшими особами. Роберт I Брюс правил в Шотландии в 1306–1329 годах, Эдуард Брюс был королем Ирландии в 1316–1318 годах. Их ближайшие потомки носили титулы лордов Клокмэннэн. Во времена Кромвеля одному из продолжателей знатного рода, Вилиму Брюсу, пришлось покинуть родину и попытать счастья в России. В числе других иноземцев, надеявшихся сделать себе карьеру на русской службе, Вилим Брюс в 1647 году прибывает в русское государство и получает чин полковника. Россия в то время не вела крупных военных действий. Поэтому многие вновь прибывшие иноземные офицеры не могли проявить себя на командном поприще и записывались рядовыми воинами, чтобы получать сносное жалованье. Только к началу войны России с Речью Посполитой в 1654 году Вилим Брюс смог принять участие в боях в чине полковника. Более десяти лет он командовал полком в Пскове. За заслуги перед российской короной был произведен царем Алексеем Михайловичем в генерал-майоры. Во время службы в Пскове у него родились два сына: в 1668 году – Роберт, а в 1670-м – Якоб. Позже их стали называть на русский манер – Романом и Яковом.
В 1680 году Вилима Брюса не стало. Спустя три года оба брата были записаны в царские потешные полки. Принять участие в настоящем военном походе Якову Брюсу пришлось в 1687 году во время Крымской кампании. Он был в ранге прапорщика солдатского строя. В 1689 году Яков разделил участь воинов второго Крымского похода, что, однако, не помешало ему быть щедро вознагражденным правительницей Софьей Алексеевной.
Переломной вехой в жизни Я. В. Брюса стал 1689 год, когда он в споре царевны Софьи и Петра за корону принял сторону последнего и прибыл вместе с другими воинами в Троице-Сергиев монастырь. Это и оказало решающее влияние на его дальнейшую судьбу: в 1694 году Брюс в чине поручика армии потешного генералиссимуса Ф. Ю. Ромодановского учавствовал в Кожуховских маневрах, а в следующем году отправился в первый Азовский поход, закончившийся, как известно, неудачей. В мае 1696 года Брюс вторично оказался у стен Азова. На этот раз Петру удалось овладеть крепостью, и Брюс в награду получил чин полковника.
В 1697 году новоиспеченный полковник отправляется «к генералу и адмиралу и наместнику Новгородцкому, ко Францу Яковлевичу Лефорту… в Голанскую землю во град Амстердам», о чем свидетельствует выданная ему «Проезжая грамота», обязывавшая всех, «какова ни есть состояния… со всеми при нем будучими людьми, рухлядью и вещи… пропускать везде без задержания».[587]
Из Амстердама Брюс отправился в Лондон, где учился «математическому делу» и одновременно по заданию Петра закупал разнообразные инструменты, в том числе астрономические и математические. Ему же поручалось сделать «краткое описание законов… шкоцких и агленских… о наследниках (или первых сынах)».[588] Все эти поручения отрывали Брюса от обучения, и он 15 сентября 1698 года писал царю в Москву: «Перед отъездом твоим государским был мне твой… приказ, чтоб мне пробыть в Лондоне только до первых чисел сентября месяца. И я зело желал, чтоб к тому времени докончить свое ученье, да воистинно не мог», хотя и старался. Если «Бог изволит, чаю сего месяца сентября в последних числах докончить и ехать отсюда».[589]
В Лондоне Брюс посещал обсерваторию, где прослушал лекции по астрономии у Джона Флимстида и Эдмунда Галлея. Позднее, в России он довольно подробно описывал царю правила наблюдения за солнечным затмением и способы его фиксации, пользуясь знаниями, полученными в Англии.
Во время пребывания Петра I в Лондоне в составе Великого посольства Яков Брюс посетил монетный двор в Тауэре, о чем свидетельствует запись в волонтерском путевом «Юрнале 206 (1698) году»: «В 13 день апреля был десятник (царь. – И. К.) с Яковом Брюсом в Туре, где денги делают».[590]
В это время смотрителем монетного двора был Ньютон. Имеющиеся в нашем распоряжении источники не дают прямых указаний на то, что Брюс встречался тогда с великим физиком. Но с определенной долей уверенности можно предположить, что русского царя знакомил с денежным производством сам смотритель двора. Вероятно, и Яков Вилимович Брюс общался с Ньютоном, пусть даже по вопросам, касающимся технологического процесса чеканки денег. Неоднократно наведывался Брюс на литейный завод и в арсенал, где наблюдал за стрельбой из современных пушек.
Время, проведенное Я. В. Брюсом в Лондоне, стало для него школой очного знакомства с западноевропейским миром и заложило фундаментальные для того времени знания по математике, физике и основам астрономии. Пребывание в Европе позволило ему увидеть уровень мастерства в изготовлении различных приборов, которого он позже стремился добиться от русских умельцев.
По возвращении из Англии Яков Брюс из атмосферы научной жизни окунается в действительность российского бытия. Самым интересным занятием для него было бы дальнейшее продолжение самообразования и проведение собственных научных исследований. Но тогда еще не мыслили о возможности служить только на ученом поприще. Польза виделась лишь в зримых результатах труда. Поэтому Брюс в 1700 году пожалован в генерал-майоры от артиллерии и ввиду начала войны со Швецией принужден заниматься военной и хозяйственной службой государству.
Первое поручение, данное царем в этом же году, не принесло генералу лавров – он слишком долго двигался со своим полком из Москвы к Новгороду и достиг его только через 15 дней, чем вызвал гнев царя, отстранившего его от должности командира полка. Это обстоятельство было обыграно во враждебной России брошюре, где на примере Брюса описывалось недоброжелательное отношение русского царя к иностранцам.
Пасквиль, авторство которого приписывали Нейгебауэру, поставил в двусмысленное положение и супругу Брюса, которая якобы разделяла ложе с Меншиковым, что является сущей воды клеветой. Само по себе появление небольшой книжицы в Германии, да еще без обозначения типографии, не дало бы почвы для запятнания чести Брюса в России, где вряд ли нашлось много людей, знакомых с ее содержанием. Но в 1705 году соотечественник Нейгебауэра барон Гюйссен, благожелательно относившийся к России, опубликовал собственную брошюру на немецком и русском языках под выразительным названием «Пространное обличение преступного и клеветами исполненного пасквиля». Этой брошюрой автор, намеревавшийся разоблачить клеветнические инсинуации Нейгебауэра и защитить доброе имя Брюса, оказал последнему медвежью услугу, ибо воспроизвел на русском языке к тому времени забытую историю и сделал ее содержание достоянием широкой публики. Оправдывая Брюса, он нанес ему душевную рану. Гюйссен писал, что Брюса послали осаждать Нарву, а также обязали «доставить туда из Новгорода нужные военные припасы для войск… Это повеление он не исполнил с надлежащею быстротою… Это обстоятельство и было сначала поводом к обвинению генерала: его арестовали и отдали при Нарве под военный суд. Однако по прошествии нескольких дней, когда выслушаны были оправдания Брюса, и когда они найдены основательными, его освободили с возвращением прежнего звания и допущением к исправлению высших должностей». Коснулся автор и сюжета об измене супруги Брюса: ее не могло быть, писал Гюйссен, ибо во время пребывания Меншикова под Нарвой жена Якова Вилимовича находилась в Москве. Опровергая навет в супружеской неверности, автор «Пространного обличения…» продолжал: «Эта самая дама, вполне достойная любви и уважения, довольно полна, известных лет, прекрасной репутации, совершенно христианской жизни и поведения, и более всего занята заботами о своем хозяйстве, нежели галантными похождениями». Реакция самого Якова Вилимовича на обе эти брошюры нам неизвестна. Вероятно, первая из них преподносила вымышленные факты. Если бы дело обстояло так, как излагал Нейгебауэр, то вряд ли после этого Брюс, обладавший обостренным самолюбием, стал бы поддерживать с Меншиковым не просто официальные, но и приятельские отношения, о которых будет сказано ниже.
Вернемся, однако, к военной и гражданской карьере Брюса. Как ни странно, катастрофа, постигшая русскую армию под Нарвой, благоприятно отозвалась на его дальнейшей судьбе. Назначенный вместо него командиром полка новгородский воевода князь И. Ю. Трубецкой оказался вместе с другими офицерами в шведском плену. В этих условиях Петру ничего не оставалось, как в 1701 году назначить проштрафившегося генерала новгородским воеводой. В обязанности Брюса входило укрепление города, заготовка припасов для артиллерии, изготовление станков для пушек, а также лестниц для готовившегося штурма Шлиссельбурга.
С поставленными задачами Брюс успешно справился, проявив при этом инициативу и изобретательность. Так, он не ограничился укреплением одного Новгорода, но принял меры для сооружения крепостей в прочих городах округи и просил у царя «изволения… пушечной двор на лето строить, и для того я к тебе, милостивому государю, чертеж послал». С целью сбережения дубового леса, которым столь дорожил царь, Яков Вилимович, зная о том, что пушкам не предстоял длительный путь, предложил изготавливать станки для них из соснового леса. Петр одобрил действия Брюса: «Приготовление, как ваша милость писал, зело изрядна».[591]
В 1704 году Яков Вилимович вместо попавшего в плен имеретинского царевича Александра Арчиловича был назначен исполнять должность генерал-фельдцейхмейстера, то есть главного начальника артиллерии. Эту должность он занимал вплоть до своей отставки в 1726 году. Выбор царя оказался удачным – в России едва ли можно было сыскать более знающего артиллерийское дело человека, чем Я. В. Брюс, основательно изучивший как теорию, так и литейное дело во время пребывания в Англии. Брюс столкнулся с плачевным состоянием русской артиллерии: в армии отсутствовали нормативные акты, определявшие права и обязанности Пушкарского приказа и пришедшего ему на смену Приказа артиллерии. О недооценке артиллерии свидетельствовало и отсутствие точно установленных источников ее финансирования, и меньший, чем у походных офицеров, размер получаемого жалованья.
С самого начала вступления в должность Яков Вилимович либо донимал жалобами царя, либо сам получал жалобы на отсутствие денег. Князь Ф. Ю. Ромодановский, некоторое время занимавшийся заготовкой в Москве артиллерийских припасов, писал Брюсу: «Истинно ни в которых приказах нигде денег нет… Лучится и впредь какое литье – меди красной взять негде: без денег не дают».[592] Скудное состояние артиллерии отражалось и на материальном положении пушкарей, вынужденных «таскаться по миру» в поисках подаяний. Брюс в 1708 году доносил, что «уговорщики» – поставщики пороха – претерпевали «великое задержание в деньгах, како никогда не бывало, отчего принуждены то дело покинуть». Казна задолжала им 70 000 рублей. Даже чиновники артиллерийского ведомства жаловались своему начальнику, что «ныне в Приказе артиллерии в остатке денег ничего нет, а из губерний денег ни откуда не дают и затем на последнюю треть 714 года артиллерийским служителям и мастеровым людям, которые работают из кормовых дач, за работные дни уже два месяца не дано, от которых непрестанная докука, что без жалованья помирают голодом».[593]
Генерал-фельдцейхмейстеру, а эта должность из временной стала для Брюса постоянной в 1711 году, когда было получено известие о смерти пленного Александра Арчиловича, довелось преодолевать множество других трудностей, глухое сопротивление вводимым им новшествам. Так, в 1708 году он писал князю Репнину: «Хотя мне великие противности и обиды были от ненавидящих артиллерии проходячей зимы, також и в походах зимних, однакож я на сердце держал, мысля, что инако будет, не дознав простотою своею лукавство людское». Отчаяние сквозит и в письме Брюса Б. П. Шереметеву в 1711 году: «Как стал при артиллерии служить, такого превеликого оскудения и нужды в провианте артиллерийских служителей не видал. Из которых иные уже не ели ничего дней по пяти и шти. И не чаю, чтоб могли в такую нужду оные войти, ежели б я сам при них был».[594] Такую картину увидел Брюс после своей вынужденной отлучки от армии, когда командиры других родов войск мало заботились об артиллеристах. Оговоримся: подобного рода трудности во время Прутского похода претерпевали не только артиллерийские служители, но и вся участвовавшая в нем армия.
Отвлечься от мрачных мыслей Якову Вилимовичу помогали научные занятия. Конечно, для серьезной научной работы у него просто не хватало времени. В это время он активно занимается популяризацией европейской науки и интенсивным самообразованием. Этому способствовала его работа в качестве переводчика иностранных книг на русский язык. Блестящее знание немецкого, английского и русского языков позволяло Брюсу делать переводы, вполне соответствовавшие требованиям царя: переводчику надлежало руководствоваться не стремлением достигнуть максимальной близости к оригиналу, а заботой о том, чтобы, сохраняя смысл переводимого, создать текст, доступный пониманию читателя. В основном это были труды по механике, фортификации, баллистике, математике, книги, касающиеся этикета, а также грамматики иностранных языков. Переводом книг Яков Вилимович занимался, не покидая своей должности, и не только в периоды относительно спокойного состояния дел, но и будучи в действующей армии, буквально «на колесах». Свидетельством тому являются жалобы Брюса о том, что «токмо за походом… я не мог оную (книгу. – И. К.) сам прочесть. И ежели получю час свободной, то немедленно оную выправя, пришлю к вашему величеству…».[595] В марте 1709 года Брюс просил прощения у царя за то, что отправляет ему книгу, переведенную на русский язык, без переплета, поскольку там, где он стоит с армией, переплетчиков нет. В общей сложности за 1707–1717 годы Яков Вилимович перевел на русский около 15 книг. Если учесть, в каких условиях он это делал, то надлежит признать высокую работоспособность переводчика.
Среди книг, пользовавшихся огромной популярностью среди современников, достойно быть отмечено «Юности честное зерцало» – наставления молодым людям, извлеченные из иностранных книг и касающиеся поведения в семье, в обществе, на улице.
Знакомство с иностранными публикациями по военному делу помогало Якову Вилимовичу в должности начальника артиллерии. Стараниями Брюса артиллерии был придан статус особого рода войск, что было закреплено Уставом воинским 1716 года: артиллерия «стоит якобы особливый корпус». Устав определял и ее положение в боевых порядках: «Артиллерия обыкновенно в поле стоит за полками или в средине фронта и получает оная ежедневно обыкновенной от инфантерии караул». Благодаря хлопотам генерал-фельдцейхмейстера царь издал указ о подчинении тульских оружейных заводов, а также порохового производства в Москве начальнику артиллерии.
Одним из средств придания артиллерии самостоятельности была передача ее в 1718 году в ведение Берг– и Мануфактур-коллегии, президентом которой был назначен генерал-фельдцейхмейстер Брюс.
Помимо организационных вопросов, связанных со становлением артиллерийского дела, Яков Вилимович внес немалый вклад в развитие практической артиллерии. Это стало возможным благодаря его занятиям физикой и математикой. В 1708 году вышел из печати сборник задач, составленных Я. В. Брюсом, под названием «О превращении фигур плоских во иныя такова же содержания». Среди прочих геометрических задач в нем содержались задания, решение которых имело практическое значение при изготовлении артиллерийских орудий. Петр часто просил Брюса прислать указания, каким способом можно измерить объем мортирных камер для определения количества пороха, входящего в них. Государь сам занимался построением различных чертежей для артиллерийских орудий, периодически консультируясь с Брюсом и требуя прислать образчики построения разных типов мортирных камер. Предложить царю единый способ вычислений для построения камер Яков Вилимович не решался, чтобы не поставить того в затруднительное положение, так как для этого требовались сложные вычисления, с которыми августейший ученик едва ли справился бы. Поэтому Яков Вилимович предпочитал сам делать нужные расчеты и присылать готовые образцы требуемых пропорций, предварительно сообщив, что «невозможно лехкаго генералного правила о преложении механически дати, кроме вычета немалого, и то кубического… а иногда прилучится така пропорция камеров, что токмо квадратически и тройною строкою вычисляется».[596]
Будучи хорошо осведомлен в тонкостях артиллерийской техники, генералфельдцейхмейстер старался приблизить состояние российских орудий к иностранным образцам. В период пребывания Брюса начальником артиллерии было введено измерение английскими футами и дюймами взамен аршинов и вершков. Тогда же была впервые применена артиллерийская шкала, изобретенная еще в XVI веке нюрнбергским механиком Георгом Гартманом.
Получив от Петра задание «сыскать способ, как бы возможно скорея стрелять из больших пушек»,[597] Яков Вилимо-вич изобрел «способ», при помощи которого в течение семи минут было произведено 15 выстрелов. В конструкцию пушки были внесены изменения, чтобы сделать ее пригодной для частой стрельбы. Помимо изобретения скорострельной пушки Брюс трудился и над созданием собственного рецепта пороха. Все это убеждает нас, что артиллерийское ведомство имело в лице своего руководителя не только хорошего распорядителя, но и прекрасного артиллериста-практика.
Едва ли не самым важным итогом деятельности Якова Вилимовича на поприще управления артиллерийским ведомством явилось повысившееся значение артиллерии в решающих победах Северной войны. Он принимал участие в битве при Лесной, но особенно отличился в Полтавской баталии, где артиллерии принадлежала решающая роль в разгроме противника. Артиллеристы Брюса, подпустив неприятеля на 200–300 шагов, залпами из 87 орудий нанесли ему колоссальный урон. Вклад Брюса в победу был высоко оценен Петром, наградившим его орденом Андрея Первозванного.
В следующем году Брюс по просьбе Шереметева командовал артиллерией при осаде Риги, а в 1711 году участвовал в злополучном Прутском походе. Здесь с особенной силой сказалась роль артиллерии не только во время сражения, но и после него, когда она сдерживала наступательный порыв турок, пытавшихся разгромить арьергард отступавшей русской армии.
Плодотворная деятельность Брюса на посту генералфельдцейхмейстера отражена в цифрах: к 1725 году Россия обладала пятью тысячами крепостных, осадных и полевых полковых орудий и почти четырьмя тысячами пушек корабельной артиллерии. Медные орудия отливали в Москве и Петербурге, чугунные – на Олонецких заводах, на Урале и Систербеке. Артиллерия внесла немалый вклад в победоносный исход Северной войны.
Организационное совмещение Берг– и Мануфактур-коллегии с артиллерийским ведомством усложняло положение этих учреждений. В течение долгого времени не было ясности относительно количества средств, отпускаемых на конкретные нужды артиллерии, поэтому она играла роль бездонной бочки, поглощавшей средства Берг– и Мануфактур-коллегии. Вскоре артиллерия была выведена из-под контроля коллегии и стала существовать самостоятельно. Однако Яков Брюс продолжал исполнять две должности: генерал-фельдцейхмейстера и президента Берг– и Мануфактур-коллегии.
Выяснить роль Брюса в управлении Берг– и Мануфактур-коллегией достаточно сложно. Объясняется это тем, что коллегиальная система предполагала четко установленную Генеральным регламентом процедуру вынесения коллежских указов. Каждая коллегия при рассмотрении дел руководствовалась своим регламентом, определявшим ее права и обязанности. Регламент Берг-коллегии, называвшийся Берг-привилегией, был опубликован среди аналогичных документов первым – в 1719 году. Берг-привилегия объявляла в стране горную свободу, то есть право каждого, обнаружившего залежи руды, основывать заводы на любой земле, кому бы она ни принадлежала: помещику, монастырю или государству.
Повседневная деятельность Берг-коллегии состояла в выдаче разрешений на постройку заводов и взимании налога с выплавленного чугуна или меди. Процедура складывалась из следующих элементов: житель (кроме крепостного крестьянина), обнаруживший руду, подает прошение разрешить сооружение завода, прилагая при этом образец руды. В лаборатории Берг-коллегии руда подвергается контрольной плавке на предмет наличия в ней железа или меди и определения возможной рентабельности предприятия. При положительном результате экспертизы на место, где предполагалось построить плотину и завод, Берг-коллегия отправляет чиновника для выяснения двух вопросов: сможет ли плотина создать пруд, способный обеспечить работу приводимых водой в движение механизмов в течение всего года, в особенности в зимние месяцы, и наличие лесных угодий, достаточных для заготовки древесного угля, используемого в те времена в доменных и медеплавильных печах.
При удовлетворительном ответе на оба вопроса Берг-коллегия, опираясь на Берг-привилегию 1719 года, выносила определение, разрешавшее просителю построить завод. Эта рутинная практика не знала отступлений от раз принятого порядка.
В соответствии с Генеральным регламентом первыми подписываются под указом асессоры, затем советники, вице-президент; последним ставит свою подпись президент. Подобная последовательность была установлена с целью устранить давление на нижестоящих чиновников вышестоящими. Но коллегиальность в вынесении решения лишает возможности установить роль каждого члена присутствия коллегии. Одно можно сказать с определенностью – при Брюсе прослеживается четкая работа учреждения: жалобы на волокиту отсутствовали.
Возникает вопрос, почему президентом Берг-коллегии был назначен шотландец Я. В. Брюс – во всех остальных коллегиях (за исключением военной, где Петр определил двух президентов: А. Д. Меншикова и иностранца Вейде) иноземцы использовались в качестве специалистов на должностях вице-президентов.
Дать ответ не трудно – в те времена считалось, что артиллерийский офицер более всех знаком с горнорудным, точнее, с литейным делом, следовательно, должен справиться с управлением металлургическими заводами. Напомним, заводами Олонецкого района с 1713 года управлял артиллерийский полковник Вильгельм де Геннин; в качестве управляющего уральскими заводами в 1720 году был отправлен капитан артиллерии В. Н. Татищев. Факт назначения иностранца президентом коллегии свидетельствует о полном к нему доверии Петра как к специалисту, разбирающемуся в горнорудном деле.[598]
Одна из первостепенных задач, возникших в процессе проведения реформы центральных учреждений, состояла в укомплектовании их кадрами – людьми, способными выполнять чиновничьи обязанности в коллегиях, существенно отличавшиеся от обязанностей приказных служителей XVII века. Брюсу царь поручил не только «запустить» коллегиальный механизм, но и организовать наем иностранных специалистов.
Поиск специалистов, пригодных к исполнению чиновничьих функций в коллегии, был поручен Брюсу не случайно. У Якова Вилимовича имелся богатый опыт в этом деле. Благодаря тому, что он был разносторонним человеком, царь использовал его для вербовки компетентных иностранцев в различных областях науки и искусства. Первая большая партия таких людей была нанята еще в 1698 году в Амстердаме (всего до 1000 человек). В сентябре 1711 года Брюс отправился из Карлсбада в Германию для найма на русскую службу офицеров и мастеровых людей. Для этих целей ему была выдана «Полномочная грамота», удостоверявшая волю царя предоставить Брюсу «полную мочь с теми людьми, которых он потребных в службу нашу изобретет… и о заплате трактовать и контракты заключать».[599] В 1713 году по случаю смерти прусского короля предполагалось, что многие работавшие у него мастера получат отставку. Желая привлечь их на русскую службу, Петр I просит Меншикова отпустить генерала Брюса в Берлин «и для того дайте ему тысяч десят или пятнадцат ефимков».[600]
Из перечисленных эпизодов, связанных с приемом на русскую службу иноземцев, видно, что Брюс был в этой области вполне компетентным человеком. Правда, для работы в коллегии нужны были не «вольные художники» и не мастеровые люди, а чиновники, способные адаптироваться к российским условиям. Якову Вилимовичу было предложено вербовать «удобных асессоров из шведских полоняников лифляндцов, эстляндцов и ингерманландов, и из самих шведов, обретающихся в Российском государстве».[601]
Хотя шведам были обещаны «высокая милость и двойное жалованье», а служба в гражданских учреждениях, по мнению Брюса, не нарушала присяги военнопленных на верность королю, желающих откликнуться на призыв не обнаружилось. Из Симбирска шведы сообщали, что «нам милостиваго нашего королевского величества… никогда не можно оставить, понеже мы у его королевского величества верно под крестом были». Военнопленные, находившиеся в Саранске, мотивировали свой отказ тем, что они не разумеют гражданской службы.
Помимо пленных шведов в коллегии приглашались специалисты из-за границы и работающие в России иностранцы. Эффективному использованию навыков и знаний наемных иноземцев препятствовало незнание ими русского языка и порядков. Показательно в этом плане поведение берг-советника Михаэлиса, человека знающего, но амбициозного, свысока смотревшего на русских и вследствие этого постоянно находившегося с ними в конфликте и донимавшего Брюса непрерывными жалобами. Президент коллегии высоко ценил познания иноземца и в то же время считал, что его поступки были «не без противности добрым порядкам».[602]
Берг-советник Михаэлис был не единственным иностранцем в Берг-коллегии. В ее штате в 1721 году насчитывалось помимо Брюса шесть иноземцев. Лишь в следующем году из десяти членов Берг-коллегии русских стало шесть. Правда, в те годы еще сохранилась традиция определять на гражданскую службу лиц, непригодных нести тяготы военной службы. Так, асессор Петр Ханыков в 1726 году просил увольнения и жаловался на «головную болезнь и в руках великий лом», а другой асессор, Герасим Мансуров, жаловался на «старость, дряхлость и глухоту».[603]
Брюс испытывал трудности не только при укомплектовании штата Берг-коллегии, но и при подборе управляющих казенными заводами на Урале. Чиновники старой и новой столиц приравнивали назначение на Урал к ссылке. Брюс жаловался А. В. Макарову, что из местных жителей на должность управляющего найдется «лишь малое число, а из Москвы приказные люди ехать не желают» даже за большое жалованье «и ставят себе в обиду». Яков Вилимович видел выход в том, чтобы ему было разрешено привлекать к канцелярской службе ссыльных, «лишь бы которыя не за интересные его величества», то есть казнокрадство, «в Сибирь сосланы».[604]
Помимо кадровых вопросов президенту доводилось оказывать помощь незадачливым промышленникам из купцов и даже вельмож, бравшихся за организацию производства, о котором имели весьма смутное представление: им выдавали ссуды, помогали советами и т. д.
Источники донесли до нас любопытный факт, когда в роли владелицы предприятия выступила женщина – Елена Шмидт, вдова иноземца, владевшего пороховым заводом. Эта дама, по словам Брюса, продолжила дело покойного супруга и обучила, «как порох делать и селитру литровать, уголье жечи по голанскому маниру», одного подмастерья и двух учеников. В ответ на просьбу Елены Шмидт остаться на службе у порохового дела президент коллегии обратился к Макарову, чтобы тот исхлопотал у царя разрешение «пороховой мастерице» остаться на царской службе, поскольку она, рассуждал Яков Вилимович, может «в другие государства отъехать и секрет свой открыть».
Важным моментом в существовании Берг– и Мануфактур-коллегии было разделение этого учреждения на Бергколлегию и Мануфактур-коллегию в 1722 году. Президентом Мануфактур-коллегии стал Василий Новосильцов, а Берг-коллегию продолжал возглавлять Брюс. Такое разделение произошло ввиду невозможности контролировать одним учреждением горнорудное дело и организацию различных мануфактур и фабрик. Кроме того, Брюс, вынужденный совмещать должности генерал-фельдцейхмейстера, президента коллегии и члена Сената, вряд ли мог охватить такой объем работы. После 1722 года Яков Вилимович постепенно становится лишь формальным руководителем Берг-коллегии. Он все реже присутствует в коллегии, ограничиваясь лишь передачей некоторых распоряжений. Очень много доношений Берг-коллегии в Сенат и Кабинет направляется без подписи Брюса. В июле 1726 года Я. В. Брюс оставил пост президента Берг-коллегии. Для самого Якова Вилимовича работа в коллегии не была делом, которое его всецело занимало, поскольку он совмещал его с должностью генерал-фельдцейхмейстера, а также с продолжительными дипломатическими миссиями, связанными с заключением российско-шведского мира.
Дипломатическая деятельность Я. В. Брюса не принесла ему удовлетворения. Несмотря на разносторонность своих способностей, он не чувствовал в себе склонности к дипломатии и не был искушен в искусстве политических интриг.
Первое крещение на дипломатическом поприще Брюс получил в 1710 году, когда царь велел ему взыскать с Данцига контрибуцию в размере 300 тысяч ефимков за множество прегрешений против России: власти города признали королем изгнанного из Речи Посполитой Станислава Лещинского; препятствовали согражданам поступать на русскую службу; чинили «помешательства» русским курьерам, державшим путь на Запад; конфисковывали товары у русских купцов и др.
Инструкция уполномочивала Брюса угрожать бомбардировкой города, если магистрат не уплатит требуемой суммы. С этой целью Брюс должен был приказать «брегадиру Петру Яковлеву с полками драгунскими и солдатцкими, определенными на транспорт в Датскую землю, ко Гданску приступить и всяко устращивать бомбардированием».
Указ, однако, не удалось осуществить – предстояла война с Османской империей, и Петр справедливо рассудил, что обострение ситуации вокруг Данцига могло вызвать вмешательство в конфликт Речи Посполитой, и тогда России довелось бы вести войну на два фронта. 10 февраля 1711 года царь велел Брюсу ограничиться «пристращиванием», не прибегая к силе. Кроме того, царь разрешил Брюсу довольствоваться половинной суммой контрибуции.
В таких условиях Брюсу ничего не оставалось, как угрожать магистрату, который, зная, что генерал не располагает возможностью реализовать угрозы, игнорировал претензии России. Погрозив городу, Брюс ни с чем отправился к армии, двигавшейся к Пруту.
После Прутского похода Петр вновь отправил Брюса к Данцигу «для того же дела, для которого ты в прошлом 710 году от нас к нему был отправлен». К прежним обвинениям магистрату Данцига добавились новые – оказание денежной помощи шведам.
Отправляясь выполнять поручение Петра и зная, что без военной силы его усилия окажутся такими же безуспешными, как и в первый раз, Брюс, чтобы снять с себя ответственность за неудачу, составил царю вопросные пункты, как ему следует поступать в тех или иных случаях. На коренной вопрос Брюса «ежели в договор не пойдут, бомбардировать ли», царь дал неопределенный ответ: «чинить по разсуждению», которым ответственность за бомбардировку возлагал на генерал-фельдцейхмейстера.
Ни устные угрозы Брюса, ни настырность Меншикова, прибывшего под Данциг для оказания ему помощи, без наличия у стен города значительного числа русских полков результатов не дали – жители города упрямо твердили: «Мы слава Богу в таком состоянии, что довольное число всего к обороне имеем». В итоге Брюс, по собственному признанию, «паки от них ничего кроме стыда не получил».[605] После очередной угрозы, что царь силой заставит их заплатить требуемую сумму, генерал отправился в Померанию в распоряжение Меншикова, командовать там артиллерией.
Будучи по природе человеком уравновешенным, Яков Вилимович крайне редко выражал свои эмоции, касающиеся тех или иных неприятностей по службе. Продумывая свои действия и умея надеяться сам на себя, Брюс не испытывал чувства стыда за свои действия в должности начальника артиллерии или президента Берг-коллегии. Слово «стыд» вырывается в письмах Брюса только по поводу его деятельности на дипломатическом поприще. Справедливости ради отметим, что поручение царя Брюс и не мог выполнить, ибо словесные угрозы без подкрепления их военной силой не могли принести успеха.
Надо полагать, что и Петр не обвинял Якова Вилимовича в провале миссии. В противном случае он не привлек бы генерала еще дважды к выполнению дипломатических поручений в качестве главы делегации на переговорах о мире со Швецией на Аландских островах и в Ништадте.
Оба поручения Петра заслуживают подробного рассмотрения не только потому, что последнее из них завершилось подписанием выгодного для России Ништадтского мирного договора и положило конец кровопролитной войне, но и вследствие того, что они высвечивают черты характера главных действующих лиц: делегация России оба раза состояла из двух человек (не считая вспомогательного состава) – Брюса и советника Посольской канцелярии Андрея Ивановича Остермана. Интерес к этим людям подогревается тем, что перед нами выступают две личности с противоположными чертами натуры: уравновешенный, бесхитростный, честный, с высокими нравственными понятиями Брюс и едва ли не самый маститый интриган своего времени, карьерист, умный и тонкий знаток человеческих слабостей, имевший необыкновенную способность втираться в доверие, скрывая свои подлинные чувства и намерения, – Остерман.
В конце апреля 1718 года русская делегация прибыла на остров Аланд, где должны были состояться переговоры. Главам делегации велено было поступать «обще по данной инструкцией». С шведской стороны делегацию возглавлял барон Герц, членом ее был граф Гилленборг. Переговоры обещали быть трудными и затяжными, ибо царь хотя и знал об истощении экономических и людских ресурсов Швеции, но был осведомлен о нежелании упрямого Карла XII уступить хотя бы пядь своей земли, надеясь на помощь извне, в особенности со стороны Англии. Русской стороне было известно, что шведская делегация намеревается прибыть на конгресс в сопровождении богато экипированного эскорта и представительной свиты, в роскошных каретах, как писал Остерман, «в чрезвычайно великом уборе и богатстве». Чтобы не ударить лицом в грязь и поддержать престиж русского двора, Остерман, возложивший на себя хозяйственные заботы, полагал, что русской делегации надлежало «при съезде… хотя не богато, однако же честно и порядочно себя содержать».
В Петербурге с пониманием отнеслись к просьбе Остермана и в начале мая отправили на Аланд серебряный сервиз, заимствованный у адмирала Ф. М. Апраксина, и высокосортное вино из царского погреба. Я. В. Брюс обратился с просьбой к А. Д. Меншикову «прислат из домовых своих рюмок с государевым гербом и имянем ради такой публики», на что Александр Данилович охотно откликнулся. Рюмки необходимы были для демонстрации искусной работы русских мастеров.[606]
Первая встреча делегаций состоялась 9 мая 1718 года. Русские послы, первыми явившиеся с визитом, были приняты шведами «ласково и со всем почтением». В отличие от русских, приехавших в экипажах, шведы с ответным визитом прибыли в резиденцию русской делегации пешком, зато «в тридцати семи персонах, в том числе было 14 лакеев, которые напереди шли, офицеров и секретариев 17 человек».
Пребывание Брюса на Аланде не ограничивалось участием в дипломатических переговорах, которые, как увидим ниже, в основном вел Остерман. Генерал-фельдцейхмейстер и президент Берг– и Мануфактур-коллегии был озабочен снятием карты островов, добыванием документов о структуре и обязанностях должностных лиц шведских учреждений, наймом специалистов. Помимо исполнения функций дипломата Брюс руководил, насколько это было возможно, работой коллегии и артиллерийского ведомства.
Между тем вкрадчивый Остерман вел конфиденциальные переговоры с глазу на глаз с Герцем, не ставя в известность Брюса об их содержании. Вполне вероятно, что Яков Вилимович не всегда одобрил бы приемы Остермана, которыми тот добивался уступок от Герца, и, возможно, терзался бы сомнениями всякого рода. Оснований для этого было предостаточно. Дело в том, что Остерман помимо общих реляций, подписанных вместе с Брюсом, отправлял Петру и вице-канцлеру П. П. Шафирову отдельные донесения о результатах секретных переговоров с Герцем. Без ведома Брюса Остерман сносился с Посольской канцелярией, информируя ее о том, что считал необходимым утаивать от руководителя делегации.
Характерная в этом плане деталь: после гибели Карла XII в Петербург для инструкций был вызван не руководитель делегации, а Остерман. Более того, Яков Вилимович, находясь на Аланде, пребывал в полном неведении, как ему поступать, ибо не получил указаний ни от царя, ни от Шафирова. Оскорбленный Брюс жаловался Макарову, что четыре с лишним недели «ни единой строки на мои письма ис Посольской канцелярии получил, отчего я не без великого стыда (курсив мой. – И. К.) здесь ныне», ибо шведский министр постоянно требовал от него ответа на свои предложения, о которых Брюс сообщал Посольской канцелярии. Яков Вилимович в отчаянии: «И хотя бы о тех делах ответствовали, которыя решит могут без утруждения его величества. Однакож и того не чинят!» В подобных условиях Брюс счел необходимым предупредить, что он вряд ли сможет успешно выполнить поручение царя. Наконец он получил ответ Посольской канцелярии, советовавшей «тужить по королю швецкому», на что Яков Вилимович не без иронии ответил, что для изготовления траурных платьев для свиты требуется 150 аршин сукна, не считая подкладки. «А одному мне в черном быть, а людем в цветном – неприлично».
Оставшись в одиночестве и общаясь с Гилленборгом, Брюс убедился в неблаговидном поведении своего коллеги и признал, что он, глава делегации, был «водим за нос» Остерманом. Воспоминания о старых мелких обидах, нанесенных ему Остерманом, больно ранили душу. Его беспокоило не то, что он не может полноправно принимать участие в конгрессе. Политика и дипломатия его никогда не интересовали. Обидно было другое. Он – человек, пользующийся авторитетом в государстве, назначенный самим царем руководить российской делегацией, в реальности служил средством придания полновесности и значимости русской миссии. За этой мыслью зловеще тянулась другая, еще более горькая. Стал ли он «свадебным генералом» по милости Остермана и Посольской канцелярии или эту роль ему уготовил сам государь? Теперь надо было как-то защитить свою честь. Можно написать царю жалобу на Остермана и Посольскую канцелярию. Но это стало бы распиской в собственной несостоятельности. Промолчать, сделать вид, что ничего не заметил, продолжать играть роль первого уполномоченного, следуя выражению: «Не обкраден тот, кто не знает, что его обокрали»? Да, это, наверное, лучше всего. Однако смириться с таким решением не давала мысль о том, что его теперешняя роль была санкционирована государем. Петр, возможно, обо всем знает. И считает, что наивный раб его Якушко Брюс ни о чем не догадывается. Сознавать, что тебя считают глупцом? Это было выше его сил. Теперь единственное желание руководило Брюсом: узнать, ведает ли государь о том, что с ним произошло. Это желание пересиливало даже гордое стремление сохранить все по-старому, дабы не сообщить о собственном бессилии. Боязнь утратить милость царя заставила Якова Вилимовича еще раз вспомнить о тех обидах, которые были ему нанесены.
Впервые он заподозрил что-то неладное в странной истории с кортиком. В мае 1718 года во время разговора, касавшегося разных ремесел, существовавших в Швеции, Герц подарил Якову Вилимовичу «кортик железом оправленной, который зделан от некоторого подмастерья в Стекголме». Брюс, стремившийся даже в приватных беседах подчеркивать достоинства земли русской, отвечал, что благодаря тщанию Петра I «не токмо такие работы, но иныя к главнейшей всенародной ползе надобнейшие ремеслы» в хорошем состоянии находятся. Кортик Брюс переадресовал государю, прося его прислать на Аланд какую-нибудь диковинку, чтобы можно было преподнести ее Герцу. Яков Вилимович тщетно ждал ответа из Петербурга. Роль хвастуна и болтуна абсолютно не подходила ему. Он отправляет письмо Макарову с выражением надежды, что кабинет не пожелает его «в стыду (курсив мой. – И. К.) оставит». Но напрасно ждал Брюс посылку из столицы. Ее получил Остерман и от своего имени одаривал оружием шведов, не сообщив об этом первому уполномоченному. Тогда выходка советника Посольской канцелярии больно задела Якова Вилимовича. Но он не стал жаловаться в Петербург, дабы там не подумали, что между двумя уполномоченными произошел разлад, способный «высоким интересам какое препятствие чинить». А вот другой эпизод встал в общую цепочку унижений и обид. Из Посольской канцелярии на Аланд были присланы меха, драгоценные камни, китайские позолоченные обои и прочие вещи, которые следовало употребить для размягчения сердец шведских послов. Остерман даже не уведомил Брюса о том, кого он собирается одаривать этими вещами. Презенты он вручал по своему усмотрению. Узнав об этом, Яков Вилимович был шокирован. Советник ставил делегацию в положение, когда ее правая рука не знала, что делает левая. Но и это не побудило еще первого уполномоченного жаловаться государю.
Теперь ему стало понятно, почему доношения, поступавшие на Аланд, в большинстве своем доставлялись на имя Остермана. В этом была, вероятно, собственная вина Якова Вилимовича. Если бы он больше внимания уделял ведению дипломатической переписки и демонстрировал свою живую в ней заинтересованность, то не дал бы повода Остерману постепенно перевести его на нормированный информационный паек. Кроме этих обид Брюс припомнил разного рода финансовые махинации Остермана, а также самовольное распоряжение присылаемым провиантом и вином. Эти поступки могли проистекать от пренебрежительного отношения советника к первому уполномоченному. И вряд ли государь стал бы санкционировать такие мелочи, даже если бы желал вывести Брюса из игры. Однако то, что открылось Якову Вилимовичу теперь, когда он остался на конгрессе один, давало повод к тому, чтобы усомниться в прежней склонности к нему государя. Сейчас он заставлял себя вспоминать все, что касалось этого злосчастного происшествия, словно бичуя себя за то, что в большой степени сам этому потворствовал. Перед его глазами всплывали эпизоды, свивавшиеся в одну странную цепь. Вот ярким пятном высветился день его приезда на Аланд. Вскоре за этим последовала присылка от государя грамоты, к которой был приложен код для шифрования особо секретных мест в доношениях послов и для дешифровки царских грамот. Сейчас, с высоты свершившегося несчастья, Брюс хорошо понимал, что допустил роковую ошибку, предоставив полное право Остерману и его людям заниматься шифрованием реляций, ни разу не удосужившись проконтролировать их действия. Да, для занятия дипломатией и политикой он был слишком порядочным человеком. Ему и в голову не приходило, что он может быть обманут таким жестоким образом. Видя отношение к себе Остермана, копируемое его подьячим Синюковым, Брюс в отсутствие первого на конгрессе решил сам расшифровать очередную грамоту государя с помощью имевшейся у него «азбуки цифирной». Принявшись за дело, он с ужасом обнаружил, что код не годится для дешифровки. Желая все же расшифровать грамоту, Яков Вилимович натолкнулся на еще более вопиющий факт. Уезжая с Аланда, Остерман не удосужился передать ему новый ключ к расшифровке корреспонденции, оставив первого уполномоченного посла на попечении своего подьячего, выдававшего Брюсу лишь ту информацию, которую считал нужным. Теперь он понял, что подписывал испещренные цифрами листы, не ведая об их истинном содержании.
Сколько же продолжался этот кошмар? На этот вопрос он не мог дать себе ответа, поскольку ни разу за более чем полугодичный срок не проконтролировал своего коварного соратника. Но горечь от собственной беспечности затмевалась еще более страшной мыслью о том, что изменение кода могло быть произведено только с ведома государя, что означало полную утрату царского доверия. Больше он не мог жить в неведении и обманывать сам себя. Нужно было узнать наверняка об отношении к нему царя из уст самого монарха. 6 февраля 1719 года Брюс взялся за перо и известил царя о «многих противностях, учиненных мне с начала комиссии, как от канцелярии посольской, так и от Остермана». Заканчивал он письмо словами: «Я в безсумнительной надежде обретаюсь, что Ваше величество… о сем неизвестен и уповаю на всеславимое… милосердие Божеское».[607]
Ответ царя несколько утешил Брюса. Петр писал, чтобы тот «более не думал» об утрате доверия. О смене кода государь якобы ничего не знал и намерен разобраться, «для чего так учинено». Из царского письма следовало, что Петр не давал Остерману особых указов, о которых бы не знал первый уполномоченный. Получив такой ответ от государя, Брюс счел возможным придать бумаге все прежние притеснения от Остермана и его покровителей. В кабинет Петра поступил документ «Обиды генералу-фельдцейхмейстеру Брюсу, учиненныя от посольской канцелярии». Правда, шумного дела по этому поводу не произошло. Это дает нам основание подозревать, что царь был не до конца искренним, когда уверял Якова Вилимовича в своем неведении относительно перемены кода. К тому же в столице ходили слухи о готовящейся замене Брюса П. И. Ягужинским. «Говорят, – доносил французский консул в Петербурге Лави, – будто его отзывают по причине его ограниченности».[608]
Быть может, замена Брюса Ягужинским и состоялась, если бы Аландский конгресс не прекратил существование. С вступлением на престол сестры почившего Карла XII Ульрики Элеоноры в Стокгольме возобладала партия войны. После того как барон Герц, готовый пойти на территориальные уступки, был казнен, шведы покинули Аланд, а вслед за ними удалилась и русская делегация.
Петр правильно рассудил, что единственным средством давления на шведов была высадка десантов. Поездка Остермана в Стокгольм с целью убедить противника заключить мир на условиях, предлагаемых Россией, закончилась ничем. И это несмотря на то, что Остерман угрожал возобновлением военных действий на шведской территории. Когда угроза стала претворяться в жизнь успешными десантными операциями и морской победой у острова Гренгам, шведы вынуждены были опять сесть за стол переговоров.
На конгресс в Ништадте царь назначил делегацию в том же составе, что и на Аланде, причем Брюс прибыл туда раньше Остермана и 29 апреля в своей резиденции принимал шведских представителей – Лилиенштедта и Штремфельдта. 8 мая делегации обменялись полномочными грамотами, и начались переговоры.
На Аландском конгрессе, как мы видели, трения между Брюсом и Остерманом переросли в конфликт. На этот раз Остерман, видимо, получил строгие внушения умерить свою страсть к интригам и действовать заодно с главой делегации.
Камнем преткновения во время переговоров стал город Выборг, который шведы никак не соглашались отдать России, а также пребывание в Петербурге герцога Голштинского, являвшегося претендентом на шведскую корону. Тем самым, полагали шведы, к военному давлению прибавляется политическое – Петр, после того как одна из его дочерей станет супругой герцога Голштинского, получит возможность вмешательства во внутренние дела Швеции.
Во время переговоров делегация России по поручению Петра дала обязательство не вмешиваться в «домашние дела королевства Швецкого» и «ниже кому кто ни был не будет оказывать помощь ни прямо, ни посторонне каким ни есть образом советом или действием». Относительно герцога Петр уполномочил Брюса заявить: «Ближайший наследник и корону получить может только б с соизволением станов шведских, а не насильством».[609]
Между тем война истощала ресурсы не только Швеции, но и России. Ради заключения мира Петр решил отказаться от притязаний на Выборг. Свое решение царь поручил передать делегации П. И. Ягужинскому. Узнав об этом, Остерман предпринял все меры, чтобы склонить шведскую делегацию подписать договор. Одновременно он затеял интригу, цель которой состояла в том, чтоб избавиться от появления в Ништадте Ягужинского. Зная пристрастие Павла Ивановича к горячительным напиткам, Остерман упросил коменданта Выборга оказать ему щедрое гостеприимство и тем самым задержать его в городе на двое суток.
Пока Ягужинский бражничал в Выборге, Брюс и Остерман в ночь с 30 на 31 августа 1721 года подписали договор, по которому Выборг остался за Россией. Необходимость присутствия Ягужинского в Ништадте отпала.
Как расценить поведение Остермана? Как дипломат он добился уступок в пользу России, но как человек он заслуживает осуждения, ибо, желая делить славу миротворца не на троих, а на двоих, совершил бесчестный по отношению к Ягужинскому поступок.
Заключение мирного договора, по которому за Россией оставались Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, доставило несказанную радость как царю, так и делегации. Петр извещал своих уполномоченных, «что славное сие дело ваше никогда забвению предаться может». Брюс и Остерман скромно отвечали царю, что «верныя здешния наши старания в высоких ваших интересах всемилостивейше и сверх заслуг наших угодны явились».[610]
Роль Брюса в Ништадте была иной, чем на Аланде. Там он выполнял роль «свадебного генерала», а роль главного действующего лица играл Остерман; здесь первостепенная роль принадлежала руководителю делегации.
Труды Брюса и Остермана были щедро вознаграждены царем. Брюс вел переговоры в звании графа, которое он получил еще в феврале 1721 года. В день подписания Ништадтского мира Петр пожаловал Брюса 500 дворами крестьян в Козельском уезде.
Невольно возникает вопрос: почему Брюс вновь был послан исполнять дипломатическую миссию в Ништадте, не проявив больших способностей на этом поприще на Аланде? Вероятно, такое решение царя было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, Брюс уже имел опыт ведения переговоров со шведами. Замена его другим человеком сама по себе не означала улучшения дел, поскольку новому дипломату предстояло изучать дела предыдущего конгресса. Во-вторых, Брюс как глава делегации был уже знаком шведской стороне, связывавшей с ним свое видение российской политики. В-третьих, замена первого уполномоченного дала бы повод к рассуждениям о нестабильности политики царя. В-четвертых, исход войны был уже ясен, особенных дипломатических ухищрений на конгрессе не требовалось, поэтому Брюс, даже не будучи дипломатом, уже не мог «испортить борозды».
Прижизненным утешением Якову Вилимовичу за его дипломатическую эпопею стали оказанные ему почести по заключении мира со Швецией. А посмертным воздаянием стала кочующая по энциклопедиям и словарям слава главного участника двух конгрессов и основного творца мирной развязки.
Долгое время находясь с дипломатической миссией вдали от России, Брюс не мог уделять должного внимания артиллерии и Берг-коллегии, ограничиваясь лишь письменными распоряжениями. Управлением этими ведомствами занимались его помощники. Теперь же, после заключения мира, для артиллерийского ведомства наступила передышка и можно было спокойно заняться текущими делами, которые уже не требовали постоянного личного участия генерал-фельдцейхмейстера. В Берг-коллегии уже сложился четкий ритм работы, и Брюс все меньше вникает в коллежские проблемы. Появилось больше свободного времени и возможности заниматься делами, к которым Яков Вилимович имел призвание. Это перевод книг, научная и популяризаторская деятельность.
Одной из обязанностей Брюса было попечительство над гражданской типографией в Москве. Гражданская типография была создана в 1705 году «государевым коштом». Ведать типографией было поручено Василию Киприянову «под надзрением Иакова Вилимовича, его же к сему должность есть яко властная природности».[611] Действительно, трудно себе представить кого-то другого в роли попечителя типографии, кто бы поощрял издание новой, прежде неизвестной литературы и защищал бы ее от нападок приверженцев старины. Со временем типография была придана приказу артиллерии ввиду того, что приказ возглавлялся Брюсом. Типография в Москве не отнимала у Брюса много времени благодаря тому, что управлял ею весьма сведущий в своем деле человек. Якову Вилимовичу оставалось лишь иногда корректировать его работу; сообщать о нововведениях, принятых в заграничном типографском деле, и опекать типографию от людей, мешавших ее развитию, что не составляло ему большого труда благодаря высокому положению в обществе.
В типографии были изданы 8 из 13 составленных, переведенных или отредактированных Брюсом книг. Широко известен так называемый Брюсов календарь, в котором предсказывались урожайные и неурожайные годы, описывался темперамент каждого человека в зависимости от его рождения под одним из 12 знаков зодиака. Читатель календаря предупрежден, что не следует целиком доверяться влиянию светил, ибо если Господь пожелает, то оно уничтожится и потеряет свою силу. Впрочем, по поводу авторства календаря существуют два мнения: одни приписывают его Брюсу, другие – владельцу типографии Василию Киприянову. Спор надуман, ибо роль каждого из упомянутых лиц отмечена в тексте календаря: он издан «под надзрением его превосходительства господина генерала-лейтенанта Я. В. Брюса, тщанием библиотекаря Василия Киприянова». Следовательно, Брюсу принадлежит редактирование календаря, а составление – Киприянову. Календарь был очень популярен, выдержал много изданий и до сих пор цитируется астрологами.
Следует сказать о выходе в 1716 и 1724 годах книги Христиана Гюйссена «Космотеорис», переведенной Яковом Брюсом. В России книга вышла под названием «Книга мирозрения, или Мнение о небесно-земных глобусах и их украшениях». Гражданский подвиг Якова Вилимовича как переводчика и ходатая об издании этой книги состоял в том, что произведение Гюйссена исповедовало гелиоцентрическую теорию в отличие от геоцентрической, долгое время господствовавшей в науке. Брюсом было написано предисловие к книге, прочитанное им Петру I. Найдя книгу небесполезной, царь дал указание напечатать ее в Петербургской типографии. Брюс, будучи очень осторожным человеком, снабдил предисловие обилием богословских рассуждений, вставил мысль о том, что «поселеной земной глобус не во средине лона небесного опочивает, якоже нам на нем сущим являетца, но таковож яко протчыя планеты около солнца вокруг обращается и подвизается». Заведовавший Петербургской типографией Аврамов должен был по указанию Петра I напечатать 1200 экземпляров книги Христиана Гюйссена. Ознакомившись с рукописью, Аврамов дал ей следующую характеристику: «атеистическая книжица сумасбродного автора». Ослушавшись самодержца и пользуясь его отъездом, надзиратель типографии самовольно сократил тираж до 30 экземпляров, которые и были отправлены Брюсу. Большим тиражом книга вышла в Московской, подконтрольной Брюсу типографии в 1724 году. Перевод и выпуск такой книги мог совершиться только благодаря имени Брюса и благосклонному отношению к нему Петра I. В противном же случае могло произойти нечто подобное тому, что пророчил Аврамов, говоря о книге как о «самой богопротивной и богомерзкой, токмо с автором и безумным его переводчиком Брюсом к единому скорому в срубе сожжению угодном».[612]
Перевод данной книги демонстрирует нам не только смелость Брюса, посягнувшего на устоявшуюся точку зрения, но и его высокую подготовку в области астрономии. Этой наукой Яков Брюс занимался на протяжении всей жизни. Он пользовался обсерваториями в Москве и Петербурге, а также имел небольшую специально оборудованную веранду для наблюдения за небом в своем подмосковном имении Глинки. На Сухаревой башне, в которой размещалась одна из военных школ, кроме телескопа были установлены измерительные приборы для определения высоты светил над горизонтом, для выяснения времени по звездам Большой и Малой Медведицы, имелся также огромный звездный глобус, подаренный еще царю Алексею Михайловичу.[613]
Труды Брюса в области астрономии увенчались обнаружением солнечных пятен в июле 1716 года. Это был период наибольшей солнечной активности. На солнце наблюдались большие пятна, а по ночам часто вспыхивали северные сияния, хорошо видимые в Петербурге.
Нам представляется, что, если бы не было нужды заниматься государственными делами, Брюс посвятил бы себя науке. И возможно, мы произносили бы его имя в числе имен первых российских ученых. Однако полностью отдаться своим научным занятиям он смог только после ухода в отставку.
6 июля 1726 года, то есть почти через полтора года после смерти Петра Великого, Брюс получил отставку в чине генерал-фельдмаршала, после чего прожил еще десять лет. С большой долей вероятности отставку можно объяснить нежеланием Якова Вилимовича, всегда сторонившегося дворцовых интриг, участвовать в борьбе за власть придворных группировок. Брюс не вошел в состав Верховного тайного совета, членом которого стал злопамятный Остерман – от него можно было ожидать всяких неприятностей за ссору на Аландском конгрессе. Брюс предпочел насыщенной подсиживанием, мелкими и крупными неприятностями жизни пребывание вдали от двора, где он мог спокойно заниматься любимой наукой, от которой его отвлекала служба.
24 апреля 1727 года он купил у князя А. Г. Долгорукого деревню Глинки, расположенную в 40 верстах от Москвы.
Купленная им усадьба имела на своей территории только деревянные строения. Брюс заменил их все каменными постройками, расположенными строго по сторонам света. На севере располагался господский особняк. Запад, юг и восток совпадали с тремя флигелями. Барский дом представлял собой двухэтажное здание с колоннами, украшенное фигурками, которые представляются зрителю лепниной. Однако эти замысловатые персонажи вырезаны из камня и поэтому не теряют своего вида спустя почти три столетия. Дом совершенно не соответствует никаким архитектурным канонам того времени. Его кровля закрывает лишь южную часть здания, а северная представляет собой открытую площадку, которая использовалась Яковом Вилимовичем для астрономических наблюдений. Известный искусствовед И. Грабарь предположил, что этот «прелестный дом, который он выстроил себе в деревне, сочинен им самим, так как архитектура его не напоминает методов тогдашних петербургских строителей и приписать ее кому-нибудь из архитекторов того времени вряд ли возможно». На территории усадьбы Брюс устраивает два больших пруда, что делает пейзаж его подмосковной еще более живописным. В Глинках он окончательно обосновывается после своей отставки и занимается научной работой. В этом же имении Брюс дожил до своей кончины. Единственным необычным событием в его уединении было получение им трех писем от разбойничьих шаек с требованием присылки «к ним в воровскую компанию денег с великим устрашением». Вероятно, подмосковные разбойники, наслышанные о том, что в поместье живет алхимик и колдун, решили поживиться якобы имевшимися у него сокровищами. Яков Вилимович сделал копии с этих писем и в 1734 году отправил их императрице. Случай этот стал причиной ее указа от 4 ноября 1734 года генералу и обер-гофмейстеру графу Салтыкову о «поимании и всеко-нечном искоренении всех тех разбойнических компаний и воров».[614]
Жизнь в Глинках Брюс посвятил научным занятиям, главным образом астрономии. Но его научные интересы, как и у большинства ученых XVIII века, носили энциклопедический характер. Об этом свидетельствует состав его библиотеки, насчитывавшей 1594 названия книг, рукописей, карт и атласов. По количеству экземпляров первые места занимали книги по астрономии, химии, математике. Интересовали ученого и гуманитарные науки, что явствует из наличия в библиотеке сочинений по истории, генеалогии и геральдике.
После смерти Брюса вся библиотека была оценена в очень крупную сумму – 975 рублей 81 копейку. Библиотека полностью не сохранилась, ибо в книгохранилище Академии наук были отданы только сочинения, отсутствовавшие в фонде, – дублеты были переданы в другие библиотеки.[615]
Пользуясь столь богатым собранием книг по различным отраслям знания и находясь в переписке с ученым Лейтманом, Брюс в Глинках занимается физикой, химией и связанными с ними дисциплинами. Яков Вилимович увлечен изготовлением оптических приборов, определением удельного веса металла, очисткой от примесей серебра, золота и других металлов. В Эрмитаже хранится металлическое вогнутое зеркало от большого зеркального телескопа с вырезанной на оборотной стороне надписью: «Зделано собственным тщанием графа Якова Вилимовича Брюса в 1733 году августа месяца».[616]
Затворнический образ жизни, увлечение астрономией, химией и другими науками породили в округе легенды о Брюсе. Одну из них, рассказанную крестьянином Безконным, записал М. Б. Чистяков в Калужской губернии: «Да мало ли еще что знал этот Брюс: он знал все травы этакия тайныя и камни чудные, составы разные из них делал, воду даже живую произвел, то есть такую воду, что мертвого человека живым и молодым делает».[617]
В народе Я. В. Брюс остался чернокнижником и «колдуном с Сухаревой башни». Его научная деятельность не была востребована в полной мере, поскольку время ждало от науки сиюминутных результатов, не признавая ученых, работающих на перспективу.
Царедворец и человек
Сохранилось несколько живописных полотен, изображающих Якова Брюса. Они запечатлели графа в разные годы его жизни. Цели их написания были различны: создание парадного портрета в одном случае и бытового – в другом. Поэтому сходство между ними можно обнаружить весьма относительное. На одном из них, писавшемся, вероятно, более для изображения величия, нежели реального сходства, генерал-фельдцейхмейстер предстает перед нами в парадном костюме. Лицо его можно назвать скорее круглым, чем овальным. Оно излучает довольство и благополучие. Однако, на наш взгляд, портрет этот относится к тому роду творений, которые более ценны выписанными на них деталями одежды, чем реальным сходством лица с оригиналом. С таким же успехом в нем можно было бы найти сходство со многими знатными особами того времени. Утверждать, что попавший в поле нашего зрения портрет нельзя использовать для верного описания внешности Брюса, нам позволяют два других портрета, очень похожие между собой и разительно отличающиеся от первого. Эти два портрета неизвестных авторов без даты их написания, вероятно, сделаны в разное время. На одном из них Брюс изображен в возрасте 40–45 лет (по сегодняшним меркам), другой запечатлел нашего героя уже в преклонных годах. На нас смотрит человек с продолговатым лицом, которое можно скорее назвать худым, нежели полным. Далеко не мелкие черты лица кажутся несколько непропорциональными. Четко очерченный нос и прямые губы придают лицу ту мужественность, которую нельзя назвать красотой, но которая выгодно выделяет мужчину. Такая внешность могла бы вполне украсить любого воина, если бы к этому еще добавить холодный блеск глаз. Именно этого-то и нет на портрете Брюса. Глаза нашего героя, напротив, являют нам средоточие мысли и глубокой мудрости. К сожалению, портреты дают лишь поясное изображение, что лишает нас представления о росте и сложении генерала. Но эта трудность оказалась вполне преодолимой. В усыпальнице Брюсов был в свое время обнаружен камзол, причисленный музейными работниками к гардеробу Якова Вилимовича. Чтобы чувствовать себя в этом платье свободно, его обладатель должен иметь рост не менее 1 метра 90 сантиметров и внушительные плечи. Если одежда действительно принадлежала Якову Вилимовичу, то перед нами предстает человек, одна внешность которого видится нам неординарной. Но что же скрывалось за этой внешностью?
Яков Брюс так мудро воспитывался своими родителями, что, несмотря на чужестранность своего происхождения, не испытывал никаких затруднений от соприкосновения с русской действительностью, не ощущал никакого дискомфорта. С другой стороны, он не забывал о своем происхождении, о своей родине и не собирался менять вероисповедания. Столь необычное двойное восприятие себя самого Брюс сохранил на протяжении всей жизни. Он совершенно свободно владел русским языком, причем его орфография почти не требует правки при сегодняшнем прочтении. Русский язык он воспринимает как свой родной. В письме к Б. П. Шереметеву от 19 октября 1707 года, отправленном из Минска и касающемся устройства артиллерии, он между прочими ведомостями сообщает об одном полковнике-иностранце, весьма искусном в своем деле – «однакож немного пользы может учинить, понеже языку нашего не знает». Выражение «языку нашего» выдает человека, осознающего себя природным носителем этого языка. Ведь ни одному иностранцу не придет в голову так говорить о чужом ему языке. Себя Брюс тоже не причислял в бытовом общении к иноземцам. Извещая кабинет-секретаря Макарова относительно неприятностей, постигших берг-советника Михаэлиса, Яков Вилимович просит Алексея Васильевича уладить дело миром, так как «прочия иноземцы… на него смотря», станут требовать отставки, «а силою удержать, то не останетца надежд, чтоб кто впредь к нам поехал».[618] Здесь мы также чувствуем, что Брюс говорит об иноземцах без оттенка личного участия, лишь как о людях, полезных для российского государства. С другой стороны, Яков Вилимович свято помнил о своей исторической родине, и сердце у него сладко ныло при всяком упоминании о ней. В октябре 1708 года он случайно обнаружил в списке пленных шведов, присланном ему Апраксиным, некоего Андрея Брюса. 12 октября он направляет в Петербург письмо к своему брату Роману, находившемуся там в качестве обер-коменданта города. В письме он просил брата узнать: «швецкой ли он земли или из шкоцкой (шотландской. – И. К.) земли выехал служить? И ежели ис шкоцкой земли он, то не худо бы вы ево к себе взяли и осведомились поподленней, чьего он дому?»
Сохранились воспоминания некоего Андрея Брюса, состоявшего при генерале в роли адъютанта (в современном понимании этого слова). Еще одно упоминание об Андрее Брюсе мы находим в письме Якова Вилимовича к Шереметеву. Яков Брюс просит отпустить своего однофамильца на родину. Возможно, что пленный Андрей Брюс и этот шотландец – одно и то же лицо. Но нас интересует не столько идентификация этих людей, сколько сам факт готовности Брюса покровительствовать своему земляку.
Показательно, что Яков Вилимович не принял православие, а так и закончил жизнь лютеранином. По свидетельству В. Н. Татищева, долгое время находившегося под покровительством Якова Вилимовича, при отправлении на Аландский конгресс государь был намерен дать генералу чин действительного тайного советника. Однако Брюс якобы отказался от него, аргументируя это тем, что ему как лютеранину не пристало носить в России такое высокое звание. К сожалению, нельзя проверить истинность слов Татищева, всегда благоговевшего перед своим покровителем. Однако, зная характер Брюса, мы вполне можем предположить, что подобные действия генерала имели место. И подобно тому, как при слиянии крови разных рас потомство их обычно демонстрирует всплеск таланта и красоты, при столкновении двух миров – западноевропейского и русского на их гребне возник необыкновенно талантливый человек – Яков Вилимович Брюс, гордость за которого заслуженно делят между собой Россия и Шотландия.
Я. В. Брюс женился в 1694 году в возрасте 24 лет на дочери генерал-поручика от кавалерии, эстонца по происхождению, Генриха Цеге фон Мантейфель, Маргарите. Жена была на пять лет моложе Якова Брюса. Тогда ей было 19 лет. Маргарита Цеге фон Мантейфель стала именоваться Марфой Андреевной. К сожалению, переписка супругов не сохранилась, и это не позволяет нам проникнуть в их отношения. Мы лишь знаем, что Марфа Андреевна не порадовала супруга наследником. У четы Брюсов были две дочери, обе не пережившие своих родителей. Вероятно, Марфа Андреевна не обладала хорошим здоровьем, что не позволяло ей иметь много детей. Одну из дочерей, Наталью, она родила в возрасте 33 лет, не самом подходящем для появления на свет младенца. Вспомним и о пресловутом разоблачении
«пасквиля», в котором еще в 1706 году говорилось, что супруга Брюса «довольно полна» и т. д. Особенно несносны были для Марфы Андреевны длительные переезды вслед за мужем. Поэтому мы редко встречаем их вместе вне дома. Кажется, единственным их большим турне была поездка в Польшу. Поскольку активных военных действий не ожидалось, Яков Вилимович, желая скрасить свое походное житье, вызвал к себе супругу. О ее благополучном продвижении и уменьшении дорожных хлопот заботился по мере возможности Б. П. Шереметев. В письме к Брюсу от 24 января 1707 года он сообщает, что ему стало известно, «что ея милость генеральша и ваша сожительница едет к вам». Желая услужить Брюсу, Борис Петрович указал полковникам тех частей, которые находились на пути следования генеральши, подготовить подводы и провожатых. «А как прибудет ея милость в Острог, и я, приняв с подобающею честию, и что надлежит в пути к удовольствованию подвод и провожатых, учиню по должности моей».
Однако в Острог Марфа Андреевна приехала не скоро. Ефим Зыбин, трудившийся у Брюса в приказе артиллерии, извещает Якова Вилимовича, что его супруга едет тихо. «Для того она по се число мешкатно изволила ехать, в Калуге заскорбела и несколько чисел жила и посылала к Москве для дохтура, и за помощию Божиею от болезни есть свобода».
Совместное пребывание в Польше не было долгим. Уже в октябре Марфа Андреевна просит своих сестер прислать из Москвы в Борисов, куда они вскоре намерены были приехать, «Якова Вилимовича шубу рысью под бархатом, нашивки серебреные старые с кафтана бархатного лазоревого (что лежит в корзини и знает их девка Варька), да волосы новые». Для себя она тоже заказала соболью и беличью шубы, чтобы довезти благополучно до Москвы себя и дитя, которое ожидала родить в начале следующего, 1708 года. Действительно, в январе Марфа Андреевна благополучно разрешилась девочкой, названной Натальей. Крестным отцом дочери Брюса был царевич Алексей Петрович. По этому поводу счастливый отец отправляет царевичу письмо с благодарностью за то, «что не изволили нашу низость презрити и были приемником дочери моей». Судя по донесениям домоправителя Брюса Онуфрия Брылкина, мать и дочь чувствовали себя хорошо. Записки о них, как правило, были такого характера: «Государыня Марфа Андреевна в добром здравии, также и предорогая Наталья Яковлевна в добром здравии».
Марфа Андреевна прекрасно справлялась с ролью придворной дамы. В отсутствие Брюса в Москве государь иногда устраивал в его доме веселые вечеринки. Марфа Андреевна хлопотала о том, чтобы достойно принять гостей. Ей это вполне удавалось. Тот же Онуфрий Брылкин уведомлял хозяина, что в его доме проходил обед при участии государя, который «зело изволил увеселитца, и убрано было кушанье, также и напитки, зело изрядно. Назавтре изволил кушать царевич и забавлялись с великим весельем, танцевали… до полуночи».[619] В январе 1706 года Ромодановский извещает Якова Вилимовича, что на Святки вместе с государем «в доме твоем славили и все слава Богу исправили добре».
Благодаря знакомству с царевичем Алексеем Петровичем Марфа Андреевна была приставлена в 1715 году к жене его, кронпринцессе Шарлотте, о чем мы узнаем из письма к государю от санкт-петербургской князь-игуменьи Ржевской: «По указу вашему у ее высочества кронпринцессы я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем, и она к нам милостива». В это же время Брюс часто посещал самого царевича, живя с ним по соседству. Некто Андрей Брюс, уже упоминавшийся нами, сообщает, что часто сопровождал генерала в его визитах к царевичу.
Супруга Якова Вилимовича смогла со всем блеском продемонстрировать свое умение играть роль придворной дамы в церемонии коронования Екатерины I 7 мая 1724 года.
Вот что об этом сказано в дневнике камер-юнкера Берхгольца: на богатых подушках несли царские регалии: державу – князь Долгорукий, скипетр – граф Мусин-Пушкин. На долю Брюса выпало нести «новую великолепную императорскую корону». Екатерина была убрана в платье из пурпурной штофной материи с богатым и великолепным золотым шитьем. Шлейф несли пять статс-дам, а именно княгиня Меншикова, супруга великого канцлера Головкина, супруга генерал-фельдцейхмейстера Брюса, генеральша Бутурлина и княгиня Трубецкая. Вельможи положили царские регалии на специально оборудованный стол у трона и выстроились на его ступенях в следующем порядке: Брюс на первой ступени по сходе с трона, на второй – Мусин-Пушкин, Долгорукий – на третьей, четвертую и пятую соответственно заняли Остерман и Голицын. Нет нужды описывать всю церемонию, многократно изображавшуюся разными авторами. Нам важно лишь обратить внимание на честь, оказанную чете Брюсов во время церемонии.
Следует сказать, что графиня Марфа Андреевна Брюс не была затворницей и, помимо приема гостей, умела развлечь себя собственными выездами и прочими радостями, пристойными для женщин того времени. В дневнике того же Берхгольца мы находим под 23 августа 1722 года запись о том, что на крестинах «у камеррата Фика восприемниками… были князь и княгиня Меншиковы, генеральша Брюс, Ягужинский и г-жа Лефорт».[620] После ухода Брюса в отставку и переезда его в имение Глинки Марфа Андреевна недолго наслаждалась красотами своей подмосковной. Осенью 1727 года она была «поражена паралижною немощию, от которой на одной стороне весьма ослабела так, что довольное время язык, видение и слух поврежден был». 30 апреля 1728 года ее не стало. Яков Вилимович остался один, и скорбь по супруге дала почву для его нездоровья.
Брюс вообще страдал комплексом болезней, объединявшихся тогда общим наименованием: подагра. В более поздние времена подагрой называли лишь солевые отложения в стопах ног. Первое серьезное уведомление о себе болезнь сделала в 1708 году. В мае этого года Брюс оправдывается перед государем в том, что не успел еще выправить книгу Брауна об артиллерии «за проклятою подагрою, которою одержим был больше четырех недель, а потом припала было горячка, от которой у меня так было повредились глаза, что долгое время не мог оных к многому читанию и писанию употребить». Шереметеву он сообщает, что долгое время «я мало говорить, не токмо писать мог».[621] Обладая приличной библиотекой по медицине и траволечению, Яков Вилимович пользовал себя сам, а также прибегал к помощи знахарки, жившей в Немецкой слободе. Дьяк артиллерийского приказа Павлов в отсутствие Брюса в Москве сам ездил в Немецкую слободу для того, чтобы достать лекарство для своего покровителя. Он так описывает свое посещение знахарки: «Изволила мне отдат лекарственной водки скляночку круглую, а денег за нее взять ничего не изволила, а приказала мне к милости твоей отписать: естли тебе, государю, и впредь такая ж водка понадобится, и чтоб ты… изволил к ней писать, а она и впред такую водку к милости твоей отпускать обещала».[622] «Лекарственная водка», надо полагать, была какой-то настойкой. Сам следя за своим здоровьем, Яков Вилимович долгое время не жаловался на сильное недомогание. Однако в письме к Макарову от 12 апреля 1723 года из Москвы он пишет: «Еще мне три атаки были в разных членах, тако что даст мне день или два походить, и то слехка, а потом каки схватит, что днем стать с постели подняться не мог. По последнем нападении на меня… от его великое беспамятство… было пришел». На четвертый день после этого приступа «стал льготу себе видеть и в крепость приходить».[623] И все же Якову Вилимовичу довелось дожить до почтенного по тем временам возраста: он скончался в 1735 году шестидесяти пяти лет от роду.
Какое же наследство оставил Брюс? По нашим приблизительным подсчетам, за время службы ему было пожаловано порядка четырех-пяти тысяч четвертей земли и около полутора тысяч крестьянских дворов в Новгородском, Брянском, Козельском и Кексгольском уездах. Одно из первых крупных пожалований было сделано Брюсу государем в качестве награды за участие в разгроме корпуса Левенгаупта при деревне Лесной. Ему были даны в вотчину Брянские слободы, включавшие 219 дворов и 903 четверти земли. С угодий, отданных ему государем, можно было иметь 1070 копен сена. Годовой доход этой вотчины должен был составить 286 рублей. В 1711 году, вероятно, за участие в Прутском походе генерал получил выморочные имения Федора Пущина, Ивана Нелединского и Ивана Клементьева в Новгородском уезде. Общая их площадь составила 1098 четвертей земли. Но эти земли были практически не заселены и владение ими было более обременительно, нежели прибыльно, поскольку новому владельцу предстояло прежде заполнить их крестьянами. Правда, тогда же ему были отданы некоторые земли из дворцовых волостей в Смоленской губернии, приносившие доход 980 рублей в год, что могло компенсировать расходы, связанные с заселением земель в Новгородском уезде. Самое большое пожалование крестьянами, составлявшее 500 дворов, Яков Вилимович получил по случаю заключения мира со Швецией как участник переговоров. Указ от 21 октября 1721 года гласил: «За ево нынешнюю, показанную нам и государству нашему, верную службу на Нейштацком конгрессе в постановлении с короною швецкою вечного мира, определяем пятьсот дворов крестьян, в том числе двести дворов в Корелском уезде в Сердоблской погост, а достальные триста дворов дать из отписных или выморочных деревень в великороссийских городах».[624]
Яков Вилимович, имея чин генерал-фельдцейхмейстера, получал 5616 рублей в год. При наличии еще поместий и отсутствии затрат на детей он не испытывал нужды. Свои средства он позволял себе тратить на приобретение книг и астрономических и оптических инструментов, а также на собирание кабинета редкостей. Кроме того, доходы генерал-фельдцейхмейстера позволяли ему быть обладателем хорошо обставленных домов в Москве и Петербурге. В его петербургском доме останавливалась на некоторое время сама Анна Иоанновна.
Стены и потолки практически во всех помещениях дома были украшены росписью. В сенях потолок был обтянут полотном с живописными изображениями. Здесь же висел барометр, «по которому познавается дождевая и сухая погода». Из сеней направо была передняя. Ее стены и потолок также были обиты холстом, на котором красовалась роспись в китайском стиле, особенно впечатлявшая обилием позолоты. Над дверями «написаны живописью образы два». Внимание в передней привлекал камин, по углам которого стояли две гипсовые небольшие скульптуры. Печь была украшена цветными изразцами. В передней же стояли кресла-кровати, призванные удивить диковинной своей конструкцией и богатством драпировки. Они были обиты «красным сукном медными гвоздьми по золотому галуну». В дополнение к креслам стояло еще 12 английских плетеных стульев. Следующая комната могла бы быть названа «синей залой», так как роспись на потолке была сделана преимущественно в синем цвете. А стены были обиты деревом и расписаны золотом. В переднем углу был изображен лик Спаса Нерукотворного. Полюбовавшись живописью, гости могли увидеть и самих себя в двух больших стенных зеркалах, убранных в стеклянные рамы. По стенам висели восемь зеркальных подсвечников. Большой шкаф не создавал громоздкости, так как был расписан в том же стиле, что и стены. Изящная голландская печь на ножках была украшена изразцами. Двенадцать стульев в этой комнате были выкрашены под орех, а мягкие сиденья и подлокотники «вышиты гарусом по шерстяной парче». Здесь же стояли раздвижные кресла, знакомые нам по предыдущей комнате. А вот и графская спальня. Если другие комнаты призваны были поразить своим великолепием гостей, то здесь, кажется, можно было не очень мудрствовать в обстановке. Но и эта комната обита богатым красным штофом «з белыми травами». Потолок обтянут холстом и украшен росписью. Хозяин мог созерцать себя в двух больших зеркалах, которые нам уже встречались. На стенах прикреплены 12 чеканных посеребренных шандалов. В камине встроено небольшое зеркало. На самом камине – золоченые и серебрёные фигуры. Для работы стоит небольшой ореховый столик с выдвижным ящиком. Хозяин следит за модой. В спальне он установил кресла с четырехугольными черными кожаными сиденьями, называвшимися тогда «новомодными».
Спальня Марфы Андреевны, в отличие от графской, обитой будоражащими красными обоями, более уютна и создана для покоя. Обои на стенах являют собой сочетание холста с зеленым сукном. На них изображены серебрёные фигуры. Небольшой деревянный круглый столик, изразцовая печь на ножках – вот почти вся мебель в ее спальне.
Гостиная в доме очень большая и светлая за счет трех больших окон в нижнем ярусе и четырех окошек поменьше под самым потолком. Потолок украшен живописью на холсте. Стены расписаны по гипсу. Пол покрыт паркетом из разных пород дерева, что создает впечатление, будто по дереву делали роспись. По углам стоят два камина с мраморными карнизами. На каминах – неизменные скульптурки. Вся гостиная украшена многочисленными фигурами из гипса довольно внушительных размеров. Они многократно отражаются в четырех больших зеркалах. Большой овальный стол зеленого цвета, кажется, готов угостить всех пришедших. Когда за окнами темнеет, гостиную освещает множество свечей, расположенных в два яруса. В середине под потолком висит люстра с 18 подсвечниками. Множество стульев и кресел говорит о когда-то многолюдных приемах.
Невозможно рассказать обо всем доме, имевшем более 15 помещений с разными целевыми назначениями. Обойдя дом, гость обнаружил бы помимо росписи обоев бумажные картины на стенах с изображениями городской панорамы. В одной из комнат, расположенной возле спальни графини, можно было увидеть изображение гипсовых русалок. В память о Полтавской баталии, непосредственным участником которой был он сам, Яков Вилимович держал на одном из каминов в овальной раме под стеклом изображение этой битвы. Стоит также обратить внимание на часы в деревянном лаковом корпусе, висевшие на стене и бившие каждый час.
К сожалению, мы не располагаем хозяйственной перепиской Брюса со своими приказчиками и домоправителями. Мы имеем лишь отдельные сведения, говорящие о ведении дел в его хозяйстве. В молодости Яков Вилимович не слишком был озабочен обустройством своих дел. Во-первых, пожалования государя были не очень велики, во-вторых, в начале Северной войны он был всецело занят боевыми действиями и устройством артиллерии, в-третьих, наконец, он был просто молод. Поскольку походная жизнь не позволяла надолго останавливаться в своих пока еще небольших имениях, у молодого генерала не было стимула к серьезному занятию хозяйством. Одно из первых пожалований государя он получил в 1704 году под Нарвой. Это было, вероятно, небольшое загородное местечко, которое он пытался привести в порядок. Нам попалось лишь единственное распоряжение Брюса хозяйственного содержания: «Рож и ячмень, буде возможно, кому взаймы отдат с роспискою, тутошним жителем, також и солад. А буде отдать кому невозможно, изволь продать… Пожалуй, коляску и карету, которые есть в Нарве, прикажи их отвести в Новгород на подводах». Занятый военными походами и не имеющий постоянного места проживания, Яков Брюс имел малое представление о том, как велось его хозяйство. В отличие от Шереметева, питавшего страсть к лошадям, Яков Вилимович даже не знал наверняка количества своих коней, не говоря уже об их мастях. Будучи частым участником и посредником в лошадиных торгах и менах Шереметева, Яков Вилимович наконец и сам решил выяснить, каково состояние дел в его собственной конюшне. В 1706 году он пишет своему артиллерийскому комиссару Зыбину, присматривавшему за хозяйством генерала: «И ты, для Бога, уведомся: где ныне оные обретаютца, и в каком состоянии, и много ли их, и какими шерстами; також хто из денщиков при них… Також… отпиши ко мне о моем буром мерине, в каком он состоянии. Також вели его проезжать, чтобы смирен был к садке».[625]
Похоже, Яков Вилимович слыл человеком не жадным к деньгам и не мздоимцем. Свидетельства тому мы находим даже у иностранцев. Так, полномочный министр при русском дворе Кампредон в своем письме от 14 марта 1721 года извещает архиепископа Камбрэского о каком-то деле, посредником в котором ими был выбран Брюс: «Я не думаю, чтоб можно было предложить деньги Брюсу». Сердце этого человека полномочный министр надеется растопить лишь собранием гравированных эстампов королевских дворцов, поскольку «этот англичанин… чрезвычайно любит рисунки».[626] Возможно, неподкупность Брюса объяснялась его близостью к царю: в случае возможного раскрытия фактов о взятках он мог потерять расположение императора. Но нам представляется, что причины отсутствия мздоимства заключаются во врожденной порядочности Брюса, его стремлении поддержать свое доброе имя, а также в добросовестном исполнении порученных дел, что, конечно, исключало вышеозначенный порок, характерный для многих должностных лиц государства.
Довольно спокойно относящийся к разным житейским неурядицам, Брюс совершенно менялся, когда речь шла о невыполнении кем-то служебного долга. Яков Вилимович был по натуре человеком, не склонным к жестокостям. В письме к Иоганну-Георгу Лейтману, отвечая на вопрос об изготовлении волчьих петель, Брюс пишет: «Я ведь не любитель мучить подобными вещами бедных животных».[627] Однако, когда в 1706 году ему было поручено государем расследовать некоторые дела в артиллерийском ведомстве, он приказал: «Бомбардира Лушнева, что он бил челом великому государю, не явясь в артиллерии у генерал-лейтенанта Якова Вилимовича, и за побег и за прежний побег и многия его вины, сослать в Азов на каторгу в вечную работу». Не без ведома Брюса также был вынесен приговор «пушкарям за ослушание их, что они оставались на Москве без указу, учинить наказанье: велеть прогнать шпицрутены многажды, чтоб впредь не повадно им так делать». В этом же году Брюс вершил суд над ротным писарем за приписку умерших пушкарей в ведомости на получение жалованья. За это генерал-фельдцейхмейстер повелел «бить на козле кнутом нещадно».[628]
Конечно, все эти примеры касались людей, стоящих гораздо ниже Брюса на социальной лестнице. Читатель может сказать, что генерал-фельдцейхмейстеру легко было демонстрировать свою любовь к порядку на спинах беззащитных артиллерийских служителей. Попробовал бы он ради соблюдения заведенных правил вступить в конфликт с людьми более высокого звания. Но вот и другие примеры. В свое время государем был издан указ о том, чтобы артиллерийских офицеров без ведома генерал-фельдцейхмейстера губернаторы чинами не жаловали; запрещалось также производить повышение чином, минуя какую-либо ступень. Через некоторое время после этого указа артиллерийский подполковник де Генин без ведома Брюса был произведен в полковники. В письме де Генина к графу Ф. М. Апраксину, написанном почти два года спустя, полковник пишет, что Яков Вилимович «еще на меня гневен, что я пожалован мимо его полковником». Чуть позже описываемого случая, в январе 1717 года, фельдмаршал Шереметев прислал Брюсу письмо, в котором извещал генерала, что царь пожаловал артиллерии капитана Беренца в майоры и просил выдать новому майору соответствующий документ. Но Яков Вилимович усомнился даже в правоте действий самого государя, «понеже его царское величество изволит мне приказывать, чтоб через чин никого не производить, якобы капитана прежде не быв секунд-майором».[629]
Я. В. Брюс старался не примыкать ни к одной из периодически возникавших при дворе группировок. Выполняя добросовестно свое дело, что давало ему возможность не опасаться за какие-то «грешки» и не искать прикрытия у сильных мира сего, Брюс мог держаться независимо. Пользуясь чьими-либо услугами, Яков Вилимович стремился взаимно услужить, что позволяло ему ни перед кем не заискивать. Кроме того, авторитет образованного человека, пользующегося расположением государя, заставлял двор уважительно относиться к Якову Вилимовичу. Сам он не был охотником до сплетен и придворных интриг, что также обеспечивало ему возможность независимого существования. Ко всему прочему, Брюс не был православным, что, вероятно, являлось некоторой преградой для возможного сближения с ним русских «партий», складывавшихся при дворе. Для новоприезжих иностранцев он также не был до конца своим, поскольку относился к числу иностранцев, родившихся в России, которых, по словам Юста Юля, новые искатели счастья не жалуют.
Яков Вилимович довольно рано был посвящен в веселую петровскую компанию. 19 июля 1695 года Петр I адресует к князю Ф. Ю. Ромодановскому письмо шутливого содержания, ставя под ним следующую подпись: «Нижайшие услужники пресветлого вашего величества: Ивашка меншой Бутурлин, Яшка Брюс… Петрушка Алексеев… челом бьют». Яков Вилимович импонировал государю, конечно, не только умением поддержать веселую пирушку, но и своей образованностью и умением вести дела. Но и шумные празднества проходили с его участием. В 1706 году царь извещает А. Д. Меншикова из Киева: «Мы теперь в дому господина генерала Брюса про ваше здоровье подпиваем».[630] Выше мы уже говорили, что Петр I с успехом проделывал то же самое в московском доме Брюса в отсутствие самого генерала. О добром отношении к Якову Вилимовичу Брюсу Петра I свидетельствуют и иностранцы, находившиеся при русском дворе. Ч. Витворт в донесении к статс-секретарю Бойлю сообщает о каком-то деле, ходатаем по которому он избрал генерала Брюса в надежде, «что его помощь будет нам очень полезна, так как он очень хорош и с царем и с князем Меншиковым». Государь ценил Якова Вилимовича как хорошего собеседника и часто вызывал досаду придворных, проводя в его обществе больше времени, чем следовало бы по его чину. Причем Петр сам искал общения с Брюсом, а не просто проводил с ним время лишь потому, что тот был поблизости. Так, 28 июня 1707 года государь делает приписку к письму князя А. Д. Меншикова, адресованного Брюсу во время уже известного нам путешествия его с Марфой Андреевной. Царь пишет: «Просим вас и з женою немедленно сюды и, приехаф пожить здесь» (то есть в Люблине).[631]
Итак, мы видим, что Петр ценил Брюса за его умение общаться, поддерживать беседу, что вытекало из разносторонних познаний Якова Вилимовича. Царь нередко бывал в доме Брюса не только по поводу шумных празднеств, но и просто для общения. Вместе с тем следует отметить, что отношения Петра с Брюсом не были такими панибратскими, как с Меншиковым. Это связано с тем, что Яков Брюс по природе своей ни перед кем не заискивал, знал себе цену, привык надеяться только на себя. Его европейская образованность выгодно отличала его от большинства придворных. Вокруг него существовала некая аура независимости, которая ощущалась даже государем.
Милостивое отношение к Брюсу самодержца обеспечивало нашему герою симпатии со стороны многих придворных. Одним из наиболее влиятельных людей при дворе был А. Д. Меншиков. Нам будет небезынтересно посмотреть на взаимоотношения Брюса и светлейшего князя. Разумеется, Александр Данилович и Яков Вилимович не могли найти общего языка в области научных изысканий. Брюс и Меншиков сходились на более приземленных темах.
В июле 1705 года, когда армия собралась в Вильно, командиры развлекали себя на досуге взаимными визитами, дабы отвлечься от армейской повседневности. Собирал знакомых за своим столом и А. Д. Меншиков. О том, что в числе приглашавшихся им офицеров был и Я. В. Брюс, свидетельствует записка на его имя: «Господин генерал-маеор Брюс. Паки прошу, дабы ваша милость не изволил запамятовать ко мне быть кушать».
Постепенно отношения между ними переросли почти в приятельские, чему сопутствовала однообразная походная жизнь, придающая обычному общению между людьми большую ценность. Яков Вилимович умел ладить со всеми, тем более с общительным Меншиковым. Находясь на некотором расстоянии друг от друга в действующей армии, они развлекали один другого мелкими безделицами. В июле 1706 года Меншиков отправляет Брюсу веселое письмо, в котором мы находим следующие строки: «Зело я удивляюсь, что ваша милость пороху к нам отпустил столько, сколько к стрельбе против неприятеля надлежит. Или не может господин генерал разсудить, что иногда и мы не на сухе лежим, и в то время, чем про ваше здравие стрелят, о чем прошу благаго разсуждения». Брюс в тон Александру Даниловичу выражает сожаление, что «пороха послал, которым от неприятеля поборонитца возможно, а для лутчаго союсу с Ивашкою Хмельницким ничего… А ныне, по получении своего „пороха“ для лутчаго возбуждения с Бахусом дружбы, послал я к вашему сиятельству 3 бочки пороха, в которых содержитца по 80 выстрелов на всякую пушку, которыя посланы вашему сиятельству…».[632]
Яков Вилимович общался не только с самим Меншиковым, но и состоял в самых дружеских отношениях с его супругой Дарьей Михайловной. Свидетельством тому является тайная переписка между Брюсом и Дарьей Михайловной, ничуть не умалявшая их чести, а, напротив, подтверждающая нам добродетельность этой женщины. Яков Вилимович был посвящен в сердечные переживания супруги Меншикова. В июле 1708 года армия находилась в районе Шклова. Дарья Михайловна очень желала приехать к армии и увидеться с мужем. Но близость неприятеля и бездорожье заставили князя отказать супруге в приезде. Дарья Михайловна доверила свои подозрения относительно охлаждения к себе князя Брюсу. Генерал поспешил уведомить «сиятельнейшую княгиню», что «по желанию вашему, его светлости, вашему любезному сожителю, к себе вас взять невозможно, понеже онаго истинно, истинно учинить опасно», поскольку неприятель находится в 2,5 милях отсюда, а кругом грязь и бездорожье такие, что трудно даже верхом проехать. По поводу мучивших Дарью Михайловну сомнений Брюс пишет: «Я могу вашу светлость обнадежить, что не от какого ослабления его любви к вам он вас к себе не хочет, но токмо от желания и опасения, дабы вас в какой страх не привести, которое я многожды приметил в воздыхании, когда про ваше здравие кушает, и сие нередко случается». Желая угодить чете Меншиковых, Брюс посвящает Дарью Михайловну в свой тайный романтический план встречи супругов. Он советует ей прибыть к Петрову дню в Шклов. Сам он под любыми предлогами берется уговорить Александра Даниловича прибыть в этот же день в Шклов.
Несколько иные отношения установились у Брюса с кабинет-секретарем Алексеем Васильевичем Макаровым. Макаров хотя и был влиятельным человеком, однако уступал в этом отношении Меншикову. С Брюсом они стояли почти на одной ступени не столько в государственной иерархии, сколько в отношении к ним государя. Такое равенство позволяло Брюсу не страдать комплексом зависимости от власти, что, возможно, тяготило его в общении с Меншиковым. И хотя в письмах к Макарову Яков Вилимович непременно придерживается обращения «Государь мой, Алексей Васильевич!», эти письма выглядят достаточно доверительными, в них не чувствуется напряженности, сопутствующей письмам к Меншикову, несмотря на шутливый тон некоторых из них.
К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении письма в основном связаны с делами Кабинета. И лишь некоторые отступления касаются личных отношений этих людей. Так, в 1710 году Алексей Васильевич просит пристроить своего брата Ивана на одно из хороших мест в ведомстве Брюса. Яков Вилимович готов услужить кабинет-секретарю, правда, соблюдая все тот же принцип ненанесения ущерба другим своим подчиненным. Он извещает Макарова 25 февраля 1710 года: «А на Петрово Повытье Валяева я бы рад приказать ему о том, токмо оное давно до письма вашего отдано подъячему Севергину, чего мне вновь переделать невозможно». За невозможностью устроить брата кабинет-секретаря на желаемую должность Яков Вилимович готов определить его в приказ артиллерии. Другого протеже Макарова, сына некоего «господина Курбатова», Брюс решил сделать инженером, «понеже он тому обучен немного». Для продолжения учения Брюс отправил юношу к полковнику Касону. Извещая об этом кабинет-секретаря, он также пишет, что по желанию Макарова может отдать ученика в артиллерию «и прикажу оным его учить».[633] Вероятно, Макаров желал, чтобы Брюс посодействовал его подопечному в выборе специальности в соответствии со склонностями, полностью полагаясь на Якова Вилимовича. Тот, пристраивая присылаемых от Макарова юнцов, критически оценивал их, невзирая на высокого покровителя. Один неприятный инцидент произошел с присланным от Макарова в Берг-коллегию «матросским сыном Иваном Сазоновым». Происшедшее настолько покоробило Брюса, что он, желая продемонстрировать свое неудовольствие, сменил форму обращения к Макарову «Государь мой, Алексей Васильевич» на официальное «Благородный господин, кабинет-секретарь!». Что же вывело Брюса из равновесия? Иван Сазонов был им в свое время определен «в науку к шпалерным мастерам французам». Однако, беря на вооружение их знания, он прихватил еще и их имущество, «а имянно у того мастера, у которого он в науке был, разломал баулу, покрал денги». Будучи примерно наказан, он продолжал обучение. Но не был прилежен и больше предавался развлечениям. Чаша терпения Брюса была переполнена после того, как Сазонов «еще учинил противность, испортил картину», за что был отправлен к Макарову с просьбой «принять и определить, куда благоволите». Столь сухое письмо должно было продемонстрировать Макарову, что «должный слуга Яков Брюс» имеет предел своей готовности посодействовать кабинет-секретарю. Тому впредь следовало рекомендовать только надежных людей.
Яков Вилимович не злоупотреблял дружбой с кабинет-секретарем для личных выгод. Он иногда просил его помочь в каком-либо деле, касавшемся артиллерии или Берг– и Мануфактур-коллегии. Так, в июле 1720 года Брюс сообщает Алексею Васильевичу, что мастеровым людям из Берг– и Мануфактур-коллегии, посланным на Олонец, положенные им деньги должно было выделить адмиралтейство. Однако там склонны были заплатить лишь за один месяц, что не устраивало работников, не желавших на таких условиях отправляться к «рудокопным делам». Яков Вилимович просит Макарова «дать бы изволили к его сиятельству господину адмиралу кого от себя послать или отписать, чтоб те заслуженныя деньги сии выданы были».
Своеобразно складывались отношения нашего героя с еще одним соратником Петра – Б. П. Шереметевым. Хотя Борис Петрович занимал более высокий пост и на театре военных действий Брюс находился в его подчинении, в их отношениях видятся теплота и взаимное уважение: «Государь мой и присный благодетель Яков Вилимович! Желаю тебе всяких благ. Звечливый твой приятель и слуга Борис Шереметев через писания братской любви любезная творю поклонения». Аналогичные послания отправлял и Брюс: «Государь мой милостивый, Борис Петрович! Благодарствую за твою, государя моего милость, что жалуешь – о здравии своем ко мне пишешь. И впредь о том милости прошу и всегдашно слышать желаю». Дружеское расположение и приятельские чувства прослеживаются во всех письмах корреспондентов. «Великой бы дал за то кошт, чтобы я тебя имел видеть персонально…»[634] – писал Борис Петрович Брюсу в 1709 году. Однако с сыном Бориса Петровича, полковником М. Б. Шереметевым, отношения у Брюса складывались не лучшим образом. Молодой полковник постоянно состязался с Брюсом в добывании квартир, провианта и фуража для своих войск. Поэтому Яков Вилимович, заняв положенные ему квартиры, спешит упредить возможные поползновения полковника, адресуясь к его отцу: «Токмо опасен я Михайло Борисовича, чтоб он в чем не прешкодил, о чем прошу дабы изволили к нему отписать, чтоб ближния около Борисова свободны были, и сам я у него о том буду просить». Шереметев-старший не оскорбился таким выражением по отношению к своему отпрыску и отправил Брюсу ответное послание, в котором сообщил, что «сыну моему в том противности чинити не велено, и о том к нему указ послан».[635] Это ли не высший показатель дружественного отношения Шереметева к Брюсу! Яков Вилимович поддерживал с фельдмаршалом теплые отношения из чувства личной симпатии. Не отвернулся он от Бориса Петровича и тогда, когда тот попал в немилость государя.
Из переписки Якова Вилимовича видно, что он был хорош со всеми, но не благодаря заискиванию, а в силу своих личных качеств. Его принципы были тверды, когда речь шла об исполнении им своего служебного долга. В другое же время он предпочитал поддерживать добрые отношения с окружающими, однако не попадал ни от кого в зависимость. Настоящего друга среди вельмож у Брюса не было. Все, кого мы перечислили выше, были только его приятелями, с которыми он сблизился на службе. После ухода в отставку ни с кем из них он не сохранил теплых отношений. Мы можем констатировать, что при наличии множества приятелей Яков Вилимович оставался одиноким человеком в кругу придворных.
Яков Вилимович скончался 19 апреля 1735 года. Московский губернатор С. А. Салтыков доносил императрице Анне Иоанновне: «…погребение учинено с пушечною и из легкого ружья стрельбою, и погребли его в Немецкой слободе в Старой Обедни», как называлась лютеранская кирха Святого Михаила на Вознесенской улице.
Прямых наследников Брюс не имел: две его дочери умерли в детском возрасте, а супруга – в 1728 году. Имущество генерал-фельдмаршала Кабинет велел осмотреть президенту Академии наук барону Корфу, описав «куриозные вещи, яко: книги, инструменты, до древностей принадлежащие вещи, редкие монеты и каменья, которые де надлежит хранить в Кунсткамере». Часть описанных предметов на тридцати подводах была доставлена в Петербург.[636]
Примечания
1
Шафиров П. П. Разсуждение о причинах Свейской войны. СПб., 1722. С. 205.
(обратно)2
Прокопович Феофан. Слова и речи. Ч. II. СПб., 1761. С. 139.
(обратно)3
Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 96, 99.
(обратно)4
Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 8. М., 1870. С. 173.
(обратно)5
Письма русских государей и других особ царского семейства. Вып. 1. М., 1861. С. 21.
(обратно)6
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. IV. Л., 1977. С. 214.
(обратно)7
Павленко ДЖМеншиков: Полудержавный властелин. М., 1999.
(обратно)8
Жизнь, анекдоты, военные и политические деяния российского генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. СПб., 1808; Заозерский А. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989.
(обратно)9
Толстой П. А. Дневник, писанный им во время путешествия в Италию и на остров Мальту в 1697–1698 гг. // Русский архив. 1888. Кн. 2–8; Тальман И. М. Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977; Сергеев А. А. Состояние народа турецкого, описанное графом П. А. Толстым. Симферополь, 1914; Попов Н. А. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П. А. Толстого // Атеней. Т. 2. М., 1859; Он же. Из жизни П. А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича // Русский вестник. 1860. № 11; Ковалевский Е. П. Суд над графом Девиером и его соучастниками // Соч. Т. 1. СПб., 1871; Павлов-Сильванский Н. П.Граф Петр Андреевич Толстой // Соч. Т. II. СПб., 1910.
(обратно)10
Крылова Т. К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические записки. Т. 10. М., 1941; Она же. Полтавская победа и русская дипломатия // Петр Великий. М., 1947; Она же. Русская дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700–1709) // Исторические записки. Т. 65. М., 1959; Глаголева А. П. Русско-турецкие отношения перед Полтавским сражением // Полтава. М., 1959; Орешкова С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. М., 1971; Устрялов Н. Г.История царствования императора Петра Великого. Т. VI. СПб., 1863.
(обратно)11
Шереметевский В. В. Дело следственной комиссии о кабинет-секретаре Петра I А. В. Макарове (1732–1734) // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 6. М., 1889; 200-летие Кабинета Е. И. В. 1704–1904. СПб., 1911; Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.
(обратно)12
Дучiч Йован. Едан србiн дипломат на двору Петра Великого. Белград – Питсбург, 1942; Павленко Н. И. Савва Лукич Владиславич-Рагузинский // Сибирские огни. 1978. № 3.
(обратно)13
Соловьев С. М. Сочинения. Кн. VII. М., 1991. С. 455. Путешествие из Женевы в Москву
(обратно)14
Поссельт М. Генерал и адмирал Ф. Я. Лефорт. Его жизнь и время // Военный сборник. 1870. № 7. С. 24–29.
(обратно)15
Виноградов И. И. Житие Франца Яковлевича Лефорта, Российского генерала. СПб., 1799. С. 11; Голиков И.И. Историческое отображение жизни и всех дел славного женевца Франца Яковлевича Лефорта. М., 1800. С. 12; Поссельт М. Указ. соч. С. 32.
(обратно)16
Голиков И. И. Указ. соч. С. 12.
(обратно)17
Поссельт М. Указ. соч. С. 32.
(обратно)18
Въезд в Россию Ф. Лефорта // Русская старина. 1898. № 3. С. 639.
(обратно)19
Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. 2. СПб., 1858. С. 10.
(обратно)20
Въезд в Россию Ф. Лефорта. С. 643.
(обратно)21
Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII – первой четверти XVIII века. М., 1998. С. 37.
(обратно)22
Поссельт М. Указ. соч. С. 238.
(обратно)23
Там же. С. 240.
(обратно)24
Устрялов Н.Г. Указ. соч. С. 12–13.
(обратно)25
Поссельт М. Указ. соч. С. 246.
(обратно)26
Мейерберг А. Путешествие в Московию. М., 1874. С. 177.
(обратно)27
Цветаев Д. В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890. С. 406.
(обратно)28
Поссельт М. Указ. соч. С. 236.
(обратно)29
Там же. № 9. С. 7.
(обратно)30
РГАДА, ф. 2, ед. хр. 21, л. 12–21.
(обратно)31
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1870. № 9. С. 14.
(обратно)32
Там же. С. 17.
(обратно)33
Там же. С. 23–24.
(обратно)34
Там же. С. 25.
(обратно)35
Там же. С. 28–29.
(обратно)36
Там же. № 10. С. 208–209.
(обратно)37
Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 323.
(обратно)38
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1870. № 10. С. 211.
(обратно)39
Там же. С. 213–214.
(обратно)40
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1870. № 10. С. 216.
(обратно)41
Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. С. 31.
(обратно)42
Дневник Иоганна Георга Корба, секретаря Посольства от императора Леопольда I к царю Петру I в 1698-99 гг. (Далее – Дневник Корба.) М., 1868. С. 236.
(обратно)43
Соловьев С. М. «История Петра Великого» Устрялова // Атеней. 1858. Ч. 4. С. 64–65.
(обратно)44
Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. 2. С. 467.
(обратно)45
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1870. № 10. С. 229–233.
(обратно)46
Там же // Военный сборник. 1870. № 11. С. 14.
(обратно)47
Там же // Военный сборник. 1870. № 10. С. 230.
(обратно)48
Там же // Военный сборник. 1870. № 11. С. 14–15.
(обратно)49
Село Нацеждино и архив князя Куракина. (Далее – Куракин Б.И.) // Русская старина. 1890. № 10. С. 249.
(обратно)50
Богословский М.М. Петр 1. Материалы для биографии. Т. 1. М., 1940. С. 173.
(обратно)51
Там же. С. 200.
(обратно)52
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1870. № 12. С. 273.
(обратно)53
Там же // Военный сборник. № 11. С. 14.
(обратно)54
Богословский М. М. Указ. соч. С. 186–186.
(обратно)55
Там же. С. 155.
(обратно)56
Устрялов Н. Е.Указ. соч. Т. 2. С. 487.
(обратно)57
Богословский М. М. Указ. соч. С. 201–202.
(обратно)58
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник.1870. № 11. С. 27–29.
(обратно)59
Там же. С. 24–25.
(обратно)60
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. 2. С. 444.
(обратно)61
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник.1870. № 11. С. 26–27.
(обратно)62
Куракин Б. И. С. 253.
(обратно)63
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник.1870. № 11. С. 17–21.
(обратно)64
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. (Далее – История России.) Кн. 7. Т. 14. М., 1960. С. 469.
(обратно)65
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 211.
(обратно)66
Бабкин А. Новые документы по истории Петра 1. (Далее – Новые документы) // Новый журнал. № 58. Нью-Йорк, 1985. С. 180–181.
(обратно)67
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 1. С. 9.
(обратно)68
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 230.
(обратно)69
Бабкин А. Новые документы. С. 184.
(обратно)70
Устрялов Н. Е.Указ. соч. Т. 2. С. 540.
(обратно)71
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 233.
(обратно)72
Там же. С. 232–236.
(обратно)73
Gordon A. History of Peter the Great, the Emperor of Russia. Aberdeen, 1755. Vol. 1.
(обратно)74
Богословский M. M. Указ. соч. Т. 1. С. 237–240.
(обратно)75
Устрялов Н. Е.Указ. соч. Т. 2. С. 541.
(обратно)76
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 244.
(обратно)77
Бабкин А. Новые документы. С. 185.
(обратно)78
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 244–245.
(обратно)79
Устрялов Н. Е.Указ. соч. Т. 2. С. 541.
(обратно)80
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 247.
(обратно)81
Там же. С 256–258.
(обратно)82
Устрялов Н. Е.Указ. соч. Т. 2. С. 543.
(обратно)83
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 1. С. 17.
(обратно)84
Бабкин А. Новые документы. С. 184.
(обратно)85
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 263.
(обратно)86
Бабкин А. Новые документы. С. 184.
(обратно)87
Записки И. А. Желябужского // Россию поднял на дыбы. Т. 1. М.,1987. С. 422.
(обратно)88
Соловьев С. М. История России… Кн. 7. С. 531.
(обратно)89
Бабкин А. Новые документы. С. 184.
(обратно)90
Елагин С. И. История русского флота. Период Азовский. СПб.,1864. С. 25.
(обратно)91
Бабкин А. Новые документы. С. 188.
(обратно)92
Там же. С. 187.
(обратно)93
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 1. С. 292–293.
(обратно)94
Там же. С. 295.
(обратно)95
Там же. С. 301.
(обратно)96
Там же. С. 307.
(обратно)97
Там же. С. 323.
(обратно)98
Там же. С. 333.
(обратно)99
Бабкин А. Новые документы. С. 184.
(обратно)100
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 2. С. 155.
(обратно)101
Там же. С. 160.
(обратно)102
Бабкин А. Новые документы. С. 192.
(обратно)103
Поход боярина и большого полку воеводы А. С. Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города… СПб., 1773. С. 188.
(обратно)104
Бабкин А. Новые документы. С. 193.
(обратно)105
Бабкин А. Письма Франца и Петра Лефорта о Великом Посольстве. (Далее – Письма) // Вопросы истории. 1976. № 4. С. 124.
(обратно)106
Шафиров П. П. Рассуждение о причинах Свейской войны // Россию поднял на дыбы. Т. 2. С. 496.
(обратно)107
Бабкин А. Новые документы. С. 186.
(обратно)108
Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. (Далее – ПДС). Т. 8. СПб., 1867. Ст. 749.
(обратно)109
Бабкин А. Письма. С. 123.
(обратно)110
ПДС. Ст. 750.
(обратно)111
Там же. Ст. 771.
(обратно)112
Письма и бумаги императора Петра Великого. (Далее – ПБ.) Т. 1. СПб., 1887. С. 149.
(обратно)113
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 29–30.
(обратно)114
Бабкин А. Письма. С. 123.
(обратно)115
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 31.
(обратно)116
Шафиров П. П. Указ. соч. С. 505.
(обратно)117
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 35–40.
(обратно)118
ПДС. Т. 8. Ст. 797.
(обратно)119
Там же. Ст. 809–812.
(обратно)120
Там же. Ст. 820.
(обратно)121
ПДС. Т. 8. Ст. 841.
(обратно)122
Там же. Ст. 806–807.
(обратно)123
ПБ. Т. 1. С. 172.
(обратно)124
Шафиров П. П. Указ. соч. С. 447.
(обратно)125
ПДС. Т. 8. Ст. 903.
(обратно)126
Там же. Ст. 916.
(обратно)127
ПБ. Т. 1. С. 135–137.
(обратно)128
ПДС. Т. 8. Ст. 921.
(обратно)129
Бабкин А. Письма. С. 126.
(обратно)130
ПДС. Т. 8. Ст. 923.
(обратно)131
Веневитинов М. А. Русские в Голландии. Великое Посольство 1697–1698 гг. М., 1987. С. 113.
(обратно)132
ПДС. Т.8. Ст. 950.
(обратно)133
Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697-98 гг., веденный состоявшим при Великом Посольстве русском, к владетелям разных стран Европы // Русская старина. 1879. Т. 25. С. 108.
(обратно)134
ПДС. Т. 8. Ст. 992-1012.
(обратно)135
Там же. Ст. 1013.
(обратно)136
Там же. Ст. 1027–1028.
(обратно)137
Там же. Ст. 1064.
(обратно)138
Там же. Ст. 956–957.
(обратно)139
Там же. Ст. 1029–1030.
(обратно)140
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 227.
(обратно)141
ПДС. Т. 8. Ст. 1039.
(обратно)142
Там же. Ст. 1060.
(обратно)143
Веневитинов М. А. Указ. соч. С. 129.
(обратно)144
ПДС. Т. 8. Ст. 1063.
(обратно)145
Веневитинов М. А. Указ. соч. С. 180.
(обратно)146
Бабкин А. Письма. С. 130.
(обратно)147
Там же. С. 127–129.
(обратно)148
ПДС. Т. 8. Ст. 1227.
(обратно)149
Там же. Ст. 1181.
(обратно)150
Там же. Ст. 1227.
(обратно)151
Там же. Ст. 1255–1256.
(обратно)152
Там же. Ст. 1270.
(обратно)153
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 312.
(обратно)154
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 2. С. 187.
(обратно)155
Там же // Военный сборник. 1871. № 3. С. 6.
(обратно)156
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 312.
(обратно)157
Там же. С. 313.
(обратно)158
Там же. С. 337.
(обратно)159
ПБ. Т. 1. С. 702.
(обратно)160
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 345.
(обратно)161
ПБ. Т. 1. С. 717–718.
(обратно)162
ПДС. Т. 8. Ст. 1242.
(обратно)163
Там же. Ст. 1271–1272.
(обратно)164
РГАДА, ф. 2, Госархив, ед. хр. 21, л. 1.
(обратно)165
ПДС. Т. 8. Ст. 1327.
(обратно)166
Там же. Ст. 1334.
(обратно)167
Там же. Ст. 1338–1339.
(обратно)168
Там же. Ст. 1354–1355.
(обратно)169
Там же. Ст. 1359–1360.
(обратно)170
Бабкин А. Письма. С. 130–131.
(обратно)171
ПДС. Т. 8. Ст. 1363.
(обратно)172
Там же. Ст. 1368–1390.
(обратно)173
Там же. Т. 9. Ст. 1.
(обратно)174
Бабкин А. Письма. С. 132.
(обратно)175
Богословский М. М. Указ. соч. Т. 2. С. 585.
(обратно)176
Кипарисова А. А. Лефортовский дворец в Москве // Архитектурные памятники Москвы ХЛИ-ХЛ7!!! вв. Новые исследования. М., 1948. С. 46.
(обратно)177
РГАДА, ф. 2, ед. хр. 21, л. 12.
(обратно)178
Там же, л. 16.
(обратно)179
Там же, л. 18.
(обратно)180
Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века. М., 1998. С. 331.
(обратно)181
Дневник Корба. С. 91.
(обратно)182
Ария для Петра Великого. Записки итальянского певца Филиппо Балатри. (Далее – Ария для Петра Великого) // Неделя. 1966. № 14. С. 20.
(обратно)183
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 3. С. 17.
(обратно)184
Дневник Корба. С. 91.
(обратно)185
Там же. С. 92–93.
(обратно)186
Там же. С. 122.
(обратно)187
Павленко Н. ЖУказ. соч. С. 88.
(обратно)188
Дневник Корба. С. 89–90.
(обратно)189
Рассказы и анекдоты про Петра Великого // Русский архив. 1885.Т. 2. С. 210.
(обратно)190
Дневник Корба. С. 122.
(обратно)191
Павленко Н. И. Указ. соч. С. 91.
(обратно)192
Дневник Корба. С. 108.
(обратно)193
Там же. С. 103.
(обратно)194
РГАДА, ф. 2, д. 21, л. 14.
(обратно)195
Ария для Петра Великого.
(обратно)196
Дневник Корба. С. 95.
(обратно)197
Там же. С. 104–107.
(обратно)198
Там же. С. 113.
(обратно)199
Ария для Петра Великого.
(обратно)200
Дневник Корба. С. 135.
(обратно)201
Там же. С. 151.
(обратно)202
Там же. С. 114, 125.
(обратно)203
Бабкин А. Письма. С. 132.
(обратно)204
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 3. С 18.
(обратно)205
Бабкин А. Новые документы. С. 185.
(обратно)206
Там же. С. 190.
(обратно)207
Там же. С. 188.
(обратно)208
Там же. С. 193.
(обратно)209
ПБ. Т. 1. С. 702.
(обратно)210
Бабкин А. Письма. С. 126.
(обратно)211
РГАДА, ф. 2, д. 17, л. 2.
(обратно)212
Дневник Корба. С. 151–152.
(обратно)213
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 3. С. 19.
(обратно)214
Дневник Корба. С. 152.
(обратно)215
Бергман В. История Петра Великого. Т. 1. СПб., 1833. С 308.
(обратно)216
Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т.3. С. 494.
(обратно)217
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 3. С. 19.
(обратно)218
Дневник Корба. С. 155.
(обратно)219
Поссельт М. Указ. соч. // Военный сборник. 1871. № 3. С. 26.
(обратно)220
Дневник Корба. С. 158.
(обратно)221
Сб. РИО. Т. 25. СПб., 1878. С. 310, 312.
(обратно)222
ЛОИИ, ф. Походная канцелярия князя Меншикова (ф. 83), оп. 1, карт. 4, д. 42, л. 1.
(обратно)223
Корб И. Г. Дневник путешествий в Московию 1698 и 1699 гг. СПб.,1906. С. 254.
(обратно)224
Невиль. Записки // Русская старина. 1891. Т. 72. С. 245.
(обратно)225
Записки путешествия Б. П. Шереметева. М., 1773. С. 21.
(обратно)226
Корб И. Г. Указ. соч. С. 98.
(обратно)227
Шереметев Б. П. Указ. соч. С. 25, 42, 74, 81, 49, 54, 39, 67, 34.
(обратно)228
Корб И. Г. Указ. соч. С. 127.
(обратно)229
Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. IV. Ч. 2. СПб., 1863. С. 168.
(обратно)230
ПБ. Т. I. СПб., 1887. С. 407.
(обратно)231
Гистория Свейской войны // Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. Ч. 1. М., 1770. С. 25, 26.
(обратно)232
ПБ. Т. I. С. 423.
(обратно)233
Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 167.
(обратно)234
Записки И. А. Желябужского // Записки русских людей. СПб., 1841. С. 81, 82.
(обратно)235
Постепенное развитие… Вып. 1. Кн. 1. СПб., 1912. С. 50; Кн. 3. СПб., 1912. С. 237, 238.
(обратно)236
Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. С. 38.
(обратно)237
Постепенное развитие… Вып. 1. Кн. 3. С. 341.
(обратно)238
Военно-походный журнал Шереметева: Материалы военно-ученого архива Главного штаба. СПб., 1871. С. 90.
(обратно)239
Записки русских людей. С. 84.
(обратно)240
Постепенное развитие… Вып. 1. Кн. 1. С. 89, 78, 79.
(обратно)241
ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 79.
(обратно)242
Постепенное развитие… Вып. 1. Кн. 1. С. 110, 111.
(обратно)243
ПБ. Т. II. С. 84.
(обратно)244
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1953. С. 544.
(обратно)245
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. IV. Ч. 1. СПб., 1853. С. 132.
(обратно)246
ПБ. Т. II. С. 75.
(обратно)247
Там же. С. 82, 83.
(обратно)248
Там же. С. 92.
(обратно)249
Там же. С. 451.
(обратно)250
РГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1705 г., д. 5, л. 55. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Р. В. Овчинникова, указавшего это дело.
(обратно)251
ПБ. Т.Н. С. 138.
(обратно)252
Там же. С. 140.
(обратно)253
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. IV. Ч. 1. С. 277.
(обратно)254
ПБ. Т. III. СПб., 1893. С. 53, 59, 513, 71.
(обратно)255
Постепенное развитие… Вып. 1. Кн. 1. С. 255; Кн. 3. С. 372.
(обратно)256
ПБ. Т. III. С. 94.
(обратно)257
Палли X. Э. Между двумя боями за Нарву // Эстония в первые годы Северной войны. 1701–1704. Таллин, 1955. С. 237.
(обратно)258
ПБ. Т. III. С. 112, 557.
(обратно)259
Там же. С. 192, 711.
(обратно)260
Там же. Т. I. С. 771, 113.
(обратно)261
ПБ. Т. II. С. 485.
(обратно)262
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 24, л. 833; Русский архив. 1909. Кн. 2. С. 173, 174.
(обратно)263
ПБ. Т. II. С. 79, 170.
(обратно)264
Постепенное развитие… Вып. 1. Кн. 2. СПб., 1912. С. 54, 85, 285.
(обратно)265
ПБ. Т. III. С. 295.
(обратно)266
Там же. С. 391.
(обратно)267
Голикова Н. Б. Из истории классовых противоречий в русской армии // Полтава. М., 1959. С. 271.
(обратно)268
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. С. 425.
(обратно)269
ПБ. Т. III. С. 449.
(обратно)270
Голикова Н. Б. Астраханское восстание 1705–1705 гг. М., 1975. С. 207.
(обратно)271
Переписка фельдмаршалов Ф. А. Головина и Б. П. Шереметева в 1705–1705 гг. М., 1851. С. 7, 10.
(обратно)272
ПБ. Т. IV. Вып. 1. СПб., 1900. С. 7.
(обратно)273
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. IV. Ч. 1. С. 504.
(обратно)274
ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 405.
(обратно)275
Переписка фельдмаршалов… С. 21.
(обратно)276
ПБ. Т. III. С. 449; Т. IV. Вып. 2. СПб., 1900. С. 523.
(обратно)277
ПБ. Т. III. С. 527; Т. IV. Вып. 1. С. 91, 189.
(обратно)278
ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 189.
(обратно)279
Голикова Н. Б. Астраханское восстание… С. 291, 298, 299.
(обратно)280
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. С. 404.
(обратно)281
ПБ. Т. IV. Вып. 2. С. 770–771, 758.
(обратно)282
Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. С. 427.
(обратно)283
РГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 78.
(обратно)284
Мышлаевский А. 3. Северная война. 1708. СПб., 1901. С. 2, 16. 4
(обратно)285
ПБ. Т. VII. Вып. 1. Пг., 1918. С. 85.
(обратно)286
Гилленкрок А. Современные сказания о походе Карла XII в Россию // Военный журнал. 1844. № 6. С. 26–28.
(обратно)287
ПБ. Т. VII. Вып. 1. С. 45, 72; РГАДА, ф. Сношения России с Турцией (ф. 89), 1713 г., оп. 1, д. 7, л. 213.
(обратно)288
ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 4, д. 58, л. 1; д. 76, л. 1.
(обратно)289
ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 2, д. 251, л. 1; д. 222-а, л. 1; карт. 4, д. 83, л. 2; карт. 7, д. 113, л. 1.
(обратно)290
ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 2, д. 282, л. 2; карт. 5, д. 160-а, л. 2; карт.4, д. 189-а, л. 1; карт. 2, д. 251, л. 1; карт. 4, д. 93, л. 3.
(обратно)291
Мышлаевский А. 3. Указ. соч. Приложение. С. 3, 4.
(обратно)292
Сб. РИО. Т. 39. СПб., 1884. С. 457, 458.
(обратно)293
Мышлаевский А. 3. Указ. соч. С. 37, 78, 79.
(обратно)294
Гилленкрок А. Указ. соч. // Военный журнал. 1844. № 6. С. 32.
(обратно)295
Мышлаевский А. 3. Указ. соч. Приложение. С. 32, 33.
(обратно)296
ПБ. Т. VIII. Вып. 1. С. 15.
(обратно)297
Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. Ч. I. С. 184–185, 200.
(обратно)298
ПБ. Т. IX. Вып. 1. М., 1950. С. 103.
(обратно)299
Гилленкрок А. Указ. соч. // Военный журнал. 1844. № 6. С. 82–85.
(обратно)300
Труды Русского военно-исторического общества. Т. IV. СПб., 1909. С. 117; Т. III. СПб., 1909. С. 269.
(обратно)301
ПБ. Т. IX. Вып. 1. С. 287, 333; Вып. 2. С. 1163.
(обратно)302
Там же. Т. X. М., 1956. С. 95.
(обратно)303
Сб. РИО. Т. 25. С. 192, 194.
(обратно)304
Гельмс И. А. Достоверное описание города Риги. Сб. материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. II. Рига, 1879. С. 437, 438.
(обратно)305
ПБ. Т. X. С. 222, 229, 247.
(обратно)306
Сб. РИО. Т. 25. С. 312.
(обратно)307
ПБ. Т. X. С. 442
(обратно)308
ПБ. Т. XI. Вып. 1. М., 1962. С. 43, 44, 177.
(обратно)309
Мышлаевский А. 3. Война с Турцией 1711 г. СПб., 1898. С. 34.
(обратно)310
ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 178, 285, 287.
(обратно)311
ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 16, д. 4-б, л. 1.
(обратно)312
ЦГАВМф, ф. Канцелярия графа Апраксина. Кн. 12, л. 162.
(обратно)313
ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 285, 286, 547.
(обратно)314
Мышлаевский А. 3. Война с Турцией 1711 г. С. 123, 124, 26.
(обратно)315
Юст Юль. Записки. М., 1910. С. 372.
(обратно)316
Мышлаевский А. 3. Война с Турцией 1711 г. С. 112, 120, 127, 132, 260.
(обратно)317
ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 190.
(обратно)318
Там же. С. 317, 583.
(обратно)319
Там же. Вып. 2. М., 1964. С. 616.
(обратно)320
Военно-походный журнал фельдмаршала графа Б. П. Шереметева 1711 и 1712 гг. СПб., 1898. С. 82–94.
(обратно)321
Сб. РИО. Т. 25. С. 330, 343, 344, 328, 329.
(обратно)322
Сб. РИО. Т. 25. С. 329.
(обратно)323
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 1-е отд. Тетради записные, 1713 г., л. 28; 2-е отд., кн. 24, л. 805.
(обратно)324
Долгорукая Н. Б. Своеручные записки. СПб., 1913. С. 17, 22.
(обратно)325
Военно-походный журнал фельдмаршала графа Б. П. Шереметева 1711 и 1712 гг. С. 189.
(обратно)326
Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. VIII. М., 1962. С. 409, 410; РГАДА, ф. 89, 1713 г., д. 1, л. 13, 14.
(обратно)327
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 22, л. 457.
(обратно)328
Сб. РИО. Т. 25. С. 386.
(обратно)329
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 22, л. 705.
(обратно)330
Сб. РИО. Т. 61. СПб., 1888. С. 354.
(обратно)331
Шереметев С. Схимонахиня Нектария. М., 1909. С. 15.
(обратно)332
ЛОИИ, ф. 83, оп. 3, д. 12, л. 4, 13, 10.
(обратно)333
Сб. РИО. Т. 25. С. 399.
(обратно)334
ЛОИИ, ф. 83, оп. 3, д. 12, л. 105, 111, 112.
(обратно)335
Там же, л. 122, 135.
(обратно)336
Шереметев С. Указ. соч. С. 15.
(обратно)337
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. VI. СПб., 1859. С. 508.
(обратно)338
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 37, л. 72, 73; ф. 198, д. 1046, л. 22.
(обратно)339
Шереметев С. Указ. соч. С. 18.
(обратно)340
РГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 40; Переписка фельдмаршалов… С. 53.
(обратно)341
ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 11, д. 288, л. 1; карт. 12, д. 7, л. 1.
(обратно)342
Сб. РИО. Т. 25. С. 325.
(обратно)343
Архив села Вощажникова. Вып. 1. М., 1901. С. 35, 36, 21, 27.
(обратно)344
Шереметев С. Указ. соч. С. 45, 69.
(обратно)345
Архив села Вощажникова. Вып. 1. С. 96, 99, 11, 16, 26.
(обратно)346
Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. VII. М., 1838. С. 386.
(обратно)347
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 37, л. 71, 76; кн. 36,л. 174, 176, 198.
(обратно)348
Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 8. С. 131–132.
(обратно)349
Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. Ч. 4. М., 1903. С. 25, 42.
(обратно)350
Архив внешней политики России (далее: АВПР), ф. Внутренние коллежские дела, 1729 г., д. 4173, л. 8-10.
(обратно)351
РГАДА, ф. Разрядный приказ. Московский стол, д. 532, л. 103; д. 551, л. 69; д. 596, л. 153.
(обратно)352
АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 1.
(обратно)353
История о невинном заточении ближнего боярина Артамона Сергеевича Матвеева. СПб., 1776. С. 380, 381.
(обратно)354
Записки Андрея Артамоновича Матвеева // Записки русских людей. СПб., 1841. С. 19, 21.
(обратно)355
Толстой П. А. Дневник, писанный им во время путешествия в Италию и на остров Мальту в 1697–1698 гг. // Русский архив. 1888. Кн. 2. С. 174; Кн. 3. С. 334, 336, 338. См. также: Шереметев П. Владимир Петрович Шереметев. Т. 1. М., 1913. С. 130–152; Попов H.A. Из жизни П. А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича // Русский вестник. 1860. № 11; Он же. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П. А. Толстого // Атеней. Т. 2. М., 1859.
(обратно)356
Толстой П. А. Указ. соч. // Русский архив. 1888. Кн. 5. С. 25, 37;Кн. 6. С. 147, 148, 151, 118.
(обратно)357
Русский архив. 1888. Кн. 3. С. 340, 341; Кн. 6. С. 120, 135.
(обратно)358
Русский архив. 1888. Кн. 7. С. 236, 259, 235–237.
(обратно)359
Русский архив. 1888. Кн. 6. С. 118; Кн. 7. С. 264.
(обратно)360
Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 532, 541, 547, 549; Кн. 7. С. 380.
(обратно)361
Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 547, 550; Кн. 5. С. 50; Кн. 7. С. 260;Кн. 8. С. 380.
(обратно)362
Русский архив. 1888. Кн. 5. С. 29.
(обратно)363
Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 529; Кн. 5. С. 42, 47.
(обратно)364
Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 527, 528.
(обратно)365
Русский архив. 1888. Кн. 3. С. 350, 352.
(обратно)366
Русский архив. 1888. Кн. 5. С. 28, 29, 35, 46, 50.
(обратно)367
Там же. С. 16–19, 26, 36; Кн. 6. С. 129–132; Кн. 7. С. 231–233.
(обратно)368
Русский архив. 1888. Кн. 3. С. 367; Кн. 4. С. 510, 514.
(обратно)369
Русский архив. 1888. Кн. 8. С. 390, 400.
(обратно)370
ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 53.
(обратно)371
РГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 1, л. 49, 84, 105.
(обратно)372
ПБ. Т. II. С. 55; РГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 53.
(обратно)373
РГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 492; 1702 г., д. 2, л. 172.
(обратно)374
РГАДА, ф. 89, 1707 г., д. 3, л. 169; 1708 г., д. 2, л. 196.
(обратно)375
РГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 292.
(обратно)376
РГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 31, 32, 37, 38, 79.
(обратно)377
РГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 133, 137, 206, 223, 224, 293.
(обратно)378
Сергеев А. А. Состояние народа турецкого, описанное графом П.А.Толстым. Симферополь, 1914.
(обратно)379
РГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 112, 115, 148.
(обратно)380
РГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 40–42, 58, 205, 238, 423, 430.
(обратно)381
Там же, л. 448, 462, 484, 493.
(обратно)382
Сергеев А. А. Указ. соч. С. 12–15, 28, 29 и сл.
(обратно)383
РГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 409, 477; 1705 г., д. 4, л. 119, 130.
(обратно)384
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 8. М.,1962. С. 61–66.
(обратно)385
АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 3. См. также: Толстой М. Краткое описание жизни Виллардо // Русский архив. 1896. Кн. 1. С. 20–28. В «Кратком описании жизни Петра Андреевича Толстого» названа сумма не 200 тыс. золотых, а 20 тыс. руб. перед Полтавским сражением; Тальман И.М. Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977. С. 42.
(обратно)386
РГАДА, ф.89,д. 3,л. 73.
(обратно)387
РГАДА, ф.89,
(обратно)388
РГАДА, ф.89,д. 3,л. 355.
(обратно)389
РГАДА, ф.89,д. 4,л. 2, 153.
(обратно)390
РГАДА, ф.89,
(обратно)391
РГАДА, ф.89,
(обратно)392
РГАДА, ф.89,
(обратно)393
РГАДА, ф.89,
(обратно)394
РГАДА, ф.89,
(обратно)395
РГАДА, ф.89,
(обратно)396
РГАДА, ф.89,
(обратно)397
РГАДА, ф.89,
(обратно)398
Там же, л.90,
(обратно)399
РГАДА, ф.89,
(обратно)400
Там же, л. 450, перед Полтавским сражением; Тальман И.М. Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977. С. 42.
(обратно)401
РГАДА, ф. 89, 1710 г., д. 5, л. 1–5; Тальман И. М. Указ. соч. С. 43, 57 и сл.
(обратно)402
РГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 336.
(обратно)403
РГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 372.
(обратно)404
РГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 390; 1704 г., д. 3, л. 309; 1706 г., д. 3,л. 96, 113, 126.
(обратно)405
РГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 385, 440.
(обратно)406
Там же, л. 380; 1704 г., д. 3, л. 42, 191–193, 342, 343.
(обратно)407
РГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 61, 261, 43.
(обратно)408
РГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 191, 343, 375; 1705 г., д. 4, л. 79.
(обратно)409
РГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 363, 371; 1704 г., д. 3, л. 29.
(обратно)410
РГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 227; 1704 г., д. 3, л. 166.
(обратно)411
РГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 126; 1703 г., д. 3, л. 1, 12; 1705 г., д. 4,л. 167; 1707 г., д. 3, л. 179.
(обратно)412
РГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 301; 1703 г., д. 3, л. 252.
(обратно)413
РГАДА, ф. 198, д. 963, л. 27–29, 32, 33.
(обратно)414
Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. VI. СПб., 1859. С. 358, 359, 88, 383–387.
(обратно)415
Там же. С. 388–389.
(обратно)416
Там же. С. 402–406, 411
(обратно)417
Там же. С. 420, 421.
(обратно)418
РГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 24, л. 3.
(обратно)419
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. VI. С. 416, 418, 421, 422.
(обратно)420
АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 5.
(обратно)421
Устрялов Н. Г.Указ. соч. Т. VI. С. 422, 423, 437, 501.
(обратно)422
Там же. С. 425, 427, 429, 489.
(обратно)423
Там же. С. 445, 516, 523, 532, 537.
(обратно)424
Там же. С. 578, 612, 613.
(обратно)425
Веретенников В. И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910. С. 118, 112, 195, 196, 124, 222.
(обратно)426
Павлов-Сильванский Н. П.Граф Петр Андреевич Толстой: Очерки по русской истории XVIII–XIX вв. СПб., 1910. С. 32; Никифоров Л. А. Внешняя политика России в последние годы Северной войны: Ништадтский мир. М., 1959. С. 103–119.
(обратно)427
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 61. М., 1953. С. 290–291.
(обратно)428
Ковалевский Е. П. Собр. соч. Т. I. СПб., 1871. См. также: Попов Н. А. Сведения о пребывании гр. П. А. Толстого в ссылке // Древняя и Новая Россия. 1875. № 11; Епископ Макарий. Последние дни графов Петра и Ивана Толстых // ЧОИДР, 1880, кн. III.
(обратно)429
РГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 3.
(обратно)430
РГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 6, л. 56; Сб. РИО. Т. 3. СПб.,1868. С. 471.
(обратно)431
РГАДА, Госархив, Разряд IX, д. 53, ч. 6, л. 56–62.
(обратно)432
РГАДА, ф. Походной и домовой канцелярии А. Д. Меншикова,д. 242, л. 6, 9.
(обратно)433
РГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 7-12, 22, 49.
(обратно)434
Там же, л. 40, 30, 77, 53.
(обратно)435
Там же, л. 78, 80, 128, 117, 118.
(обратно)436
Там же, л. 123–126.
(обратно)437
Там же, л. 134; ч. 1, л. 63, 66; ч. 5, л. 207, 208, 175; ПСЗ. Т. VII.№ 5084. С. 798–800.
(обратно)438
РГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 124, 125.АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 9.
(обратно)439
АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 9.
(обратно)440
РГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 20, 21.
(обратно)441
Там же, л. 258, 260.
(обратно)442
Там же, л. 137, 246; ч. 2, л. 57.
(обратно)443
Там же, ч. 4, л. 190–193.
(обратно)444
Там же, ч. 2, л. 55, 54, 59; ч. 4, л. 196.
(обратно)445
Там же, ч. 2, л. 60, 61, 77, 78.
(обратно)446
Там же, л. 35, 36; ч. 3, л. 136.
(обратно)447
Там же,
(обратно)448
Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. XIII. М., 1840. С. 371; Helbig. Russische Gьnstlinge. Tьbingen, 1809, S. 125.
(обратно)449
РО РНБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 3, л. 6; РГАДА, ф. Следственная комиссия о кабинет-секретаре Макарове (ф. 307), д. 1, л. 121.
(обратно)450
ПБ. Т. VIII. М., 1948. С. 90; РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 7, л. 197; Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. I. СПб., 1862. С. 58 и сл.
(обратно)451
200-летие Кабинета Е. И. В. 1704–1904. СПб., 1911. С. 73, 74; РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 21, л. 11; кн. 32, л. 847, 848; кн. 60, л. 892, 893, 905; кн. 35, л. 237; ф. Походная канцелярия А. Д. Меншикова (ф. 198), д. 64, л. 283.
(обратно)452
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 47, л. 238, 239; кн. 59, л. 1050–1052; кн. 62, л. 1315, 1316; кн. 68, л. 1107–1115.
(обратно)453
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 13, л. 626, 627.
(обратно)454
200-летие Кабинета Е. И. В. С. 60.
(обратно)455
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 32, л. 391–392; кн. 59, л. 82–92; кн. 62, л. 1115; 200-летие Кабинета Е.И.В. С. 59.
(обратно)456
ЦГАвМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 199, л. 166, 187; РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 51, л. 425; кн. 56, л. 296;кн. 63, л. 840; кн. 72, л. 401.
(обратно)457
РГАДА, ф. Исторические сочинения, д. 46, л. 1, 4, 7; Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 61, л. 797.
(обратно)458
200-летие Кабинета Е. И. В. С. 175, 176.
(обратно)459
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 5, л. 21.
(обратно)460
РГАДА, ф. 198, д. 963, л. 174.
(обратно)461
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 64, л. 905; кн. 68, л. 1099.
(обратно)462
Там же, кн. 68, л. 1099; кн. 61, л. 807, 809, 810.
(обратно)463
Там же, кн. 21, л. 23, 306, 307; кн. 28, л. 115.
(обратно)464
Там же, кн. 40, л. 330, 331.
(обратно)465
Там же, кн. 26, л. 4; кн. 24, л. 298; кн. 27, л. 116.
(обратно)466
Там же, кн. 21, л. 740, 247; кн. 26, л. 892; кн. 13, л. 345; кн. 28, л. 17, 18; кн. 64, л. 1055; кн. 15, л. 124, 125.
(обратно)467
Там же, кн. 28, л. 86, 88; кн. 63, л. 579, 580; кн. 32, л. 185.
(обратно)468
Там же, кн. 33, л. 851–853; кн. 37, л. 308, 413.
(обратно)469
Там же, кн. 17, л. 164, 165; кн. 15, л. 436, кн. 18, л. 641; кн. 35, л. 251.
(обратно)470
Там же, кн. 27, л. 14.
(обратно)471
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. VIII. М.,1962. С. 500.
(обратно)472
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 167; кн. 17, л. 110,111 90, 92, 779; кн. 23, л. 845.
(обратно)473
Там же, кн. 30, л. 252; кн. 53, л. 453.
(обратно)474
Там же, кн. 52, л. 817, 818; кн. 56, л. 229–231.
(обратно)475
Там же, кн. 17, л. 767, 784; кн. 15, л. 454, 455, 448, 449; кн. 30, л.10, 11.
(обратно)476
Там же, кн. 12, л. 615; кн. 23, л. 847, 852; кн. 41, л. 222.
(обратно)477
Там же, кн. 57, л. 1057–1067; кн. 61, л. 797; Берхголъц Ф. В. Дневник камер-юнкера. Ч. 1. М., 1902. С. 98.
(обратно)478
РГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 5, л. 4, 6.
(обратно)479
Сб. РИО. Т. 55. СПб., 1886. С. 118, 489, 490, 259; Т. 56. СПб., 1887. С. 62, 63, 300, 305, 33; Т. 63. СПб., 1888. С. 98, 440.
(обратно)480
Сб. РИО. Т. 63. С. 197.
(обратно)481
200-летие Кабинета Е. И. В. Приложение. С. 45; Сб. РИО. Т. 55.С. 325; Т. 56. С. 374, 375.
(обратно)482
Сб. РИО. Т. 63. С. 559; РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 81,л. 3.
(обратно)483
Арсенъев К. И. Царствование Екатерины I. СПб., 1856. С. 91.
(обратно)484
Сб. РИО. Т. 55. С. 87 и сл.; Т. 63. С. 624, 656.
(обратно)485
РГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 25; Разряд XIX, оп. 1,д. 8, л. 1.
(обратно)486
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 14, л. 29; Разряд XI, д. 124, л. 45.
(обратно)487
РО РНБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 9; д. 17, л. 1;д. 35, л. 1; д. 85, л. 1; д. 12, л. 1; д. 5, л. 1.
(обратно)488
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 5.
(обратно)489
РО РНБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 53, л. 1.
(обратно)490
РГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 53; Разряд IX, 2-е отд. кн. 11, л. 162; кн. 12, л. 72.
(обратно)491
РГАДА, ф. Сената, кн. 768, л. 24–26.
(обратно)492
РГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 125, л. 16; д. 124, л. 38.
(обратно)493
РГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 125, л. 16, 9, 4, 7.
(обратно)494
РГАДА, ф. 307, д. 1, л. 164, 165.
(обратно)495
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 33, л. 76.
(обратно)496
РГАДА, ф. Мануфактур-коллегии, оп. 4, д. 50, л. 3–5, 10, 16, 29,30; д. 81, л. 1, 12–15, 16, 29.
(обратно)497
РГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 134, л. 2.
(обратно)498
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 56, л. 607, 616, 617, 627.
(обратно)499
РГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 53–69.
(обратно)500
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 14, л. 151; кн. 13, л. 1153; кн. 12, л. 69.
(обратно)501
Там же, кн. 18, л. 369, 370; кн. 17, л. 499.
(обратно)502
РГАДА, ф. 307, д. 1, л. 4-16. См. также: Шереметевский В. В. Дело следственной комиссии о кабинет-секретаре Петра I А. В. Макарове (1732–1734) // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 6. М., 1889.
(обратно)503
РГАДА, ф. 307, д. 1, л. 15, 121, 326, 124, 327–329, 112, 115.
(обратно)504
Там же, л. 394, 120.
(обратно)505
РГАДА, ф. 307, д. 4, л. 32–37; Сб. РИО. Т. 130. СПб., 1910. С. 389.
(обратно)506
Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.С. 524, 528, 531.
(обратно)507
Сб. РИО. Т. 104. СПб., 1897. С. 19.
(обратно)508
РГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 315.
(обратно)509
РГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 370, ч. 2, л. 333, 339, 341, 344, 345;ч. 4, л. 75–82.
(обратно)510
Сб. РИО. Т. 117. Юрьев, 1904. С. 573.
(обратно)511
РГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 248–250; Сб. РИО. Т. 46.Юрьев, 1915. С. 33.
(обратно)512
РГАДА, ф. Сношения России с Рагузой (далее: ф. 59), 1702 г., д. 1,л. 3–7.
(обратно)513
Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. IV. Ч. 2. СПб., 1853. С. 254.
(обратно)514
ПБ. Т. I. СПб., 1887. С. 275.
(обратно)515
ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 512.
(обратно)516
АВПР, ф. Сношения России с Китаем (далее: ф. 52), д. 8, л. 222.
(обратно)517
Дучiч Йован. Едан србш дипломат на двору Петра Великого. Белград – Питсбург, 1942.
(обратно)518
ПБ. Т. I. С. 333.
(обратно)519
РГАДА, ф. 59, 1702 г., д. 1, л. 1, 57.
(обратно)520
РГАДА, ф. Сношения России с Турцией (далее: ф. 89), 1702 г., д. 2,л. 219.
(обратно)521
Там же, д. 3, л. 34, 39.
(обратно)522
ПБ. Т. II. С. 152.
(обратно)523
Сб. РИО. Т. 51. СПб., 1888. С. 15, 181.
(обратно)524
РГАДА, ф. 59, 1704 г., д. 1, л. 10, 15, 17.
(обратно)525
Там же, 1705 г., д. 1, л. 1–5.
(обратно)526
РГАДА, ф. Письма и прошения разных лиц на высочайшее имя и высоким особам (далее: ф. 150), 1705 г., д. 17, л. 5.
(обратно)527
АВПР, ф. 52, 1725 г., д. 8, л. 88.
(обратно)528
ПБ. Т. II. С. 207, 208; Т. III. СПб., 1893. С. 308, 309.
(обратно)529
ПБ. Т. V. СПб., 1907. С. 197, 511; Т. X. М., 1955. С. 359, 350.
(обратно)530
РГАДА, ф. 59, 1705 г., д. 2, л. 1, 17.
(обратно)531
Там же, 1707 г., д. 1, л. 5.
(обратно)532
ПБ. Т. X. С. 422.
(обратно)533
Доклады и приговоры правительствующего Сената. Т. IV. Кн. 1.СПб., 1888. С. 343, 505.
(обратно)534
РГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 3, л. 39.
(обратно)535
Там же, 1705 г., д. 2, л. 144.
(обратно)536
РГАДА, ф. 59, 1709 г., д. 3, л. 143.
(обратно)537
РГАДА, ф. 150, 1705 г., д. 17, л. 1, 2.
(обратно)538
РГАДА, ф. 59, 1709 г., д. 1, л. 10.
(обратно)539
Там же, 1710 г., д. 1, л. 1.
(обратно)540
ПБ. Т. XI. Вып. 1. М., 1952. С. 338, 339; С. 221, 222, 303, 558.
(обратно)541
РГАДА, ф. 59, 1711 г., д. 1, л. 1–5.
(обратно)542
ПБ. Т. XI. Вып. 2. М., 1954. С. 58, 75; Сб. РИО. Т. 51. СПб., 1888.С. 15.
(обратно)543
РГАДА, ф. 59, 1712 г., д. 2, л. 20, 23; 1713 г., д. 1, л. 3.
(обратно)544
Там же, 1712 г., д. 2, л. 8, 9; 1713 г., д. 1, д. 5.
(обратно)545
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 28, л. 583; кн. 32, л. 435.
(обратно)546
Там же, кн. 28, л. 589.
(обратно)547
ЦГАВМФ, ф. Дела, хранящиеся в Адмиралтейском совете (далее: ф. 223), д. 10, л. 5.
(обратно)548
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 28, л. 588; кн. 32, л. 417.См. также: Шаркова И. С. Россия и Италия: торговые отношения XV – первой четверти XVIII в. Л., 1981. С. 145–150.
(обратно)549
ЦГАВМФ, ф. 223, д. 10, д. 5, 11, 15.
(обратно)550
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 52, л. 443, 448; кн. 51,л. 518.
(обратно)551
Там же, кн. 51, л. 521; ЦГАВМФ, ф. 223, д. 10, л. 17.
(обратно)552
Там же, кн. 56, л. 917.
(обратно)553
Там же, кн. 28, л. 596, 597.
(обратно)554
Там же, кн. 37, л. 353.
(обратно)555
РГАДА, ф. 59, 1716 г., д. 3, л. 9.
(обратно)556
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 51, л. 518; ЦГАВМФ,ф. 223, д. 10, л. 23.
(обратно)557
Записки иностранцев о России в XVIII в. СПб., б/г. Т. 1. С. 132–134.
(обратно)558
Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1884. С. 270.
(обратно)559
Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862. С. 255.
(обратно)560
ПБ. Т.Х. С. 152.
(обратно)561
Сб. РИО. Т. 34. СПб., 1881. С. 165.
(обратно)562
См.: Курц Б. Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой половине XVIII столетия. Киев, 1929.
(обратно)563
АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 8, л. 39.
(обратно)564
РГАДА, ф. Сената, кн. 1171, л. 13–16, 38, 42, 49–51.
(обратно)565
Там же, л. 15.
(обратно)566
АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 8, л. 94, 95, 113, 118, 119.
(обратно)567
Там же, л. 135, 136.
(обратно)568
Там же, д. 12а, л. 450.
(обратно)569
Там же, д. 8, л. 263.
(обратно)570
Там же, л. 215, 267–269.
(обратно)571
Там же, л. 288, 294.
(обратно)572
Там же, д. 12а, л. 541.
(обратно)573
Там же, д. 8, л. 327.
(обратно)574
Там же, д. 12а, л. 450.
(обратно)575
Там же, л. 498, 565.
(обратно)576
Там же, л. 484.
(обратно)577
Там же, л. 531, 573, 580, 655.
(обратно)578
Там же, д. 12б, л. 854, 873.
(обратно)579
АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 12а, л. 680–690.
(обратно)580
Сб. РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 307, 308, 388, 410, 429.
(обратно)581
ЛОИИ, ф. Походная канцелярия князя Меншикова (ф. 83), оп. 1, карт. 5, д. 28, л. 1.
(обратно)582
ЦГАВМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 250, л. 125; кн. 195, л. 231.
(обратно)583
Там же, кн. 235, л. 215.
(обратно)584
Там же, л. 22.
(обратно)585
ЛОИИ, ф. 83, карт. 23, д. 14, л. 4.
(обратно)586
РГАДА, ф. Сената, кн. 1171, л. 32–35.
(обратно)587
Памятники дипломатических сношений России с державами иностранными. Т. ЛТП. СПб., 1867. С. 716, 717.
(обратно)588
ПБ. Т. I. СПб., 1887. С. 776.
(обратно)589
Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. I. С. 291, 76, 77.
(обратно)590
Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. III. СПб., 1859. С. 498.
(обратно)591
ПБ. Т. I. С. 876, 877; Т. II. СПб., 1889. С. 322, 323, 3.
(обратно)592
Хмыров М. Д. Артиллерия и артиллеристы на Руси в единодержавие Петра I //Артиллерийский журнал. 1865. № 11. С. 641.
(обратно)593
Бранденбург Н. Е. Материалы для истории артиллерийского управления в России. 1701 – 1720. СПб., 1876. С. 280, 302.
(обратно)594
Хмыров М. Д. Главные начальники русской артиллерии. Второй генерал-фельдцейхмейстер граф Я. В. Брюс //Артиллерийский журнал.1866. № 3. С. 155, 156, 173.
(обратно)595
ПБ. Т.К. М., 1950. С. 1238, 727.
(обратно)596
Там же. С. 677.
(обратно)597
Хмыров М. Д. Главные начальники русской артиллерии… // Артиллерийский журнал. 1866. № 2. С. 190, 191.
(обратно)598
Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII века. М., 1953. С. 54, 145, 158–160 и др.
(обратно)599
ПБ. Т. XI. Вып. 2. М., 1964. С. 139.
(обратно)600
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 1-е отд., кн. 53, л. 16.
(обратно)601
ПСЗ. Т. V. С. 506.
(обратно)602
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 62, л. 195, 196.
(обратно)603
Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII века. С. 108.
(обратно)604
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 59, л. 136; кн. 54, л. 188;кн. 59. Л. 143.
(обратно)605
ПБ. Т. XI. Вып. 2. М., 1964. С. 286; РГАДА, Госархив, Разряд IX,2-е отд., кн. 15, л. 121, 122.
(обратно)606
Фейгина С. А. Аландский конгресс. М., 1959. С. 214; РГАДА, ф. 198.Походная и домовая канцелярия Меншикова, д. 425, л. 44, 47, 45.
(обратно)607
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 40, л. 190, 193, 194
(обратно)608
Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1884. С. 32.
(обратно)609
РГАДА, ф. 142. Царские подлинные письма, д. 11, л. 191.
(обратно)610
Копии с писем государя Петра Великого. 1700 по 1725 г. М., 1882.С. 18; РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 54, л. 172.
(обратно)611
Бранденбург Н. Е. Материалы… С. 473.
(обратно)612
Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.С. 264, 265.
(обратно)613
Фесенков В. Г. Очерк истории астрономии в России //Труды Института истории естествознания. Т. II. М.; Л., 1948. С. 9.
(обратно)614
Грабарь И. Э. Архитекторы-иностранцы при Петре Великом //Старые годы. 1911. № 7; ПСЗ. Т. VII. С. 425.
(обратно)615
Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л.,1973. С. 193, 194.
(обратно)616
Ченакал В. Л. Очерки по истории русской астрономии. М., 1951.С. 84.
(обратно)617
Чистяков М. Б. Народное предание о Брюсе //Русская старина.1871. № 8. С. 167–170.
(обратно)618
Сб. РИО. Т. 25. СПб., 1878. С. 51; РГАДА, Госархив, Разряд IX,2-е отд., кн. 62. Л. 193.
(обратно)619
Хмыров М. Д. Главные начальники русской артиллерии… // Артиллерийский журнал. 1866. № 2. С. 126, 153, 281, 113.
(обратно)620
Берхгольц Ф. В. Дневник. Ч. 4. М., 1860. С. 51; Ч. 2. М., 1858. С. 263.
(обратно)621
ПБ. Т. VII. Пг., 1917. С. 755; Сб. РИО. Т. 25. С. 115.
(обратно)622
Хмыров М. Д. Главные начальники русской артиллерии… // Артиллерийский журнал. 1866. № 4. С. 283.
(обратно)623
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 62, л. 164.
(обратно)624
Сб. РИО. Т. 11. СПб., 1873. С. 431, 432.
(обратно)625
Хмыров М. Д. Главные начальники русской артиллерии… //Артиллерийский журнал. 1866. № 2. С. 97; № 4. С. 280.
(обратно)626
Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1884. С. 190.
(обратно)627
Письма Брюса к Иоганну-Георгу Лейтману // Научное наследство. М., 1951. С. 1090.
(обратно)628
Бранденбург Н. Е. Материалы… С. 237, 238.
(обратно)629
Хмыров М. ДГлавные начальники русской артиллерии… // Артиллерийский журнал. 1866. № 3. С. 182; РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 31, л. 283.
(обратно)630
ПБ. Т.I. С. 32; Т. IV. СПб., 1900. С. 318.
(обратно)631
Сб. РИО. Т. 50. СПб., 1886. С. 251; ПБ. Т. IV. С. 344.
(обратно)632
Хмыров М. Д. Главные начальники русской артиллерии… // Артиллерийский журнал. 1866. № 2. С. 107, 115, 116.
(обратно)633
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 11, л. 80, 81; кн. 26, л. 157; кн. 45, л. 109; кн. 5, л. 5.
(обратно)634
Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989. С. 96.
(обратно)635
Сб. РИО. Т. 25. С. 54, 79.
(обратно)636
Ерофеева А. Ф, Синдеев В. В. Усадьба Глинки и ее владелец // Памятники Отечества. 1989. № 2. С. 73, 74.
(обратно)

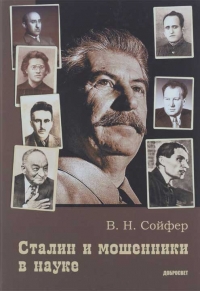

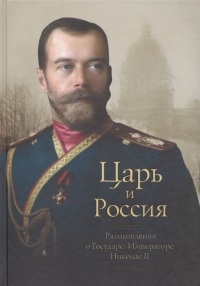

Комментарии к книге «Соратники Петра», Николай Иванович Павленко
Всего 0 комментариев