Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? (Исследования Фонда «Либеральная миссия»)
Оглавление
Незавершенное прошлое (предисловие редактора)
Введение, или Предварительные замечания о концептуальных ракурсах, под которыми авторы рассматривают российскую историю, и тематически-смысловых линиях, проходящих через всю книгу
– Государство и его социокультурные основания
-Мир и война
– Мобилизация личностных ресурсов
– Доосевое и осевое время
– Государства и цивилизации
Часть I . Киевская Русь: первая государственность и первая катастрофа
Глава 1 Авторитарно-вечевой идеал
1.1. Государство и догосударственная культура
1.2. Властители и подданные: поиски контактов
1.3. Ловушки родового правления
1.4. Князь и вече
Глава 2 Русь воюющая и Русь мирная. Трансформации человеческого фактора
2.1. От внешних войн к внутренним междоусобицам
2.2. Киевская Русь и Европа: два вектора развития
Глава 3 Государственность и христианство: вхождение в осевое время
3.1. Княжеский бог и вече богов
3.2. Завоевание чужой веры
3.3. Вера против закона
3.4. Христианство и язычество. Еще раз о социокультурном расколе
Глава 4 Цивилизационный выбор
Краткое резюме. Исторические результаты первого периода
Часть II. Русь Московская: вторая государственность и вторая катастрофа
Глава 5 Между Киевской и Московской Русью: три модели развития
5.1. Однополюсная вечевая модель
5.2. Княжеско-боярская модель
5.3. Однополюсная княжеская модель
Глава 6 Культурные предпосылки нового начала. Авторитарный идеал
6.1. Московская власть: эволюция под монгольским облучением
6.2. Отцовская «гроза» в семье и в государстве
6.3. Общие и частные интересы в «отцовской» модели
6.4. Православный царь как языческий тотем
Глава 7 Самодержавие и милитаризм. Новая роль войны
7.1. «Боевой строй государства»
7.2. Поход за чужой культурой
Глава 8 Потенциал «беззаветного служения»
8.1. Демобилизация старой элиты
8.2. Мобилизация новой элиты
8.3. Ресурсы бизнес-групп
8.4. Ресурсы низших слоев
Глава 9 Коррекция цивилизационного выбора
9.1. Разворот на Азию
9.2. Русский проект
Краткое резюме. Исторические результаты второго периода
Часть III. Империя Романовых: новые трансформации российской государственности и третья катастрофа
Глава 10 Идеал всеобщего согласия
10.1. Выборное самодержавие
10.2. «Вертикаль власти»
10.3. Вестернизация и унификация. Новые линии раскола
10.4. Удвоение единоличной власти
Глава 11 Авторитарно-утилитарный идеал
11.1. Две версии утилитаризма
11.2. Экстенсивная модернизация
11.3. Закон против обычая
11.4. Реформы и реформатор
11.5. Реформы и виктории. От «Третьего Рима» к первому
Глава 12 Авторитарно-либеральный идеал
12.1. Демилитаризация как историческая проблема
12.2. Самодержавие и свобода
12.3. Социальные границы раскрепощения. Дворяне и горожане
12.4. Самодержавие и право
12.5. Зерна и плевелы либерального самодержавия
Глава 13 Авторитарно-христианский идеал: возвращение к пройденному
13.1. Тень Московии над Петербургом
13.2. Бремя послепобедного мира
13.3. Державная и религиозная идентичность
13.4. Прусская дисциплина против французского вольнодумства
Глава 14 Авторитарно-демократический идеал
14.1. Разгосударствление общества
14.2. Из девятого века в девятнадцатый: прыжок через тысячелетие
14.3. Военные победы и невоенные поражения 358
14.4. Между дозированной демократией и авторитарной традицией: колебания в поисках устойчивости
14.5. Феномен консервативной стабилизации
14.6. Модернизация и смута. Реанимация вечевой традиции
14.7. Авторитаризм и парламентаризм 1
14.8. Системные трансформации, не спасшие от катастрофы
Глава 15 5 От принуждения к свободе: незавершенная эволюция
15.1. Ресурсы дворянской элиты
15.2. Ресурсы бизнес-сословия
15.3. Ресурсы низших слоев
Глава 16 Цивилизационные стратегии Романовых
Краткое резюме. Исторические результаты третьего периода
Часть IV. Советская Россия: возрождение державности и четвертая катастрофа
Глава 17 Советско-социалистический идеал
17.1. Законы истории против законов юридических
17.2. Возвращение тотема и сталинский утилитаризм
17.3. Сакрализация и милитаризация
17.4. Милитаризация и модернизация
Глава 18 Идеалы социалистической реформации
18.1. Военно-приказная система после военной победы
18.2. Кризис и распад коммунистической легитимности
18.3. Несостоявшаяся четвертая модернизация
18.4. Конец атеистического средневековья
Глава 19 От «беззаветного служения» к приватизации государства
19.1. Советская элита и ее личностные ресурсы
19.2. Ресурсы «трудящихся масс»
19.3. Феномен советского ВПК
Глава 20 Безальтернативная цивилизация: замыслы и воплощения
20.1. Коммунизм и православие
20.2. Сущее под маской должного
Краткое резюме. Исторические результаты четвертого периода
Часть V. Постсоветское государство в ретроспективе и перспективе
Глава 21 Либерально-демократический идеал после царей и генсеков
21.1. Оборванная и возрожденная традиция
21.2. «Вертикаль власти» в атомизированном обществе. Владимир Путин и Александр III
Глава 22 Правовое государство и протогосударственная культура
22.1. Неупорядоченная свобода как опора неустойчивой политической монополии
22.2. Демонтаж постсоветского «князебоярства». Власть закона и власть над законом
22.3. Рецидивы застарелой болезни
Глава 23 Личностные ресурсы посткоммунистической трансформации
Глава 24 На цивилизационном перепутье
Российская история и российские почвенники (полемическое заключение)
Указатель
Summary
Незавершенное прошлое (предисловие редактора)
Российская политическая и интеллектуальная элита до сих пор не может прийти к согласию относительно желательного будущего страны. Поэтому она продолжает бескомпромиссно спорить и о прошлом, предлагая публике его разные и несовместимые образы. В глазах одних оно светлое и заслуживающее реставрации, в глазах их оппонентов – проклятое и подлежащее не возрождению, а забвению.
Представители современного консервативного почвенничества (они же державники, православные государственники, евразийцы) ищут и находят в прошлом прежде всего великие военные победы и международное влияние России, обеспеченные державной мощью ее государственности. Приверженцы либерально-западнических ценностей делают главный акцент на изъянах многовекового политического устройства страны, его несовместимости с народным благосостоянием и гражданскими свободами, чем объясняют и регулярно повторявшиеся в российской истории государственные катастрофы. Но в этой истории было и то, и другое, причем отчленить друг от друга причины того и другого зачастую совсем не просто.
В ней были и великие победы, и великодержавный престиж, и затянувшееся до середины XX века крепостничество, победам и престижу не всегда мешавшее, и катастрофические обвалы. Поэтому сегодняшнюю односторонность взаимоисключающих оценок правомерно рассматривать как болезнь исторического сознания, беспомощного перед сложностью прошлого и бессильного перед вызовами настоящего. Ведь почвенническая апологетика российской государственной традиции слишком уж плохо сочетается с современными внешними и внутренними вызовами, перед которыми оказалась страна, а радикальное западническое отмежевание от этой традиции лишает ее обличителей каких-либо точек опоры в отечественной истории.
Мы – я имею в виду авторов книги, предлагаемой вниманию читателей, – не претендуем на роль целителей застарелой болезни. Мы лишь пытаемся, ощущая ее проявления в собственном мышлении, избавиться от нее сами. Результатом и стала эта книга, в которой история России описывается как история достижений и катастроф, а те и другие объясняются особой природой отечественной государственности, тоже имевшей свои причины.
Строго говоря, книга и посвящена в основном российскому государству и его эволюции во времени, а именно – тем политико-идеологическим и социокультурным основаниям, на которых оно формировалось и развивалось, и тем способам консолидации политической власти, элиты и населения, которые им использовались на разных исторических этапах. При этом действия того или иного правителя нас интересовали не с точки зрения их соответствия нашим идеологическим и этическим представлениям, а как исторические феномены, включающие в себя цель действий, используемые для ее достижения средства и соответствие ей достигнутых результатов. Мы исходили из того, что результат – не только текущий, но и более отдаленный – уже сам по себе содержит в себе оценку и деятельности правителей, и выбранного ими, а вместе с ними и страной, исторического маршрута. Такой замысел предопределил во многом как степень нашего внимания к различным периодам прошлого и олицетворявшим их политическим фигурам, так и другие особенности книги.
Ее нельзя назвать историческим исследованием в общепринятом понимании. В том числе и потому, что написана она не историками по профессии: двое из них (Александр Ахиезер и Игорь Яко-венко) специализируются в области культурологии, а третий (он же автор данного предисловия) – в области политологии и политической социологии. И опирались мы не на результаты собственных архивных изысканий, а на широко доступные источники и на факты, изложенные в трудах профессиональных историков – прошлых и современных.
В ряде случаев использовались и их интерпретации отдельных событий и процессов, причем по ходу работы мы не без удивления обнаруживали, что при отсутствии идеологической предзаданности нашими единомышленниками оказывались такие разные люди, как либерал Василий Ключевский, монархист Лев Тихомиров, евразиец Николай Алексеев, социалист Михаил Покровский. У прежних поколений историков зависимость конкретных оценок и интерпретаций от политических идеалов проявлялась меньше, чем у нынешних. Вместе с тем в последние годы появились исследования, высвобождавшие отечественную историю не только из-под пресса советских идеологических схем, но и от мифологизации отдельных событий и исторических персонажей, сохранявшейся с досоветских времен. Результаты новейших исследований, показавшиеся нам убедительными, мы постарались учесть, но при этом не ставили перед собой цели представить обзор всей современной литературы, не говоря уже о прошлой.
Как бы то ни было, никаких новых фактов осведомленный читатель в нашей книге не найдет. Более того, многие из тех, которые в ней упоминаются, известны ему из школьных учебников. Но они обильно представлены на ее страницах именно для того, чтобы наше осмысление отечественной истории не выглядело отвлеченными рассуждениями поверх истории, а выглядело одновременно и ее описанием. Не исключаем, что специалистам – философам, культурологам, политологам и даже историкам – наше пристрастие к эмпирическому иллюстрированию выдвигаемых общих тезисов покажется чрезмерным. Но мы хотели бы, чтобы нашу работу прочитали не только специалисты.
Чередование взлетов и катастроф соотносится в книге с чередованием сменявших друг друга государственных идеалов: взлеты обусловливались их жизнеспособностью, поражения и катастрофы – исчерпанием их потенциала. Для объяснения причин этих циклических чередований использованы несколько концептуальных ракурсов (они охарактеризованы во вводной главе книги), под которыми рассматриваются и содержание идеалов, и их соотносимость либо несоотносимость с внешними и внутренними вызовами. При этом, дабы лишний раз застраховать себя от идеологической односторонности суждений и оценок, мы сочли необходимым описание каждого цикла завершать обобщающим кратким резюме, в котором суммируются как достижения в исторических границах данного цикла, так и накопившиеся внутри него проблемы, неразрешенность которых обернулась катастрофой. В совокупности такие обобщения представляют собой своего рода книгу в книге, и читатель при желании может начать (как, впрочем, и завершить) свое ознакомление с ней именно с них.
Однако наше желание избежать идеологической предвзятости ничего общего не имеет с идеологической нейтральностью и индифферентностью: притязания на подобную исследовательскую «объективность» – это всегда самообман. Более того, изначальный замысел Фонда «Либеральная миссия» состоял в том, чтобы представить современное либеральное понимание российской истории, но – не в том поверхностном виде, в каком оно, за редкими исключениями, сегодня представлено. Ведь речь идет не просто об истории нелиберальной социально-политической системы с доминированием государства над личностью, но об истории повторяющихся частичных либерализации этой системы, равно как и их повторяющихся отторжений. Однако последние, сопровождаясь усилением авторитарного начала в государственном идеале и политической практике, всегда оказывались предтечами не просто новых либерализации, но либерализации более глубоких, чем раньше. Говоря иначе, речь идет не просто о чередовании либеральных политических реформ и авторитарных контрреформ и не о движении по кругу. Речь идет о таком чередовании, в котором каждая последующая реформа шла дальше предыдущих. А это означает, что у русского либерализма была своя история развития, причем не только интеллектуальная, но и политическая, и в ее рассмотрении мы видели одну из главных своих задач.
Почвенническая мысль, будучи сосредоточенной на отторжениях либерально-демократического идеала в России, настаивает на его противоестественности для страны. Но при таком подходе противоестественными оказываются целые периоды государственной эволюции, причем не все они были катастрофическими, лишенными созидательного пафоса и не отмеченными никакими достижениями. Зацикленность же наших западников на критике отечественной государственной традиции как традиции восточного деспотизма равносильна добровольному признанию ими своей чужеродности в России.
Чувствуя это, они начинают искать контакт с традицией, объявляя себя то «либеральными консерваторами», то сторонниками «либеральной империи», то кем-то еще в том же роде. Как консерватизм и империализм в современных российских условиях и при нынешнем авторитарном векторе политической эволюции могут сочетаться с либерализмом, остается загадкой. На наш взгляд, необходимость в подобных идеологических несообразностях отпадет, если либералы ясно осознают стоящую перед ними – в масштабе отечественной истории – задачу. Она заключается в том, чтобы тенденцию, давно развивавшуюся внутри российской авторитарной традиции, довести до преодоления самой этой традиции, а не в том, чтобы в очередной раз пытаться к ней прислониться.
Но либеральная интерпретация истории страны предполагает не только вычленение в этой истории идеологически и политически близкого и отслеживание его эволюции во времени, чему посвящены многие разделы книги. Она предполагает также готовность к пониманию идеологически и политически чуждого в его собственной природе и исторической обусловленности. Это – не уступка консервативно-почвеннической позиции, которая включает в себя позитивную оценку нелиберальной государственной традиции и установку на ее продление в настоящее и будущее. Такая оценка представляется сомнительной уже потому, что авторитарные «подмораживания», как и либеральные «оттепели», и в прошлом сопровождались не только взлетами, но и последующими катастрофическими обвалами, а такая установка – бесперспективной потому, что исторические и социокультурные предпосылки ее реализации полностью исчерпаны.
Мы не считали нужным вступать в прямую полемику с представителями отечественного почвенничества, ограничившись по ходу изложения лишь отдельными критическими замечаниями общего характера. Но идеологически книга направлена прежде всего против них, а именно – против их понимания «государственничества» как реанимации авторитарной политической традиции. Их попытки обосновать необходимость такой реанимации выглядят в наших глазах и внеисторичными, и внесовременными. Для читателей же, которые нашу критическую позицию при чтении не уловят, а также для тех, кому она покажется недостаточно аргументированной, мы написали заключение, полностью посвященное идеологии современного почвенничества. Но этот единственный в книге полемический раздел имеет и другое предназначение. В нем представлены дополнительные аргументы, обосновывающие актуальность того, что изложено в предыдущих разделах.
Нас интересовало не прошлое само по себе, а настоящее и будущее страны в их соотнесенности с прошлым. Поэтому и книга наша – не только о российской истории, но и о российской современности. Точнее – о тех проблемах, с которыми страна сталкивалась на протяжении столетий, и о тех методах, порой уникальных, с помощью которых она эти проблемы решала, но вплоть до наших Дней решить не смогла.
Сегодня они проявляются иначе, чем в минувшие века. Изменилось, разумеется, и их конкретное содержание. Однако сами проблемы в прошлом не остались, а потому и прошлое нет оснований считать завершенным. Они-то и побудили нас рассматривать отечественную историю под углами зрения, заданными сегодняшним днем. Или, говоря иначе, рассматривать ее как долгую предысторию современности.
Это продолжающееся воспроизведение одних и тех же проблем предопределило и некоторые особенности избранного нами способа изложения материала. Пытаясь отследить их частичные трансформации во времени и эволюцию методов их решения, мы постоянно фиксировали их (проблем и методов) преемственную связь с тем, что уже было раньше и чему предстоит произойти позже. Отсюда – проходящие через всю книгу возвращения назад и забегания вперед, что, на наш взгляд, может помочь читателю представить себе историю страны не только как прерывистую цепь победных взлетов и обвальных катастроф, но и как нечто единое и целостное. А главное – увидеть и понять, в какой точке своей собственной эволюции находится Россия сегодня.
Ни в чем, пожалуй, незавершенность прошлого и, соответственно, неопределенность обозримого будущего не обнаруживают себя столь отчетливо, как в деятельности президента Путина. Последовательно усиливая авторитарную компоненту политической системы, он не менее последовательно настаивает на том, что ведет страну не к авторитаризму, а к современной либеральной демократии. Западничество и почвенничество, противоборствующие в обществе, стали двумя несочетаемыми составляющими государства, олицетворяемого его высшим должностным лицом. Но государство, вынужденное скрывать свою природу декларированием чужеродных для него идеологических принципов, не может обеспечить устойчивое общественное согласие. Более того, само это рассогласование принципов и политической практики косвенно свидетельствует об отсутствии такого согласия.
Сказанным определяется еще одна особенность нашей работы. Она заключается в том, что современность, задавшая нам угол зрения на историю, соединяется в книге с историей как ее продолжение и составная часть, предстает как прошлое в настоящем. Мы сознательно отказались следовать старому правилу, согласно которому политика действующего руководителя страны в исторических повествованиях не рассматривается. В длинном ряду отечественных правителей на страницах книги отводится место и Владимиру Путину, причем его деятельность анализируется достаточно обстоятельно и детально. Потому что даже не будучи завершенной и в силу этого не подлежащей окончательной исторической оценке, она уже самой своей двойственностью (сочетание авторитарной практики с либерально-демократической риторикой) успела выявить предельную остроту стоящих перед страной старо-новых проблем. Мы видим в этой двойственности преемственную связь с нелиберальной государственной традицией России и – одновременно – проявление исчерпанности данной традиции, ее нежизнеспособности в современном мире.
Российская государственность находится сегодня в турбулентной зоне между покинутым прошлым, в которое нельзя вернуться, и непредсказуемым будущим. Наш экскурс в историю предпринят для того, чтобы показать: при всей родственности проблем, воспроизводившихся в стране из века в век, ни один из прежних методов их решения в наши дни даже в обновленном виде не может быть успешно использован. Если раньше они, не страхуя от катастроф, позволяли обеспечивать временные взлеты, то в XXI веке с их помощью взлететь уже не удастся. Вопрос же о том, сумеет ли Россия опереться на давно обозначившуюся, но до сих пор пресекавшуюся либерально-правовую тенденцию и довести ее до системного преобразования государственного устройства, остается открытым. Поэтому открытым остается и вопрос, вынесенный в заглавие книги.
В заключение – несколько слов о том, как она создавалась. При общности политических убеждений авторов, они существенно отличаются друг от друга в концептуальных и тематических предпочтениях, не говоря уже о стилистике. Поэтому после нескольких неудачных попыток раздельного написания книги от этого пришлось отказаться. Все ее главы писались тремя авторами, во всех присутствуют концептуальные подходы каждого из них. Однако сведение представленных фрагментов в нечто содержательно целостное и стилистически однородное мне, как представителю организации-заказчика, с согласия двух других авторов пришлось взять на себя. Мне же было поручено изложить общий замысел книги, что я и постарался сделать в данном предисловии к ней.
И последнее. Неоценимый вклад в эту работу внесла социолог Татьяна Кутковец: ее идеи, обсуждавшиеся нами в процессе многолетнего общения, и вызванные ими интеллектуальные импульсы присутствуют на многих страницах книги. Огромную помощь – содержательную и редакторскую – оказал мне также журналист Сергей Клямкин, первый читатель рукописи. Ее текст был значительно улучшен и Анной Трапковой, проявившей при редактировании книги редкую взыскательность и добросовестность. От имени нашего авторского мини-коллектива выражаю им искреннюю и глубокую благодарность. Наконец, от себя лично хочу поблагодарить Вольфганга Айхведе, директора Института Восточной Европы (Бремен), предоставившего мне возможность во время двухмесячного пребывания в этом Институте работать над книгой и обсудить ее основные идеи с немецкими коллегами.
Игорь Клямкин,
вице-президент Фонда «Либеральная миссия»
Введение,
или Предварительные замечания о концептуальных ракурсах, в которых авторы рассматривают российскую историю, и тематически-смысловых линиях, проходящих через всю книгу
Любое государство (в нашем случае российское), какой бы своеобразной ни была его историческая эволюция, имеет и нечто общее с другими. Именно потому, что представляет собой государственное образование, качественно отличающееся от человеческих объединений догосударственного типа. В свою очередь, само своеобразие государств и их развития в значительной степени определяется тем, как долго и в каких масштабах сохраняются в них догосударственные жизненные уклады. Если трансформация этих укладов по тем или иным причинам задерживается, если государство приспосабливается к свойственной им культуре и пытается на нее опираться, то это неизбежно сказывается и на самом государстве, предопределяя во многом его особенности.
Речь идет не просто об отставании в развитии, а о том, что такое отставание со временем может наложить отпечаток и на тип развития. В России (хотя и не только в ней) дело обстояло именно так, причем вплоть до XX века. Данное обстоятельство и обусловило наш изначальный выбор одного из главных ракурсов, в котором мы рассматриваем отечественную историю. Чтобы не отвлекать в дальнейшем внимание читателя методологическими отступлениями, мы решили все необходимые обоснования вынести во введение.
Это относится и к другим концептуальным ракурсам и, соответственно, другим тематически-смысловым линиям книги. Но сначала – еще несколько общих замечаний о сочетании государственных и догосударственных укладов и культур в мировой истории, их взаимоотталкивании и взаимопритяжении.
Государство и его социокультурные основания
Принципиальное отличие государственной организации жизни от догосударственной (родоплеменной) заключается в том, что первая охватывает большие общности людей, пространственно друг от друга отделенных, между тем как вторая распространяется лишь на общности локальные, в которых все знают друг друга в лицо. Уже одно это предопределяет существенную разницу государственной и догосударственной культур. Включенность в большое общество предполагает способность оперировать абстракциями, одной из которых является и понятие государства. Однако догосударственная культура такой способности не формирует: ведь речь идет об абстракциях, не соотносимых непосредственно с повседневным жизненным опытом территориально замкнутых локальных миров, где социальные связи воспроизводятся из поколения в поколение не на функционально-безличной, а на эмоционально-личной основе.
Трансформация одной культуры в другую – сложнейший процесс, растягивавшийся на века и даже на тысячелетия, включавший в себя как возникновение промежуточных – между большим обществом и локальными общностями – образований, так и попытки заменить такую трансформацию силовым подчинением догосударственных укладов. Однако промежуточные минигосударственные формы (например, города-государства древности и Средневековья) рано или поздно поглощались более крупными, а ставка исключительно на силу и принуждение, не сопровождавшаяся духовно-культурной интеграцией, не обеспечивала устойчивости государственных образований и, в конечном счете, не позволяла удержать их от распада. Потому что в догосударственной культуре отсутствует представление о ценности государства, а без такого представления, разделяемого всем населением, большое общество как целостный организм сложиться и долго воспроизводить себя не может.
Догосударственная культура не только блокирует развитие способности к абстрактному мышлению. Будучи по своей природе синкретичной, внутренне нерасчлененной, она исключает дифференциацию социальных, профессиональных и других ролей и функций, равно как и отчленение частных и групповых интересов от интереса общего, индивидуального «я» от коллективного «мы». Государственная культура, в противоположность ей, предполагает – наряду со способностью рационально-интеллектуального абстрагирования – сосуществование разных и относительно автономных видов деятельности и их иерархическое соподчинение; это – культура многообразия, а не унификации. Но ее ценности не могут безболезненно и органично накладываться на ценности архаичных локальных миров, а социокультурный раскол1, который при таком наложении неизбежно возникает, не может быть преодолен одной лишь силой государственного принуждения. Для интеграции догосударственных общностей в государство требуется их согласие на такую интеграцию. Требуется, говоря иначе, достижение минимально необходимого базового консенсуса между конфликтующими культурами и их носителями, который только и может обеспечить легитимность государственной власти и ее конкретных персонификаторов в глазах населения, т.е. его готовность добровольно выполнять наложенные на него обязанности.
Преодоление раскола, через который прошли все народы на стадии их превращения в государственные, осуществлялось посредством переноса на большое общество культурных матриц локальных миров: идея монархического правления соединяла абстракцию государства с ее единоличным персонификатором (князем, царем, королем, императором, ханом, султаном), что ставило последнего в преемственную связь с родовым старейшиной, племенным вождем и отцом патриархальной семьи. Однако такое огосударствление догосударственной культуры наталкивалось на трудность, обусловленную тем, что в ней был закреплен опыт не однополюсного (персонального), а двухполюсного (т.е. с участием всего населения) осуществления власти. И если вспомнить о полномочиях народных собраний в древних Афинах, о роли вече в Киевской Руси или казачьего круга в Запорожской Сечи, если учесть, далее, что подобные институты прямого народоправства могли действовать только в ограниченном пространстве и при относительно небольшой численности населения, то эта трудность предстанет во всей своей очевидности. Напоминаем же мы о ней именно потому, что в становлении и эволюции отечественной государственности таким институтам и их остаточным жизневоплощениям суждено будет сыграть особую роль.
Другая трудность, с которой сталкивались раннегосударственные образования, – это трудность легитимации властных полномочий и привилегий того слоя людей, которые составляли государственный аппарат и которых мы называем сегодня правящей элитой. В догосударственных укладах такой слой отсутствовал,
1 Подробнее см.: АхиезерАС. Россия: Критика исторического опыта: В 2т. Новосибирск, 1997. Т.1.
а в культуре, соответственно, для какого-либо промежуточного статуса – между родоплеменным либо семейным «патриархом» и другими людьми – места не отводилось. Трудность эта могла относительно успешно преодолеваться благодаря сакрализации верховных правителей, т.е. возведения их в божественный или производный от божественного ранг, что позволяло им уравнивать по отношению к себе элиту и население и символизировать государственное единство поверх трещин социокультурного раскола. Этому способствовала и абстракция общего для всех Бога (или Неба), вытеснявшая языческое многобожие и скреплявшая социум идеологически.
В данном отношении Россия шла по пути, проложенному до нее другими. Но уже одно то, что она ступила на него позже других и вынуждена была заимствовать их опыт в готовом виде, обусловило уникальную зигзагообразность ее движения по этому пути. Вопрос о взаимоотношениях верховной власти, элиты и населения всегда решался в стране болезненно, а порой с чистого листа, что сопровождалось насильственным устранением прежней элиты и ее заменой выходцами из народных низов. Говоря иначе, государство использовало ресурсы догосударственной культуры для своего собственного обновления и укрепления, что свидетельствовало о несамодостаточности культуры государственной и стратегической непрочности базового консенсуса.
История знает два основных способа его достижения и воспроизведения. Первый из них наиболее широкое и длительное применение нашел в странах Востока, где государство и олицетворявшие его элитные группы как бы надстраивались над локальными догосударственными мирами, которые консервировались в их исходном культурном состоянии. Они интегрировались в государственную целостность благодаря использованию властью упомянутых выше механизмов легитимации, а именно – благодаря адаптации к потребностям большого общества консолидирующих символов малых общностей. В этом случае государство фактически совпадало с верховным правителем, наделенным неограниченной властью, и иерархически выстроенным государственным аппаратом (гражданским и военным), а основная масса населения оставалась в подчиненном, зависимом, объектном положении. Закон, выступавший главным инструментом упорядочивания жизни, фиксировал обязанности и ответственность за его нарушения, но никаких прав – в том числе и права собственности – не обеспечивал и не гарантировал. Сильная сторона такого способа организации социума проявляется в его долговременной устойчивости, слабая – в дефиците внутренних стимулов для развития, для обеспечения исторической динамики.
Второй способ государственного развития возник на выходе из Средневековья в странах Запада. Его предпосылкой стал стихийный отток сельского населения, тяготевшего к торгово-ремесленным видам деятельности и исторически переросшего феодальный жизненный уклад, в города, что явилось одновременно и причиной, и следствием быстрого развития последних. Это сопровождалось утверждением в городах, изначально претендовавших на самоуправление, нового культурно-исторического человеческого типа, осознающего свою субъектность и готового ее отстаивать. Такого рода социокультурные сдвиги не могли не сказаться и на изменении функций государства – тем более что примерно в то же время на Западе проявилась и субъектность земельных собственников (феодалов), которая реализовалась в ограничивавших власть монархов институтах сословного представительства. Отныне государству предстояло уже не столько укреплять идеологические мосты между государственной и догосударственной культурами, сколько регулировать отношения между общественными группами, вышедшими из догосударственного объектного состояния и осознавшими себя в качестве субъектов.
Решение этой новой исторической задачи сопровождалось усилением как персонально-монархической, так и административно-бюрократической составляющих государственности, но сходство с ее восточными формами оставалось лишь внешним. Европейские абсолютные монархии Нового времени, выстраивая свои бюрократические «вертикали власти» и легитимируя себя именем Бога, не могли не считаться с тем, что в культуре произошли необратимые изменения и что в ней постепенно укоренялась абстракция государства как сущности более высокой, чем воля конкретного монарха. Если даже Людовик XIV и произнес свою знаменитую фразу («государство – это я»), в чем многие историки сомневаются, то она имела смысл только как реакция на умонастроения, которые правомерность такого отождествления ставили под сомнение. И уже одно то, что в XVII веке англичане, а в XVIII французы сочли возможным своих королей обезглавить, свидетельствовало о том, что понятия о государстве и государе в их головах не совпадали.
Культура оперирования абстракциями, охватывавшая все более широкие слои населения, ускоренно формировалась в Европе благодаря развитию – вместе с ростом городов – национальных рынков, которым со временем становилось тесно и в границах отдельных государств. Понятие рынка являлось той уникальной абстракцией, которая была одновременно и эмпирически фиксируемой жизненной реальностью или, как назвал ее Маркс, «эмпирической универсальностью». Однако рынок и рыночная конкуренция, стимулировавшие развитие индивидуальной инициативы, постепенно преобразовывали не только мышление людей, но и всю систему их ценностей: идея верховенства государства над государем фактически означала, что идея подданства (сакральному правителю) вытесняется идеями гражданства и народного суверенитета, предполагавшими ответственность людей не только перед государством, но и за государство – в том числе и за его формирование посредством волеизъявления на выборах. Но это, в свою очередь, означало, что идея приоритета государства вытеснялась идеей приоритета личности, ее прав и свобод.
Так Запад начал прокладывать историческую дорогу к новому типу базового консенсуса (в институциональной форме представительной парламентской демократии), который не нуждался ни в персонификации государства, ни в абстракции Бога, сакрализировавшей персонификатора. И когда абсолютные монархи стали восприниматься на этом пути помехой, они были сметены революционной волной. Строго говоря, только европейское Новое время открыло перспективу перехода от модели сосуществования государственной и догосударственной культур к модели, в которой государственная культура становится всеобщей. Ее основополагающей абстракцией стал закон, который впервые был наделен универсальным верховным статусом. Из инструмента защиты государства и привилегий элитных групп он превратился в инструмент защиты естественных, т.е. данных от природы, прав и свобод граждан – равных для всех и в этом смысле тоже универсальных.
На практике реализация новых принципов даже после их провозглашения происходила не сразу: единая государственная культура формировалась медленно, а потому и права, прежде всего избирательные, предоставлялись людям дозировано. Не быстро и не бесконфликтно формировалась в Европе и культура добровольного законопослушания – несмотря на то, что еще при абсолютизме проводилась жесткая политика принудительного дисциплинирования (воспользуемся известным термином Мишеля Фуко) населения, прежде всего численно возраставшего городского. Тем не менее и процесс практической универсализации новых принципов оказался неостановимым и необратимым.
России суждено было стать первой страной за пределами западного католическо-протестантского мира, начавшей заимствовать западные принципы государственного развития. Но своеобразие ее исторической эволюции проявилось не столько в этом, сколько в том, что она приспосабливала западные принципы к государственности восточного типа, точнее – к определенной ее разновидности, в значительной степени унаследованной от монгольской Золотой Орды. Это обусловило наш выбор еще одного исследовательского ракурса и, соответственно, появление в книге еще одной сквозной тематической линии.
Мир и война
При всем том, что базовый консенсус нельзя навязать только силой, без силовой компоненты он тоже не может возникнуть. В правящий слой ранних государств, как правило, входили люди, чьим занятием была война. Их легитимность, т.е. готовность населения им подчиняться и их содержать, определялась тем, насколько успешно они справлялись с защитой подвластных от внешних угроз и были способны отодвигать их присоединением новых территорий, от которых исходила опасность. Победы в войнах – мощный источник легитимности государственной власти, без которого религиозно-идеологические формы ее легитимации могли свой консолидирующий ресурс утрачивать. Потому что успешная война как раз и выступала главным подтверждением и истинности веры, и благоволения небес к правителям, тогда как поражения воспринимались эмпирическим свидетельством отсутствия такового. О том, что фактор военной силы может выступать первичным по отношению к религиозному, напоминают и внутригосударственные вооруженные конфликты – например, в Византии, где на протяжении ее истории императорский престол десятки раз захватывался амбициозными полководцами, а церковь признавала их власть богоугодной.
Культ Победы тоже уходит своими корнями в догосударственные времена и догосударственную культуру. Она предполагала жесткие санкции, вплоть до физического устранения, для племенных вождей, которым военная удача не сопутствовала. Падение европейских монархий (германской, австро-венгерской, российской), потерпевших неудачи в Первой мировой войне, свидетельствовало о том, что этот древний механизм легитимации власти победами и делегитимации поражениями продолжал действовать и тысячелетия спустя, причем в крупных государствах с долгой историей развития. А государственная консолидация посредством использования образа врага – явного или имитируемого – не изжита и до сих пор. Первобытные проявления такого способа консолидации по принципу «Мы – Они», когда «Они» вообще не считались людьми и подлежали поголовному физическому уничтожению, современное человечество – после государственного геноцида в освенцимах и бухенвальдах – вознамерилось оставить в прошлом. Однако феномен, который исследователи называют «использованием Другого» (т.е. образа чужого и враждебного «Они» ради консолидации общества вокруг тех или иных политических решений), сохраняется и сегодня2. Наконец, к догосударственному состоянию, не знавшему границ между войной и миром и между воином и невоином (воевали все), восходит и такое явление, как милитаризация жизненного уклада населения. Это явление в разных формах и масштабах воспроизводилось у многих народов и после их перехода на государственную стадию развития. И история России в данном отношении весьма показательна.
Милитаризация повседневности не обязательно проявлялась так, как это было, к примеру, в Золотой Орде, где каждый мужчина выступал в роли воина, т.е. элементом государственного аппарата, существовавшим за счет производительных ресурсов покоренных народов и взимания с них дани. Милитаризация или, говоря иначе, выстраивание мирной жизни по военному образцу, могла осуществляться и внутри одного народа посредством принудительной разверстки государственных повинностей между господствовавшими группами служилых людей, задачей которых было вести войны, и основной массой населения, обязанного эти группы безвозмездно содержать и обслуживать, примиряясь с существенными ограничениями своей свободы, в том числе и свободы передвижения. Подобное разделение функций между «фронтом» и «тылом», между воинами и невоюющими пахарями оформлялось обычно в виде крепостного права. Длительность его существования – важный показатель, свидетельствующий о неготовности государства выработать альтернативу милитаризации как способу консолидации общества.
2 См.: Нойманн И.Б. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
Такая неготовность должна была быть чем-то компенсирована. Компенсирована же она могла быть только образом враждебного «Они» и установкой на войну, отодвигавшей ценности мирной жизни и ее обустройства на второй план и не позволявшей им глубоко укорениться в культуре.
Война – это, как известно, не обязательно защита от вторжений извне. Будь так, история знала бы только оборонительные войны, а следовательно, не знала никаких войн вообще, потому что при отсутствии нападавших обороняться было бы не от кого. В свою очередь, военная экспансия не всегда диктуется только стремлением к приращению территориальных, вещественных и человеческих ресурсов. К этой мотивации нередко добавляется желание самим фактом военной победы легитимировать заимствование культурно инородных цивилизационных достижений более развитых стран: завоеванное и присвоенное легче приспособить к идентичности заимствующих. В данном случае война (или подготовка к ней) выступает стимулом и инструментом модернизации, что и проявилось неоднократно в истории России, обусловив во многом своеобразие ее развития. Вместе с тем, как показывает история не только России, война может быть и специфическим способом снятия внутренних проблем, в условиях мира обнаруживших свою неподатливость и неразрешимость, выявивших непрочность и хрупкость базового консенсуса и, соответственно, скрытые до того трещины социокультурного раскола.
Этот раскол, как мы уже отмечали, преодолевается современной демократией, ставящей государство и его политику в зависимость от волеизъявления граждан. Страны с устоявшейся демократической системой тоже могут вести войны, но они, во-первых, не ведут их между собой, а во-вторых, не нуждаются в них для поддержания базового консенсуса, который обеспечивается самой возможностью населения влиять на формирование власти. Поэтому же отпадает необходимость и в милитаризации жизненного уклада населения и его ценностей, в выстраивании мирной повседневности по армейскому образцу. Однако мировая история свидетельствует и о том, что движение от раскола к демократическому консенсусу не происходит безболезненно и поначалу может лишь обострять раскол, что создает благоприятную почву для возрождения образа врага (не только внешнего, но и внутреннего) и древнего культа Войны и Победы. Идеологическое обрамление последнего в разное время и в разных странах не было одинаковым, но это – лишнее подтверждение его первичности по отношению к любой идеологии. Пока сохраняются догосударственные жизненные уклады и догосударственная культура (или ее ценностная инерция), государственная консолидация в условиях мира остается проблематичной. Более того, длительный мир может оказаться в таких обстоятельствах серьезным вызовом, разрушающим слабый базовый консенсус. Ответом же на этот вызов становится реанимация архетипических манихейских представлений о вечной борьбе Света и Тьмы и неизбежной грядущей Победе Света в последней решительной Битве, открывающей дверь в новую совершенную жизнь. XX век наглядно продемонстрировал, как и в каких идеологических формах такой тип сознания может возрождаться, ликвидируя ценностные границы между миром и войной и на новый лад возвращая целые страны и народы к тотальной милитаризации повседневности. Такой поворот имел место не только в России. Но ей суждено было первой осуществить его. Мы исходим из того, что подобные повороты случайными не бывают: они возникают на пересечении новых мировых вызовов и социокультурного опыта конкретных стран. Поэтому вопрос о сочетании в истории России военных и мирных способов консолидации государства тоже будет в книге одним из основных.
Мобилизация личностных ресурсов
Помимо трудностей установления и поддержания базового консенсуса, все государства сталкиваются с еще одной проблемой, догосударственным общностям неизвестной. Мы имеем в виду проблему сочетания общего (государственного) интереса с интересами частными и групповыми.
Любой единоличный правитель, даже наделенный божественным статусом, мог успешно управлять лишь при наличии компетентной правящей элиты. Ему нужны были не просто военачальники, а такие, которые были бы лучше или во всяком случае не хуже, чем в других странах. То же самое относится к гражданским чиновникам – внутренняя и внешняя жизнеспособность государства всегда и везде зависит от их способностей, квалификации, умения управлять. Но такая мобилизация личностных ресурсов невозможна без сильнодействующих стимулов в виде статусных привилегий, т.е. без апелляции к частным интересам. Последние же имеют свойство тяготеть не только к передаче статусов и сопутствующих им привилегий от поколения к поколению по наследству (подобно тому, как передается монархическая власть), но и к приватизации интереса общего, к превращению государственных должностей в своего рода частную собственность, позволяющую взимать с подвластных бюрократическую ренту. И с этой особенностью человеческой природы верховная власть вынуждена была считаться во все времена. Она могла частные интересы элиты идеологически и этически нейтрализовывать, могла даже лишать их легитимности, но заблокировать их практические проявления была не в силах.
Более того, наследственные статусные привилегии, которыми наделялись элитные группы (лишь при таком условии они могли служить опорой государственного порядка), нередко способствовали не столько мобилизации, сколько демобилизации личностных ресурсов этих групп. Статусы, наследуемые независимо от личных способностей и подготовки, высокому качеству государственного аппарата не благоприятствуют, и история России представляет одно из самых выразительных подтверждений данной закономерности. Поэтому во многих государствах принцип наследования статуса сочетался с принципом индивидуальной заслуги, предполагавшим дозированный доступ в элиту наиболее способных и энергичных представителей средних и даже низших слоев. Со времен Петра I такая практика утвердилась и в России, хотя поначалу и в специфических формах, обусловленных задачами петровской модернизации.
Однако при отстранении большинства населения от государственной жизни и отсутствии у него возможностей влиять на нее, противодействие бюрократической приватизации государства со стороны верховной власти значительными успехами нигде не сопровождалось не в последнюю очередь и потому, что правителям нужно было думать и об обеспечении лояльности околовластной элиты. Вопрос о том, как мобилизовать личностные ресурсы на службу общему интересу и не допустить при этом его подмены интересами частными и групповыми, поставленный еще Платоном, на протяжении тысячелетий оставался открытым. В большинстве стран, включая Россию, он остается открытым по сей день.
Мировая история знает и попытки решить этот вопрос радикально, т.е. посредством не только идеологической и этической, но и практической нейтрализации частного интереса, его полной ассимиляции государством – вполне в духе проекта, предложенного тем же Платоном. Так, в Османской империи в течение нескольких веков существовала система государственной службы, при которой корпус высшего чиновничества комплектовался из рабов славянского происхождения. Они обращались в ислам, проходили подготовку в специальной школе и, в соответствии с выявившимися в ходе обучения способностями, выдвигались на государственные должности с перспективами дальнейшей карьеры. Это был уникальный опыт мобилизации личностных ресурсов государством посредством предельного сужения поля частных интересов и индивидуальной свободы: условия службы и карьеры включали в себя обет безбрачия, разрыв с семьей и отказ от любой собственности3. Но этот политический гибрид мусульманского султанизма и платоновской идеальной республики в конечном счете тоже оказался нежизнеспособным, столкнувшись не только с внутренними проблемами (недовольство коренной турецкой элиты ограничением доступа к государственным должностям), но и с внешними военно-технологическими вызовами со стороны Запада. Турция, как до нее и Россия, вынуждена была приступить к догоняющей модернизации. Это требовало изменения самого качества личностных ресурсов элиты, их обогащения европейской образованностью, что, в свою очередь, плохо сочеталось с культурным кодом и элиты, и населения того времени. Но с сохранением корпуса чиновников, сформированного из рабов, и превращением их в носителей заимствовавшейся чужой культуры это сочеталось еще меньше.
Мобилизация личностных ресурсов при одновременном обогащении их качества – проблема любой страны, вынужденной осуществлять технологические модернизации в ответ на внешние вызовы. В такие периоды, и в самом деле, «кадры решают все». Однако для незападных стран эта проблема усугублялась еще и тем, что им предстояло заимствовать западные достижения, не имея за плечами той исторической эволюции, продуктом которой они являлись.
Ее суть заключалась в переходе от экстенсивного хозяйствования, при котором развитие обеспечивается за счет присоединения новых территорий и населяющих их народов, к интенсивному, при котором развитие становится следствием инноваций, повышения экономической эффективности труда и его производительности. На Западе это стало возможным благодаря росту степеней индивидуальной свободы – в обретшем автономию от религии и церкви научном творчестве, в добившемся гарантий прав собственности городском частном бизнесе и втянувшемся в рыночные отношения
3 Кинросс П. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. С. 660-661.
и связи аграрном секторе, где крепостное право уходило в прошлое. Свобода, стимулируя ориентацию на достижительность и индивидуальный жизненный успех, создавала новое качество личностных ресурсов, а быстро развивавшийся рынок способствовал их мобилизации и постоянному обогащению – в том числе и благодаря не менее быстрому развитию массового школьного образования.
Государство, сдерживая до поры до времени распространение свободы на область политики, к ее утверждению в экономике относилось более благосклонно: свобода означала хозяйственное развитие, а хозяйственное развитие означало рост налоговых поступлений в казну, т.е. укрепление самого государства. Поэтому появился спрос на иное качество личностных ресурсов и в аппарате управления – они должны были соответствовать задачам хозяйственной интенсификации. Установка на приватизацию государства у чиновников не исчезала – при отключенности общества от политики и отсутствии общественного контроля над властью она не могла быть ни изжита, ни даже ослаблена. Но качественное обогащение личностных ресурсов происходило и в их среде.
Восток, не знавший понятия индивидуальной свободы, пытался осваивать плоды западного развития в условиях сохранявшейся несвободы, т.е. негарантированности прав личности и жесткой государственной регламентации всех сфер деятельности, включая хозяйственную и торговую. Сколько-нибудь существенными историческими результатами такие попытки не сопровождались, о чем можно судить по той же Османской империи – былая турецкая мощь к XVIII столетию иссякла и восстановить ее с помощью дозированной вестернизации так и не удалось. Единственной незападной страной, сумевшей не только адаптироваться к новым обстоятельствам, но и усилиться, оказалась Россия. В царствование Петра I ей удалось осуществить военно-технологическую модернизацию, отыскав для этого необходимые личностные ресурсы и обеспечив их обогащение до требуемого эпохой уровня.
Такой поворот имел свою предысторию и свои долговременные последствия. Он не преодолевал инерцию экстенсивного развития, а переводил его в новое технологическое русло, во многом предопределив тем самым своеобразие и последующих отечественных модернизаций. То были модернизации посредством заимствования чужих достижений без создания собственных источников и стимулов инноваций и отсутствии спроса на соответствующие личностные ресурсы. Данная проблема сохраняет свою актуаль-
ность и сегодня, а ее предельная острота определяется тем, что прежними способами она неразрешима. Именно поэтому мы и сочли нужным об этих способах и их разновременных трансформациях еще раз напомнить, проследив в книге их историческую эволюцию. История поучительна не только тем, что обнаруживает прошлые возможности, но и тем, что помогает осознать их ограниченность.
Доосевое и осевое время
Еще один угол зрения на российскую историю был задан современной глобализацией, распространяющейся не только на экономику посредством формирования мирового рынка, но и на государственное устройство отдельных стран, подчиняя их единым правовым нормам и надгосударственным институтам. Этот процесс, набравший скорость в последние полвека, имеет отношение не только к настоящему, но и к прошлому. Во-первых, потому, что прошлое в значительной степени предопределяет готовность и способность отвечать на вызовы глобализации. Во-вторых, потому, что прошлое есть и у самой глобализации. Нынешнее ее жизневоплощение разительно отличается от предыдущих темпами, глубиной и технической оснащенностью (информационные технологии устранили границы между временем и пространством), но оно – не первое в мировой истории.
Истоки этого явления, как и все в человеческом мире, восходят к сдвигам в культуре, происходящим в ответ на новые проблемы и вызовы. В течение первого тысячелетия до н.э. с небольшими – по историческим меркам – отклонениями во времени и независимо друг от друга в разных регионах планеты появились люди (Лао-Цзы и Конфуций в Китае, Будда в Индии, философы в Греции, пророки в Израиле), мысль которых прорвалась к предельно абстрактным универсальным понятиям, не имевшим эмпирических аналогов не только в догосударственных локальных общностях, но и в жизни ранних государств. «Новое, возникшее в эту эпоху ‹…› сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы ‹…› В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к универсальности»4.
4 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 33.
Немецкий философ XX века Карл Ясперс, которому принадлежат цитируемые слова, назвал отмеченное им интеллектуальное движение из разных географических точек в одном направлении прорывом в осевое время5. Но эта наметившаяся духовная ось не стала началом духовной консолидации человечества. Потому что подавляющее большинство населения планеты оставалось в доосе-вом культурном состоянии.
Историческим синтезом доосевой и осевой культур стали мировые империи, скреплявшиеся не только силой, ной универсальными абстракциями утвердившихся мировых религий в сочетании с юридическими абстракциями закона, тоже возникшими и укоренившимися в культуре в результате обретения ею нового измерения. Именно поэтому становление империй правомерно, на наш взгляд, интерпретировать не как выпадение из осевого времени и возвращение к доосевому (а именно так интерпретировал его Ясперс), но как продолжение исторического движения внутри этого времени. Экспансионистские имперские установки вдохновлялись универсальными идеями и были установками на глобализацию, которые разные империи реализовывали не вместе с другими, а независимо от других. При этом не обошлось и без существенных культурных потерь: интеллектуальная свобода, благодаря которой осуществилось вхождение в осевое время, не только не становилась свободой экономической и политической, но и сама свертывалась, вытеснялась идеологической и политической регламентацией и унификацией.
Универсальные идеи в их имперском государственном воплощении не могли консолидировать все человечество, а могли интегрировать лишь отдельные регионы. Трудно не согласиться с Ясперсом в том, что империи не объединяли население планеты, а раскалывали его. Но то не было отказом от универсализма. То был неадекватный способ его политической реализации, в чем человечеству предстояло убедиться на собственном опыте.
Ни одной из империй, в какие бы исторические формы они ни облачались, глобальной стать не удалось. Все они в конечном счете распались. Последней из них суждено было стать империи Российской, которая в XX столетии оснастила себя коммунистической
5 Подробнее об этой концепции и ее познавательном значении применительно к российской истории см.: Ахиезер А.С. Как искать специфику российского общества, или Было ли осевое время в России // Рубежи. 1998. №3/4; Он же. Переходные процессы в культуре // Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М., 2000.
идеологией, выступавшей в качестве универсальной и претендовавшей на статус новой мировой духовной оси. Глобальный коммунистический проект был продуктом отечественной истории, развивавшейся внутри осевого времени в его имперском воплощении. Это и обусловило выбор нами одного из ракурсов ее рассмотрения. Вместе с тем мы не могли не учитывать и то, что на определенной стадии России приходилось считаться с культурным прорывом во второе осевое время, который начался в Европе с эпохи Возрождения.
Карл Ясперс не был уверен в том, что «вторая ось» – по причине ее локального европейского происхождения – «может иметь значение для всего мира»6. Основания для сомнений сохраняются и сегодня: если первое осевое время, как бы его ни интерпретировать, стало прошедшим, то второе остается не завершенным, а вопрос о том, суждено ли ему стать глобальным временем будущего, остается открытым. Однако десятилетия, прошедшие после смерти Ясперса (1969), отмечены событиями и явлениями, которые свидетельствуют о том, что становление глобальной «второй оси» не только не прерывается, но и продолжается. Трудности, на которые оно наталкивается в незападных регионах планеты, очевидны, но убедительной альтернативы этому историческому движению после самоисчерпания потенциала коммунистической идеи в современном мире не просматривается.
Второе осевое время, истоки которого восходят к европейскому Ренессансу, начало обретать свое собственное культурное измерение в ХVI-ХVII веках. Возрожденный пафос интеллектуальной свободы воплотился в достижениях европейской науки, выстроившей рядом со статичной универсальностью Бога систему универсального человеческого знания, не только не исключавшего изменения и развития, но именно на постоянное изменение и развитие ориентированного. Эта установка, однако, областью науки не ограничивалась, а распространялась и на другие сферы жизнедеятельности, способствуя утверждению ценностей модернизации, т.е. преобразования реальности в соответствии с рациональными проектными целеполаганиями. Пафос интеллектуальной свободы переносился в экономику и политику, универсальность научного знания, обретшего легитимный статус, постепенно доводились до идей универсальности юридического закона (его общеобязательности и первичности по отношению к государственной власти) и равенства
6 Ясперс К. Указ, соч. С. 97.
перед ним или, что то же самое, до идеи универсальности гражданских прав. И все это воплощалось в «эмпирической универсальности» капиталистического рынка и одновременно им стимулировалось.
Переход во второе осевое время – в мировом масштабе до сих пор незавершенный, был подготовлен в Европе предшествовавшей историей населявших ее народов. Ценность интеллектуальной свободы (и индивидуальной свободы в широком смысле слова), в отличие от первого осевого тысячелетия, благодаря развитию городов становилась ценностью не только отдельных мыслителей, но и относительно массовых слоев населения. Кроме того, культурный поворот исподволь подготавливался и тем уникальным противостоянием центра светской власти (государства) и центра духа (католической церкви), которым было отмечено европейское Средневековье. Это противостояние двух институционально оформленных субкультур, сопровождавшееся столкновением интерпретаций исходного Божьего замысла, вносило рациональную составляющую в саму веру, способствуя тем самым расширению пространства умственной свободы и развитию способности оперировать абстракциями в атмосфере постоянного интеллектуального тренинга. «Таким образом возникла решающая предпосылка, ставшая основой хода истории современного европейского государства и формирования двух принципов свободы, имевших огромное значение для развития политической культуры Европы. С одной стороны, появилась свобода веры вне государственного принуждения, а с другой – свобода политики вне опеки со стороны церкви»7.
Вступив во второе осевое время, Европа до середины XX века продолжала тем не менее развиваться и в логике первого, принудительно распространяя свои новые принципы на весь мир посредством имперской экспансии и колониальных завоеваний. Это стало не последней причиной происходивших на континенте войн, в том числе и двух мировых, и появления глобального нацистского проекта, авторы которого претендовали на реанимацию староимперского принципа в условиях индустриальной эпохи и при использовании ее научно-технических достижений. После того, как попытка была пресечена и под влиянием ее уроков, Европа (и Запад в целом) начала консолидироваться на культурной основе второго осевого времени и одновременно интегрировать в него незападный Мир. Но если на первом направлении она продвинулась достаточно
7 Шульце Х. Краткая история Германии. М., 2004. С. 24.
далеко, то на втором впечатляющие успехи сопровождались возникновением новых вызовов, убедительных ответов на которые Запад пока не нашел. «Вторая ось» сегодня – не мировая реальность, а продолжающий реализовываться проект.
История России представляет собой уникальный пример того, как попытки интеграции во «вторую ось» могут сочетаться с установкой на автономное рядом с ней существование и даже на выстраивание осей собственных, тоже претендующих на глобальность. Своеобразие России просматривается и в том, что она, никогда не будучи колонией Запада, по проложенной им дороге всегда начинала двигаться добровольно, соединяя в этом движении заимствованные принципы второго осевого времени с принципами первого и, что наиболее существенно, с консервированием наследия доосевой культуры.
Государства и цивилизации
Цивилизационный подход – едва ли не самый модный в современном обществоведении. Он широко используется для объяснения как различий в исторической судьбе стран, государств и народов, так и сходства, как их прошлого, так и настоящего. Это относится и к России, которую многие исследователи склонны рассматривать как особое цивилизационное образование. Сразу скажем, что такая интерпретация отечественной истории вызывает у нас сомнения. Но именно поэтому мы считаем нужным рассмотреть ее эволюцию и в цивилизационным ракурсе.
На этом пути возникают, однако, определенные трудности, связанные с недостаточной разработанностью цивилизационной теории, в которой сегодня больше вопросов, чем ответов. Ее категориальный аппарат несовершенен, базовые понятия не однозначны, а критерии отнесения конкретных обществ к той или иной цивилизации размыты. Приходится считаться и с тем, что эта теория лучше описывает центры локальных цивилизаций, где их особенности выражены наиболее полно, нежели цивилизационную периферию, где они смазаны. Наконец, эта теория обнаруживает наибольшие познавательные достоинства по отношению к периодам устойчивого существования конкретной цивилизации, когда ее характеристики константны, и сталкивается со сложностями в описании ее исторических трансформаций.
К примеру, цивилизационная теория разделяет западноевропейскую (протестантско-католическую) и восточноевропейскую (православную) цивилизации. Но возникает естественный вопрос о том, куда отнести, скажем, современную Грецию, которая, будучи страной православной, входит в Европейский Союз и другие структуры, ассоциируемые с цивилизацией христианского Запада. Аналогичный вопрос можно задать и относительно Турции, которая исходно принадлежит к исламской цивилизации, но тоже давно стучится в двери Евросоюза. Эти и другие примеры показывают, что границы цивилизационных регионов под воздействием исторической динамики могут смещаться. Кроме того, при всей своей устойчивости исходная цивилизационная идентичность фатально не предопределяет судьбы отдельных народов.
Используя в дальнейшем понятие «цивилизация», мы будем исходить из того, что оно фиксирует определенную стадию исторического развития, связанную с возникновением городов и формированием государства. Поэтому оно уже понятия «культура», которое атрибутивно человеку. Вполне корректно, скажем, говорить о культуре германских племен, сокрушивших Рим, или американских индейцев. Однако понятие цивилизации по отношению к ним используется редко. Но если так, то и различия между цивилизациями – это различия в тех характеристиках культуры, которые задают способы именно государственной консолидации общества и государственного упорядочивания его повседневной жизни. Способы же эти представляют различные комбинации базовых государство-образующих элементов – силы, веры и закона и соответствующих им институтов. Их (элементов и институтов) долговременно жизнеспособные конкретные сочетания и иерархии в стране или группе стран мы и считаем возможным называть цивилизациями.
При таком подходе можно без особого труда провести разграничительные линии как между одновременно существующими цивилизациями, попутно проясняя основательность их притязаний на особый цивилизационный статус, так и между цивилизациями, разведенными во времени. Он позволяет перенести акцент с лежащих на поверхности различий (например, технологических) на уровень, позволяющий понять природу самих этих различий. Говоря иначе, при таком подходе основной водораздел между цивилизациями первого осевого времени, объединяемых обычно под названием аграрных, и устремленной во второе осевое время цивилизацией индустриальной, которая на наших глазах превратилась в постиндустриальную (информационную), оказывается не в технологической, а в совершенно иной плоскости.
В первом осевом времени государства консолидировались как посредством сочетания силы и закона (и институтов, обеспечивающих их функционирование), так и верой (и, соответственно, церковью). Комбинироваться эти элементы могли по-разному, роль и вес каждого из них не были одинаковыми, что и обусловливало цивилизационные отличия, скажем, Римской империи от Китайской, но все они в той или иной степени присутствовали повсеместно. Более того, если хотя бы один из них не получал достаточного развития, то даже при сверхразвитости других цивилизация рано или поздно обнаруживала свою нежизнеспособность. Пример того же Древнего Рима, где глубоко и тщательно разработанная правовая система не смогла компенсировать слабость консолидирующего потенциала языческого многобожия, в данном отношении весьма показателен.
Сила и закон без духовно-религиозной общности были не в состоянии обеспечить долговременную консолидацию уже потому, что цивилизации первого осевого времени идеи равенства перед законом еще не знали. Поэтому закон ни в одной из них не был самодостаточным и нуждался в дополнении верой, которая либо легитимировала неравенство его изначальной предписанностью свыше, либо, наоборот, санкционировала равенство всех перед лицом Бога, а неравенство в земной жизни интерпретировала как следствие ее субстанционального несовершенства.
Во втором осевом времени закон постепенно превращается в инструмент защиты прав и свобод граждан. Он становится равным для всех и самодостаточным, не нуждающимся больше в вере для упорядочивания государственной жизни и превращающим ее (веру) в частное дело каждого. И это вполне согласуется с идеей верховенства научного разума, апеллирующего не к божественному, а к природному («естественному») равенству людей как биологических существ, наделенных сознанием и волей8.
8 Показательно, что и сам термин «цивилизация» появился на Западе именно в эпоху Просвещения, в 60-е годы XVIII столетия, когда научные достижения Европы были уже достаточны для того, чтобы осознать определенные преимущества современности перед «золотым веком» древности и перенести общественный идеал из прошлого в будущее (см.: Малиа М. Краткий XX век // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М., 2000. С. 120). Можно сказать, что новый термин фиксировал формировавшееся самосознание второго осевого времени как времени универсального научного разума. Сегодня он используется более широко, но, признавая существование разных цивилизаций во времени и в пространстве, желательно помнить и о первоначальном содержательном наполнении данного термина.
Поэтому, когда речь идет о западно-христианской (или просто западной) цивилизации как о первой цивилизации второго осевого времени, надо иметь в виду не только ее религиозные корни, но и ее религиозную нейтральность, позволяющую ей быть открытой и для православной Греции, и для мусульманской Турции, не покушаясь при этом на их конфессиональную и культурную идентичность. Надо иметь в виду и то, что своеобразие западной цивилизации определяется не столько ее научно-технологическими достижениями, которые могут быть заимствованы и незападными странами, сколько производностью самих достижений от универсально-секулярной научной парадигмы, распространяющейся и на тип государственного устройства. Последний, будучи основан на доведении универсальности закона до идеи равенства перед ним, включая равенство естественных и неотчуждаемых прав и свобод, и предопределил во многом научно-технологическое лидерство Запада и его органичный динамизм, позволяющий это лидерство удерживать.
Однако тот способ жизнеустройства, при котором сила полностью подчинена закону, защищающему индивидуальные права и свободы (включая и объявленную частным делом свободу веры), всеобщим пока не стал. Это значит, что западный цивилизационный проект остается нереализованным проектом «второй оси». Трудности его воплощения в незападных регионах и обусловили во многом популярность цивилизационного подхода в изучении разных обществ: исследование путей подключения этих регионов к единой цивилизационной вертикали сменилось исследованием многообразия горизонталей.
Не погружаясь глубоко в эту тему, отметим лишь, что при последовательном проведении такого подхода мысль о сосуществовании разных культур внутри одной цивилизации трансформируется в представление о возможности цивилизационных альтернатив западным принципам жизнетворчества. Фактически же речь идет об альтернативах принципу законности в его универсальном толковании, когда он доводится до принципа естественности и неотчуждаемости прав и свобод граждан. Но вопрос о том, могут ли такие альтернативы, в той или иной степени воспроизводящие установки первого осевого времени, быть жизнеспособными и конкурентоспособными в современном мире, остается открытым.
Тем не менее цивилизационный угол зрения представляется нам достаточно продуктивным. Он позволяет точнее охарактеризовать и некоторые существенные особенности развития посткоммунистической России, и своеобразие ее исторической эволюции на предыдущих этапах. И, что едва ли ни самое существенное, только он дает возможность оценить основательность прошлых притязаний России на особый цивилизационный статус, инерция которых проявляется и сегодня.
Обозначив ракурсы рассмотрения отечественной истории, которые будут использоваться в дальнейшем, мы переходим к самому рассмотрению.
Часть I Киевская Русь: первая государственность и первая катастрофа
Отсчитывая историю России с Киевской Руси, мы отдаем себе полный отчет в том, что после обретения государственной самостоятельности Украиной и Белоруссией никаких оснований претендовать на монопольную преемственную связь с древним Киевом у нынешней Москвы нет. Вряд ли сможет она воспрепятствовать и претензиям на такую монополию со стороны современной Украины. И тот факт, что князь Олег назвал Киев матерью городов русских, не заставит украинцев считать себя по происхождению русскими. Потому что давно доказано: русская этническая идентичность, возникшая не раньше XVIII века, не имеет прямого отношения к тем «русьским», о которых говорится в летописях и с которыми даже в Киевской Руси идентифицировала себя лишь часть ее населения.
Тем не менее отказываться от киевской точки исторического отсчета и переносить ее в монгольскую или послемонгольскую Москву нет никаких оснований и у России. Более того, отрезать Московскую Русь от Киевской попросту невозможно уже потому, что первая унаследовала от второй и значительную часть территории вместе с населявшими ее людьми, и правящую династию Рюриковичей вместе с накопленным ею государственным опытом, и государственную религию. Но дело не только в этом: в отрыве от киевского периода труднее понять и современные особенности развития России, как, впрочем, и Украины и Белоруссии.
Киевская Русь, история ее становления и падения по-прежнему представляет для нас интерес, потому что некоторые фундаментальные проблемы государственного развития, решавшиеся и не решенные в ту эпоху, остаются проблемами и поныне.
Как и тогда, в современной России не удается обеспечить самоограничение частных и групповых интересов властвующих групп во имя интереса общего на основе общепризнанных и общеобязательных для исполнения универсальных правил и процедур.
Как и тогда, создаваемые «вертикали власти» не демонстрируют устойчивой эффективности, способности отвечать на изменяющиеся внешние и внутренние вызовы.
Как и тогда, государственность не в состоянии справиться с опасностью перманентной делегитимации, проистекающей из дисгармонии отношений между властвующими и подвластными.
В столетия, последовавшие за распадом Киевской Руси, эти проблемы как-то решались – на разных этапах по-разному. Но затем они периодически воспроизводились снова и снова, вплоть до наших дней. Поэтому история формирования и распада первой отечественной государственности все еще сохраняет свою актуальность.
Глава 1 Авторитарно-вечевой идеал
Киевская государственность возникла благодаря международной торговле. Поэтому для понимания природы этой государственности вопрос о достоверности летописного свидетельства относительно призвания новгородцами варягов, на протяжении столетий бывший предметом идеологически перегруженных и безрезультатных дискуссий, существенного значения не имеет. Существенно то, что IX век, к которому восходят истоки Киевской Руси, был веком хозяйственного оживления в Европе и поиска новых торговых путей, поскольку старые были блокированы захватившими часть континента арабами. Пространство между Балтийским и Черным морями, населенное славянскими и финно-угорскими племенами, было для прокладывания такого пути более чем благоприятным, а выгоды контроля над ним – более чем очевидными. Это наглядно демонстрировал, например, Хазарский каганат, стремившийся контролировать южную часть пути «из варяг в греки» еще до возникновения последнего. Возник же он в результате деятельности киевских князей, а какого они были происхождения и как в нужное время оказались в нужном месте, не так уж и важно. Поэтому мы, вслед за летописцем, будем называть их варягами, доверившись ему и во всем остальном.
Чтобы проложить торговый маршрут между двумя морями и использовать его в своих интересах, князьям и потребовалась надплеменная организация государственного типа. История же этой организации началась не в Новгороде. Она началась в Киеве, который в 882 году был захвачен Олегом – преемником основателя варяжской княжеской династии Рюрика, решившим вместе с дружиной покинуть Новгород и ставшим основателем Киевской Руси.
1.1. Государство и догосударственная культура
Киевский период можно охарактеризовать как долговременную попытку варяжских князей рода Рюриковичей выстроить государственность на основе догосударственной, доосевой культуры и постепенно трансформировать ее в культуру первого осевого времени.
В данном отношении многое им удалось, они оставили после себя значительный культурный задел, но органичного синтеза не получилось. Поэтому среди историков до сих пор существует точка зрения, что киевская государственность так и не сложилась, и это мнение не лишено оснований.
Рюриковичи застали на землях, на которые были приглашены княжить или, как случалось чаще, которые подчиняли силой, родоплеменную организацию жизни. Это были общности, возглавлявшиеся племенными князьями, но наиболее важные вопросы решались ими не единолично, а совместно с народными вечевыми собраниями. Князь наделялся большими, почти неограниченными полномочиями, однако при определенных обстоятельствах (например, при неумелом руководстве военными действиями) мог быть смещен вечем. Племенные князья и вечевые институты были двумя взаимодополняющими и взаимоотрицающими полюсами архаичной сакральной власти, воплощавшими племенные божества-тотемы. При этом последние воспринимались как нечто целостное и – одновременно – раздвоенное. «Тотем всегда „обоюден" (двусторонний), он и отдельный предводитель клана, и весь людской коллектив в целом»1.
Такая организация жизни была присуща всем народам на до государственных стадиях их развития. Но трудно назвать страну, в государственной истории которой инерция этого типа социальной организации была бы столь сильной и долгой, как на Руси, а потом в России. Сначала его вынуждены были воспроизвести варяжские правители. Но он сохранялся и столетия спустя, причем не только у казачества, управлявшегося одновременно князем (атаманом) и вечем (казачьим кругом). Он повсеместно воспроизводился и в жизненном укладе российской деревни, где функции управления распределялись между помещиком и общинным крестьянским сходом. Наконец, в существенно модернизированном большевиками виде ему суждено было вернуться в политическую систему в начале XX века и просуществовать почти до самого его конца. Поэтому мы и обращаем внимание читателя на истоки этого феномена, восходящие к догосударственным временам.
Племена, пригласившие варягов на определенных условиях или подчиненные ими насильственно, меньше всего нуждались
1 Фрейденберг О.М. Мир и литература древности. М., 1998. С. 92. См. также: Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта: В 2 т. Новосибирск, 1997. Т. 1. С. 87.
в иноземных князьях как объединителях земель на всем пути «из варяг в греки» и строителях надплеменной государственной общности. Такого запроса не было и не могло возникнуть; максимум, чего ждали от иноземных князей и их дружин, – защиты от нападения со стороны степных кочевников и других варяжских отрядов. Племенная организация не создала к тому времени субъектов государственности и соответствующей ей культуры, ориентированной на интеграцию локальных замкнутых миров в большое общество. Она создала лишь культуру сообществ людей, знающих друг друга в лицо и строящих свои отношения на основе инерции исторического опыта и эмоциональных контактов, не требующих рационального абстрагирования от этого опыта, интеллектуального прорыва за его пределы2.
Мир в такой культуре выглядит эмпирически фиксируемым противостоянием «наших» и «ненаших», «Мы» и «Они». У «нас» своя территория, свои боги и общие ритуалы. «Мы» отстаиваем их от покушений со стороны соседних общностей, а при случае – стремимся захватить территорию, контролируемую соседями. В этом отношении не было качественной разницы между племенной и предшествовавшей ей родовой культурой. Девушка, вышедшая замуж за парня из другой деревни (т.е. из другого рода), выпадала из числа «наших». И опять-таки ничего специфически русского3 или славянского здесь нет: такая культура характерна для всех народов, находящихся на архаических стадиях развития. Однако и в данном случае культурная архаика будет долго воспроизводиться и после того, как страна войдет в государственное состояние. Драка стенка на стенку жителей близлежащих деревень – эта ритуализированная форма перманентного территориального конфликта между соседними родами – доживет в России до середины XX столетия.
Рюриковичам не потребовалось много времени для ликвидации племен как социокультурных субъектов. Спустя столетие после варяжского вокняжения упоминания о племенах исчезли из письменных источников. Границы между вновь образовавшимися княжествами не совпадали с границами между бывшими племенами.
2 Подробнее см.: Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С- 1-4; Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск, 1995. С. 15; Она же. История: Мир, время. М., 1994. С. 9.
3 Чтобы не усложнять изложение, мы не вводим в него название «русьские», но читателя просим иметь в виду, что в Киевской Руси русских – в современном понимании этого слова – не было.
Но догосударственная архаичная культура вместе с ними не исчезла, и княжеская власть вынуждена была с ней считаться и к ней приспосабливаться. Тем более, что никакой другой, государственной культуры князья ей поначалу противопоставить не могли, так как носителями такой культуры не являлись. Но об этом – ниже.
Как мы уже отмечали во вводной главе, устойчивая государственность невозможна, если в сознании основной массы населения не сложилось некое абстрактное представление о более широкой, чем локальный племенной мир, общественной целостности и скрепляющих ее символах. Между тем обобщения, максимально доступные человеку той эпохи, ограничивались культами Земли и Рода4, воплощавшими единство локальной территории и местного населения. Иными словами, способность к обобщению, абстрагированию имела своей культурной границей все тот же чувственно воспринимаемый локальный мир. Он сакрализировался посредством символического одухотворения в родоплеменных божествах, но и эти языческие абстракции приспосабливались к доосевой, эмоционально-метафорической культуре: божества-тотемы были материализованы в виде животных, птиц, деревянных фигур и доступны для непосредственного созерцания.
С данной догосударственной культурной матрицей и имели дело первые киевские князья, изначально претендовавшие на то, чтобы властвовать сразу над всеми подчиненными им территориями и населявшими их племенами. Но такая претензия уже сама по себе была несочетаема с отмеченными особенностями данной матрицы. Признание пространственно отдаленного института княжеской власти, общей для всех земель и племен, предполагало достаточно развитую массовую способность абстрагирования от локального опыта, а такая способность отсутствовала. Отсюда, в свою очередь, следует, что одной из главных проблем, с которой столкнулись первые варяжские князья, была, если пользоваться современным языком, проблема легитимности их власти.
1.2. Властители и подданные: в поисках контактов
Любая власть опирается на вооруженную силу, и варяжские князья в этом отношении не были исключением. Но долговременное согласие подданных подчиняться правителям и содержать их не может быть навязано одной лишь силой. Во-первых, власть должна взять
4 Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 108.
на себя общезначимые для населения функции. Во-вторых, в своих притязаниях на пользование ресурсами населения она должна ограничивать себя приемлемой для него мерой.
Киевские князья изначально исполняли роль защитников от идущих извне угроз, а со временем приняли на себя и некоторые функции по упорядочиванию внутренней жизни (прежде всего судебную). Что касается меры давления на население при сборе дани, то князья лишь постепенно становились «государственными» людьми, способными сознательно ограничивать право силы и упорядочивать ее использование определенными правилами.
Первые Рюриковичи, судя по летописным свидетельствам, были приглашены новгородцами на заранее оговоренных условиях, т.е. власть их изначально была договорной, а не принудительной. Это обеспечивало им легитимность, но это же заложило устойчивую традицию правового ограничения их полномочий, что и предопределило судьбу Новгорода в эпоху становления московского самодержавия, чья природа с традициями договорного властвования была несовместима. Но и в киевский период княжение в Новгороде, в силу его отдаленности и налагаемых традицией ограничений, в число самых привлекательных не входило5. А это значит, что в других землях, которые Рюриковичами были завоеваны, разбойничий варяжский менталитет проявлялся свободнее и менялся лишь под воздействием полученных трагических уроков – подобных тому, что был преподан древлянами князю Игорю, поплатившемуся жизнью за свой произвол при выбивании дани.
Показательно, что со временем киевские князья, даже если они прибегали к помощи варяжских воинов в ходе междоусобных войн, после победы стремились от них побыстрее избавиться, скажем, отослав в Византию. Так что государственное начало постепенно брало верх над бандитским: уже княгиня Ольга, жестоко отомстив древлянам за убийство своего мужа Игоря, вслед за демонстрацией права силы приступила к упорядочиванию взимания дани, т.е. сделала ставку не на произвол силы, а на ее сочетание с взаимным согласием относительно условий господства и подчинения.
Однако постепенная трансформация варяжского менталитета, развитие у князей государственного сознания не только не
5 Когда князь Святослав решил послать на княжение в отдельных землях своих сыновей, новгородцы тоже попросили себе князя. Святослав, судя по летописи, ответил им: «Да кто же пойдет к вам?». Князя в итоге нашли – им стал будущий креститель Руси Владимир, – но сам эпизод примечателен.
способствовали преодолению архаичной доосевой культуры, раскалывавшей подчиненные единой власти территории, но и создавали новую линию социокультурного раскола между этой культурой и зарождавшейся культурой государственной. Пространственное отделение вершины власти от повседневной жизни человека не сопровождалось возникновением и закреплением в его сознании абстрактных представлений о новой, более широкой и недоступной для непосредственного созерцания целостности. Скорее всего уже первые князья осознавали это как проблему и искали способы ее решения. Во всяком случае, отдельные явления той эпохи могут быть истолкованы как стремление княжеской власти приблизить себя к населению, войти в привычный для него эмоциональный контакт с ним, преодолеть раскол культур, создавая иллюзию их единства.
Некоторые историки (например, Б. А. Рыбаков) именно под этим углом зрения рассматривают такое явление, как полюдье. С одной стороны, оно было продиктовано прагматическими соображениями, представляя собой зимнее кормление князя и дружины за счет населения и сбор дани – для последующей продажи на международных рынках – перед началом весеннего торгового сезона. С другой стороны, полюдье выполняло определенные ритуально-магические функции.
Сбор дани преподносился и переживался не как утилитарный экономический акт, а вписывался в контекст священных законов гостеприимства и подготовки к праздничному пиру, сопровождавшемуся жертвоприношениями богам и духам. Общий стол символизировал патриархальное единение властителя и подданных. При этом князь, совершавший объезд своей территории, представал перед населением в окружении людей, с которыми он проводил свою жизнь: дружинников, жен и наложниц, слуг и домашних рабов. Правитель в окружении своего двора становился во время полюдья своего рода моделью становящегося государства, непосредственно явленной каждому. Лицезрение ближнего круга князя позволяло рядовому подданному наглядно представить себе социальное тело власти, пространственно от этого подданного отделенной и отдаленной.
Но полюдье включало в себя не только праздничные пиры и другие ритуальные акции, эмоционально сближавшие властвующих и подвластных – например, совместную охоту князя и местных охотников. Оно демонстрировало также силу и справедливость власти. Во время полюдья князь лично вершил суд, карал непокорных, останавливал междоусобные войны, отстранял нерадивых княжеских наместников. Тем самым пространственно отдаленная от населения власть не только временно возвращалась к нему, но и демонстрировала свою способность решать любые конкретные проблемы в каждой точке подчиненной ей территории. Тем самым создавалась иллюзия, что новое – это всего лишь несколько измененное старое. Но со временем такие имитации обычно распознаются и начинают восприниматься как обман.
Полюдье и сходные с ним явления имели место не только на Руси; они были широко распространены во многих ранних государствах6. Не будем останавливаться на их роли в других странах. В русском же варианте полюдье довольно быстро себя исчерпало. Уже во времена Ольги, как предполагают некоторые историки, оно начало свертываться и заменяться административной системой «погостов» – своего рода контор по сбору налогов7. Наверное, во время объездов правителями территорий демонстрация силы и справедливости власти, а также ее близости к народу не обходилась без злоупотреблений, вызывавших недовольство и не столько укреплявших, сколько ослаблявших легитимность этой власти.
Кроме того, полюдье, как можно предположить, даже в лучшем случае могло лишь на время вернуть жителям той или иной конкретной территории эмоциональный контакт с дистанцированной от них властью. Но само по себе оно вряд ли способствовало формированию государственного сознания, т.е. восприятия княжеской власти как персонального воплощения единства всех подчиненных ей земель.
1.3. Ловушки родового правления
Мы не знаем, насколько глубоко первые киевские князья осознавали проблему легитимации своей власти. Не знаем мы и мотивов, которыми руководствовался четвертый (после Олега, Игоря и Ольги) князь Святослав, посадивший вместо наместников на княжение в отдельных землях своих сыновей. Но это, безусловно, был важнейший поворот, призванный соединить подчиненные варягами территории родовой связью. Отныне именно княжеский род в целом становится той базовой абстракцией, которая несла в себе идею
6 См.: Кобищанов Ю.М. Попюдье – явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. М., 1995.
7 История России с древнейших времен до конца XVII века. М., 2000. С. 73.
государственной общности контролировавшихся князьями земель и вместе с тем была умопостигаемой для родоплеменного, догосударственного сознания населения.
Иными словами, власть княжеского рода Рюриковичей стала легитимной. Отдельные представители рода могли эту легитимность утрачивать, что в истории Киевской Руси случалось нередко, но позиции рода в целом как монопольного поставщика правителей оставались незыблемыми. Единственная известная попытка обойти сложившийся порядок в одном из княжеств – из разряда тех исключений, которые подтверждают правило8.
Однако этот стихийно нащупанный и утвердившийся принцип легитимаци сам по себе не обеспечивал легитимной преемственности великокняжеской власти, не давал ясного ответа на вопрос о том, кому править в Киеве. В распоряжении Рюриковичей были две модели легитимации власти в столице – семейного отцовства и родового старейшинства. Первая, берущая начало от Святослава, предполагала, что великим князем является отец, в отдельных княжествах правят его сыновья, им же и назначаемые, а после его смерти великокняжеский стол переходит к старшему из них. При второй модели власть достается старшему в роде в целом, что дает преимущество не сыновьям, а братьям умершего правителя.
История Киевской Руси наглядно продемонстрировала преимущества отцовской модели. Именно при ее использовании в годы княжения крестителя Руси Владимира и во второй половине правления Ярослава Мудрого (после смерти его последнего брата Мстислава) имели место самые значительные достижения в государственном и общественном развитии. Но «отцовство» того же Владимира стало возможным лишь после того, как он в междоусобной войне физически устранил своих братьев. Ахиллесова пята коллективного родового правления в том-то и заключалась, что оно оказалось бессильным выработать легитимную процедуру наследования великокняжеской власти после смерти князя-отца.
Рюриковичи не додумались до решения, до которого додумались, например, в Османской империи. Там сложилась традиция, в соответствии с которой наследник престола начинает правление с уничтожения всех своих братьев, дабы исключить раскол общества
8 В 1211 году бояре поставили на княжение в Галицко-Волынском княжестве своего ставленника, что вызвало недовольство среди всех Рюриковичей. Через несколько лет сложившийся порядок был восстановлен.
вавую борьбу за власть (подобная практика санкционировалась религиозными лидерами, так и обществом)9. На Руси, впрочем, этого и не могли додуматься: при родовой форме правления в момент смерти великого князя представители рода находятся в разных местах, за каждым из них – военная сила, и сразу всех не уничтожишь. На Руси шла именно борьба за власть – жестокая и кровавая. Потому что в выстроенной Рюриковичами политической конструкции принцип семейного наследования власти укорениться не мог, а легитимирующий потенциал модели старейшинства в большом обществе, в отличие от локального родового уклада, оказался слабым. Такая модель плохо работала даже в тех случаях, когда старшим в княжеском роде оказывался один из сыновей умершего правителя. После смерти Святослава его сыновья дрались между собой до полной и окончательной победы Владимира, который старшим среди них не был; после смерти последнего история почти полностью повторилась. По мере же естественного разрастания княжеского рода перестали совпадать старейшинство в семье великого князя и старейшинство в роде в целом, что и стало одной из главных причин непрекращающихся междоусобиц и в конечном счете фактического распада Киевской Руси еще до монгольского нашествия. Мы не собираемся еще раз пересказывать многократно описанную историю первой русской государственности. Для наших целей достаточно указать лишь на то, что при невыработанности законного принципа наследования власти таким принципом становилась внезаконная сила. Нередко ее превосходства оказывалось достаточно для легитимации властвования, которое воспринималось как вознаграждение за личные воинские заслуги в междоусобной борьбе за великокняжеский стол. Но так было не всегда, и порой сила (особенно в случаях, когда перевес одной из сторон не был очевидным) искала союза с принципом старейшинства, что приводило к появлению различных вариантов их сочетания вплоть до дуумвиратов, когда одновременно правили самый сильный и самый старший – в роде или в одной из его ветвей10.
Эти ветви и их статусы внутри княжеского рода были узаконены договоренностями князей на их первом съезде в Любече (1097). Съезд призван был символизировать единство Руси под
9 Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. С. 153.
10 См.: Толочко А.Л. Князь в Древней Руси: Власть, собственность, идеология. Киев, 1992. С. 46-54.
властью Рюриковичей и их солидарную готовность сохранить страну и защитить ее от внешних и внутренних угроз. Но государственное единство приходилось обеспечивать узакониванием уже существовавшего политического размежевания князей, что и проявилось в закреплении различных княжеств в «отчинное» владение за отдельными ветвями разросшегося рода. В такое владение был передан и киевский стол, который закрепили за ветвью, признанной старшей. Это была попытка вырваться из ловушек родового правления посредством его упорядочивания. Однако достигнутые договоренности соблюдались недолго, а само их временное соблюдение обусловливалось конкретными внешними и внутренними обстоятельствами.
Внешние обстоятельства – это половецкие набеги, противостоять которым порознь князья были не в состоянии. Обстоятельство внутреннее в значительной степени было связано с фигурой Владимира Мономаха – блестящего полководца, проигравшего за свою долгую жизнь лишь одно из многих десятков сражений и приобретшего репутацию непобедимого. Это позволяло ему играть заметную объединительную роль уже в пору княжения в Переяславле. Еще больше возросла она после того, как он во время киевского народного восстания 1113 года был призван киевлянами на великокняжеский стол и занял его вопреки любечским договоренностям – к старшей княжеской ветви Мономах не принадлежал. При его правлении Русь снова обрела и упрочила свое государственное единство, потому что за Мономахом была военная сила, превосходившая возможности любого другого князя. В свою очередь, военное превосходство обусловливалось полководческими талантами и политическим авторитетом Мономаха – выгоды служения успешному правителю были слишком очевидны, и боярско-дружинная элита не могла ими не воспользоваться.
Подобно крестившему Русь Владимиру и Ярославу Мудрому (во вторую половину его княжения), Мономах правил, не имея политических конкурентов. В одном ряду с ними он числится и по своей роли в истории древнерусской государственности. Но ему, в отличие от них, не приходилось добиваться великого княжения посредством физического устранения соперников. Киевский престол, доставшийся Мономаху без борьбы и в отсутствие притязаний с его стороны, без усилий им за собой и удерживался, хотя все потенциальные конкуренты были живы и формальных оснований для его смещения у них было более чем достаточно. Но они предпочитали с Мономахом считаться.
Парадоксальным образом получилось так, что он добился «возглашенных в Любече целей, нарушив главное из оговоренных условий ее достижения, а именно – о распределении власти зависимости от статусов родовых ветвей. Возможно, другие князья согласились с этим еще и потому, что на политическую сцену, говоря современным языком, выплеснулась бунтующая «улица», которую Мономах сумел успокоить посредством реформирования законодательства. Однако рано или поздно последствия нарушения любечских договоренностей должны были проявиться. Тем более что Мономах по самому факту своего вокняжения в Киеве воспринимал теперь свою ветвь как старшую, а Киев, соответственно, как ее передаваемую по наследству «отчину».
В мировой истории немало примеров того, как внешние и внутренние угрозы сплачивают неконсолидированную элиту вокруг сильного лидера и тем самым продлевают жизнь государственной системы, ресурсы которой близки к исчерпанию. Но история свидетельствует и о том, что подобные отсрочки системных обвалов сопровождаются одновременно подспудным углублением разрушительных тенденций. В таких ситуациях уход лидера, символизировавшего государственную целостность, нередко влечет за собой цепную реакцию распада. События, происходившие в Киевской Руси в последнее столетие ее существования, – убедительное подтверждение этой политической закономерности.
Три с половиной послелюбечских десятилетия хорошо иллюстрируют роль личностей в истории. При недолгом правлении сына Мономаха Мстислава, унаследовавшего военные и политические дарования отца и прошедшего рядом с ним школу практического управления (в последние годы жизни Мономаха Мстислав был его правой рукой и выполнял многие обязанности великого князя), государственное единство еще удавалось удерживать. Но после смерти Мстислава (1132) борьба за власть почти сразу же возобновилась.
Она не могла не возобновиться по той простой причине, что представители старшей ветви Рюриковичей, ущемленные по воле киевлян Мономахом, лишь ждали своего часа, чтобы восстановить отобранный у них статус. Им это удалось – в том числе и благодаря поддержке половцев, ставших внутренним фактором русской жизни. Но и преемники Мономаха теперь уже уступать не хотели. Противоборство между представителями различных ветвей княжеского рода, равно как и внутри них, велось с переменным успехом, истощая силы борющихся сторон и ускоряя распад государства.
Созыв княжеских съездов (после любечского были и другие) свидетельствовал об осознании Рюриковичами стоявшей перед ними проблемы. Однако при сохранении родового правления у нее не было решения. Этот принцип властвования позволил продвинуться по пути создания и укрепления киевской государственности, обеспечил ее легитимацию в условиях господства догосударственной культуры. Но он же, сам будучи догосударственным, взрывал эту государственность изнутри, ибо блокировал выработку механизмов легитимной преемственности власти. В свою очередь, отсутствие таких механизмов привело к тому, что сохранявшаяся архаичная культура повсеместно воспроизвела органически присущий ей второй властный полюс – вечевой институт. Параллельно с описанными процессами происходило и его возвышение. Владимира Мономаха призвало на великокняжеский стол именно вече. И это было не первое и не единственное его вмешательство в политическую жизнь Древней Руси.
1.4. Князь и вече
У большинства историков не вызывает сомнений, что вече сохранялось после пришествия варягов не только в Новгороде, но и на всех территориях, подчиненных ими силой. Однако при первых князьях, судя по отсутствию упоминаний о нем в летописях, оно заметной политической роли не играло. Вече начало набирать силу в древнерусских городах по мере их развития и нарастания внешних военных угроз со стороны степи – последние понуждали князей все шире использовать в войнах население, что неизбежно увеличивало его политическую самостоятельность и расширяло зону его автономии от князя.
Не покушаясь на ставший сакральным принцип родовой легитимации, вече постепенно присваивало себе право призывать на княжение тех или иных представителей княжеского рода, изгонять и заменять неугодных правителей, соответствие которых возложенным на них функциям, прежде всего военным, вызывало сомнения. Тем самым народное вече, в полном соответствии с канонами догосударственной культуры, повсеместно воспроизводилось как независимый источник легитимации княжеской власти, само становясь вторым властным институтом.
Князь, скорее всего, воспринимался как сакральная фигура на протяжении всей древнерусской истории. Можно согласиться с исследователем в том, ч то «правитель – вождь, конунг или князь – был не только гарантом права и благополучия („мира и изобилия" скандинавской традиции) своей страны: он был гарантом всех традиционных устоев, включая сферу религиозного,„сверхъестественного" – устоев Космоса»11. Но он воспринимался в Киевской Руси таковым не как отдельная личность, а именно как представитель сакрального рода. Персональная же его сакрализация определялась тем, насколько успешно он правил. При этом и само вече, присваивавшее себе право призывать и изгонять князей, решать вопрос об их должностном соответствии, тоже не могло не восприниматься как сакральный институт, что дошло до наших дней в виде известного изречения: «Глас народа – глас Божий».
Такое удвоение легитимации княжеской власти сопровождалось неоднозначными последствиями. С одной стороны, оно несло в себе консолидирующее начало, ибо у государства появлялся, наряду с элитным, низовой, народный полюс власти. Это способствовало установлению политического равновесия между правителями и населением. С другой стороны, двойная легитимация еще больше расшатывала государственность. Возраставшая вечевая активность не только не устраняла ее фундаментальные изъяны, но в перспективе усугубляла их.
Вече – это институт, выросший из культуры локальных, до-государственных миров. В ходе своей эволюции он может трансформироваться в институт управления средневековым городом-государством (в данном направлении развивался, например, Новгород), но от него нет прямого пути к институтам государственного типа, консолидирующим большие общности. Киевское вече могло влиять на киевского великого князя не как на главу государства, а как на градоначальника, руководствуясь не столько общими для всей Руси, сколько местными городскими интересами. Двойная легитимация, переносившая в большое общество институты локальных родоплеменных объединений, вела лишь к удвоению социокультурного раскола.
Князья и после Мономаха пытались вырваться из легитимационных ловушек – не только родовой, но и вечевой. Наиболее радикальная из таких попыток связана с именем владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского. Перенеся свою резиденцию из Суздаля во Владимир, где вечевая традиция, в отличие от старых
11 Петрухин В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т.1. С. 250.
городов княжества (Ростова и того же Суздаля), не успела ни сложиться, ни даже зародиться, Боголюбский поставил себя вне ее. Более того, он бросил вызов сложившемуся политическому порядку как таковому, попробовав – в масштабах отдельно взятого Владимиро-Суздальского княжества – осуществить прорыв от родовой власти к единоличной, что выразилось в стремлении превратить своих братьев из соправителей в простых подданных. Но одним лишь княжеством замысел Боголюбского не ограничивался. Учинив в 1169 году военный погром Киева (столь же реальный, сколь и символический) и отказавшись от киевского престола, на который имел право, он сделал тем самым заявку на перенесение общерусского центра из Киева во Владимир.
Основания для вынашивания «самодержавных» планов у князя Андрея были. Киев к тому времени – под воздействием натиска со стороны степных кочевников и падения значимости торгового пути «из варяг в греки» – успел ослабеть, между тем как Владимиро-Суздальское княжество быстро развивалось. Но основателем русского самодержавия Боголюбский не стал. Его попытка сломать сложившуюся политическую традицию закончилась насильственным устранением князя-реформатора: для такого прорыва не было тогда никаких опор не только в княжеском роде, но и в продолжавших сохранять сильные позиции вечевых городах, и среди бояр-дружинников – неспроста Боголюбский вынужден был распустить дружину, перешедшую к нему от отца Юрия Долгорукого. Желание вырваться из легитимационных ловушек могло в то время обернуться лишь утратой легитимности как таковой.
Мы не собираемся предаваться рассуждениям о том, как развивались бы события, не будь монголотатарского нашествия. Но в домонгольскую эпоху коренных сдвигов произойти не мог ло – необходимые исторические предпосылки для этого в Киевской Руси отсутствовали. Выработанный ею авторитарно-вечевой государственный идеал содержал непреодолимые внутренние ограничения для его трансформации в авторитарно-монархический идеал византийского (или более позднего московского) образца, предполагавший неограниченную власть царя или императора.
Этому препятствовала не только унаследованная от догосударственного состояния вечевая практика, но и укоренившаяся традиция родового правления. Однако Киевская Русь не могла войти и в то историческое русло, в которое в ХI-ХIII столетиях входила Западная Европа.
Там важнейшие вопросы жизнеустройства, касавшиеся взаимоотношений частных интересов и их сочетания с интересом общим, начали решаться посредством развития внутренних рынков интенсификации хозяйственной деятельности. На Руси же аналогичные проблемы решались с помощью войн – не только внешних, но и внутренних, которые велись не только за власть в Киеве и которые становились со временем все более частыми и не менее разорительными, чем внешние.
Глава 2 Русь воюющая и Русь мирная. Трансформации человеческого фактора
Трудности строительства киевской государственности уходили своими корнями не только в догосударственную культуру населения, но и в культуру самих «строителей». Ведь уже один только факт родового правления и неспособность создать механизмы легитимного наследования власти свидетельствуют о том, что исходную культуру варяжских пришельцев трудно назвать государственной.
Государство начинается с освоения абстракции общего интереса, возвышающегося над интересами частными и групповыми, над интересами локальных общностей и входящих в них отдельных людей. Общий интерес – это безопасность, защищенность от внешних угроз и внутренний порядок в широком смысле слова (неспособность обеспечить порядок и побудила новгородцев, если судить по летописному свидетельству, пригласить варяжских князей), Но чтобы такой интерес обслуживать, сам он должен быть осознан как собственный интерес не только правителями, но и более широким кругом людей, составляющих, говоря современным языком, властвующую элиту. Для этого, в свою очередь, подобные люди должны наличествовать в достаточном количестве в обществе, а власть должна уметь мобилизовывать их энергию и способности. Иными словами, речь идет о той самой мобилизации личностных ресурсов для обслуживания государственных нужд, о которой говорилось во вводной главе, причем в исторической среде, где доминировала архаично-коллективистская, родоплеменная, доличностная культура.
Но государственная организация жизни, в отличие от догосударственной, предполагает не только наличие элиты, функции которой отделены от функций основной массы населения. Она предполагает дифференциацию и самого населения, т.е. дробление функционально нерасчлененной, синкретичной родоплеменной целостности на группы в зависимости от исполняемых ими социальных и профессиональных ролей. В свою очередь, исполнение таких ролей тоже должно быть мотивировано, тоже требует мобилизации ностных ресурсов. В данном отношении Киевская Русь опять-таки шла по пути, по которому первоначально двигались все ранние государства. Однако эволюция «человеческого фактора» – в элите, и среди населения – имела в ней и свои особенности.
2.1. От внешних войн к внутренним междоусобицам
В деятельности первых Рюриковичей летописцы не фиксируют ничего, что свидетельствовало бы об осознании князьями общего интереса, о наличии у них установки на государственное упорядочивание жизненного уклада покоренных племен. До конца X века князья не участвовали, похоже, даже в отправлении судебных функций. Возможно, в Новгороде, заранее оговорившем условия вокняжения и имевшем волю отстаивать их соблюдение, дело с самого начала обстояло иначе. Но уже одно то, что княжением в Новгороде первые поколения Рюриковичей тяготились, свидетельствует об их неозабоченности упорядочиванием внутренней жизни. Похоже, порядок они понимали исключительно как насильственное усмирение захваченных территорий и готовность проживавших на них людей к регулярному выплачиванию дани.
Это значит, что понятие об общем интересе в сознании первых князей отсутствовало, что в своей деятельности они руководствовались главным образом частными интересами – как собственными, так и своих дружинников. Но правители, в отличие от простых смертных, даже если формально они не берут на себя выполнение общих функций, так или иначе, плохо или хорошо, их выполняют. И потому, что иного источника легитимности у них нет, и потому, что без этого они вообще не правители. Современные исследователи уже обращали внимание на то, что «государственность» Рюриковичей поначалу представляла собой специфическое силовое предприятие типа бандитской «крыши» первого постсоветского десятилетия12. Речь, однако, идет не только о «крышевании» купеческих караванов на опасном пути «из варяг в греки» – поначалу купцы в основном тоже были из варягов и входили в княжеские дружины. Речь идет и о том, что власть вынуждена была брать под свою защиту от внешних угроз и поставлявшие дань территории – ведь это были уже ее собственные территории. Но в таком случае частные интересы князей соприкасались с интересом общим.
12 См.: Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система//Рубежи. 1995. №2.0.39-40.
С одной стороны, первые Рюриковичи руководствовались стремлением выжать из покоренного населения максимум возможного. Отсюда, например, «военно-разбойничья деятельность Игоря» (Г. Вернадский)13,который «продолжал политику Олега, высекая мечом свои владения» (М. Геллер)14. С другой стороны, высекание своих владений постепенно сходило на нет – в результате осознания его невыгодности и под воздействием урока, преподанного Игорю древлянами: упомянутые выше меры княгини Ольги в этом отношении весьма показательны. Да и изначально основное направление силовой политики князей заключалось не в «высекании» уже завоеванного, а в новых завоеваниях, в расширении подвластной территории или в грабительских набегах на чужие земли с последующим отходом.
Тот же Игорь до своей смерти от рук древлян успел предпринять поход на западное побережье Каспийского моря (912-913), где громил города и взял большую добычу, совершил два похода на Византию. Его сын Святослав, проведший в походах всю жизнь, покорил вятичей, разгромил Хазарию, завоевал Волжскую Булгарию и двинулся на Дунай, захватив там город Переяславец, в котором поначалу хотел даже остаться («там середина моей земли»). Идеология первых Рюриковичей – это идеология перманентной войны за расширение владений и захват новых торговых путей по Волге и Дунаю, контроль над которыми сулил огромные доходы.
Частный интерес князя в захватнической войне заключался в наращивании власти. Завоевания приносили средства, позволявшие расширять княжеский двор, множить челядь, численность холопов. Из успешного похода правитель всегда возвращался с «полоном», новые рабы или продавались (едва ли не самый ходовой и прибыльный «товар» в те времена), или использовались для нужд княжеского хозяйства. Наконец, захваченная добыча давала возможность увеличивать и лучше оплачивать дружину.
Дружина была важнейшим институтом, позволявшим мобилизовывать личностные ресурсы наиболее сильных и энергичных людей из местного населения, способствовавшим вычленению их индивидуальностей из нивелирующего родоплеменного состояния. «…С появлением дружины среди славянских племен для их членов открылся свободный и почетный выход из родового быта
13 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Прага, 1927. С. 39.
14 Геллер М. История Российской империи: В 2 т. М., 2001. Т. 1.С. 24.
в быт, основанный на других, новых началах; они получили возможность развивать свои силы, обнаруживать свои личные достоинства, получили возможность личною доблестью приобретать значение, тогда как в роде значение давалось известною степенью по родовой лестнице; в дружине члены родов получали возможность ценить себя и других по степени личной доблести, по степени той пользы, которую они доставляли князю и земле; с появлением дружины должно было явиться понятие о лучших, храбрейших людях, которые выделялись из толпы людей темных, неизвестных, черных; явилось новое жизненное начало, средство к возбуждению сил в народе и выходу их; темный, безразличный мир был встревожен, начали обозначаться формы, отдельные образы, разграничительные линии»15.
Дружинники, как и князья, руководствовались своими частными интересами, были движимы жаждой добычи, которой князья с ними щедро делились. Но их военные успехи, производные от их воинской доблести и удали, тоже косвенно обслуживали интерес общий, интерес формировавшейся киевской государственности. И не только потому, что способствовали образованию военной элиты, без которой государство существовать не может. Ведь те же самые войны, расширявшие подвластные территории, отодвигали внешние угрозы от территорий, захваченных ранее. Рейды в «дикое поле» стимулировались возможной добыч ей, но они же были профилактическим, превентивным, как сказали бы сегодня, средством, упреждавшим набеги кочевников.
Удачно воюющий князь и его дружинники обеспечивали неустойчивый, непрочный, но все-таки мир, бывший в ту эпоху большим дефицитом – особенно в прилегавших к степи землях. Такой князь не только размашистее пировал, но и больше торговал и строил, больше заказывал самых разнообразных товаров, давал работу разным людям, что способствовало выявлению и мобилизации личностных ресурсов в недружинные, гражданские, т.е. торгово-купеческие и ремесленные сферы деятельности. Об этом нам еще предстоит говорить подробнее. Однако создание органических источников мирного интенсивного развития оказалось для Киевской Руси задачей неразрешимой. Созданная же ею модель развития экстенсивного (посредством территориального расширения и контроля над торговым транзитом) не могла быть ни долговременно конкурентоспособной, ни долговременно стабильной. Потому что
15 Соловьев СМ. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 169-170.
стратегически несостоятельной была сама ставка на войну как ресурс развития, благодаря которой эта модель утвердилась.
Идеология перманентной войны сыграла не меньшую роль в распаде не успевшей сложиться и упрочиться киевской государственности, чем родовой принцип легитимации власти. И дело даже не в том, что плененность такой идеологией может сопровождаться катастрофическими политическими ошибками, подобными, скажем, ошибке Святослава: разгромив Хазарский каганат, он ликвидировал защитный барьер Руси от степных кочевников, способный взять на себя последовавшие вскоре чувствительные половецкие удары. Дело и в том, что война, будучи главным инструментом строительства и укрепления государственности, рано или поздно из внешней превращается во внутреннюю.
Становление государства в Киевской Руси – хорошая иллюстрация к теории «стационарного бандита». Согласно этой теории, государственная власть возникает в результате оседания на конкретной территории силовых группировок, которые постепенно переходят от хищнической разорительной поживы к окормлению стада и регулярной стрижке шерсти. Но много настричь варяжские князья не могли, способствовать окормлению – тоже. Уровень хозяйственного развития покоренных ими племен был крайне примитивным, объемы избыточного продукта оставались минимальными. Натуральных податей (мехов, меда, воска), которые взимались с населения и вывозились на международные рынки, для наращивания торговли князьям не хватало. Внешние захватнические войны какое-то время обеспечивали доступ к новым ресурсам и позволяли расширять пространство власти, которая, в свою очередь, использовалась для захвата новых ресурсов и еще большего территориального расширения. Но долго так продолжаться не могло.
В подобной государственной модели война и насилие – органические элементы функционирования системы именно потому, что речь идет о силовом предприятии. Других органических элементов развития такая модель не создает. Но возможности новых территориальных приобретений рано или поздно исчерпываются, в чем довелось убедиться уже воинственному Святославу. Добравшись до Балкан и осев с дружиной в Переяславце, он оставил без защиты Киев и вынужден был вернуться, чтобы остановить угрожавших столице печенегов, а после вторичного пришествия на уже подчиненные, казалось бы, территории столкнулся не только сопротивлением болгар, но и с поддержавшей их Византией, воевать с которой вдали от Руси был не в силах и должен был Балканы покинуть – с тем, чтобы на обратном пути быть убитым теми же печенегами.
При таких обстоятельствах внешние войны как раз и трансформируются во внутренние, что в Киевской Руси и произошло. Внутриродовые столкновения в борьбе за великое княжение дополнились тотальной междоусобицей в борьбе за ограниченные ресурсы. Но теперь это была уже борьба не за овладение государством, а за приватизацию его отдельных сегментов, что сопровождалось не только грабительскими набегами князей на земли сородичей, но и распадом Руси на все более мелкие княжества: к середине XII века их было уже около полутора десятков, а к началу следующего столетия – около полусотни16. Носителей и выразителей общего интереса на Руси не оставалось, на право представлять и отстаивать его находилось все меньше желающих.
Это в конечном счете и привело к катастрофе, последовавшей за монгольским нашествием. Князья не смогли договориться о совместных действиях, а договорившиеся – совместно действовать в решающем сражении с монголами на реке Калке (1223). Последовавший разгром тоже ничему их не научил – примерно так же они повели себя и несколько лет спустя во время нашествия Батыя, после чего Русь оказалась под властью монголов. Приватизированная по кускам государственность уже таковой не являлась. Точнее, она перестала ею быть, так и не успев окончательно сформироваться. Катастрофа стала результатом задолго до нее начавшегося распада государственной общности.
Едва ли не ярче всего этот распад проявился в том, что одним из существенных мотивов междоусобиц и разорительных набегов князей на соседние княжества стало обращение в рабство с последующей продажей на невольничьих рынках жителей своей собственной страны. Работорговля изначально была важнейшей статьей дохода русского экспорта. Об этом можно судить на основании письменных источников, об этом много писали историки17. Но если
16 История России с древнейших времен до конца XVII века. С. 168.
17 См.: Покровский М.Н. Избранные произведения: В 4 кн. М., 1966. Кн. 1. С.137-139; Королюк В.Д. Некоторые спорные и нерешенные вопросы истории славянских народов в раннефеодальный период (VII-X вв.) // Краткие сообщения Института славяноведения. М., 1961. Вып. 33/34: Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-Х вв.). М.; Пб., 1996.
живым товаром становятся не только «чужие», но и «свои», то это значит, что идея национально-государственного единства в культуре не закрепилась, что культура эта в значительной степени оставалась локальной, догосударственной и что замена границ между племенами границами между княжествами в данном отношении принципиально мало что изменила. Не удивительно поэтому, что междоусобицы сопровождались порой использованием одной из сторон враждебных Руси половцев и дележом с ними захваченной добычи. Такая практика будет воспроизводиться и в дальнейшем, когда русские князья будут действовать против других русских князей совместно с монголами.
Идеология перманентной войны, изначально заложенная в основание киевской государственности, не могла не привести к вытеснению общего интереса, не успевшего оформиться и закрепиться в сознании, интересами частными внутри формально (и символически) единого княжеского рода. При этом вокруг князей не успел возникнуть и сколько-нибудь широкий круг людей с государственной культурой. Древнерусская власть сумела обеспечить мобилизацию личностных ресурсов для ведения войны, она поставила себе на службу физическую силу, воинскую отвагу и удаль. Но она не смогла превратить привилегированное профессиональное воинство, из которого вырастало постепенно русское боярство, в государствообразующее сословие, привязать его к себе прочными правовыми нитями.
На всем протяжении киевского периода дружинники оставались абсолютно свободными, могли покинуть князя в любой момент и перейти на службу к другому, если видели в этом свою частную выгоду18. В свою очередь, и у князей не было перед боярами-дружинниками каких-либо фиксированных обязательств. Идеология и практика перманентной войны порождали широкий спрос на воинов, превышавший предложение. Поэтому князья не могли покушаться на свободу дружинников, а те не хотели ею поступаться. Но такая абсолютная свобода, не регулируемая взаимными правовыми обязательствами, не продуцирует государственное сознание; личностный ресурс, мобилизованный свободой без обязательств, не может стать ресурсом государственности.
8 «Отношения служилых людей к князю были до крайности шатки, они могли прерваться ежеминутно и по односторонней воле служилого человека» (Сергиевич В.И. Вече и князь. М., 1867. С. 20).
В конечном счете такая свобода оборачивается тотальным закрепощением в государстве неправовом, что и показала последующая история страны19. С объединением русских земель вокруг Москвы свобода ухода от одного князя к другому исчезла по причине того, что князь остался только один. И на смену ей пришла не свобода с взаимными обязательствами, а несвобода односторонних обязанностей без прав, несвобода «государевых холопов». Русская анархия и русская тирания – две стороны одной и той же медали.
Когда сегодня говорят о русском понимании свободы как воли, то имеют в виду свободу без ответственности. Правильнее, как нам кажется, говорить иначе: идея свободы, не обрученная с идеей права, в реальной политической жизни неизбежно оборачивается колебаниями исторического маятника между анархией и тотальной государственной регламентацией.
Таким образом, уже в киевский период обозначилось существенное отличие государственности и общественных отношений на Руси от государственности и общественных отношений европейского типа.
2.2. Киевская Русь и Европа: два вектора развития
В то время как Русь распадалась, в Западной Европе зарождалась система договорно-правовых взаимных обязательств внутри феодальной иерархии между сюзеренами и вассалами20. Подобных отношений древний Киев не знал, а в русском языке ни тогда, ни позднее не возникло даже аналогов этим терминам: словами «господин» и «слуга» их содержание не передается. Не знала феодальных отношений западноевропейского типа и Византия. Но будучи преемницей Рима, она унаследовала от него и принципы римского права, которые использовала для юридического упорядочивания своего
государственного уклада. Если в средневековой Западной Европе их утверждение начиналось снизу, то в Константинополе оно изначаль-
19 «… Свобода, которая не зиждется на праве, – пишет по поводу этой ситуации Ричард Пайпс, – неспособна к эволюции и имеет склонность обращаться против самой себя; это акт голого отрицания, по сути своей отвергающий какие-либо взаимные обязательства и просто крепкие отношения между людьми» (Пайпс Р. Россия при старом режиме, М., 1993. С. 74-75).
20 Говоря о Западной Европе и особенностях ее исторической эволюции, мы здесь и в дальнейшем имеем ввиду не некий маршрут развития, общий для всех стран региона, которые развивались по-разному и отнюдь не синхронно, а ту тенденцию, которая наметилась там в конце Средневековья и обусловила впоследствии становление в Европе современных демократически-правовых государств.
но шло сверху, т.е. от самой государственной власти. Однако заимствовать у Византии эти принципы и пересадить их в свою культурную и социально-политическую почву – подобно тому, как это произошло с христианством, – Русь не смогла. Поэтому стать второй Византией ей не было суждено. Что касается западноевропейского феодализма, то нечто подобное в Киевской Руси начало стихийно возникать, но – в отсутствие тех договорно-правовых связей и зависимостей, которые сопутствовали утверждению и развитию феодализма на Западе.
Государство, расширяющее и укрепляющее себя только силой и торговлей безвозмездно взимаемой с населения данью, не может подчинить эту силу праву. Оно не в состоянии даже сконцентрировать саму силу в одном центре, а при множественности таких центров невозможно правовое упорядочивание не только военной, но и мирной хозяйственной деятельности. В подобных ситуациях мир оказывается в плену жизненной логики, заданной перманентной войной. Даже тогда, когда условия хозяйственной деятельности существенно изменяются.
По мере того, как утрачивал былое торговое значение путь «из варяг в греки», русские князья стали оседать в своих «отчинах» и воспринимать себя прежде всего как землевладельцев. Пока они жили главным образом сбором дани, захватом рабов и продажей товаров и невольников на международных рынках, земля их не очень интересовала: ее, в отличие от Европы, было много, доход она приносила небольшой, рабочих рук не хватало. При таких обстоятельствах не мог сложиться и правовой институт частной земельной собственности. Но в том виде, в каком он формировался в феодальной Европе, он не сложился и после того, как отношение князей к земле начало изменяться.
Они были владельцами своих территорий, но не как земельные собственники – феодалы, а как представители политически господствовавшего княжеского рода; их экономическая власть была производной от политической. В данном отношении они являлись предшественниками московских государей, а не феодалами европейского типа. Подобно последним, они могли раздавать земли дружинникам-боярам в обмен на службу. Но, в отличие от европейских феодалов, они были повязаны традицией, исключавшей какие-либо фиксированные взаимные обязательства между князьями и боярами. Те держались за свою свободу и полученной землей, как правило, не дорожили – недостатка в ней по-прежнему не наблюдалось ее доходность, как и прежде, была мала, рабочая сила оставалась дефицитом. А это значит, что сама боярская служба никакими договоренностями, обязательными для исполнения, обусловлена и регламентирована не была. В свою очередь, «отсутствие удельной Руси какой-либо формальной зависимости между землевладением и несением службы означало, что там отсутствовала коренная черта того феодализма, который практиковался на Западе»21.
В такой ситуации для вызревания в сознании идеи права земельной собственности не было достаточно сильных импульсов. Не было их и для перехода дружинников-бояр к производительной хозяйственной деятельности: многие из них продолжали искать себе применение на привычном военном поприще, благо непрекращавшиеся междоусобицы такую возможность предоставляли. Разумеется, самоприкрепление князей к земле и экономическая зависимость от нее не могли не сопровождаться постепенными изменениями в жизненном укладе и культуре, а в некоторых регионах – и появлением сильного оседлого боярства, о чем нам еще предстоит говорить. Но без договорно-правовых отношений по поводу землевладения и его условий возможности такого развития были ограничены.
Формирование этих отношений в европейском феодализме создало предпосылки для возникновения независимого суда. В Киевской Руси они не возникли и возникнуть не могли. Конечно, киевские князья должны были думать не только о расширении подвластных территорий, но и об упорядочивании на этих территориях повседневной жизни. Они создавали письменные своды законов («Русская правда» Ярослава Мудрого – самый известный среди них, но отнюдь не единственный), вершили по ним суд. Но эти законы регулировали лишь типовые ситуативные отношения между людьми (по поводу наследства, долговых обязательств, убийств, членовредительства, краж и т.д.). Ничего похожего на взаимные обязательства между европейскими сюзеренами и вассалами в них не фиксировалось – именно потому, что русские законы регулировали ситуативное взаимодействие частных лиц, а не долговременные договорные отношения социальных субъектов.
Правда, взаимные обязательства внутри феодальной иерархии не регулировались в ту эпоху и европейским законодательством. Но они создавали предпосылки для юридического оформле-
21 Пайпс Р. Указ. соч. С. 76.
ния общих принципов контрактного, а в перспективе – и конституционного права. «Взаимные обязательства, принятые на частной основе, со временем приобрели общественное измерение и послужили основой конституционного правления в Европе и странах, населенных европейцами, поскольку конституция тоже представляет собой контракт, в котором расписываются права и обязанности правительства и граждан»22. Историческое развитие Киевской Руси таких перспектив не открывало.
Принципиально иначе, чем на Западе, развивались не только русские земельные отношения, но и русские города. В Европе города складывались в долгой борьбе с феодальными баронами и стали – наряду с договорными отношениями внутри самого землевладельческого сословия, постепенно распространявшимися и на его отношения с монархами, – важнейшим источником правовой культуры, благоприятной средой для формирования исторических предпосылок гражданского общества. Русские города, возникшие как побочный продукт внешней торговли (и хиревшие по мере ее упадка), в подавляющем большинстве своем таким источником и такой средой не являлись.
Борьба между князьями и вечевыми институтами на Руси по своим культурным и политическим последствиям не была аналогом европейских столкновений между феодалами и горожанами. Вечевые собрания отстаивали не гражданские права, не идеи самоорганизации населения; им достаточно было завоеванного права выбора между «плохим» и «хорошим» князем из монопольно правившего княжеского рода. Возможно, впрочем, что они, по примеру новгородцев, претендовали и на большее. Но ничего похожего на новгородское самоуправление в других городах источники не фиксируют.
К тому же и сами князья стремились демобилизовать политическую составляющую вечевой активности, направить ее в нужном для себя направлении, превратить городские низы в инструментально используемую силу, задействованную в ополчении или общественных работах. Рюриковичи были заинтересованы и в развитии хозяйственной активности своих подданных, в их широком вовлечении в торговую и ремесленную деятельность, и в этом отношении осуществлявшаяся ими мобилизация личностных ресурсов населения оказалась не менее успешной, чем мобилизация таких ресурсов в профессионально-дружинное воинство. Более того, по уровню
22 Пайпс Р. Собственность и свобода. М., 2001. С. 143-144.
хозяйственной культуры наиболее крупные древнерусские города, первую очередь Киев и Новгород, не только не отставали от большинства западноевропейских, но и опережали их.
Это стало возможным благодаря тесным контактам с Византией, культурно превосходившей тогдашнюю Западную Европу. Широкий приток на Русь византийских мастеров самого разного профиля и поездки русских в Константинополь сопровождались заимствованием и освоением греческих знаний и технологий, в результате чего русский экспорт сырья и рабов постепенно дополнялся вывозом собственных ремесленных изделий23. Быстро развивалось строительство, все больше людей втягивалось в международную торговлю: по наблюдениям арабских путешественников, в нее было вовлечено до трети населения24. Однако заимствование и освоение чужих достижений, способствуя в определенных пределах хозяйственной интенсификации, сами по себе не создавали стимулов для собственных инноваций и предпосылок для того прорыва от экстенсивной экономики к интенсивной, которые формировались в то время на Западе. Можно сказать, что именно в киевский период была заложена та традиция догоняющих частичных интенсификации, которая будет воспроизводиться во всей последующей истории страны вплоть до наших дней.
На Западе прорыв к новому типу хозяйствования не был одномоментным: он растянулся надолго и осуществлялся трудно. Бурный рост городов и сопутствовавшее ему развитие внутренних рынков деформировали жизненный уклад значительных слоев населения, привели к разрывам социальной ткани и тяжелейшему кризису XIV столетия – с массовым голодом, войнами, народными волнениями и чумной эпидемией, выкосившей в некоторых странах до половины населения. Но способ развития, заложенный в ХI-ХIII веках, не был отброшен. Он-то и обусловил все последующие достижения Запада и его превращение в лидера мировых технологических и социальных инноваций. И этот способ развития принципиально отличался от избранного Русью, в которой расцвет городов и не менее стремительное, чем на Западе, увеличение их численности обеспечивались не только органическим ростом их собственных сил, но и продолжавшейся на всем протяжении киев-
23 Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 512.
24 Калинина Т.М. Древняя Русь и страны Востока в X в.: Средневековые арабо-персидские источники о Руси. М., 1976. С. 15.
ского периода эксплуатацией деревни, т.е. принудительным изъятием у нее продовольствия и сырья. Такое изъятие заменяло внутренний рынок, позволяя сохранять изначально доминировавшую ориентацию на международную торговлю. Естественно, что с упадком последней в упадок приходили и обязанные ей своим быстрым ростом русские города, а вместе с ними рушилась и вся государственная конструкция Киевской Руси.
Древнерусский город, развивавшийся за счет деревни, не создавал социокультурной среды, благоприятной для возникновения городского самоуправления западноевропейского типа, которое сформировалось в ходе противостояния европейским феодалам. Поэтому при уже упоминавшемся высоком уровне и качестве ремесла, сопоставимых с европейскими, а порой и превосходившими их, ничего похожего на самоорганизацию ремесленников, характерную для средневековой Европы, историки на Руси не обнаруживают25. Но это означает, что традиция гражданской и профессиональной самоорганизации в начальный период отечественной истории заложена не была. Не получила она развития и в последующие столетия, ее слабость остро ощущается и в наши дни.
Показательно, однако, что самоорганизация наличествовала у древнерусских купцов26. Показательно и то, что она, как и в княжеской дружине, была военно-торговой. На этом основании некоторые историки склоняются даже к выводу, что вечевые институты Киевской Руси представляли собой собрания не всего населения, а главным образом вооруженных торговцев27. Как бы то ни было, самоорганизация купцов, которые в ту эпоху не могли не быть по совместительству и воинами, может рассматриваться как дополнительное свидетельство размытости границ между миром и войной в Киевской Руси.
Завершая эту тему и переходя к следующей, отметим, что при рассмотрении деятельности киевских князей, сочетания в ней военно-завоевательного и государственно-упорядочивающего начал, обнаруживается некоторая цикличность, по крайней мере у первых Рюриковичей. После бурной территориальной экспансии Олега и Игоря – «мирная передышка» (около 17 лет) в правление
25 См.: История предпринимательства в России: В 2 кн. М., 2000. Кн. 1: От средневековья до середины XIX века. С. 26.
26 Сметанин С.И. История предпринимательства в России. М., 2002. С. 22-26.
27 Покровский М.Н. Указ. соч. С. 146-150.
Ольги, сопровождавшееся стремлением освоить завоеванное, придать ему некоторую государственную цельность. Затем – новые войны и завоевания при Святославе, а после него – первая из известных нам попыток строительства государства, предпринятая крестителем Руси Владимиром.
При этом бросается в глаза, что стремление к упорядочивали было свойственно князьям, принявшим христианство. Поэтому можно сказать, что именно замирявшие завоеванный мир Владимир и его бабка Ольга заложили основы русской государственности, а не расширявшие этот мир рыцари войны и победы Олег, Игорь и Святослав – при всем том, что последний тоже оставил своим преемникам нечто существенное, а именно – родовой принцип организации власти и ее легитимации. Тем не менее само принятие христианства на Руси не обошлось без войны и было непосредственно связано с победой в ней.
Глава 3 Государственность и христианство: вхождение в осевое время
Принятие христианства не предотвратило распад первой русской государственности, не помогло заблокировать описанные выше разрушительные центробежные тенденции. Факторы, обусловившие распад, оказались сильнее. Поэтому, рассматривая их воздействие на ход истории, мы сочли возможным от христианства абстрагироваться. Но оно, безусловно, помогло существенно продвинуться по пути государственного строительства и оставило будущим поколениям духовный задел, без которого им вряд ли удалось бы исполнить выпавшую на их долю историческую работу. К тому же это была первая попытка прорваться из доосевого времени в осевое. Поэтому Крещение Руси князем Владимиром и культурно-исторические последствия данного события, его роль в решении обозначенных выше проблем мы рассматриваем отдельно.
3.1. Княжеский бог и вече богов
Ко времени вокняжения Владимира в Киеве стало очевидно, что на прежней культурной основе обеспечить государственное единство завоеванных территорий невозможно. Не обеспечивались при этом и стабильная легитимация власти киевского князя, устойчивость его положения. Подчиненные племена тяготели к сепаратизму, и Владимиру пришлось усмирять силой отложившихся вятичей (дважды) и радимичей. Но проблемы это не решало: локальные до-государственные культуры мешали становлению государственной целостности. Киевский князь правил под защитой богов полян и древлян, но что значили эти боги для дреговычей или волынян?
Рюриковичи не принесли на покоренные территории готового государственного опыта. У них, как и у местных племен, его не было, они могли его лишь заимствовать. И прежде всего у Византии. Уже сами посещения князьями Царьграда, лицезрение там императора, его двора, церковной эстетики намекали на возможность другой жизни и иного, чем на Руси, типа сакрализации Власти. Но как заимствовать этот «передовой опыт»? Обращение в христианство (путь, намечавшийся в свое время княгиней Ольги), которое получило довольно широкое распространение в Киеве, большинстве других земель могло вызвать отторжение. Такое обращение не соответствовало не только культурным предрасположенностям основной массы населения, но и умонастроениям дружинников – как правило, язычников. Напомним летописное свидетельство о попытках Ольги обратить в греческую веру своего сына Святослава. Гневаясь на мать, убеждавшую его креститься, Святослав отмахивался: «Как мне одному принять новую веру? Дружина станет смеяться надо мною!»28.
У дружинников были, однако, не только ментально-культурные, но и вполне прагматические резоны, побуждавшие их настороженно относиться к христианству. Они хорошо представляли себе политическую суть греческой религиозной доктрины и понимали, что ее принятие могло означать радикальную ломку сложившейся системы отношений между дружиной и князем. Утверждение богоустановленного характера власти соблазняло варяжских правителей, но не находило сочувствия у тех, кто привык к военно-демократическому дружинному «братству», в котором князь был всего лишь первым среди равных29.
Последовавшее принятие христианства только потому и могло пройти безболезненно, что вольностей дружинников смена веры никак не затрагивала и нисколько не ущемляла. Но главным препятствием для заимствования этой веры были, наверное, более глубокие причины.
Мощная языческая партия, сложившаяся в военной элите, отдавала себе отчет в том, что иного пути, кроме заимствования государственного опыта других народов, у Руси нет. При доминировании на приобретенных территориях конфликтовавших друг с другом локальных племенных культур их консолидация могла быть обеспечена только посредством принятия всеми чужой, «ничейной» культуры. Но как сделать это, не заимствуя чужого Бога?
Языческая партия отдавала себе отчет и в том, каковы будут последствия такого заимствования. Ведь Византия считала каждый Народ, принявший веру из рук Императора и Константино-
28 Русская летопись для первоначального чтения // Соловьев С.М. Указ. соч. С. 37.
29 См.: Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII-XVIII вв. М., 1976. С. 24.
польского патриарха, вассалом христианской империи30. Поэтому христианизация влекла за собой неизбежную духовную зависимость от Византии, моральное подчинение ей. И это при том, что Русь не уступала Византии в силе: успешные походы первых киевских князей («щит на вратах Царьграда») и заключение, благодаря одержанным победам, льготных торговых договоров с греками еще не успели забыться. Поэтому и мог возникнуть проект, наличие которого предполагают у языческой партии, избравшей Владимира орудием его реализации, некоторые историки. Суть проекта состояла в том, чтобы «под знаком праотеческих богов завладеть Царь-градом, его культурными богатствами и силами, и так решить вопрос о синтезе религий и передовой европейской культуры»31.
Трудно сказать, существовал ли такой проект в действительности. Во всяком случае, первоначальные действия Владимира, завоевавшего в борьбе с братьями киевский стол, свидетельствуют о том, что план, альтернативный христианизации, имел место. Похоже, Владимир надеялся сформировать культурную основу для государственной консолидации Руси посредством реформирования язычества. Вместо объединяющей абстракции заимствованного греческого Бога было предложено механическое объединение различных племенных, местных богов в едином Пантеоне, который в Киеве и построили. Судя по именам (Перун, ДаждьбогДорос, Си-марта, Стрибог, Молоши), здесь были представлены славянские, финноугорские и варяжские религиозные традиции.
Это была наивная попытка обеспечить государственное единство, опираясь на символы догосударственной культуры, воспроизводя на государственном уровне двухполюсный племенной тотем в виде главного княжеского бога (Перуна) и вечевого собрания богов местных. Вместе с тем это была и попытка соединить в едином символическом поле военную силу (Перун – бог войны) и религиозную веру в ее наличных проявлениях. А вот рассматривал ли Владимир возведение своего Пантеона как идеологическую подготовку похода на Царьград, мы никогда не узнаем. Как не узнаем и то, замышлялся ли такой поход вообще.
Но мы точно знаем, что он не состоялся. И что через некоторое время Русь приняла христианство, а Пантеон был снесен. Это значит, что первоначальный замысел объединения локальных
30 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. С. 382.
31 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2т. М., 2000. Т. 1. С. 130
языческих культов выявил свою несостоятельность – в том числе и в упоминавшихся восстаниях вятичей и радимичей. Он и в самом деле был наивен. Вечевая культура предполагает локализацию; идея представительства, т.е. собрания в одном месте религиозных символов местных этнических общностей, пространственно друг от друга отделенных, не могла быть этой культурой воспринята. До освоения ею мысли о Земском соборе было еще очень далеко, мысли о парламентском представительстве – еще дальше.
Кроме того, в племенной культуре фигура князя особым, персональным богом, отличным от богов племенных, не сакрализируется – боги у князя и у племени общие. Возможно, именно поэтому новгородцы, например, отвергли верховенство княжеского Перуна (не говоря уже о том, что оно могло восприниматься как покушение на изначально договорный характер их отношений с Рюриковичами).
Других фактов, свидетельствующих об отторжении этой религиозной реформы, до нас не дошло. Но уже сам отказ от нее говорит о том, что ее несостоятельность вскоре была осознана, и восторжествовало представление о заимствовании чужого, «ничейного» Бога, не связанного с каким-либо местным этносом или племенем. Или, говоря иначе, представление о том, что только Он мог стать той базовой абстракцией, освоение которой вело к объединению разнородного, к упрочению государственной целостности и наделению княжеской власти дополнительным (к родовому и военно-силовому) легитимационным ресурсом. Разумеется, все это фиксировалось в каких-то других словах, осознавалось в ином языковом поле, но сама мотивация вряд ли может вызывать сомнения.
Правда, здесь снова во всей своей остроте вставал вопрос, о котором мы уже упоминали. Ведь заимствование чужого Бога и чужой веры, влекущее за собой духовную и моральную зависимость от Византии, само нуждалось в легитимации – в противном случае оно не только не упрочило бы, но и ослабило персональную легитимность князя Владимира и Рюриковичей вообще.
3.2. Завоевание чужой веры
Обстоятельства складывались таким образом, что эта неразрешимая, казалось бы, задача была решена относительно безболезненно. Воспроизведем вкратце ход событий, предшествовавших Крещению Руси.
В то время, когда в Киеве искали идеологические обоснования, призванные легитимировать принятие чужой веры, византийский император Василий II обратился за военной помощью к Владимиру. Нужда в ней была вызвана последствиями восстания поднятого против императора одним из византийских военачальников Бардой Склиром. Другой полководец – Фока – восстание подавил, но после этого сам провозгласил себя императором, начал продвигаться к столице и в конце 987 года приблизился с войсками к Константинополю. Согласно договоренности, русский корпус посылался в Византию в обмен на выдачу сестры императора царевны Анны замуж за киевского князя при условии крещения не только самого князя, но и всей страны.
Избавившись с русской помощью от опасности, греки, однако, выполнять свое обещание не спешили. Причина понятна: несколько раньше в Константинополе без энтузиазма восприняли даже предложение крещеного германского императора Оттона Великого, сватавшего за своего сына дочь византийского императора Романа II. В тогдашней Византии германцы все еще рассматривались сквозь призму их варварского происхождения, и грекам казалось чем-то неслыханным, чтобы «порфирородная, то есть дочь, рожденная в пурпуре, вступала в брак с варваром»32. Выдача царевны за язычника Владимира выглядела, наверное, еще более предосудительной. Не дождавшись обещанного, киевский князь, чтобы заставить императора выполнить договор, захватил в Крыму греческий город Корсунь.
Продолжать войну греки не решились. Анна вскоре была доставлена в Корсунь. Там состоялось крещение княжеской дружины, а по возвращении князя в Киев – и жителей столицы.
Таким образом, заимствованию чужой веры предшествовало успешное применение военной силы – сначала в союзе с «хозяевами» этой веры ради получения символизировавшей ее царевны, а потом и против них. В результате культурно чужое как бы вписывалось в контекст своего и привычного, ибо заимствование теперь уже выглядело не слабостью, а следствием боевой мощи. Отторгаемое культурой христианство представало как одобряемый ею военный трофей.
Так благоприятное для Киева развитие событий (восстание в Византии) позволило реализовать замысел, суть которого заключалась в том, чтобы «отделить христианство от „греков", представить его как бы непосредственно полученным от апостола Андрея или результатом военной победы над греками»33. А осада и взятие
32 Пресняков А. Е. Лекции по русской истории: В 2т. М., 1938. Т. 1: Киевская Русь. С. 100.
33 Ключевский В.О. Лекции по русской истории. М., 1997. С. 469.
Корсуня интерпретируются историками как стремление «вместе им как бы завоевать и веру греческую, приняв ее рукой победителя»34.
Сама по себе практика культурных заимствовании посредством завоеваний (или их имитации) не есть нечто уникальное, самобытнорусское. Это – одна из универсальных стратегий, использовавшихся догоняющими языческими обществами. Завоевания позволяли интегрировать инновации в культуру, нововведениям противостоявшую, обеспечить массовое согласие на их принятие. Такая стратегия была реализована германскими племенами, захватившими Рим, ей следовала и Монгольская империя. Своеобразие России не в том, что в начальной точке своей истории она шла этим путем. Ее своеобразие и «особость» в том, что, в отличие от европейских народов, она будет столетиями двигаться по нему и в дальнейшем, не только не выдыхаясь и не распадаясь, подобно тем же монголам, но и укрепляя свою государственность и международное влияние. Поэтому этот сюжет останется одним из центральных и в нашем последующем изложении.
Пока же, забегая вперед, обратим внимание на одно важное обстоятельство. Легитимация культурных заимствований посредством завоеваний, превращение инородного в свое благодаря предварительной военной победе над носителями этого инородного, освящение последнего глубоко укорененным в собственной культуре, культом Победы полностью вписываются в логику экстенсивного развития. Рассматривая мотивы и результаты завоеваний, мы обычно имеем в виду захват материальных (территориальных или человеческих) ресурсов. Между тем захват культурных ресурсов играл в мировой истории еще более значительную роль.
Скажем, среди многообразной добычи, захваченной германцами вместе с пространством гибнущей Римской империи, решающими в исторической перспективе оказались не материальные богатства, не римская экономика, переживавшая к тому же упадок, а культурные приобретения. И это, повторим, не противоречит логике экстенсивного развития, а вполне соответствует ей.
В дальнейшем, однако, ход истории может быть разным. У одних народов освоение захваченных культурных ресурсов становится предпосылкой и импульсом перехода к органическому интенсивному саморазвитию. Другие расходуют их для сохранения
34 Платонов С.Ф. Учебник русской истории. СПб., 2001. С. 29.
и упрочения экстенсивной модели. При этом захваченные ресурсы рано или поздно исчерпываются, оказываясь недостаточными для ответов на новые внешние или внутренние вызовы. И тогда страна и народ оказываются на историческом перекрестке разных путей дальнейшей эволюции.
Первая из этих дорог предполагает отказ от инноваций и выживание за счет консервирования и упрочения самобытных жизненных устоев, что ведет государство и общество в историческое небытие. Второй путь – запоздалое освоение интенсивной модели (что непросто: мешает инерция прошлого). Третье направление сулит перспективу самосохранения посредством завоевания новых, более современных культурных ресурсов и воспроизведения на их основе прежней экстенсивной парадигмы. Именно эту третью дорогу и будет потом из раза в раз выбирать Россия. В данном отношении завоевание веры князем Владимиром может рассматриваться не только как начало христианской истории страны, но и как выбор определенного способа ее развития, которому суждено будет надолго пережить Киевскую Русь и который со временем вступит в конфликт с самим христианством и русской православной церковью.
Выбор такого способа развития не был предопределен самим по себе фактом завоевания веры. Исторический маршрут задается не тем, как осуществляются культурные заимствования, а тем, насколько глубоко они осваиваются. Проблема легитимации заимствованного была решена на Руси относительно безболезненно, хотя без принудительной христианизации, судя по дошедшим до нас немногочисленным источникам, дело не обошлось. Освоить же приобретенное оказалось намного сложнее.
3.3. Вера против закона
Принятие в 988 году христианства принесло на Русь абстракцию единого для всех населявших ее племен и этносов Бога и тем самым ввело ее в первое осевое время. Будучи предельным, всеохватным обобщением, абстракция эта выводила древнерусского человека за границы его локального мира, ее освоение способствовало «возникновению исторического сознания и ощущения своей связи с окружающим Русь миром, с мировой историей»35. Вместе с тем единая вера несла в себе потенциальную возможность упрочения
35 Лихачев Д.С. Литература эпохи «Слова о полку Игореве» // Памятники литературы Древней Руси, XVII век. М., 1980. С. 19.
и духовной консолидации государственной общности – в том числе и благодаря тому, что придавала сакральный статус киевскому князю как Божьему помазаннику. Однако реализация этого потенциала не являлась для Киевской Руси той «исторической необходимостью», о которой в другое время и по другим поводам любили говорить большевики.
Многие проблемы, побудившие принять христианство, благодаря ему были решены или значительно смягчены. Именно после Крещения упала политическая роль племенных вождей (учение о едином Боге освещает власть лишь одного государя), а вместе с этим ушли в прошлое и сами племена. Возникли и начали осваиваться народным сознанием обобщающие абстракции – «Русь», «Русская земля». Создавалась и развивалась литература, которой не было в дохристианский период, появлялись первые письменные своды законов. Все это способствовало упрочению государственности, подводило под нее культурное основание, которого раньше она была лишена. И как результат заметно возрос международный престиж Руси, что проявилось, в частности, в возникших уже при Владимире и развившихся при его преемниках брачных связях княжеской семьи с влиятельными правящими домами Европы.
Но решение – благодаря принятию христианства – одних исторических проблем не предотвратило обострения других, перед которыми христианство оказалось бессильным. Идея единого Бога сама по себе была не в состоянии консолидировать правивший княжеский род, предотвратить в нем борьбу частных интересов. Для этого нужно было устранить само коллективное родовое правление, но в то время на Руси не было социальных субъектов, выступавших носителями иного принципа властвования. Поэтому не могли найти поддержки и попытки прорыва в иное политическое измерение внутри самого княжеского рода, о чем свидетельствует трагическая судьба Андрея Боголюбского. На решение этой задачи потребуется гораздо больше исторического времени. Формально с родовым правлением будет покончено лишь к концу XV века, а до того, как его инерция окончательно иссякнет, пройдет еще два столетия.
Конечно, христианство не могло реализовать в Киевской Руси свой консолидирующий потенциал в том числе и потому, что было заимствовано как бы в чистом виде, в отрыве от тех культурных воздействий, которым оно подвергалось в ходе многовекового развития Византии. В ней оно развивалось в непрекращавшемся Живом диалоге с античным наследием, питалось его соками, что способствовало синтезу веры и рационального знания, формированию системы содержательных обобщающих абстракций и их глубокой и тонкой конкретизации. Но даже при наличии столь мощного стимула интеллектуальной деятельности источники развития византийской культуры стали со временем иссякать.
Дело в том, что в Византии, в отличие от Запада, не возникло такого мощного стимулятора рационального мышления, как уже упоминавшийся нами во вводной главе институциональный диалог между духовным и светским (папой и императорами) центрами власти, создававший творчески плодоносное поле конструктивной напряженности. Греческая элита твердо стояла на позиции единства («симфонии») властей при фактическом доминировании императорской власти над церковной, что было созвучно и настроениям киевских правителей. Но эта идея в конечном счете заведет в исторический тупик и самих греков – несмотря на безусловную плодотворность обеспеченного ими культурного синтеза христианства и античного наследия. На Руси же это наследие вместе с содержащейся в нем идеей гуманизма было изначально отторгнуто, односторонний акцент был сделан на аскетизме, и так будет продолжаться до конца XVII столетия, когда античная культура начнет ускоренно осваиваться сменившей Киевскую Русь Русью Московской.
Отторжение эллинской премудрости как лишнего и опасного знания, избирательное освоение византийской культуры были обусловлены, однако, не столько историческим недомыслием Рюриковичей и иерархов русской церкви (большинство которых были греки), сколько тем, что в полном объеме ее синтетическое качество и не могло быть Русью освоено. Более того, само по себе христианство, даже в очищенном от античных примесей виде, осваивалось с трудом, ибо накладывалось на архаичное родовое сознание князей. Они готовы были принять и принимали идею единого Бога лишь постольку, поскольку каждый из них мог силой отстаивать свое право быть его земным наместником – если и не на общегосударственном уровне, то хотя бы в масштабе отдельных княжеств.
Поэтому некоторые историки говорят даже о преждевременности христианства для того периода развития Руси, ибо она проходила тогда «стадию автаркичных общественных союзов», которой христианство «не вполне соответствовало» и для которой «в большей степени ‹…› подходило язычество»36.Но если так, то
36 Фроянов И.Я. Начало русской истории: Избранное. М., 2001. С. 763.
преждевременным придется признать и само вокняжение Рюриковичей. Потому что для них-то принятие христианства и вхождение в первое осевое время на определенном этапе стали безальтернативной необходимостью.
Как бы то ни было, объединяющий принцип новой веры плохо стыковался с разъединяющим принципом силы. Первый существовал как бы над вторым, параллельно ему, будучи не в состоянии противостоять его доминированию.
Иногда под воздействием внешних опасностей и их коллективного осознания эти принципы сближались и даже пересекались. Так произошло, например, в 1111 году, когда Владимир Мономах, бывший тогда еще не киевским, а переяславским князем, организовал против половцев грандиозный поход нескольких князей по типу крестовых – первый из них к тому времени уже состоялся, и на Руси о нем было хорошо известно. Поход осуществлялся с участием епископа и священников, сопровождался благословением воинов и целованием всеми князьями большого деревянного креста перед тем, как войско двинулось из Переяславля в половецкую степь37. Но такое символическое единение совокупной русской силы и христианской веры случалось не часто, как не частым было и объединение князей для совместных действий без сопровождавших их демонстрационно-ритуальных акций. Заблокировать возобладавшую тенденцию силового междоусобного противоборства, ведущую к распаду, христианству было не дано.
Она могла быть заблокирована двумя способами.
Первый способ воплотился впоследствии в деятельности московских государей, сумевших монополизировать всю наличествующую силу и использовать веру для санкционирования своего права на такую монополию. Но этому предшествовало преодоление родового принципа властвования, для чего, как уже неоднократно отмечалось, в Киевской Руси не было никаких предпосылок.
Второй способ – увеличение объединительного потенциала веры посредством соединения ее с принципом законности. Однако потенциал самого этого принципа в его универсальном понимании (т.е. как регулятора всех отношений, включая отношения внутри властной элиты и между властью и населением) в конкретных обстоятельствах того времени имел еще меньше возможностей для
37 Подробнее см.: История России с древнейших времен до конца XVII века. С.177-178.
реализации, чем потенциал христианства. Поэтому данный принцип и не выдвигался. Более того, он сознательно отвергался, о чем красноречиво свидетельствует один из самых ярких литературных памятников киевского периода.
Написанное в XI веке «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона столько раз и столькими авторами комментировалось и интерпретировалось, что вставать на эту истоптанную исследовательскую тропу – значит, заведомо обрекать себя на повторение сказанного. Но нас интересует в данном случае не сам текст этого документа, а социокультурный контекст, побудивший автора так жестко и резко противопоставить друг другу закон (внешний, формальный и принудительный) и благодать (сущность мистическую, принципиально не формализуемую, в рациональных понятиях не фиксируемую). Перед нами – христианство, максимально адаптированное к архаичному доосевому сознанию. И в данном отношении отторжение Иларионом закона вполне адекватно.
Критика принципа – это нередко всего лишь фиксация его культурной неукорененности, беспочвенности. Закон – универсальный регулятивный принцип зрелой культуры, предполагающий развитие логического мышления, умение оперировать абстракциями и их конкретизировать, овладение искусством интерпретации, судебной дискуссии, освоение процедуры правоприменения. Древнерусский язычник не мог освоить правовую культуру, стадиально отстоявшую от него на две исторические эпохи – античную и христианскую. Литературным рупором этой неспособности и явилось «Слово» Илариона, который возвысил древнерусскую ментальную реальность, наделив ее максимальным ценностным статусом.
Киевский митрополит мыслил и писал в духе Нового Завета. Он не был сознательным противником юридического закона, ставил его выше языческого беззакония, полагая вместе с тем, что время закона прошло и утверждение христианства означало торжество более высокого принципа38. В этом просматривается и заявка на идеологическое противостояние Византии, стремление высвободиться из-под духовного подчинения ей посредством принижения свойственной грекам юридическо-правовой практики: ведь в Византии даже административные функции императора и патриарха
8 Подробнее см.: Мюллер Р. Понять Россию: Историко-культурные исследования. М., 2000. С. 110.
«определялись специальными юридическими установлениями»39. Отсутствие такой практики в Киевской Руси, как потом и в Московской, могло выглядеть не отставанием, а опережением, проявлением более высокого, чем рационально-правовое, духовного начала. История Московской Руси покажет, что христианское вероучение вполне сочетаемо с сознанием, не обремененным рациональным знанием. Эта история не опровергнет киевского митрополита, во многом следовавшего за евангелистическими текстами. Но она же наглядно продемонстрирует: вера (благодать), противопоставляемая закону, оказывается в конечном счете в политическом союзе с надзаконной силой. А в исторических пределах Киевской Руси пафос Илариона с реальностью стыковался еще слабо. Путь от язычества к христианству, даже очищенному от античного и ветхозаветного рационализма, оказался небыстрым и непростым.
3.4. Христианство и язычество. Еще раз о социокультурном расколе
В предыдущих разделах мы уже использовали термин «раскол» применительно к процессам, происходившим на Руси после пришествия варягов. Теперь у нас есть основания вернуться к нему, поскольку его содержательный смысл сказанным выше отнюдь не исчерпывается.
Социокультурный раскол, его многочисленные линии и их ответвления пронизывали всю жизнь Киевской Руси, все ее уровни. Инновации (то же христианство) были не в состоянии устранить эти глубокие трещины. Какие-то из них заделывались и цементировались, что на время увеличивало прочность недостроенной государственной конструкции, но не избавляло от появления новых, порой еще более глубоких линий разлома. Потому что культурный фундамент конструкции оставался расколотым. Расколотым же он оставался потому, что в большое, государственно-организованное общество были перенесены модели жизнеустройства локально-племенных, догосударственных миров.
К тому же сами эти миры – вместе с присущей им племенной идентичностью – уходили в прошлое только в древнерусском городе. В деревне, удерживавшейся в архаичном состоянии, они сохранялись: отщепление от них могло осуществляться лишь благодаря оттоку сельского населения в города, где был высокий спрос на
39 Успенский Б.А. Царь и патриарх: Харизма власти в России. (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. С. 106.
личностные ресурсы в военной, торговой (она же и военная) и ремесленной деятельности. В сельской местности такого спроса возникнуть не могло, а потому и родоплеменные традиции оставались в ней незыблемыми. Это создавало еще одну линию раскола – между культурно продвинутым городом и законсервированной в исходной архаичности деревней. Но и город, повторим, находился лишь, на полпути от догосударственной культуры локальных миров к государственной культуре большого общества.
Эти миры социокультурного раскола не знали. Два полюса власти – авторитарный (в лице племенного князя) и народно-вечевой – воспринимались не как противоборствующие и конфликтующие, а как взамодополнительные, представляющие собой две одинаково легитимные проекции единого Бога-тотема. При воспроизводстве же данной модели в государственно-организованном большом обществе социокультурный раскол неизбежен. Выше уже отмечалось, что киевский князь, призванный воплощать общегосударственное начало, оказывался зависимым от киевского веча, которое руководствовалось локальными интересами города. В отдельных случаях интересы князя и веча могли совпадать, но раскол был изначально заложен в саму эту конструкцию, ибо в масштабах государства власть князя была вообще лишена второго, дополнявшего и легитимировавшего ее властного полюса.
Между тем без такого взаимодополнения и взаимопроникновения властных полюсов и их диалога государственность существовать не может. За исключением тех случаев, когда один из полюсов возвышается за счет полного подавления другого. По этой – авторитарной – модели будет первоначально развиваться Московская Русь, но и в данном случае раскол, как мы покажем в следующей части книги, не устраняется, а загоняется вглубь, заставляя власть искать контакт со вторым (народным) полюсом, когда искусственно устраненный раскол начинает снова обнаруживать себя на политической поверхности. В направлении однополюсности двигалась поначалу и Русь Киевская в лице первых Рюриковичей. Но властных ресурсов для контролирования захваченных разноплеменных территорий у них еще не было, что и побудило, возможно, Святослава к созданию института местных княжений в лице своих сыновей.
Результат известен: линия раскола переместилась в княжеский род. В свою очередь, борьба внутри него за великокняжеский стол стала главным препятствием для сакрализации власти отдельных киевских князей, без чего авторитарная модель утвердиться не могла. Кроме того, эта борьба, сделавшая очевидной возможность Н силового устранения правителя и замены его другим, привела к политическому усилению вечевого властного полюса, локалистского самой своей природе, лишенного государствообразующих интенций. Так социокультурный раскол творил мир по собственной матице, становился своего рода безличным историческим субъектом, подчинявшим своей анонимной воле всех политических игроков.
Как попытка преодоления раскола на ранней стадии и сакрализации авторитарной модели может быть истолковано и заимствование идеи христианского Бога. Но если у Владимира – первого князя, захватившего киевский стол силой, – такая мотивация и присутствовала, то его надежды довольно быстро обнаружили свою тщетность. Раскол – зафиксируем это еще раз – оказался неподвластным и нового Богу. Более того, принятие и насаждение христианства, устраняя или смягчая некоторые из прежних его (раскола) проявлений, вызывали к жизни другие.
Эти проявления почти не обнаруживали себя на политической поверхности и потому мало интересовали летописцев. Но они возникли, не могли не возникнуть, и их воздействие на политическую жизнь косвенно давало о себе знать уже тем, что абстракция единого Бога не получила воплощения в устойчивой консолидации государства. А это значит, что она оказалась не в состоянии объединить не только «верхи», но и общественные «низы» – в противном случае «верхи» вынуждены были бы с массовыми настроениями считаться. Это значит, что христианство не вытесняло прежние языческие верования, а накладывалось на них, образуя многообразные и внутренне конфликтные культурно-ментальные гибриды.
Историки единодушны в том, что принятие христианства не было актом, привязанным к определенной дате, а было процессом, растянувшимся на века. Поначалу оно опиралось на весьма узкую социальную базу и не имело «прочной политической основы»40. Скорее всего, сам акт крещения, предписанного Владимиром киевлянам, среди которых к тому времени было уже немало христиан, вообще не воспринимался как значимое событие и потому «не запечатлелся глубоко в памяти народной»41. Новая вера, спущенная сверху, не могла быстро заменить язычество; на первых порах она. Не столько устраняла прежние религиозные расколы, сколько
40 Флоровский Г. Указ. соч. С. 4.
41 Там же.
множила их. Но даже после того, как идея единого христианского Бога осваивалась народным сознанием, раскол не уходил в прошлое, а перемещался вглубь, выражаясь в своеобразии коллективных и индивидуальных представлений.
Многократно описанный феномен «двоеверия», т.е. переплетения, взаимоналожения язычества и христианства, нередко подвергавшегося языческому переосмысленнию, – одно из наиболее известных проявлений именно такой духовной эволюции. Некоторые исследователи на основании этого и других явлений склонны полагать, что и в целом с принятием христианства «духовная жизнь общества оказалась расколотой, с двумя параллельно существующими уровнями культурного развития»42. Такое обобщение не покажется чрезмерным, если вспомнить, что языческий полюс сохранялся в культуре и в последующие столетия, а в XX веке на время даже стал доминирующим – большевистский атеизм, нашедший среди населения значительную массу приверженцев, в модифицированном и модернизированном виде воспроизводил некоторые особенности языческого мироощущения.
Таким образом, идея благодати, даже отчлененная русской церковью в лице митрополита Илариона от идеи закона, не осваивалась повсеместно языческим сознанием как «единственно верная», не преобразовывала дохристианский менталитет, а интегрировалась в него в качестве дополнительного элемента. Но и идея закона, будучи универсального статуса лишенная, после христианизации Руси тоже создавала новые линии социокультурного раскола.
Ведь закон на Руси существовал – сначала в виде неписаных норм обычного права, а потом и в виде письменных кодексов («Русская правда», Новгородская и Псковская судные грамоты и др.). Но универсальным регулятором он действительно не был, упорядочивая лишь отношения между частными лицами в ограниченном; наборе типовых житейских ситуаций. На устройство самого государства и его взаимоотношения с боярско-дружинной элитой и населением закон не распространялся вообще. Между тем в Византии, освоившей универсалистские принципы римского права, существенно иными были и статус закона, и область его применения, и процедура его разработки, базировавшаяся на развитой системе юридически-правовых абстракций. Русь, заимствуя у греков хрис-
42 Луцке В.Г. Древнерусская культура на пороге второго тысячелетия // Исследования по новой и древней литературе. Л., 1987. С. 303.
некую веру, византийским правом не прельстилась. Но по дельным каналам оно все же на Русь проникало и даже применялось – прежде всего как регулятор отношений и конфликтов, в которые были вовлечены священнослужители и церковь. А это значит что культурный раскол между христианством и язычеством проник и в сферу права.
Русские своды законов писали в Киевской Руси на русском языке, византийские юридические нормы – на церковно-славянском. Но это – лишь внешняя сторона интересующего нас феномена. Суть же заключалась в том, что византийские правовые нормы, разработанные на основе юридических абстракций, и нормы права русского, возникшие в результате эмпирической классификации жизненных конфликтных ситуаций, сами такие ситуации нередко интерпретировали по-разному. Поэтому «один и тот же казус ‹…› получал – в плане выражения – два разных лингвистических описания и – в плане содержания – две разные юридические интерпретации»43. В столкновении «двух юридических норм ясно проявлялась их религиозная противоположность: византийское право воспринимается как часть христианской культуры, славянское – как элемент языческой старины»44.
Наверное (и даже наверняка), эта линия раскола не была в ту эпоху ни самой глубокой, ни центральной. Но она важна для понимания той избирательности в заимствовании и освоении принципов осевого времени, которая была характерна для Киевской Руси. Она важна и для понимания сути первого в отечественной истории цивилизационного выбора.
43 Живов В.М. История русского права как лингвистическая проблема // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. II. С. 653.
44 Там же. С. 654
.
Глава 4 Цивилизационный выбор
Напомним, что понятие цивилизации мы связываем с базовыми принципами, на основе которых консолидируется государственность, реализующими их институтами, а также с иерархией этих принципов и институтов. В первом осевом времени государственность консолидируется силой, законом и верой, воплощаемыми в институтах верховной власти, суде и церкви.
Для государств, возникших в последние полторы тысячи лет, траектория цивилизационного движения задавалась исходным выбором мировой религии. Когда складывалась киевская государственность, выбирать можно было только из готового; времена радикального религиозного новаторства уже миновали (что не исключало, разумеется, возможности радикального реформирования созданного). Предпочтение, отданное Русью греческому христианству, диктовалось целым рядом объективных обстоятельств, но, скорее всего, стало результатом осознанного выбора между различными вариантами, которые, судя по дошедшим до нас свидетельствам, в Киеве рассматривались и обсуждались.
Западные хроники зафиксировали миссию епископа Адальберга, посланного на Русь уже упоминавшимся германским императором Оттоном Великим во времена правления княгини Ольги. Об интересе к Киеву свидетельствуют и более поздние приходы римских послов к предшественнику Владимира на киевском столе Ярополку, а также дипломатические сношения с Римом самого Владимира. В арабских источниках есть сведения о посольстве Владимира в Хорезм с разговорами о желании Руси принять ислам и о посольстве на Русь имама для ее обращения в эту веру45. Тесные контакты с хазарами позволяют считать вполне вероятной и миссионерскую проповедь на Руси иудаизма.
Поэтому нет достаточных оснований ставить под сомнение летописное предание о том, что Владимир выбирал веру, рассмат-
45 Записки Восточного отделений Императорского русского археологического общества. СПб., 1896. Т. IX. С. 262-267.
ривая разные варианты. Описание посольств с проповедью разных вероисповеданий и встречных миссий от киевского князя (чтобы посмотреть «кто како служит Богу»), скорее всего, в специфической форме трактует реальные события и процессы. Напомним еще раз, что принятие именно греческой веры имело такой очевидный минус, как вытекавшая из него духовная зависимость от Константинополя. Поэтому у киевского князя был очевидный резон рассмотреть все возможные варианты.
Если же говорить о причинах и мотивах сделанного цивили-зационного выбора, то принятие христианства по византийскому обряду в определенной степени диктовалось более ранним выбором князя Олега. Перенесение княжеского стола из ориентированного на Балтику Новгорода в ориентированный на средиземноморскую систему Киев географически и культурно приближало Русь именно к Византии, воплощавшей в те времена мощь древней государственности и блеск великой цивилизации46. Мир западного римского христианства и мир ислама находились существенно дальше; торговые, военные и политические связи с ними были менее значимыми. Да и для самих этих миров Русь была слишком отдаленной периферией – качественно иной и малоактуальной.
Правда, и в Константинополе Русь воспринималась отнюдь не как основной ареал культурного воздействия, а как варварская периферия цивилизованного мира, отделенная от Византии морем, степями и неделями пути. Но учитывая более тесные связи Руси с Византией, чем с другими центрами мировых религий, последняя больше, чем другие, была заинтересована в предоставлении Киеву своих культурных и цивилизационных ресурсов.
Главный вопрос, однако, состоял в том, какие ресурсы сама Русь готова была взять и способна освоить. Заимствование религиозной составляющей какой-то цивилизации – это еще не цивилизационный выбор, не вхождение в данную цивилизацию. Потому что своеобразие любой цивилизации определяется, повторим, не одной лишь верой и ее церковной институционализацией, а сочетанием веры с двумя другими государствообразующими принципами – силой и законом, тоже институционально оформленными.
Осознав ограниченность консолидирующего потенциала военной силы, Рюриковичи решили увеличить этот потенциал
46 Подробнее см.: Яковенко И.Г. Православие и исторические судьбы России // Общественные науки и современность. 1994. №4.
заимствованной единой верой и учреждением христианской церкви по греческому образцу. Но само по себе такое заимствование, превращая Русь в христианскую страну, не превращало ее в составную часть восточно-христианской цивилизации. Можно сказать, что она оказалась в некоем промежуточном пространстве между варварством и этой цивилизацией. Здесь – истоки ее дальнейших многовековых поисков своего собственного, самобытного цивилизационного качества, вдохновляющих многих и сегодня.
Мы не знаем, какую роль в выборе князем Владимиром греческой веры сыграл тот образец взаимоотношений между императором и церковью, который русские могли наблюдать в Византии. Но в любом случае он вполне соответствовал целям Рюриковичей. Властные полномочия, сдвинутые в сторону императора (в отличие от Западной Европы, где они были сдвинуты в сторону главы церкви), – это была едва ли ни самая пригодная для них модель из всех возможных. Формально русский князь не мог получить полномочий, равновеликих императорским,- русская церковь подчинялась константинопольской. Однако его влияние на церковные дела было значительным, а церковные иерархи видели в сакрализации княжеской власти одну из важнейших своих задач. Но этого было недостаточно, чтобы Русь обрела цивилизационное качество Византии.
При архаично-родовой организации власти новая вера могла увеличить легитимационный ресурс силы, но была не в состоянии обуздать или хотя бы смягчить произвол силы в борьбе за власть и ресурсы. В Византии, правда, он тоже не был обуздан. Заговоры и государственные перевороты преследовали ее на протяжении всей ее более чем тысячелетней истории. Императорские династии насильственно обрывались и сменялись там десятки раз. Но Византия, унаследовав староримский принцип властвования (правит достойнейший или, что по сути то же самое, – сильнейший) и не сумев распространить на престолонаследие принцип правовой (власть получает законный правитель), не в последнюю очередь именно по этой причине и пала. Просуществовать же так долго ей – тоже не в последнюю очередь – удалось и потому, что с IX века императоры обрели право самим выбирать себе наследников. Это упрочило династически-семейный принцип престолонаследия, но непререкаемой нормой он в Константинополе все-таки не стал: династии по-прежнему насильственно прерывались, хотя и намного реже, чем раньше. При утвердившемся же на Руси династически-родовом правлении и отсутствии в ней вышколенной, иерархически организованной и централизованно управлявшейся византийской бюрократии, равно как и единой и подчиненной верховному правителю армии, династически-семейный вариант преемственности власти не мог укорениться даже в той мере, в какой он прижился в Константинополе.
Этот вариант будет освоен Русью – в лице московских государей – только к концу XV столетия. Однако и при них он станет лишь не строго соблюдавшимся обычаем, а не фиксированной правой процедурой. Что касается ее распространения на другие сферы государственной практики, то византийские образцы окажутся Московией не воспринятыми вообще. Законность как универсальный принцип упорядочивания жизни будет даваться стране труднее, чем какой-либо другой. Поэтому она, даже создав и упрочив свою государственность, будет оставаться в промежуточном состоянии между цивилизацией византийского типа и варварством, что, в свою очередь, и станет мощным (не обязательно осознаваемым) стимулом в поисках своей цивилизационной особости и уникальности.
Использование надзаконной силы превратится в Московской Руси в монополию государственной власти, ставшей централизованной, причем христианская религия будет нередко выступать как средство оправдания и легитимации произвольных силовых акций. Но отдаленные истоки этой практики можно обнаружить уже в киевский период, когда Рюриковичи осуществляли свой цивили-зационный выбор, заимствовав у греков веру и институт церкви, не заимствуя универсальный принцип законности и институт самостоятельной судебной власти с профессиональными судьями (в Киевской Руси судебные функции осуществлялись самими князьями).
Идеологическое возвышение веры (благодати) над законом, осуществленное митрополитом Иларионом, свидетельствовало о неготовности тогдашней Руси освоить цивилизационное качество Византии и изыскать способы компенсации этой неготовности. Но путь, намеченный Иларионом, не вел и к обретению какого-либо иного цивилизационного качества. Опыт покажет, что вознесение веры над законом в реальной политической практике равнозначно легитимации союза веры с надзаконной силой.
Цивилизационный выбор князя Владимира был выбором не только определенного вектора развития (византийского), но и определенного способа вхождения в цивилизацию. Мировая история знает три таких способа, посредством которых народы, находящиеся на периферии уже сложившихся цивилизаций, осваивают достижения последних. Вариант, на котором остановился киевский князь, заключается в избирательном заимствовании отдельных элементов зрелой цивилизации и их постепенном приспосабливании к сложившемуся жизненному укладу без существенного влияния на другие его компоненты. На этом пути, как свидетельствует о том и опыт Киевской Руси, страну поджидает множество проблем, которые могут оказаться для нее неразрешимыми, не говоря уже о том, что он, как правило, обрекает ее на цивилизационную вторичность и периферийность.
Второй способ – завоевание территории развитого государства и последующее присвоение-освоение его достижений по праву победителя. Стратегические преимущества данного способа хорошо видны на примере сокрушивших и захвативших рим германских племен: соединение их нерастраченной жизненной силы с культурным наследием античности и духовным потенциалом христианства дало на выходе современную западную цивилизацию. Не исключено, что идеей силового захвата ближайшего цивилизационного центра руководствовался и отец Владимира Святослав, двинувшийся на Балканы в соседнюю с Византией Болгарию: в случае ее завоевания открывалась бы перспектива овладения и Константинополем. Не исключено также, что такой план существовал первоначально и в голове самого Владимира – преемники неудачливых правителей очень часто пытаются утвердиться, добившись того, что у предшественников не получилось. Но если такой вариант и рассматривался, то он – при наличных ресурсах – был признан нереализуемым. Владимир выбрал первый способ, предполагавший периферийное цивилизационное развитие со всеми его будущими трудностями, о которых креститель Руси догадываться не мог. Однако применительно к конкретным обстоятельствам ее государственного становления иной выбор даже задним числом наметить и обосновать непросто.
Между тем сбои, неизбежные при таком варианте цивилизационного развития, в истории нередко сопровождаются его трансформацией в третий вариант, который, в отличие от двух первых, принудительно навязывается внешней силой более жизнеспособных государств. Для Руси такой силой стала Золотая Орда, сама находившаяся в состоянии между варварством и цивилизацией. Но в монгольский «инкубатор» страна попала уже с определенным культурно-цивилизационным заделом, который был накоплен ею благодаря первоначальному выбору Владимира и который, дозревая в этом «инкубаторе» до независимой государственности, ей удалось сохранить.
Принятие Русью христианства сопровождалось не только утверждением церковной иерархии во главе с киевским митрополитом и строительством церквей и монастырей, т.е. формированием важнейших институтов первого осевого времени. В страну пришли письменность и письменная культура, возникли библиотеки, складывался слой ценителей книги. Строительство храмов и монастырей создавало предпосылки для формирования отечественной архитектурной и иконописной традиции, а в самих монастырях возникала школа летописания. Культура митрополичьего двора оказывала влияние на княжеский двор и военно-политическую элиту; митрополит стал обязательным советником князя. Все эти и другие традиции, заложенные в течение киевского периода, укоренились настолько глубоко, что монголы вынуждены были с ними не только считаться, но и небезуспешно пытались на них опираться. Однако при всех благотворных последствиях сделанного цивилизационного выбора фактом остается и то, что освоение византийского опыта было дозированным и избирательным.
Заимствование одного из базовых принципов византийской цивилизации и соответствующих ему институтов при идеологическом отмежевании от другого ее принципа (юридической законности) обернулось позитивными сдвигами в культуре, но на собственно цивилизационном развитии страны сказалось незначительно. Тем самым был задан вектор дальнейшего развития самой культуры, предопределивший в какой-то степени ее позднейшую самодостаточность при слабой способности материализоваться в развитую цивилизацию. И хотя впоследствии выбор князя Владимира будет корректироваться, общего исторического маршрута это принципиально не изменит.
Краткое резюме Исторические результаты первого периода
Под историческим результатом здесь и в дальнейшем мы будем понимать две его составляющие. С одной стороны, это перемены, ставшие в долгосрочной перспективе необратимыми, проложившие русло дальнейшего развития, предопределившие его характер и направленность. С другой стороны, это не развязанные старые или вновь созданные проблемные узлы, оставленные будущим поколениям.
Начнем с позитивных результатов.
1.В киевский период произошел переход из догосударственного состояния в раннегосударственное. Прежняя локально-племенная организация жизни была культурно и исторически преодолена. Возникли первый институт государственного типа в лице киевского князя и центр государственной власти со столицей в Киеве. В доваряжский период племена, населявшие территорию будущей Руси, не знали ни идеи общей надплеменной власти, ни идеи государственного городского центра как местопребывания этой власти. Поэтому киевский период без всяких преувеличений может быть охарактеризован как время прорыва из предыстории в историю на подчиненной варяжским князьям территории.
2. Начался трудный поиск – больше стихийный, чем сознательный – способов трансформации наличной догосударственной культуры в культуру государственную и их синтеза. Был осуществлен переход от идеи княжеской власти, основанной исключительно на праве силы, к идее легитимации власти (не только в центре, но и на местах), наследуемой по праву рождения. Доосевая абстракция монопольно правящего рода была исторически тупиковой, но она позволила ввести в догосударственное сознание и закрепить
в нем династический принцип легитимации государственных институтов, консолидирующих большие общности, границы которых несопоставимо шире границ родоплеменных. Абстракции «Русь», «Русская земля» формировались именно на этой культурно-политической основе.
3. Принятие христианства при князе Владимире стало началом вхождения Руси в первое осевое время. Абстракция христианского Бога содержала в себе культурно-символический потенциал, позволивший значительно продвинуться по пути построения государства и создававший значительный задел для будущего развития. С принятием христианства на Русь пришли письменная литература, появились письменные своды законов, а главное – в жизнь страны вошел важнейший принцип первого осевого времени (единая вера) и соответствующий ей институт (русская церковь).
4. Заимствование христианства стало историческим поворотом от варварства к цивилизации, который позволил становящемуся государству стать сильным самостоятельным игроком на международной сцене, обеспечил резкий рост его престижа и влияния в Европе того времени. Цивилизационный выбор Рюриковичей предопределил исторический маршрут страны на столетия вперед. В дальнейшем ее цивилизационные стратегии корректировались и даже радикально изменялись, как это произошло, например, при Петре I, однако потом первоначальный выбор князя Владимира снова обретал идеологическую и политическую актуальность. Решению встававших перед Россией новых проблем такая актуализация, как правило, способствовала мало, цивилизационные проекты, на ней основанные, долговременной жизнеспособности не обнаруживали. Однако речь в данном случае идет не об эффективности цивилизационной традиции, а об ее устойчивости, проявлявшейся независимо от ее эффективности или не эффективности.
5. В киевский период были открыты каналы для развития и мобилизации индивидуальных личностных ресурсов в государственную и иные сферы деятельности. В родоплеменных общностях реализация этих ресурсов блокировалась архаичным коллективизмом, исключавшим проявление индивидуально-личностного начала. С вокняжением Рюриковичей появился широкий спрос на людей, готовых и способных посвятить себя войне. Княжеские
Дружины создавали пространство для карьеры, родоплеменным общностям – при нерасчлененности в них функций пахаря и воина – неведомое. С княжеских дружин начиналась российская армия. Каналами мобилизации личностных ресурсов становились и выделявшиеся из архаичных общностей другие специализированные виды деятельности (торговая и ремесленная), а с принятием христианства и деятельность церковная.
Таковы основные исторические достижения Рюриковичей в киевский период отечественной истории. Но эти позитивные результаты оказались недостаточными для устойчивого развития – на данном этапе оно обнаружило свою тупиковость и в конечном счете обернулось катастрофой. Решающую роль сыграли непреодленные старые или возникшие в ходе государственного строительства новые негативные факторы.
1. Наложение зарождавшейся государственной культуры на догосударственную не могло обеспечить культурную и политическую интеграцию древнерусского социума. Население, которому власть князей почти на всех территориях первоначально была на вязана силой, было не в состоянии глубоко осознать ценность государственности и почувствовать ответственность за нее. Даже признав необходимость княжеской власти для обеспечения безопасности от внешних угроз и наделив сакральным статусом княжеский род, оно продолжало мыслить интересами и проблемами замкнутых локальных миров, а не большого общества в целом.
Это, в свою очередь, порождало социокультурный раскол между государственномыслящей частью элиты и населением, который усугублялся культурной дифференциацией между древнерусским городом, отщепившимся от родоплеменной архаичной целостности, и деревней, эту целостность сохранявшей. Раскол, перед которым оказалась бессильной и абстракция единого христианского Бога. Она накладывалась на традиционное языческое сознание, трансформация которого в новое качество происходила медленно и болезненно. В результате раскол между догосударственной и государственной культурой дополнялся расколом между христианством и язычеством.
2. Социокультурный раскол нашел свое продолжение и завершение в организации формирующейся государственности. Архаичная культура низов соединилась с архаично-родовым менталитетом первых варяжских князей. Принцип коллективного родового правления, ставший продуктом этого синтеза, обладал консолидирующим государственность потенциалом, но одновременно взрывал ее изнутри. Этот принцип, обеспечивая легитимность власти правящего рода, не обеспечивал ее легитимной преемственности.
Попытка синтезировать в родовом правлении государственную и догосударственную культуру неизбежно вела не только к социокультурному, но и к политическим расколам, выплеснувшимся на поверхность в виде перманентных княжеских междоусобиц.
При сохранении этого принципа киевская государственность оставалась протогосударственностью, и ее распад был неизбежен. Тенденция к преодолению данного принципа начала проявляться в некоторых регионах, прежде всего во Владимиро-Суздальском княжестве, лишь к концу киевского периода, но сколько-нибудь полно реализоваться не успела. Последовавшая за монгольским нашествием катастрофа была прямым следствием неспособности противопоставить общей опасности общую государственную волю, парализованную частными интересами отдельных князей и их подовых ветвей. Ситуативные институциональные паллиативы (съезды князей) не могли ее упредить и заблокировать по той простой причине, что были приспособлены к исчерпавшей свой исторический ресурс родовой модели. Она позволяла легитимировать власть Рюриковичей, но была не в состоянии обеспечить политическую консолидацию пространства, на которое их коллективная власть простиралась.
Киевская Русь развивалась как периферийная империя, подчинявшая и ассимилировавшая многочисленные этнические и племенные общности сначала на доосевой (принудительно-силовой), а потом и на заимствованной осевой (христианской) культурной основе. Однако оформиться в устойчивое централизованное имперское образование она не смогла, оставшись рыхлой конфедерацией отдельных княжеств, тяготевшей ко все большей политической дробности при слабевшей со временем роли политического центра.
3. Борьба между князьями за власть сопровождалась включением в эту борьбу вечевых институтов: если конкретный князь мог быть насильственно смещен другим князем, то он мог быть смещен и вечем, тоже состоявшим из вооруженных людей. В результате трещины расколов становились еще глубже: вече – один из властных полюсов локальных сообществ, в институт государственного типа оно не трансформируемо в силу самой своей природы. Поэтому традиция взаимодействия и взаимопроникновения двух естественных и необходимых полюсов любой устойчивой власти – элитного и народного – в Киевской Руси заложена не была. Логика раскола подталкивала князей к поиску путей и способов устранения народного вечевого полюса и утверждению авторитарной модели властвования. Но при сохранении родового Принципа не могла утвердиться и она. Для трансформации княжеско-вечевой модели в авторитарную потребуется «помощь» монголотатар.
4. Вхождение в первое осевое время и освоение его избирательно заимствовавшихся принципов тоже корректировались наличным культурным состоянием. Осевая абстракция единого Бога бралась в отрыве от абстракции универсального юридического закона и как идеологическая альтернатива последнему. Поэтому произвол силы, проявлявшийся в княжеских междоусобицах, не мог быть заблокирован: консолидирующий потенциал общей веры самодостаточным не является и без соответствующих правовых механизмов не реализуем. В отсутствие таких механизмов нельзя было регламентировать и отношения между князьями и дружинниками заменить боярскую вольницу системой взаимных правовых обязательств, анархическую свободу – свободой упорядоченной.
Все это означает, что вхождение Руси в цивилизацию первого осевого времени было лишь частичным, что после принятия христианства она оставалась в промежуточном состоянии между цивилизацией и варварством. Движение по «особому пути» началось уже тогда, в самом начале отечественной государственной истории. Это был путь, отличавшийся как от того, каким шла набиравшая силы западно-христианская цивилизация, так и от того, который избрала уже начавшая увядать к тому времени Византия. И тогда же «особый путь» впервые обнаружил свою стратегическую тупиковость.
5. Киевская государственность изначально утверждалась на силовом захвате ресурсов и получении доходов с международной торговли. Но со временем оба источника иссякли: возможности территориальных захватов не беспредельны, а основные торговые пути под воздействием крестовых походов и половецкой опасности стали смещаться в сторону от Киевской Руси.
Кризис экстенсивной модели развития сопровождался упадком городов, возникших на путях транзитной торговли, оседанием многих князей в их «отчинах» для ведения производящего хозяйства и превращением городской Руси в Русь сельскую. Между тем в Европе в это же время зарождалась современная городская цивилизация, становившаяся мощным стимулом для развития внутренних рынков и гражданских свобод. Параллельно там складывались и феодальные отношения, основанные на договорных обязательствах между сюзеренами и вассалами. То и другое открывало перспективу (хоть и неблизкую) утверждения права частной собственности и конституционно-правовой государственности. В Киевской Руси ни то, ни другое сколько-нибудь отчетливо проявиться не успело.
У князей и боярско-дружинной элиты, живших принудительным сбором дани с захваченных территорий и торговлей ею на международных рынках, для движения по европейскому маршруту не было достаточных стимулов, а после начавшегося кризиса этой экономической модели – достаточного исторического времени для ее трансформации. Не способствовали этому и специфические особенности древнерусских городов, которые развивались за счет законсервированной в архаичном состоянии деревни и при неразвитости и рыночных связей с ней. Упадок большинства из них смешал центр хозяйственной жизни из города в деревню. Это сопровождалось зарождением и новых политических тенденций, которым суждено будет сполна реализоваться лишь в Московской Руси и к которым нам предстоит вернуться в начале посвященной ей следующей части книги.
Сельская Русь, шедшая на смену Руси городской, начинала свою историю в значительной степени заново. Начать она успела, но далеко продвинуться от новой исходной точки, будучи остановленной монголами, не смогла. Впереди страну ждали два с лишним столетия, когда ее судьбу определяли другие.
Часть II Русь Московская: вторая государственность и вторая катастрофа
Любое новое начало отличается от просто начала тем, что содержит в себе не только отказ от прошлого, но и само прошлое. Это относится и к возникшей под монгольским патронажем московской государственности. Монголы навязали Руси иной, чем прежде, способ существования и уже тем самым задали иной вектор ее дальнейшего развития. Но завоеватели не могут навязать больше того, чем завоеванные, имеющие свою собственную историческую биографию, готовы и способны принять.
Московская Русь, высвободившаяся из крепких монгольских объятий, была не такой, как в ту пору, когда она в эти объятия попала, – хотя бы потому, что никакой Московской Руси тогда еще не существовало. И тем не менее новое начало не было абсолютно новым. В нем реализовывались – в избыточных и даже уродливых формах – те тенденции, которые в отдельных регионах Киевской Руси вызревали в домонгольский период. Регионы, где тенденции были другими, и в послемонгольскую эпоху вошли в ином, чем Московская Русь, историческом качестве.
Это значит, что уже в процессе распада киевской государственности формировалось несколько альтернативных моделей дальнейшего развития. Их потенциал для создания государственности, отличной от московской, окажется недостаточным, их конкурентоспособность – слабой. Но и эти неконкурентоспособные модели есть смысл вкратце рассмотреть – на их фоне рельефнее проступают те тенденции в домонгольской Руси, о которых упоминалось выше и из которых, благодаря монгольскому «инкубатору», проросла со временем московская государственность.
Глава 5 Между Киевской и Московской Русью: три модели развития
Все три модели развивались на основе исходной киевской матрицы. Но одновременно они воплощали – в пору ее углублявшегося распада – и стихийный поиск альтернативы ей. Как почти всегда в таких случаях, качественно новые образования возникали на периферии, где инерция прежней системы проявлялась слабее, чем в центре. Поэтому своеобразие местных условий и обстоятельств могло сопровождаться там возникновением системных альтернатив базовой материнской матрице.
5.1. Однополюсная вечевая модель
Одной из таких альтернатив стал со временем Новгород, где сложилась модель города-государства, сходная с теми, что существовали в средневековой Европе (Генуя, Венеция, города Ганзейского союза и др.). В силу своего географического положения Новгород изначально ориентировался на быстро развивавшийся европейский север, а не на доживавшую свой исторический век Византию, Подобно Киеву и другим южным городам, он жил в основном внешней торговлей. Вместе с тем близость европейских рынков и исходившие от них импульсы, а также отдаленность и почти полная независимость от Киева обусловили широкую экономическую самостоятельность города. Она обеспечивалась также благоприятными возможностями для экспорта сырья, которым был богат этот край, и продуктов его первичной переработки – мехов, рыбы, меда, ворвани, кожи. Поэтому Новгород, в отличие от южных городов, не был застигнут врасплох свертыванием транзитной торговли после того, как путь «из варяг в греки» утратил свое значение. Тем более что другой путь, волжский, продолжал функционировать, сохраняя за городом роль крупнейшего транзитного центра.
Кроме того, Новгород после вокняжения Рюриковичей и до монгольского нашествия никогда не сталкивался с внешними угрозами и вторжениями, которые перманентно сотрясали граничившие со степью южные районы Киевской Руси. Потому, возможно, ему и удалось сразу же установить договорно-правовые отношения с приглашенными варяжскими князьями, что его военная зависимость от них была не очень велика: кроме самих варягов городу всерьез никто не угрожал. По мере же того, как власть киевского центра слабела, поле деятельности новгородских князей все больше сужалось: уже в первой половине XII века город добился права приглашать их по собственному выбору, причем из любой ветви Рюриковичей. Ни одна из них монополией на княжение в Новгороде не обладала, ни одна не могла считать его своей «отчиной». Князья и их ужины фактически нанимались городом для выполнения строго определенных военных и судебных функций, без каких-либо властных полномочий за их пределами и без права владения земельными участками.
Тем самым раскол по линии «князь – вече», характерный для двухполюсной модели власти в Киевской Руси, в масштабе одного отдельно взятого города был преодолен. Снята была и другая проблема, бывшая камнем преткновения для киевской государственности – проблема легитимной преемственности власти при родовом принципе ее наследования. Ограниченные полномочия, которыми обладали новгородские князья, их зависимость от веча, которое меняло их чаще, чем где бы то ни было, сколько-нибудь серьезную конкуренцию за княжение в Новгороде практически исключали.
При увеличивавшейся численности рода Рюриковичей недостатка в претендентах новгородцы не испытывали. Однако выбор среди кандидатов оставался за самими новгородцами; навязать его силой князья не могли, как не могли и отвоевывать у конкурентов право княжения посредством привычных вооруженных противоборств. Поэтому обошли город стороной и княжеские междоусобицы. Попытки лишить его независимости неоднократно предпринимались задолго до возвышения Москвы, прежде всего Владимиро-суздальскими правителями. Но то было противоборство князей с Новгородом, а не противоборство между князьями за власть над ним.
Мы не касаемся здесь конкретных механизмов, использовавшихся в управлении Новгородской республикой, процедур, которые применялись при формировании исполнительных органов власти городе, отдельных его районах и пригородах, и их институционального оформления. Все это многократно в подробностях описано, и читатель при желании может с такими описаниями ознакомиться1. Не касаемся мы и способов подготовки законодательных и других решений, подлежавших принятию на вечевых собраниях. Для наших целей достаточно отметить, что в границах Киевской Руси сложилась и функционировала политическая модель, альтернативная доминировавшей и имевшая многочисленные европейские аналоги. Она переводила отношения князя и веча в правовое поле и устраняла раскол между двумя полюсами власти посредством ее концентрации на одном из них (вечевом), который при этом становился главным источником легитимации другого (князя).
Такая модель обладает довольно значительной устойчивостью и в определенных пределах способностью к саморазвитию: скажем, некоторые средневековые города-государства на территориях Италии и Германии дожили до Нового времени, хотя и они были интегрированы впоследствии в национальные государства. Но в этих городах не было веча, которое в Новгороде, при экономически и политически бессильном князе, превращалось постепенно в институциональную арену борьбы между боярско-купеческой элитой и городскими низами.
Новгородская модель продемонстрировала свою относительную жизнеспособность и самодостаточность даже в пору монгольского владычества. Однако в ту же пору она начала разлагаться, будучи неспособной консолидировать ни враждовавшие друг с другом группы самой элиты, ни элиту и население – оттеснение веча от непосредственного принятия решений и концентрация власти в руках представителей боярской верхушки этому не способствовали. Поэтому новгородская модель не могла стать основой для формирования российской государственности. Но – не только поэтому. И даже не только потому, что была уникальной и для других регионов Руси инородной. Дело еще и в том, что модель эта была по своей природе локальной.
Вечевые институты могут функционировать (и даже доминировать) в ограниченном городском пространстве, но они не могут консолидировать большое общество – вече в масштабах страны не соберешь. Политические образования, подобные новгородскому, по мере расширения контролируемой территории тяготеют к дроблению, о чем и свидетельствовало отделение от Новгородской
1 См., например: Ключевский В. Курс русской истории: В 5 ч. М., 1937. Ч. 2. С. 69-80';Шмурпо Е.Ф. Курс русской истории: В 4 т. СПб., 1999. Т. 1: Становление и образование русского государства (862-1462). С. 144-148.
республики Пскова при воспроизведении в нем новгородского политического устройства. Так что задача интеграции русского пространства Новгороду была не по силам. Подобной задачи он перед собой и не ставил. А потому не смог он устоять и перед Москвой, которая после окончательного высвобождения из-под монгольской опеки интегрирующим ресурсом уже обладала.
5.2. Княжеско-боярская модель
Другая оригинальная модель развития складывалась в Юго-Западной Руси, где к началу XIII века сформировалось сильное Галицко-Волынское княжество. В отличие от Новгорода, князь сохранял здесь политическую власть. Кроме того, как представитель правившего рода, он был и владельцем всей территории княжества. Но одновременно здесь существовал сильный и влиятельный класс бояр, сформировавшийся из осознавших выгоды землевладения дружинников. Этим они отличались от бояр новгородских, с князем и княжеской дружиной никакими служебными связями не связанных. Этим же обусловливались и основные особенности галицко-волынской модели государственного развития.
В Новгороде бояре оказывали значительное, если не решающее, влияние на жизнь городской республики, предопределяя во многом решения вечевых собраний. В данном отношении князь не был для них конкурентом, ибо серьезной политической роли не играл и как владелец территории (пусть даже не персональный, а как представитель коллективного родового владельца) не воспринимался. Галицко-волынские князья становиться наемными военачальниками и передавать властные полномочия ни боярам, ни вечевым институтам не собирались, хотя последние и здесь были развиты, играя заметную роль в жизни городов. Но при таких обстоятельствах набиравшее силу и стремившееся к независимости оседлое дружинное боярство становилось именно политическим конкурентом князей. Эта конкуренция вылилась в непрекращавшуюся жесткую конфронтацию – вплоть до того, что однажды боярам удалось даже пробить брешь в традиции родового властвования Рюриковичей и посадить на княжеский стол представителя из своей среды, о чем выше мы уже упоминали. Однако в результате противоборства князей и бояр как раз и утверждалась новая для Руси модель развития, тоже приближавшаяся к европейской. Но, в отчие от новгородского варианта города-государства, это было движение в сторону европейского феодализма.
Как и в Новгороде, на юго-западе кризис киевской систему международной торговли сопровождался поиском системной альтернативы ей. Характер этой альтернативы во многом предопределялся высокоплодородными землями края, прекрасным климатом, удаленностью от степи и исходивших из нее угроз. Стимулируя установление боярского землевладельческого уклада, все это способствовало одновременно и развитию производящей экономики, торговли, росту городов. Не менее важны были и импульсы, поступавшие извне. В соседних Польше и Венгрии земельная аристократия к тому времени была уже развитым и консолидированным феодальным сословием, отвоевавшим у королевской власти значительные политические права и ограничившим тем самым права монархов. В юго-западном регионе Руси мы наблюдаем ту же тенденцию: последний галицкий князь Юрий II (вторая четверть XIV века) выдавал уже договорные грамоты, скрепленные не только его собственной печатью, но и печатями местных бояр2.
Данная модель оставалась, однако, внутренне неустойчивой – князья, бояре и развивавшиеся вечевые институты не смогли притереться друг к другу настолько, чтобы создать прочную, стабильную и независимую государственность. Поэтому Галицко-Волынское княжество, как и Новгородская республика, не могло претендовать на консолидирующую роль в масштабах тогдашней Руси.
Если попробовать эти две модели – новгородскую и галицко-волынскую – описать расхожим современным политическим языком, то они будут выглядеть следующим образом.
В Новгороде утвердилась демократия, там всех выбирали и никого не назначали, но за спиной вече стояли «олигархи» (бояре), которые при политически и экономически почти бессильном князе могли манипулировать демократическим институтом в своих интересах. Интересы, однако, у «олигархов» были разные, отдельные группы и кланы друг с другом враждовали, что при «олигархическом» правлении неизбежно даже в том случае, когда оно легитимирует себя демократическими институтами и присущими им способами принятия решений. Тем более если речь идет о такой архаичном институте, как вече. Политически Новгород скреплялся лишь объединявшей все слои населения идеей независимости от остальной Руси при формальном сохранении себя внутри нее. К полностью самостоятельному плаванию такое объединение было
2 Шмурло Е.Ф. Указ. соч. С. 141.
неспособно. Новгородская модель – это модель максимальной автономии при слабом государственном центре.
В Юго-Западной Руси князь сохранял политическую роль, стремился к укреплению и централизации своей власти. Но, противостоя амбициям усилившихся «олигархов», он уже тем самым способствовал их консолидации, осознанию ими их общих интересов. Это модель противостояния двух политических субъектов, широко распространенная в средневековой Европе. Со временем она эволюционировала там или в сторону королевского наследственного абсолютизма, или к государственности польского образца, при котором монарх избирался представителями феодально-аристократического сословия. Эволюция Юго-Западной Руси в любом из этих направлений блокировалась сохранявшейся традицией родового правления – княжеские междоусобицы сотрясали княжество на всем протяжении его недолгого исторического существования. В свою очередь, внутренняя неустойчивость не позволила ему обрести и устойчивость внешнеполитическую. Оказавшись в поле притяжения более сильных игроков, действовавших в то время на европейской сцене, испытывая с их стороны разнонаправленные активные воздействия, в том числе и военные, Галицко-Волынское княжество оказалось в конце концов разделенным между Литвой, Польшей и Венгрией.
Находившаяся к тому времени под монгольским контролем Русь северо-восточная двигалась в другом направлении. В Московии отрабатывалась модель государственности, принципиально отличавшаяся и от новгородской, и от галицко-волынской. Но она стихийно нащупывалась в северо-восточных регионах распадавшегося русского пространства задолго до монгольского нашествия.
5.3. Однополюсная княжеская модель
Эта модель начала оформляться во Владимиро-Суздальском княжестве. Ее отличительные особенности – отсутствие серьезных притязаний на политическую субъектность у местного боярства, которое не сумело обрести необходимую для этого силу, вытеснение с политического поля вечевых институтов и как результат концентрация в руках князя власти, тяготеющей к превращению в авторитарную. Для утверждения такой модели на северо-востоке Руси изначально существовали предпосылки, которых в других регионах не было.
Возникновению сильного и влиятельного боярства препятствовали прежде всего природно-климатические условия региона. Это был лесистый и болотистый край с бедными почвами – зона рискованного земледелия. Удаленность от международных торговых путей не создавала предпосылок и для внешней торговли, а значит и для быстрого обогащения посредством разбойного овладения чужими ресурсами и их последующей продажи. Торговля в основном была внутренней – с другими регионами Руси. Основу хозяйственной деятельности составляли охота в богатых дичью лесах, рыболовство в многочисленных больших и малых реках, подсечно-огневое земледелие крестьянских семей, а также различные промыслы – бортничество, смолокурение и т.п. При таких обстоятельствах князья и дружинники вынуждены были ориентироваться не столько на военную добычу, сколько на доходы от хозяйственной деятельности. Однако если сильное оседлое боярство здесь, в отличие от Новгорода и юго-западного края, сформироваться не могло, то для укрепления княжеской власти предпосылки были более чем достаточные.
Историки давно обратили внимание на своеобразие самого возникновения Владимиро-Суздальского княжества. Массовое заселение северо-восточных земель началось довольно поздно, с XII века. При этом князья пришли сюда раньше, чем оно приобрело широкие масштабы, а широкие масштабы оно приобрело именно благодаря князьям. Последние приходили не только для того, чтобы властвовать над местным финноугорским населением, которое было немногочисленным, но и для того, чтобы приглашать людей на новые земли из других мест. В свою очередь, население сюда охотно перебиралось – как из Новгорода и контролировавшихся им земель, так и с юга, привлекаемое льготными условиями, которые князьями гарантировались, а также тем, что регион был отдален от степи и не подвержен половецким нападениям.
Все это создавало невиданную прежде ситуацию: владимиро-суздальские князья получали право рассматривать себя не как пришлых правителей, вынужденных адаптироваться к сложившемуся до них жизненному укладу, а как творцов нового уклада на новом, до того почти пустом месте, который они могли «считать делом рук своих, своим личным созданием»3. При таком положении вещей у них появлялась возможность для ликвидации политических последствий описанного нами социокультурного раскола принципиально иначе,
3 Ключевский В. Указ. соч. С. 362.
чем в Новгороде. В том и другом случае он преодолевался посредством устранения одного из противостоявших друг другу властных полюсов. Но если в Новгороде устранялся князь, то во Владимиро-Суздальской Руси наступление велось на вече.
Довести это наступление до полной и окончательной победы не удалось. Ко времени вокняжения в крае сына Владимира Мономаха, первого преобразователя региона Юрия Долгорукого уже существовали основанные новгородскими колонистами вечевые города Ростов и Суздаль. Они остались таковыми и потом – ликвидация городских вечевых институтов будет завершена лишь московскими князьями при поддержке монголов. Правители же домонгольской Владимиро-Суздальской Руси сделали в данном направили только первые шаги: не устраняя вече в старых городах, они снижали политический статус самих этих старых городов, возвышая одновременно выстроенные ими новые. Но тем самым снижалась роль и тех групп старого оседлого боярства, которые образовались при более ранней и несопоставимо менее масштабной колонизации края новгородцами, пытавшимися контролировать вечевые институты на новгородский манер. Перенесение княжеской резиденции Андреем Боголюбским (сыном Юрия Долгорукого) из старого Суздаля в новый Владимир и стало началом выстраивания однополюсной авторитарной модели, достроенной потом московскими князьями.
Разумеется, главным препятствием для ее утверждения было не вече, а другое, более глубокое проявление социокультурного раскола – родовой принцип правления. Но и в противоборстве с ним московские правители будут действовать не с нулевой отметки. Андрею Боголюбскому не удалось одолеть его наскоком. Но его преемники продолжали более осторожно и осмотрительно двигаться в том же направлении. Новое положение владимиро-суздальских князей создавало и для этого более благоприятные, чем в других княжествах, предпосылки.
Будучи конструкторами жизненного уклада, они чувствовали себя вправе считать территорию княжества не общеродовой, а своей личной собственностью, которой вольны распоряжаться по своему усмотрению. «Мысль: это мое, потому что мной заведено, мной приобретено, – вот тот политический взгляд, каким колонизация приучала смотреть на свое княжество первых князей верхневолжской (т.е. Владимиро-Суздальской. – Авт.) Руси»4. Такой
4 Там же.
новый взгляд при сложившихся на северо-востоке оригинальных обстоятельствах мог получить легитимацию и получил ее. Поэтому стала возможной и принципиально новая практика передачи территориальных владений по завещанию от отца к сыну – в обход братьев отца5. Правда, в домонгольский период такая практика окончательно не утвердится и родовой принцип старейшинства полностью не вытеснит. Тем не менее окольным путем она себе историческую дорогу все же прокладывала.
Владимиро-суздальские князья, ощущая себя полновластными владельцами княжества и стремясь заблокировать конфликты и междоусобные войны между наследниками, стали завещать каждому из своих сыновей какую-то часть общей территории. С одной стороны, это сопровождалось дроблением княжества на все более мелкие и независимые друг от друга уделы (отсюда – термин «удельная Русь»). С другой стороны, в удельных княжествах почвы для восстановления родового принципа уже не было: здесь уходивший из жизни князь мог делить свои земли только между сыновьями, так как все его братья владели другими уделами. Однако вопрос о том, кому наследовать главный княжеский стол во Владимире – старшему сыну умершего правителя или старшему из его братьев, до нашествия монголов однозначно решен не был.
Родовой принцип коллективного властвования и владения всей государственной территорией постепенно уходил в прошлое, на смену ему шел принцип персонального властвования и владения, Но в своем первоначальном воплощении этот новый принцип не позволил консолидировать территорию даже того единственного княжества, где впервые утвердился. Наоборот, ее расчленение становилось со временем все более дробным. До тех пор, пока исчерпавший себя универсальный принцип не заменен другим, столь же универсальным, частичный отказ от него сопровождается не столько утверждением нового системного качества, сколько ускорением, распада качества старого и его рецидивами – с их проявлениями Северо-Восточная Русь столкнется и во времена монгольского владычества.
Московским князьям потребуются многие десятилетий чтобы создать легитимный механизм передачи всей власти и территории в руки одного наследника. Но начинать им придется не с нуля, их новое начало имело, пользуясь термином Гегеля, свое предначало.
Глава 6 Культурные предпосылки нового начала. Авторитарный идеал
К концу XV столетия, когда Русь окончательно освободилась от монголов и перестала быть их данником, в ней почти ничто не напоминало уже о домонгольских порядках и беспорядках.
Остались в прошлом родовой принцип властвования и княжеские междоусобицы, единой страной правил московский «государь всея Руси», власть передавалась по завещанию от отца к сыну. Исчезла прежняя боярская вольница, но – не потому, что была упразднена (официально ее никто не отменял), а потому, что утратила, смысл: с присоединением к Москве всех крупных удельных княжеств переходить от московского князя боярам внутри страны стало практически не к кому, а переход к правителям иноземным теперь квалифицировался как государственная измена.
Становились достоянием истории и городские вечевые институты – ко времени освобождения от монголов вече сохранялось только в Новгороде, Пскове и Вятке, а после подчинения этих городов Москве с городской вечевой демократией в прежнем ее виде на Руси было покончено. Подчеркнем: не с вечевой демократией вообще, а только с той, при которой вече играло политическую роль. Да и с ней не навсегда, хотя и очень надолго.
Внешне все это выглядит резким разрывом с традицией, скачкообразным перемещением из одного исторического качества в другое. Скачок и в самом деле имел место в последней трети XV века, во время правления Ивана III. Но он мог произойти только потому, что теперь не был уже прыжком в бездну будущего без опорных точек в настоящем (в духе Андрея Боголюбского), а был подготовлен длительным процессом эволюции.
Направленность этого процесса в значительной степени задавалась Золотой Ордой, монголотатарской колониальной властью. Однако Русь не просто заимствовала у завоевателей государствообразующий ресурс; под чужой властной оболочкой она проходила свою собственную историческую эволюцию. Она преодолевала свои традиции, во многом опираясь на сами эти традиции. Только поэтому послемонгольская Русь могла совершать резкие скачки в новое качество и уверенно в нем закрепляться – необходимый для них потенциал был накоплен раньше, оставалось лишь его использовать.
6.1. Московская власть: эволюция под монгольским облучением
При всей непродуктивности сослагательного наклонения применительно к истории, можно утверждать, что «если бы» не монгольское нашествие, Москва не стала бы властным центром, консолидировавшим страну. Московский удел был во Владимиро-Суздальском княжестве периферийным, его правители представляли младшую ветвь Рюриковичей и не имели при утвердившейся системе наследования власти никаких прав, а потому и шансов на великокняжеский стол во Владимире. Своим возвышением они были целиком и полностью обязаны монголам. Но тем, что сумели стать их ставленниками и удержаться в этой роли, – исключительно самим себе. Не своему моральному или силовому превосходству, а уж тем более – не государственному патриотизму. Взлет московских князей – это торжество политического прагматизма в его предельном, абсолютном осуществлении, прагматизма без оправданий и словесного камуфляжа.
Князь Иван Данилович (он же Калита) получил татарский ярлык на великое княжение после того, как на деле доказал свою преданность монголам, послав московские войска для участия в совместной с ними карательной экспедиции в Твери, где против татар вспыхнуло восстание. Тверской князь Александр, владевший в то время татарским ярлыком, в выборе между чужой властью и собственным народом поначалу колебался, а потом вместе с дружиной встал на сторону восставших. Наградой московскому Ивану за выступление против тверского Александра и стал владимирский великокняжеский стол (1328). Преемники же Калиты его за собой не только удержат, но и превратят со временем в свою наследственную «отчину»6.
Стратегическая победа московских князей была обусловлена не одной лишь демонстрацией преданности монгольским
6 Несмотря на жесткую борьбу за великое княжение после смерти Ивана Калиты, продолжавшуюся несколько десятилетий, московские князья лишь однажды лишились татарского ярлыка. В пору малолетства Дмитрия Донского он был передан суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Но тот удерживал его лишь три года (1359-1362), после чего ярлык снова перешел к Москве.
правителям и подносимыми им дарами, хотя и в этом другие князья конкуренцию с москвичами чаще всего проигрывали. Дело еще и в том, что Калита и его потомки, находясь под властью татар, последовательно расширяли и укрепляли и свою собственную власть на русском пространстве. Удалось же им это именно потому, что они научились усиливать свои властные позиции, опираясь на уже сложившиеся традиции и одновременно корректируя и преодолевая их, выращивая на их основе принципиально иную, нетрадиционную для Руси модель властвования. То не было прямым заимствованием у монголов. То было использование предоставленной монголами «крыши» для постепенной консолидации власти и расширения зоны влияния, что самими колонизаторами вовсе не предусматривалось. Нет никаких оснований утверждать, что московские князья действовали сознательно с расчетом на десятилетия и столетия вперед. Не складывалось в их головах и никакой новой государственной модели. Они, как правило, были не стратегами, а приземленными прагматиками, озабоченными лишь тем, чтобы сохранить в своих руках уже имеющееся и, по возможности, прибрать к рукам им не принадлежащее, т.е. земли других русских князей. Но текущие интересы московских правителей одновременно толкали их к созданию нового системного качества, которое они закладывали, сами, быть может, того не сознавая. Во всяком случае, в монгольский период московские князья новаторами себя не считали: получив великокняжеский стол в обход традиции, они в дальнейшем от резких движений воздерживались, от почвы не отрывались. И тем не менее ко времени вокняжения (1462) Ивана III – первого в их среде радикального политического реформатора – почва эта была уже иной, чем в домонгольскую эпоху, все необходимое для крутого поворота в ней было посеяно и успело прорасти.
Получив татарский ярлык и закрепив его за собой, московские князья приобрели существенные преимущества перед всеми другими князьями. Потому что Иван Калита вместе с ярлыком выхлопотал себе право самому собирать для монголов и самому пересылать в Орду дань со всех русских земель, которая до того собиралась при Участии ханских чиновников7. И это кардинально меняло ситуацию. Во-первых, московские князья, не будучи реальной властью, становились реальными представителями этой власти, ее наместниками и именно таковыми воспринимались.
7 Подробнее см.: Шмурло Е.Ф. Указ. соч. С. 192
Во-вторых, будучи единственными сборщиками дани, они получили возможность превышать установленные монголами нормы и присваивать излишки себе, что существенно увеличивало их финансовые ресурсы и позволяло не только быть самыми щедрыми в подношениях правителям Орды, но и расширять подвластные Москве территории, выкупая их у неплатежеспособных удельных князей, а порой и у самих ханов – так было присоединено, например, нижегородское княжество.
В-третьих, вместе с присоединенными территориями под власть Москвы переходили и бывшие владельцы этих территорий – удельные князья и их бояре, становившиеся боярами князей московских. Кроме того, особое положение последних позволяло им успешно переманивать бояр и у тех князей, земли которых Москве еще не принадлежали.
Само по себе это было не только не ново, но более чем традиционно: привычное право перехода от князя к князю в его практическом воплощении. И московские правители не только формально не посягали на него, но именно на него-то и опирались. Старое становилось в Москве новым, потому что переходившие на московскую службу бояре и удельные князья от дальнейшего пользования этим правом фактически отказывались. Они шли на службу в Москву, даже зная о том, что в 1379 году, при Дмитрии Донском, имел место «воспитательный» прецедент с боярином Иваном Вельяминовым. Он воспользовался своим законным правом и перешел от московского князя к его главному противнику – князю тверскому, активно участвовал на стороне последнего в борьбе с Москвой, но потом был пойман и впервые в Московии подвергся публичной казни. И тем не менее люди в Москву продолжали стекаться. Растущая армия московского боярства хотела служить московским князьям и только им одним.
Такой союз в домонгольской Руси был невозможен. В монгольский же период феномен московского «князебоярства», как назвали его современные российские исследователи Юрий Пивоваров и Андрей Фурсов8, мог стать реальностью только потому, что Москва добилась права быть порученцем и подручным Орды, власть которой на Руси сомнению не подвергалась. По сравнению
8 Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система // Рубежи. 1996. №3. С. 41. Анализ этими авторами феномена «князебоярства» представляется нам весьма продуктивным; в основном, мы следовали по проложенному ими исследовательскому руслу.
с выгодами, проистекавшими из близости к московской, а через нее и к ордынской, власти, преимущества прежних дружинных вольностей выглядели все более призрачными.
Исследователи не без оснований усматривают в «князебоярстве» зародышевую форму явления, которое предопределит существенную типологическую особенность отечественной государственности на столетия вперед. Речь идет о консолидированных околовластных структурах служилых людей (опричнина Ивана Грозного, петровская гвардия, сталинский партаппарат параллельно с органами госбезопасности), которые при рыхлости и неорганизованности общества являлись несущими конструкциями государственности, обеспечивавшими неприкосновенность монопольной власти царей, императоров и генсеков и блокировавшими возникновение вокруг них конкурентной среды9. В системе московского «князебоярства» князь еще не был самодержцем. Самодержцем, возвышавшимся над ним и его боярами, был монгольский хан. Когда последнего не станет, система утратит вместе с ним и внешний источник своего внутреннего равновесия. Тогда-то и выяснится, что «князебоярство» было лишь промежуточным образованием междудомонгольскими боярско-дружинными вольностями и после-монгольским всеобщим «государевым холопством». Или, говоря иначе, между свободой выбора службы, не регулируемой государственным правом, и государственным подданством без прав. Но в монгольскую эпоху об этом еще никто не знал.
Московские князья и бояре были в ту эпоху нужны друг другу, их интересы тесно переплетались. Первые нуждались в военной силе, чтобы чувствовать себя уверенно в роли единственных ставленников Орды в обстановке потенциальных внутренних и реальных внешних угроз: Москве приходилось выдерживать противоборство с сильной Литвой, тоже претендовавшей на объединение «всея Руси» и уже поглотившей ее западные и юго-западные регионы. Бояре же получали от московских князей земли и должности, высокая доходность которых предопределялась монополией Москвы на сбор дани для Золотой Орды.
Лучших условий службы в монгольской Руси не было. Поэтому бояре держались не только за эту службу, но и за утвердившийся Москве семейно-династический – от отца к сыну – принцип преданности власти. Попытки реанимации родового властвования,
9 Там же. С. 42.
в том числе и внутри самой московской династии, поддержки в их среде найти не могли. Вместе с князьями бояре составляли единую и монолитную околовластную (околоордынскую) общность, которой утвердившийся порядок наследования придавал устойчивости. Потому что именно он превращал «князебоярство» в стабильную самовоспроизводящуюся систему, застрахованную от неопределенности и непредсказуемости – неизбежных спутников родового принципа.
Сила «князебоярской» общности, которая умножалась к то. муже пронизывавшими ее родственными связями, была такова, что могла компенсировать дефицит силы в буквальном ее понимании Свидетельство тому – почти фантастическая история начала XV века, упоминаемая едва ли не всеми, кто пишет о той эпохе.
После смерти великого князя Василия I (сына Дмитрия Донского) его наследнику Василию II было всего десять лет, и брат умершего правителя галицкий князь Юрий Дмитриевич отказался признать право своего племянника на великокняжеский стол. Спустя несколько лет Юрий Дмитриевич разгромил войско Василия II и вошел в Москву, выделив племяннику в удел Коломну. А после этого произошло нечто невообразимое: в Коломну вслед за своим князем двинулись московские бояре и все служилые люди. Служить Юрию никто из них не захотел. Родовой принцип московское боярство изжило, возвращаться к нему не желало, а когда находились желающие его реанимировать, противопоставляло им корпоративный саботаж, солидарный отказ от службы. Оно хотело прислониться к стабильной власти, пользоваться преимуществами близости к ней, а не слоняться по Руси в поисках удачи, рассчитывая лишь на личную удаль.
Это организованное и сплоченное «князебоярство», сформировавшееся под монгольским патронажем в материнском лоне старорусских традиций, как раз и позволит послемонгольским правителям вырваться за пределы этих традиций и утвердить на Руси централизованную государственность. Но для такого прорыва в их распоряжении будет не только организованная сила, добровольно отторгнувшая боярские вольности и противостоявшая остаточным проявлениям родового принципа властвования. Им достанется и отработанная легитимная процедура концентрации расчлененного на уделы пространства в одних руках. И процедура эта – правда, не в границах «всея Руси», а только в масштабах Московского княжества – тоже отрабатывалась в русле традиции, складывавшейся в северо-восточном регионе страны еще до монголов.
Речь идет о передаче власти и территории по завещанию. Да, при этом предполагалось наделение тем и другим всех наследников – каждый должен был получить свой удел. Но традиция не предписывала, кому и сколько завещать, она оставляла это на усмотрение завещателя. И московские князья, пользуясь своим правом, начали отдавать преимущество старшему наследнику. Сначала оно было незначительным, но постепенно увеличивалось. А это неизбежно вело к тому, что и в данном случае в лоне традиции вызревало разрушавшее ее новое качество.
«Князья-завещатели не давали старшим сыновьям никаких лишних политических прав, не ставили их младших братьев в прямую политическую от них зависимость, но они постепенно сосредоточивали в руках старшего наследника такую массу владельческих средств, которая давала им возможность подчинить себе младших удельных родичей и без лишних политических прав ‹…›. Политическая власть великого князя московского, уничтожившего потом удельный порядок владения, создавалась из условий этого же самого порядка при помощи права князей-завещателей располагать своими вотчинами по личному усмотрению»10.
Таким образом, тугие узлы проблем, завязанные в киевский период, развязывались не монголами, а самими московскими князьями. Они развязывались с помощью старых методов, известных и в домонгольской Руси, но в этом процессе создавались предпосылки для появления нового системного качества. Конечно, власть Орды тоже играла немалую роль уже потому, что наследник великокняжеского стола изначально получал не только больше территорий, но и монопольное право на связь с Ордой. Это право особо оговаривалось и в договорных грамотах великого князя с удельными («мне знать Орду, а тебе Орды не знать»). Но непосредственно монголы на эволюцию Руси не влияли, ее новая государственность складывалась под их властью, но без них и помимо них. Едва ли не единственная внутрирусская проблема, в решении которой завоеватели участвовали, касалась вечевых институтов и их противоборства с князьями. Однако и в данном случае интересы и действия монголов вполне сочетались с той тенденцией, которая задолго до них наметилась во Владимиро-Суздальской Руси.
В отличие от большинства князей, вечевые институты не изъявляли готовности сотрудничать с колониальной властью.
10 Ключевский В. Указ. соч. С. 42.
Именно они были организующими центрами народной стихи выливавшейся в волнения, восстания, убийства татарских чиновников. Поэтому колонизаторы стремились к ликвидации этих институтов и стали их могильщиками. Там, где вече им не мешал (как в Новгороде), они его не тронули. Они вообще не трогали в сложившемся русском жизненном укладе ничего, что не препятствовало достижению их целей – регулярному получению дани и пополнению монгольского войска за счет русских рекрутов. Но то, что препятствовало, выкорчевывали решительно и безжалостно.
Устранение народно-вечевого полюса местной власти при ликвидации в присоединенных к Москве регионах и ее княжеского полюса не оставляло в политическом пространстве институтов, препятствовавших централизации. Ей же способствовали и описанные выше процессы – оформление «князебоярства», преодоление родового принципа властвования, утверждение легитимной процедуры, позволявшей закреплять большинство территориальных владений за наследником великокняжеского стола. У Ивана III – первого князя, переставшего быть данником монголов,- были все необходимые ресурсы для прорыва к единоличному властвованию. Поэтому он, в отличие от лишенного таких ресурсов Андрея Боголюбского, оказался победителем. Но первого «государя всея Руси» от первого претендента на эту роль отделяли почти три столетия.
За четыре десятилетия правления Ивана III от старой удельной Руси остались лишь отдельные относительно небольшие княжества, принадлежавшие представителям младших ветвей самой московской династии: эти анклавы русской старины окончательно исчезнут лишь в XVII веке после смены властвующей семьи. Они, разумеется, вызывали опасения: при отсутствии сдерживавшей силы Орды удельные князья могли соблазниться идеей возрождения родового принципа и начать борьбу за власть в Москве. Поэтому Иван III и его преемники стремились максимально их ослаблять, в чем и преуспели: ни одной попытки претендовать на московский престол со стороны удельных князей в послемонгольской Руси уже не предпринималось. Что касается четырех крупных княжеств – Тверского, Рязанского, Ярославского и Ростовского, к моменту вокняжения Ивана III еще сохранявших самостоятельность, то при нем они присоединились к Москве либо добровольно, либо под давлением, либо, как Тверь, будучи подчинены силой. Силой же был подчинен и вольный вечевой Новгород, вольным и вечевым после этого быть переставший.
Избавился Иван III и от внешнего конкурента в лице Литвы, претендовавшей на роль объединителя русских земель. Москва впервые сама начала с ней войну (раньше всегда начинали литовцы) и вынудила ее признать московского князя «государем всея Руси». Еще раньше к нему на службу стали переходить князья русского происхождения, земли которых в монгольскую эпоху оказались в составе Литвы, – принятие последней католичества и нараставшее давление на традиционную русскую веру выталкивали из Литвы православных потомков князя Владимира. Вместе с князьями под руку Москвы переходили и территории их княжеств. В противоборстве двух объединительных моделей – централизаторской московской и федеративной литовской, допускавшей широкую автономию земель, – верх брала первая, хотя до присоединения большинства бывших западных и юго-западных русских регионов было еще далеко, а военное противоборство с Литвой продолжалось и при преемниках Ивана III.
Таким образом, конец XV столетия стал новым началом отечественной истории, которое было подготовлено всем предшествовавшим развитием. Началом единой централизованной Руси, объединенной вокруг одного государственного центра и в смысле места (Москва), и в смысле полновластного правителя (московский великий князь). Но этой новой государственности предстояло еще пройти испытание на прочность базового консенсуса между верховной властью, боярской элитой и населением. Он сложился под внешней опекой Орды, а потому его воспроизведение после того, как опека исчезла, не было гарантировано.
Базовый консенсус воспроизведется, но – в существенно обновленном виде и не без сбоев, попятных движений и катастрофических обвалов. Система московского «князебоярства» уступит место русскому самодержавию, сменившему самодержавие ордынское. Его утверждение было обусловлено не только политическими амбициями московских правителей. Оно стало следствием того культурного состояния, в котором пребывал освободившийся от Монгольской опеки русский социум.
6.2. Отцовская «гроза» в семье и в государстве
Уже упоминавшиеся нами Ю. Пивоваров и А. Фурсов для передачи специфических особенностей отечественной государственности, начавшей складываться при Иване III и обретшей законченные формы при его внуке Иване IV (Грозном), ввели несколько новых понятий. Главные среди них – «Русская Власть» (она же «власть моносубъект») и «Русская Система»11. Прописные буквы, используемые для обозначения первой, призваны зафиксировать субстанциональный характер власти верховного правителя («моносубъекта») и производный, подчиненный, лишенный субъектности характер всех других государственных институтов, которые в строгом смысле слова государственными не являются. Однако и статус второй (Русской Системы) не ниже, потому что она не только включает в себя Русскую Власть, как свое главное звено, но и обеспечивает постоянное продление исторических сроков существования последней.
Эта терминология получила довольно широкое распространение и вошла даже в современный политико-идеологический обихход. Используем ее и мы. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что некоторые существенные вопросы данная концепция оставляет открытыми.
Авторы объясняют происхождение Русской Власти монгольским влиянием. Но она оформилась спустя почти столетие после того, как Русь от монголов освободилась. Иными словами, субъект влияния сошел со сцены, а объект, на этой сцене оставшийся, со временем не только стал «моносубъектом», но и воспроизводил обретенное им новое качество в разных формах в течение нескольких столетий, претендуя на такое воспроизведение и по сей день. Значит, кроме монгольского влияния и его инерции было что-то еще. Что же именно? И что происходило с этим «еще» в разные эпохи, почему его ресурсы периодически иссякали, о чем свидетельствуют катастрофические обвалы Власти и Системы, а потом возобновлялись снова? Наконец, сохраняется ли это «еще» сегодня, предопределяет ли по-прежнему нынешнее и будущее развитие страны или осталось в прошлом?
Чтобы возникнуть и воспроизводить себя, Русская Власть (более привычно – русское самодержавие) должна была обладать легитимностью, т.е. соответствовать представлениям элитных групп и большинства населения о ее «правильных» формах и желательном образе. Выше мы говорили о том, как правящая элита Московской Руси в ходе долгой эволюции под чужеземным патронажем была подведена к идее централизованного государства и ее персонификации
11 Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие гипотезы) // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. № 3.С. 13-95.
в фигуре московского великого князя. Но как только это произошло, на боярскую элиту, которая и способствовала в решающей степени утверждению власти московских Рюриковичей на русском пространстве, началось давление – слабое и осторожное при Иване III весьма ощутимое при Василии III, завершившееся кровавой расправой во время правления Ивана IV. Разумеется, у московских правителей были на то свои резоны, которых мы еще коснемся. Поле попробуем понять, почему еще вчера всесильные и сохранившие свою силу бояре даже не пытались сопротивляться, почему шесть тысяч (а сначала всего тысяча) опричников сумели заставить их смириться и безропотно ждать своей участи. Между тем сам Иван Грозный такого сопротивления не исключал, опасался его и готов был даже к эмиграции в Англию. Но его страхи оказались беспочвенными.
Идеологи самодержавия ничего не придумывали и не придумывают, напоминая о том, что в народной поэзии Иван Грозный предстает не как злодей, а как справедливый царь, карающий за измены и неправедные дела12. Не лишена исторического содержания применительно к Московской Руси и мысль о «народной монархии»13. Народный политический идеал в условиях централизованной государственности свою демократически-вечевую составляющую в значительной степени утратил и стал авторитар-номонархическим. Этот идеал действительно легитимировал неограниченную власть царя, но ее неограниченность понималась не как самоцель, а как единственно возможная гарантия от произвола со стороны промежуточных – между царем и народом – около-властных групп, прежде всего со стороны боярства. «Царь гладит, а бояре скребут», «царские милости в боярское решето сеются», «не бойся царского гонения, бойся царского гонителя» – так фиксировалось это настроение в народном творчестве14. Все зло идет от «князей, бояр и всех властетелей, в бесстрашии живущих»15, – так описывал летописец мироощущение участников московского восстания 1547 года, которым было отмечено начало правления Ивана IV. Но на фигуру самого монарха (незадолго до восстания Иван
12 См., например: Черняев Н. Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. М.,1998. С. 74.
13 Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2003.
14 Пословицы русского народа: Сборник В. Даля: В 2т. М., 1989. Т. 1. С. 214.
15 Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982. С. 43.
впервые на Руси стал обладателем царского титула) это народное мироощущение не распространялось.
Царь воспринимался главным и единственным защитником от произвола «всех властелелей», а не его соучастником. Поэтому и опричнину как инструмент бесконтрольной самодержавной диктатуры Иван Грозный много лет спустя вводил, апеллируя именно к этому настроению: он объяснял ее необходимость «изменами, бояр и чиновников, одновременно заверяя простых («черных») людей в том, что «гневу на них и опалы» у него нет16. В ответ же получил от москвичей челобитную с просьбой править, «как ему, государю, годно», а заодно и согласие на это московской знати17, которая пере. перечить сразу и царю, и поддерживавшему его населению позволить себе не могла.
При таком политическом идеале любая правящая элита может быть перемолота властью без опасений, что представители элиты могут быть поддержаны населением или начнут сопротивляться сами. Против опричнины публично выступил митрополит Филипп, за что поплатился жизнью. Московия безмолвствовала. На Земском соборе 1566 года группа его участников выставила отмену опричнины условием своего согласия на продолжение Ливонской войны. Результат тот же – казни протестующих в молчащей стране. Был, конечно, еще Андрей Курбский, но он возмущался из безопасного литовского далека.
Вторая радикальная чистка элиты, хотя и без присущих опричнине массовых жертвоприношений, будет осуществлена Петром I – и опять при всеобщем молчаливом попустительстве. Потом путь Ивана и Петра повторит Сталин, уничтоживший коммунистических бояр ленинского призыва под одобрительные крики управляемой толпы. Если еще раз воспользоваться терминологией Ю. Пивоварова и А. Фурсова, то можно сказать: Русская Система – это система, при которой Русская Власть блокирует субъектность элитных групп, опираясь на пассивную или активную поддержку лишенного субъектности населения.
Массовая приверженность авторитарно-монархическому идеалу в Московской Руси обусловливалась, однако, не только боярским произволом по отношению к населению. Да, оно имело возможность испытать на себе этот разорительный произвол, когда бояр
16 Там же. С. 105.
17 Там же.
в пору малолетства Ивана IV правили без царя и вместо царя. Но и от опричнины – непосредственно или от ее последствий – пострадали не только бояре. Об этом свидетельствует массовое (90% населения) бегство людей из центральных районов страны и их запустение: в Московском уезде, например, величина распаханных земель упала до 1%. Так что говорить о «народной монархии» Ивана IV с точки зрения ее соответствия интересам простолюдинов нет никаких оснований: она била как по боярину, так и по мужику. Однако авторитаритарно-монархический идеал устоял и в пору опричнины.
Он устоял, потому что в питавшей его культурной матрице ему не было альтернативы. Такая альтернатива предполагала наличие в культуре идеи о народном полюсе власти. С ликвидацией вечевых институтов полного вымывания этой идеи из народного сознания не произошло – память о них сохранилась. Но в централизованном государстве вечевая традиция лишалась жизненной почвы.
Двухполюсная князе-вечевая модель властвования могла функционировать лишь в масштабах автономных княжеств и при доминировании ориентированных на международную торговлю городов. В условиях, когда каждый город должен был самостоятельно обеспечивать свою безопасность и свои торговые интересы, у вечевых институтов была собственная организующая и консолидирующая функция: они дополняли князя и одновременно корректировали его деятельность. В централизованном государстве верховная власть берет на себя обеспечение и внешней безопасности, и внутреннего порядка на всей территории страны и решает эти задачи либо непосредственно, как происходит во время войн, либо с помощью своих ставленников на местах. Показательно, однако, и то, что в моменты, когда государство с этими задачами не справлялось или людям так начинало казаться, вечевая традиция в городах оживала. Она возрождалась и при народных волнениях (упоминавшееся восстание 1547 года началось с того, что москвичи собрались «вечьем»19),и в периоды, когда государство оказывалось бессильным в противостоянии внешним угрозам (так произошло в Смутное время, о чем нам еще предстоит говорить).
Но если в городских центрах вечевая традиция напоминала о себе лишь в обстоятельствах чрезвычайных, то в локальных сельских и отщеплявшихся от них казачьих мирах она определяла и всю
18 Коломеец А. Финансовые реформы российских царей. М., 2001. С. 37.
19 3имин А.А., Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 41.
повседневную жизнь. Тем не менее с авторитарным государственным идеалом эта традиция во времена Московской Руси не конкурировала. Две составляющие старого двухполюсного идеала отделились друг от друга пространственно и функционально: одна из них обслуживала государственный уровень бытия, а другая – изолированные друг от друга архаичные догосударственные анклавы. То было не устранение социокультурного раскола, а упразднение прежней политической формы его проявления. Пройдут столетия, и два мира столкнутся снова: вечевой идеал предъявит свои права на государственность. А до этого он не раз вдохновит крестьян и особенно казаков на то, чтобы ее сокрушить, но не ради того чтобы устранить должность царя вообще, а ради того, чтобы сделать его «своим», т.е. управляющим так же, как управляются вольные казачьи миры, и опирающимся не на боярско-дворянское, а на казачье войско.
Послемонгольская московская государственность, несмотря на все последующие трансформации, была не в состоянии ни вытеснить вечевой идеал из культуры, ни полностью подчинить его государствообразующему идеалу авторитарному. Альтернативы последнему в Московской Руси не сложилось и сложиться не могло, но и политически самодостаточным он не стал. Не стал же он таковым именно потому, что тоже уходил своими корнями в архаичную догосударственную культуру.
Давно замечено, что московская централизованная государственность строилась по модели патриархальной семьи, глава которой имел неограниченную власть над домочадцами. «Домострой» XVI века, представлявший собой свод правил поведения для горожанина, отцу семейства предписывал «наказывать сына своего в юности его», не испытывать жалости, «младенца бия», а детям – беспрекословное повиновение. При этом целью «Домостроя» было не ужесточение, а смягчение нравов, упорядочивание отцовского произвола, царившего в городских и сельских, «элитных» и «низовых» семьях – в данном отношении Московская Русь была культурно однородной. Законодательство той поры (и долгое время после) тоже было «отцецентричным». Оно фиксировало лишь обязанности детей по отношению к родителям; права же послених практически не ограничивались. До середины XVII века родителя не несли никакой ответственности даже за убийство детей. Реально же, учитывая бесправное положение женщины, речь шла о бесконтрольной власти главы семьи (в деревне – «большака»). На этой культурной матрице и основывалась неограниченная власть царя-самодержца, ее легитимация. Грозный царь в данной матрице – не аномалия, а норма. Согласно «Домострою», грозным, т.е. внушающим страх, должен был быть и любой глава семьи20.
Попытки использовать модель патриархальной семьи для идеологического обоснования единовластия князя имели место во Владимиро-Суздальской Руси и в домонгольский период21. Однако тогда она была нереализуема; идеал единолично властвующего на всей территории князя-отца не мог быть воспринят в условиях, когда ему противостоял идеал вечевой, а князей было много, и все они в своих уделах были «отцами». Но он мог быть воспринят после того, как почти вся Русь оказалась под властью одного монгольского царя, стоящего над всеми русскими князьями. Трансформация привычной модели патриархальной семьи в модель централизованной государственности произошла в значительной степени благодаря колонизаторам. Они же, сами того не желая, способствовали внедрению в народное сознание идеи единства Русской земли, потому что беду они на эту землю принесли единую, общую для всех.
Московские князья стали персонификаторами авторитарно-монархического («отцовского») идеала вовсе не потому, разумеется, что были наместниками ордынских ханов. В конечном счете, они стали таковыми как освободители Московии от Орды. Однако предпосылки своей легитимации в принципиально новой для Руси роли были заложены ими еще во времена Ивана Калиты.
После получения им монгольского ярлыка на великое княжение надолго прекратились разорительные и кровавые монгольские набеги, ставшие кошмаром для нескольких поколений22. Наместники колонизаторов и сборщики дани для Орды, не забы-
20 Подробнее о семейных отношениях в Московской Руси см.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 2000. Т. 1. С. 219-281.
21 В «Слове» и «Молении» Даниила Заточника (ХII-ХIII вв.) можно обнаружить не только апологию княжеской власти, но и попытку легитимировать ее с помощью «отцовской» модели («князь щедр отец есть слугам многим»). См.: Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932. С. 8. См. об этом также: Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 230.
22 Историки по-разному оценивают последствия этих набегов. Часть исследователей полагает, что степень их разорительности в летописях преувеличена. Но тяжесть обрушившихся на население ударов и понесенных им потерь не отрицает никто.
вавшие при этом о собственных интересах и не отличавшиеся летальностью в выборе методов и средств, они тем не менее принесли на Русь мир и относительную безопасность, что уже само по себе не могло не способствовать их легитимации23. Поэтому именно московские князья в итоге оказались победителями и получили возможность строить государственность в соответствии с новым массовым идеалом. Но этот идеал не содержал в себе никаких ограничений для трансформации «князебоярской» модели правления в самодержавную. Более того, он такой трансформации благоприятствовал, потому что боярам и прочему «начальству» – как особому слою с особыми полномочиями – в нем вообще не было места
Однако отсюда же проистекали и трудности функционирования государственности, выстроенной посредством перенесения на уровень большого общества культурной матрицы патриархальной семьи. Они отличались от тех, которые существовали в домонгльской Руси, переносившей на этот уровень двухполюсную родоплеменную модель властвования, но тоже были значительными.
В патриархальной семье между отцом («большаком») и другими домочадцами нет никаких промежуточных звеньев: в ней полновластие одного сочетается с равенством в бесправии всех остальных. В ней может быть конкуренция за симпатии «большака», у последнего могут быть любимчики, но не может быть никаких частных и групповых интересов, противостоящих интересу общему, монопольно представляемому и реализуемому главой семьи. Если же такие интересы проявляются, то они подлежат подавлению семейным самодержцем. В государственной жизни без промежуточных управленческих звеньев не обойтись и многообразие частных и групповых интересов устранить невозможно – ведь речь идет о тысячах людей, с большинством из которых правитель в жизни даже не пересекается и лично проконтролировать их не в состоянии.
Тем не менее опыт России (и не только) показал, что при доминировании в культуре патриархально-авторитарного идеала «отцовская» модель построения государства может быть использована-
23 «Образцовый устроитель своего удела, умевший водворять в нем общественную безопасность и тишину, московский князь (Иван Калита. – Авт.), получив звание великого, дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям север восточной Руси. Этим он подготовил себе широкую популярность, т.е. почву для дальнейших успехов. Летописец отмечает, что с тех пор, как московский князь получил от хана великокняжеское звание, северная Русь стала отдыхать от постоянных татарских погромов, какие она терпела» (Ключевский В. Указ. соч. Ч. II. С. 20).
Более того, этот же опыт свидетельствует о том, что в таком виде, при определенных коррекциях, оно может просуществовать достаточно долго – между первым, если считать от Ивана Грозного, и последним в отечественной истории «отцом народов» прошло четыре столетия. Значит, общий и частные интересы в ней как-то сочетались. Однако сочетались они таким образом, что устойчивый базовый консенсус при этом не обеспечивался. Он периодически обнаруживал свою хрупкость, а временами и просто рассыпался, что сопровождалось катастрофическими обвалами государственности. Данное обстоятельство и навело, наверное, Николая Бердяева на мысль о двойственной природе русского народа, названного им творцом «огромной и могущественной государственности» и одновременно «самым безгосударственным»24. В чем же причина этого парадокса?
6.3. Общие и частные интересы в «отцовской» модели
Главный государствообразующий институт – русское самодержавие – действительно утвердился на Руси не вопреки народным представлениям и идеалам, а в соответствии с их культурным содержанием. Но концентрация ничем не ограниченной полноты полномочий в руках самодержца-моносубъекта не предполагает формирования ответственности за государство у всех остальных. Монополия на персональное представительство общего интереса неизбежно ведет к тому, что у других понятие об этом интересе развивается слабо или не развивается вообще.
Сказанное относится не только к населению, но и к около-властным элитным группам. При неразвитости понятия об общем интересе в народном сознании элита, даже если она претендует на политическую ответственность, рано или поздно ощущение такой ответственности утрачивает. А это, в свою очередь, неизбежно ведет к тому, что границы между общим и частным интересами в ее представлениях и практическом поведении размываются. В результате пустующее в народной культурной матрице место для «начальства» заполняется негативным образом этого «начальства». Но глубоко укоренившееся неприятие элиты и есть ни что иное, как «безгосударственность».
При таком неприятии периодические радикальные смены элиты, осуществляемые консервативными или революционными
24 Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 14.
персонификаторами общего интереса, не в состоянии существ повлиять на ее культурное качество. Ведь его изменение может быть задано только самим персонификатором, для чего он сам должен и стать, и предстать субъектом обновления. К этому его могут подталкивать внешние и внутренние вызовы, социальные кризисы и другие экстремальные обстоятельства. Но при ориентации на «безгосударственный народ» такие обстоятельства могут стимулировать как повышение, так и еще большее снижение культурного качества.
В истории послемонгольской Московии было и то, и другое. Это – история становления самодержавной государственности, пытавшейся разными способами адаптировать к «отцовской» культурной матрице наличную элиту, к чему та изначально приспособлена не была, но и выдвинуть альтернативу данной матрице не могла тоже. Это – история зигзагообразного движения к базовому консенсусу в только что образовавшемся централизованном государстве, история поиска компромиссов и сползания к бескомпромиссному насильственному диктату, обернувшемуся в конечном счете рассыпанием консенсуса и всеобщей смутой.
При доминировании в культуре «отцовской» матрицы, не содержащей в себе оснований для легитимации полномочий и интересов элиты, последняя всегда вынуждена прислоняться к властителю-отцу, такой легитимностью наделенному. Тот же, в свою очередь, должен считаться с частными и групповыми интересами элиты, опираясь на которую он только и может править, и вместе с тем ограничивать ее притязания на государственное целеполагание, т.е. на участие в определении общего интереса. Властитель-отец нуждается в исполнителях и советчиках, но не в субъектах политики. Субъект в такой модели властвования и при такой культурной матрице может быть только один, что ко времени освобождения Руси от монголов было хорошо известно по опыту восточных деспотий, включая сокрушившую Византию султанистскую Турцию. Однако в послемонгольской Московии подобный тип отношений между великим князем и боярской элитой сразу сложиться не мог. Потому что на стороне бояр была многовековая традиция соучастия не только в реализации общего интереса, но и в его формулировании.
Эта традиция, уходившая корнями во времена Киевской Руси, тоже формировалась по аналогии с семьей, но то была модель братской семьи, в которой правитель-князь мог в лучшем случае претендовать на роль старшего брата, но никак не всевластного отца. Каждый боярин-дружинник имел право голоса в решении общих вопросов и отстаивании своей точки зрения, которое подкреплялось правом его перехода от одного князя к другому. Модель московского «князе6оярства» монгольской эпохи эту традицию не отвергала. Роль князя, ставшего наместником ордынского хана, в ней по сравнению с домонгольским периодом возросла, а бояре своей свободой не злоупотребляли: они держались за князя, видя в этом выгоду. Но и князь держался за бояр – он зависел от них не меньше, чем они от него. Поэтому традиция «братской семьи» сохранялась. Сохранилась она и после освобождения от монголов. Более того, она имела институциональное воплощение в виде Боярской думы – коллективного совещательного органа при московских государях, который устоит даже в годы опричнины и благополучно доживет до петровских времен. Однако превращение московского князя из наместника монгольского хана в преемника его власти уже само по себе создавало альтернативу этой традиции.
Несовпадение двух принципов властвования – «отцовского» и «братского» – до Ивана Грозного на политической поверхности себя не обнаруживало (мы и знаем о нем в основном из переписки Грозного с Курбским), но на политических настроениях не могло не сказываться. Тем более что второй из этих принципов отвечал интересам бывших удельных князей и их потомков, ставших после присоединения их княжеств к Москве влиятельной ветвью московского боярства. Будучи представителями рода Рюриковичей, «княжата», как их тогда называли, рассчитывали на восстановление в новых условиях старого родового принципа – на сей раз не посредством дележа между собой территории, а посредством коллективного управления страной из одного центра25. Они готовы были примириться с превращением княжеской власти в государеву и даже Царскую – «государь всея Руси» стал фактом, произошедшая централизация воспринималась как необратимая, а старые удельные порядки – как невозвратимые. Но «княжата» и бояре хотели «коллективного руководства», т.е. желали иметь зависимого от них государя, между тем как последний стремился к максимальной независимости от них.
Оседание «княжат» в Москве сопровождалось возникновением системы занятия государственных должностей, получившей название местничества. Она предполагала воспроизведение иерархии служебных статусов («мест») из поколения в поколение: предста-
25 Подробнее см.: Ключевский В. Указ. соч. С. 152-153.
витель каждой семейной ветви по отношению к представителя, других ветвей должен был занимать в этой иерархии то же место, к кое занимали его предки. Московские государи эту систему признали – спорить с традицией («стариной») в ту эпоху было не принято. Но местничество не помешало им продвигаться к единовластию.
Для этого послемонгольским правителям нужно было найти традицию, которую они могли бы противопоставить той, к которой апеллировали их оппоненты, причем традицию более глубокую. Она была найдена уже во времена Ивана III за пределами русского пространства и времени, о чем нам предстоит говорить в следующем разделе. Но и без этой традиции шансы «княжат» на установление в Москве «коллективного руководства» Рюриковичей были призрачными. Равно, как и шансы старого московского боярства, сформировавшегося в монгольскую эпоху, на сохранение прежней системы «князебоярства».
Местничество в определенной степени ограничивало московских государей в назначении на ответственные должности, но оно не делало их политически зависимыми от назначенных. Институциональная форма Боярской думы, обеспечивая «княжатам» и боярам возможность соучастия в принятии государственных решений, не могла использоваться ни для противостояния воле государей, ни для дискуссий о распределении полномочий между ними и княжеско-боярской элитой. Это не мешало оживленной идеологической полемике об общих принципах и способах правления, которая велась в послемонгольской Руси и о которой нам тоже предстоит говорить в следующем разделе. Но открыто о своих притязаниях элита не заявляла и в плоскость политической борьбы их не переводила. Потому что в «отцовскую» культурную матрицу такие притязания не вписывались, а матрица «братской семьи» конкуренции ей составить не могла уже в силу того, что не находила отклика у населения.
За менее чем полтора десятилетия боярского правления при малолетнем Иване IV Русь окончательно убедится в том, что околовластная элита, будучи предоставлена самой себе, ответственным носителем общего интереса не является. Она не обнаружила даже солидарного представления о нем, а показала лишь стремление подменять его интересами отдельных боярских кланов, друг с другом противоборствующих. Что касается «низов», то они были доведены при этом до массовых волнений и восстаний – в том числе и в самой Москве. Послемонгольская русская элита, особенно княжеского происхождения, без энтузиазма реагировала на превращение в «государевых холопов». Но всех, кто находился на социальной лестнице ниже ее, она могла представлять себе только в роли холопов.
Едва ли не самое убедительное свидетельство тому – отношение к «низам» князя Андрея Курбского в его литовских владениях после бегства из Московии. Оно убедительно уже потому, что речь идет о наиболее последовательном и ярком защитнике боярских вольностей и обличителе их узурпации московским царем. Известна жалоба жителей литовского имения Курбского на злоупотребления его урядника: он, по их словам, демонстрировал «неуважение вольностей наших, прав и привилегий», велел арестовать некоторых из них «без суда и без всякого права», после чего подвергал «жестокому и неслыханному заключению, в яму, наполненную водой». На вопрос о причинах такого обхождения с людьми урядник отвечал, что действует «по приказанию своего пана, его милости князя Курбского», который, будучи владельцем имения и подданных, «волен наказывать их, как хочет».
Одного этого факта достаточно для вывода о том, что конфликт «отцовской» и «братской» моделей властвования неправомерно рассматривать как конфликт двух разных культур. Как таковая, «отцовская» модель не отвергалась никем. Но одна из сторон (московские правители) рассматривала ее как универсальную, одинаково распространяющуюся на всех, а другая (бояре и особенно «княжата») для себя хотела исключения. Первая сторона полагала, что в государстве, как и в семье, отец может быть лишь один. Вторая же видела себя особым слоем с «отцовскими» правами по отношению к нижестоящим и «братскими» правами в отношениях с государем. Естественно, что при таких установках и соответствовавшем поведении элита не могла рассчитывать на поддержку населения.
В государстве, выстроенном по «отцовской» модели, отец и в самом деле может быть только один. Или, что то же самое, в таком государстве может быть один единственный персонификатор общего интереса. Проблема, однако, заключалась в том, что формировавшаяся самодержавная форма правления адаптировалась культурному качеству не только населения, но и элиты, что блокировало становление последней как государственно-ответственного субъекта развития. Проблема, с которой страна столкнется уже исторических границах Московской Руси.
Родоначальником отечественного самодержавия принято считать Ивана Грозного. Но это не очень справедливо по отношению к его деду Ивану III и отцу Василию III. Потому что именно при них начал складываться и почти сложился тот симбиоз власти и собственности, который и предопределил, в конечном счете, создание в Московской Руси государственности самодержавного типа принципиально отличной от европейской. Именно при них произошло фактическое сосредоточение в руках московских государей всей земли – кроме уделов, сохранявшихся за ближайшими, родственниками правителей, а также территорий, принадлежавших церкви, но на них и Иван Грозный всерьез не покушался. Земля распределялась среди служилых людей в обмен на службу. И это относилось не только к поместному дворянству, которое возникло и укрепилось в годы правления деда и отца Ивана Грозного, но постепенно распространялось и на боярство: сохранение за ним его наследственных земельных владений (вотчин) тоже становилось условным, ибо ставилось в зависимость от государевой службы – прежде всего военной. Иван Грозный лишь завершил движение в этом направлении, уравняв дворян и бояр в том отношении, что тем и другим законодательно предписывалось готовить и поставлять для участия в войнах количество людей, пропорциональное размерам земельных участков. Но сама обусловленность землевладения службой возникла задолго до Грозного.
Между тем в Европе такая обусловленность уже тогда становилась достоянием истории. Кроме того, государство и раньше не обладало там монополией на земельную собственность: в европейском феодализме вассалы обязаны были службой по договору наделявшим их землей сюзеренам, т.е. частным лицам, а не государству, между тем как на Руси подобная практика не укоренилась вообще. На этой основе утверждалось в Европе и право частной земельной собственности, постепенно превращавшееся из условного в безусловное. Возникновение европейских абсолютных монархий, происходившее примерно в те же времена, когда на Руси утверждалось самодержавие, сопровождалось концентрацией политической власти в руках монархов и их противоборством с крупными феодалами – порой не менее кровавым, чем в опричной Московии. Но само право собственности в Европе оставалось незыблемым и в зависимость от государственной службы не ставилось.
Московская Русь развивалась иначе. При обусловленности землевладения службой частные интересы изначально выступали здесь как проекции интереса общего, персонифицированного в лице московского государя, который превращался одновременно в верховного собственника. Никакой альтернативы такому сочетанию интересов «отцовская» культурная матрица в себе не содержала. Поэтому ни старомосковские бояре, ни «княжата» воспрепятствовать утверждению самодержавия были не в состоянии. И система местничества, и Боярская дума, состав которой формировался государем с учетом местнической иерархии, не столько противостояли этой тенденции, сколько вписывали ее в традиционный политический контекст. Подобно тому, как собрание монгольской знати (курилтай), с которым хан мог держать совет, не ограничивало единоличную власть монгольского правителя, не выступала таким ограничителем по отношению к правителям московским и Дума. Она могла удерживать их от произвола по отношению к старой элите. Но Иван Грозный наглядно и убедительно продемонстрировал, что сдерживающая сила традиции в Московии была невелика. Что касается нового и быстро увеличивавшегося слоя поместных дворян, то они могли лишь ходатайствовать о том, чтобы система служилого условного землевладения была доведена до логического завершения. Земля, которой власть расплачивалась с дворянами за службу, без работников ничего не стоила. В отсутствие механизмов прикрепления к земле система давала сбои. Ее достраивание требовало закрепощения крестьян, что и происходило постепенно на всем протяжении московского периода и было завершено к середине XVII века.
Однако наиболее чувствительные системные сбои, которыми было отмечено на Руси XVI столетие и за которыми последовал катастрофический обвал во всеобщую смуту, обусловливались не тем, что русская государственность была недостроенной. Более полувека после освобождения от монголов она демонстрировала жизнеспособность и устойчивость. Трения между государями и княжеско-боярской элитой не мешали установлению базового консенсуса. Хрупкость же этот консенсус стал обнаруживать лишь тогда, когда система начала сталкиваться с нестандартными вызовами.
Первый раз с таким вызовом она столкнулась в пору малолетства Ивана IV, когда оказалась без «отца». Второй раз – в разгар Ливонской войны, когда на сторону противника, проиграв сражение и опасаясь царской кары, перешел один из лучших русских полководцев, неоднократно упоминавшийся нами князь Андрей Курбский. Это было воспринято Грозным как прецедент, чреватый непредсказуемыми последствиями, как проявление глубокого общего кризиса. В эпоху Ивана IV обозначились и два возможных ответа на такого рода нестандартные ситуации. Первый ответ – формирование государственной системы посредством подсоединения к однополюсной авторитарной модели другого, народного полюса; второй – опричная тирания.
Столкнувшись в самом начале своего царствования с последствиями «безотцовского» боярского правления, Иван IV пошел, как мы сказали бы сегодня, по пути создания правительственной команды, способной консолидировать противостоявшие друг другу боярские кланы и снять недовольство населения княжеско-боярской элитой в целом. Так появилось правительство во главе с «человеком со стороны» Алексеем Адашевым (он был незнатного происхождения), задним числом названное Андреем Курбским на польский манер «Избранной радой» и под этим именем оставшееся в истории. Именно этой команде предстояло склеивать распавшуюся социальную ткань и восстанавливать базовый консенсус, ста носителем и проводником общего интереса, понятие о котором воз рождалось после того, как пустовавший московский престол был занят молодым царем.
Решение задачи реформаторам и поддерживавшему их царю виделось в поисках компромисса между населением и элитой. Первое было недовольно произволом московских бояр-наместников («кормленщиков») на местах. Поэтому правительство решилось пойти на отмену «кормлений», предполагавших содержание наместников за счет населения и оборачивавшихся многочисленными злоупотреблениями с их стороны при неспособности защитить людей от разбоев и грабежей, нараставшая волна которых стала прямым следствием социального распада. Но это не означало отстранения княжеско-боярской элиты от управления страной: военные и гражданские функции в центре за ней сохранялись, а если учесть, что статус Боярской думы, включая ее законодательные полномочия, впервые был подтвержден юридически, то компромиссность реформ предстанет во всей своей очевидности. Что касается управления на местах, то альтернативой «кормлениям» должно было стать делегирование административной ответственности самому населению посредством возложения полицейских, судебных и фискальных (сбор податей) обязанностей на выбранных им лиц.
Речь не шла, однако, ни о местном самоуправлении в том его виде, в каком оно складывалось на Западе, ни о возвращении к отечественной вечевой традиции. Это была попытка возложить на местные выборные институты не местные, а общегосударственные функции. «Это была новая земская повинность, особый род государственной служ6ы, возложенной на тяглое население»26. Приняв во внимание тот факт, что на выборных ложилась двойная ответственность (и перед центральной властью, и перед избравшими их людьми), а также то, что плохое выполнение обязанностей грозило им серьезными, вплоть до смертной казни, наказаниями, нетрудно понять, почему в большинстве районов страны новшество реформаторов не прижилось. Подсоединить к однополюсной модели власт-вования второй полюс, сохраняя ее однополюсность, – задача неразрешимая. Но эта первая попытка такого соединения заслуживает внимания хотя бы потому, что она не стала последней. Равно как и потому, что и сегодня есть идеологи, склонные искать и находить в ней истоки самобытной отечественной демократической традиции, выгодно отличающейся от традиции европейской.
Не могли претендовать на роль второго полюса власти и Земские соборы, ставшие еще одним управленческим новшеством Ивана IV и его реформаторов. Это были собрания не выборных делегатов от разных групп населения или отдельных сословий, которые в Московской Руси не сложились, а служилых людей, которые «являлись на собор не представителями общества или земли, а носителями службы, общественными орудиями центрального управления»27. Можно сказать, что Земские соборы эпохи Ивана Грозного, собиравшиеся всего два раза по экстренным поводам, использовались как средство обеспечения не общенационального, а широкого внутриэлитного консенсуса. Но они тем не менее проложили историческое русло к будущим соборам XVII века, хотя и не надолго, но продвинувшим страну к двухполюсной модели. Потребность же в них будет обусловлена последствиями той политики, которую Иван Грозный проводил не в первую, а во вторую половину своего царствования.
Историки до сих пор спорят о причинах опричного террора. Не вступая в дискуссию на эту тему, отметим лишь, что перед нами тот случай, когда царь, реагируя на острейший системный кризис, защищал от его последствий не столько государственную систему (он ее как раз разрушал), сколько самого себя. Неудачи в Ливонской войне и бегство в Литву Курбского подрывали его легитимность – по крайней мере в княжеско-боярской элите, к которой
26 Там же. С. 393.
27 Там же. С. 407.
Иван Грозный давно уже не испытывал доверия. За десять с лишним, лет до введения опричнины он заболел и на случай своей смерти потребовал присягнуть его малолетнему сыну. Значительная часть высокопоставленных придворных, в том числе и некоторые представители «Избранной рады», сделать это отказалась, отдавая предпочтение двоюродному брату царя Владимиру Старицкому. Мотивы при этом могли быть разные – не только эгоистические, но и государственные: не исключено, что при малолетнем наследнике престола страну ждало примерно то же, что она недавно пережила и от чего с трудом оправлялась. Царь, однако, выжил, вынеся из этой истории многократно возросшую подозрительность относительно лояльности к нему околовластной элиты.
Ее сопротивление воле правителя для многих ее представителей обернется тем же, чем несколько столетий спустя обернулось для большевистской элиты голосование части делегатов XVII съезда Коммунистической партии против Сталина. Через пять лет, к следующему съезду, подавляющего большинства из них уже не будет в живых. Иван Грозный ждал дольше и решился на террор лишь после бегства Курбского. Но этот террор означал, что в «отцовской модели властвования общий интерес может подменяться не только частными интересами привластных групп, но и частными интересами самого «отца». Репрессии, ставшие впоследствии массовыми, поначалу обрушились прежде всего на тех бояр и «княжат», которые обнаружили нелояльность во время болезни царя или которых он в такой нелояльности подозревал (как, например, людей, близких к Курбскому). Был умерщвлен со временем и Владимир Стариц-кии, военные таланты и личная храбрость которого заставляли царя видеть в нем опасного конкурента, поскольку сам он ни тем, ни другим не отличался.
Фактически это означало признание того, что добровольный базовый консенсус царь обеспечить не в состоянии, а в состоянии лишь принудить к такому консенсусу силой, т.е. посредством столь же избирательного, сколь и неразборчивого физического устранения одних и устрашения остальных. Однако принудительно предписанный консенсус непрочен и недолговечен уже потому, что в нем общий интерес подменяется частным интересом предписанта. И случай с опричниной не стал в этом отношении исключением.
Частный интерес Грозного проявился не только в создании отряда телохранителей-опричников и выборе их жертв, но и в самом предпринятом им расчленении территории страны на опричнину, перешедшую в его личное управление, и земщину, где сохранялись прежние порядки. Не беремся судить, действительно ли московский правитель «создавая опричнину по образу и подобию княжеского удела», намеревался «возродить порядки, изжитые еще в XV в.», хотел вернуться к практике раздела государства»28. Мы отчетливо видим в его действиях стремление взять под личный контроль огромные территориальные ресурсы, позволявшие, в свою очередь, контролировать все торговые пути страны и обеспечивать опричным районам огромные экономические преимущества перед неопричными. Но мы не видим в стратегии Ивана IV убедительной государственной логики. А тот факт, что через восемь лет после введения опричнина не только была упразднена, но само слово это запрещено было произносить вслух, можно рассматривать как признание ее бессмысленности самим инициатором.
Нельзя сказать, что опричнина не дала никаких результатов сточки зрения целей самого царя. Его потенциальные противники (точнее – те, кого он считал противниками) были устранены, отобранные у репрессированных бояр и «княжат» вотчины увеличили земельный фонд казны, которого не хватало для наделения участками возраставшей массы служилого дворянства. Но упрочению государственности и развитию государственного сознания, т.е. укоренению в нем понятия об общем интересе, опричнина не способствовала. Наоборот, она подготовила отход огромных масс людей от государства, запустив механизм смуты. Катастрофа, последовавшая через несколько лет после смерти Грозного, – отложенный результат его опричнины. Его идеология и политика «привели к расколу русского общества, со всей определенностью выразившемуся в Смутное время»29.
Однако обвал страны в смуту имел и другую причину. Это была стихийная реакция русского социума на еще один нестандартный вызов, перед которым государственная система, выстроенная на основе патриархально-семейной «отцовской» матрицы, вынуждена была капитулировать. Ответа на такой вызов у системы не оказалось вообще.
Дело в том, что «отцовская» монархическая модель беззащитна перед обрывом династической преемственности. Патриархальная
28 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 509, 510.29
29 Живов В. М., Успенский Б А. Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 62.
семья воспроизводит себя благодаря тому, что у ее главы есть естественный, «природный» преемник. Прекращение правящей династии при доминировании авторитарно-монархического идеала может сопровождаться культурным шоком и делегитимацией новой верховной власти, как не подлинной, полученной не «природным» путем. После смерти бездетного сына Ивана Грозного Федора Ивановича нового царя пришлось выбирать, что «должно было представляться народной массе не следствием политической необходимости, хотя и печальной, а чем-то похожим на нарушение законов природы: выборный царь был для нее такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать»30. Отсюда – феномен русского самозванства как продукт смуты и одновременно подпитывающий ее источник. Феномен, с которым впервые столкнулась Русь Московская и который надолго ее переживет.
Возвращаясь к словам Николая Бердяева, еще раз повторим: отмеченное им парадоксальное сочетание государственного и антигосударственного начал в русском народе связано с тем, что при концентрации государственного начала в одном лице у всех остальных оно не развивается. В «отцовской» модели абстракция общего интереса не может быть освоена; он существует как бы поверх интересов частных и групповых, с ними не пересекаясь и отождествляясь исключительно с фигурой правителя. Это, в свою очередь, не может не сопровождаться поисками идеологического обоснования «отцовских» прав первого лица, легитимирующих именно его возвышение над всеми другими «отцами», и поисками способов трансляции общего интереса от первого лица к тем, кто должен его обслуживать.
Разумеется, главными способами в данной модели выступают сила, принуждение, устрашение. Но само право на использование силы в государстве, в отличие от той же семьи, всегда должно быть санкционировано и идеологически. Посмотрим, как это происходило в Московской Руси.
6.4. Православный царь как языческий тотем
Становление и развитие Московии – это становление и развитие в первом осевом времени. Формирование русской централизованной государственности в значительной степени стало возможно благодаря тому, что абстракция единого христианского Бога, закрепившись в русском сознании, объединила страну общей верой. Об-
30 Ключевский В. Указ, соч. М., 1937. Ч. 3, С. 56.
той государственности, ее падение в смуту были вызваны, не в последнюю очередь, тем, что христианский идеал был изначально деформирован неорганичным соединением с язычеством, не разграничивающим божественное и человеческое, когда речь идет о сакрализации правителей. Однако и само такое соединение не было беспричинным, а уходило корнями в наличную культуру отечественного социума московской эпохи.
За столетия монгольского владычества Русь значительно кинулась по пути христианизации. Православие стало консолидирующей народной религией, основой русской идентичности. Этому немало способствовала деятельность православной церкви: сотрудничая с татарами и молясь за ордынских ханов, она тем не менее помогала населению сохранить ощущение своей особости и обретать ощущение своей религиозной общности. Кроме того, после получения московскими князьями монгольского ярлыка на великое княжение церковь стала активно и целенаправленно поддерживать их практически во всех действиях. Сам факт, что уже в первой половине XIV века митрополит вместе со своим двором переехал из Владимира (куда еще раньше перебрался из Киева) в Москву, не мог не содействовать ее становлению и укреплению как общерусского центра.
Но эти существенные изменения в осознании религиозной и политической общности не сопровождались столь же глубокими трансформациями культурными. Поэтому они создавали предпосылки для сакрализации государственности в лице ее персонификатора, но были недостаточны для преодоления языческой архаичности самой этой сакрализации.
Христианский культ любви и свободного постижения Бога и его Истины не мог преобразовать повседневный жизненный уклад Московской Руси. Этому препятствовали и уроки жестокости, преподанные монголами. В такой ситуации самодержавный отцовский произвол в семье церковь могла лишь пытаться смягчить, и «Домострой» тому пример. На само же семейное самодержавие она, как мы видели, не покушалась, более того – всемерно его поощряла. Но при этом и по отношению к государству и его устройству в церкви наибольшие шансы на победу имели течения и лица, обосновывавшие необходимость неограниченной самодержавной власти московского государя. В том числе и потому, что запрос на такое обоснование шел от самой власти.
Этот идеологический запрос существенно отличался от аналогичных запросов во времена Киевской Руси. Киевские князья
нуждались в христианстве как объединительной религии, призванной сменить многообразные языческие верования подчиненных Рюриковичами племен и заблокировать междоусобные войны великокняжеский стол (последнее им не удалось). В послемонгольской Руси таких задач перед правителями уже не стояло. Но на мест старых вопросов возникли новые. И главный среди них – вопрос о политико-идеологическом и символическом дистанцировании персонификатора власти от привластной княжеско-боярской элиты при сохранении за ней освященных традицией прав соучастия в принятии государственных решений.
Послемонгольской Руси, как и Руси домонгольской, была неведома абстракция закона как универсального принципа, в соответствии с которым строится государственность и распределяются полномочия между ее отдельными институтами. Упоминавшееся выше узаконивание Иваном Грозным полномочий Боярской думы, осуществленное в экстремальной политической ситуации, было шагом в этом направлении, но продолжения он не получил, а впоследствии сам же Грозный наглядно продемонстрирует, что основной вектор эволюции московской государственности определялся отнюдь не законом. Он определялся противоборством разных интерпретаций абстракции времени, как уходящей в эмпирически нефиксируемую глубь веков традиции, и абстракции вечности, как Бога и его воли, от любых ограничений, включая традицию, не зависимой.
Поначалу – при Иване III – борьба шла в основном за время. Первый «государь всея Руси», чтобы увеличить дистанцию между собой и привластной элитой, жившей воспоминаниями о русской традиции «братской семьи», должен был найти традицию, которая была бы одновременно и русской, и более древней и глубокой, чем русская. Укоренившееся к тому времени на Руси православие и падение за несколько лет до вокняжения Ивана Ш Византийской империи (1453) такую возможность предоставляли, и московский правитель ею воспользовался.
Женившись на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог, он осуществил своего рода захват чужого времени, превратил его из абстрактного прошлого в конкретное настоящее. Символическое значение этого шага было существенно иным, чем завоевание царевны Анны крестителем Руси киевским князем Владимиром. После того, как Византия пала под турецким натиском, а Русь освободилась из монгольского плена, последняя претендовать на роль и миссию преемника Византийской православной империи, а московский государь – на роль и миссию византийских императоров.
Женитьба на Софье Палеолог, заимствование византийского двухглавого орла в качестве герба, обустройство пышного двора на византийский манер и введение соответствующего церемониала – то были лишь символические детали, наглядно демонстрировавшие общий замысел. Замысел же заключался в заимствовании чужого ради дистанцирования от своего и своих, которые за это свое жались. Если князь Владимир перенимал греческую веру ради укрепления складывавшейся на Руси политической модели, то Иван III перенимал саму византийскую политическую модель, пытаясь «испособить ее к русским условиям. Но византийская императорская система без византийской законности – это не византийская система. Очередные заимствования у греков, соединяясь с отечественной спецификой, сопровождались вызреванием иного, чем у греков, системного качества. Прежнее свое выдавливалось с помощью чужого. Но новое свое не было и простым воспроизведением чужого. При Иване III и его преемнике Василии III это новое свое еще не оформилось, не выкристаллизовалось. Они уже восприняли идею божественного происхождения государевой власти, но в толковании этой идеи не выходили за пределы византийской традиции, отождествления власти земных правителей с властью Бога не предполагавшей. Однако освоение данной идеи без освоения принципа законности как раз и открывало дорогу для ее интерпретации в духе Ивана Грозного, а именно – как права на самодержавный произвол.
Первый русский царь понимал, насколько рискованно было в христианско-православной стране развязывать массовый террор против единоверцев без соответствующего религиозно-идеологического обоснования. Кроме того, сам Иван IV был человеком глубоко верующим; он должен был быть уверен в том, что замышлявшееся им кровопускание не греховно, а богоугодно. Во времени (русском или византийском) основания для такого обоснования и такой уверенности отыскать было невозможно. Их можно было найти только в абстракции вечности. Это и предполагало соответствующую интерпретацию базовой абстракции христианского Бога и ее конкретизацию с точки зрения тех полномочий, которые Бог предоставляет земным властителям.
Царю, вознамерившемуся стать неограниченным самодержцем, не нужно было изобретать идеологию самодержавия заново.
Ко времени учреждения опричнины позади был уже целый век ид логической борьбы, в том числе и внутри самой русской церкви, с вполне определившимся исходом. Она началась еще в годы правления Ивана III и стимулировалась желанием ответить на вопрос о причинах победы иноверцев над православной Византией и извлечь из этого события уроки для Руси. Одни искали такие причины в слабости веры, другие – в слабости власти. Против заимствования византийских символов никто не возражал; спор шел о том, как сделать, чтобы Русь стала не только преемницей рухнувшей империи, но и избежала ее исторической судьбы. И почти с самого начала в большей степени оказалась востребованной позиция тех, кто выступал за усиление власти московского государя – в том числе и по отношению к церкви. Как и всегда в таких случаях, речь шла не о добровольном самоограничении одного института в пользу другого. Речь шла о праве государевой власти определять победителя во внутрицерковном споре.
Эта позиция, отстаивавшаяся Иосифом Волоцким и его сторонниками, и взяла в конечном счете верх. Оппоненты же «иосифлян» во главе с другим духовным авторитетом той эпохи – Нилом Сорским, выступавшие за автономию церкви от государства и свободное, неконтролируемое им, а церковью лишь направляемое, но не регламентируемое постижение Бога и его Истины, потерпели поражение. Чаша весов стала склоняться в пользу «иосифлян» еще при Иване III, но окончательно их идеология восторжествовала при его внуке. И это – несмотря на то, что «нестяжатели», как именовали сторонников и последователей Нила Сорского, выступали за секуляризацию церковных земель.
Московские правители были заинтересованы в секуляризации: земли у церкви было много, а у власти ее не хватало, чтобы расплачиваться со служилыми людьми. Но в упрочении «отцовской» модели властвования они нуждались еще больше и потому готовы были сохранять за церковью ее владения в обмен на поддержку их притязаний на единовластие.
В результате же оформилась версия христианства, в которой от Нового Завета мало что осталось. Она представляла собой доктринальный гибрид, соединявший в себе некоторые идеи Ветхого Завета, элементы языческих политических доктрин восточного происхождения и идеологические интерпретации опыта турецких султанов-победителей Византии. Христианская новозаветная благодать, противопоставленная когда-то митрополитом Иларионом ветхозаветно закону, была отодвинута вместе с продолжавшими линию Илариона «нестяжателями». Альтернатива закону теперь выдвигалась совсем другая. История Московской Руси показала: сам поиск такой альтернативы, если он из области отвлеченных интеллектуальных спекуляций перемещается в сферу реальной политики, неизбежно сопровождается ревизией христианства.
В свое время эта ревизия была обстоятельно проанализирована известным историком евразийского направления Николаем Алексеевым. Нам остается лишь воспроизвести основные результаты его изысканий.
Идеология московского самодержавия базировалась на том, что божественное происхождение царской власти предопределяет и ее божественные полномочия. Согласно Иосифу Волоцкому, царь только телом своим («естеством») подобен людям, «властию же подообен вышнему Богу». При этом сам образ Бога и представление о характере его взаимоотношений с людьми заимствовались не из Нового Завета, а из Ветхого. Подчеркивалось, что Бог «по природе бурен и неистов», что он «добивается своей цели страстно и раздражительно», что в управлении подданными он вправе употреблять «божественное коварство» и «божественное перехищрение». Русскому православному царю предлагалось быть именно таким, и именно эти рекомендации были реализованы в деятельности Ивана Грозного. Полагая, что «российского царствия самодержавство божьим изволением началось», он исключал какие-либо ограничения этого «самодержавства», равнозначного божественному праву устанавливать на земле божественный порядок «страхом, запрещением, обузданием и конечным запрещением»31.
Однако подобная интерпретация базовой абстракции христианского Бога выходила за пределы не только Нового, но и Ветхого Завета. Ветхозаветный Бог действительно таков, каким его описывали идеологи русского самодержавия. Но и он не передавал иудейским царям своих полномочий. Представление, согласно которому «земной царь является как бы копией царя небесного, инкарнацией божества, земным богом», уходит своими корнями в древневосточные языческие монархии. Оно составляло основу всех «древнеязыческих политических форм»32. «Отцовская» модель государственности, утвердившаяся в Московской Руси, – отнюдь не отечественного происхождения. Как отмечает исследователь, «словосочетание „царь-батюшка" вовсе
31 См.: Алексеев Н. Русский народ и государство. М., 2000. С. 61, 88, 62.
32 Там же. С. 49.
не изобретено русскими. Оно характерно для всех восточных монархий и иногда прямо применялось древними народами: фараон именовался отцом своих подданных, а последние были его детьми»33.
В Киевской Руси, где влияние язычества было, безусловно, сильнее, чем в Московской, формирование этой модели блокировалось родовым принципом властвования. Но после того как он остался в прошлом, главное препятствие на пути ее утвержден исчезло. Становление данной модели осуществлялось под воздействием многообразных влияний, рассмотрение которых не входи, в нашу задачу. Для наших целей важно другое: понять, каким образом эти влияния ассимилировались православной доктриной, как сочетались с возобладавшей интерпретацией базовой абстракции христианского Бога и тех полномочий по отношению к подданным, которыми он наделяет русского царя. Бога и человека связывает вера. А что связывает человека с царем? И вправе ли последний брать на себя роль Спасителя, упреждая своим судом Суд Божий?
В этом отношении чрезвычайно интересно восприятие московскими идеологами самодержавия турецких султанов. Их победа над Византийской империей объяснялась тем, что та была империей веры, но не была империей правды. Турецкие султаны не являлись носителями истинной веры, но являлись носителями правды. В этом – их сила, и потому Русь, чтобы устоять, должна соединить веру и правду, стать «государством правды». Греки, по мнению московских идеологов, грешили тем, что их вера проявлялась лишь во внешнем, формальном отправлении религиозных обрядов, но не проявлялась в делах, за что они и поплатились. А потому на Руси вера должна быть дополнена правдой, т.е. соответствующим вере проживанием: «покажи мне веру твою от дел твоих», как учил Иван Грозный. Если же соответствующих доказательств не предъявляется, полагал он, к такой правде в вере следует принуждать34.
В этом и усматривалась земная миссия православного царя, как Божьего наместника. Ему предписывалась ответственность за все, что делается на земле, а вместе с ней – и право карать грешников, исправлять их природу в земной жизни. Идея Божьего суда, как окончательного, тем самым не отменялась, но вводился как
33 Там же. С. 51-52.
34 Подробнее о понимании московскими идеологами самодержавия и самим Иваном Грозным понятий «веры» и «правды» см.: Алексеев Н. Указ. соч. С. 54-99; Люкс Л. Третий Рим? Третий рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. М., 2002. С. 12-18; Юрганов А.Л. Указ. соч. С. 77-85.
бы предварительный суд (царский), предназначение которого – способствовать конечному спасению человека. Именно так понимал свою власть и ответственность Иван Грозный, полагавший, что не только на Небе, но и на Земле грешники должны испивать «чашу ярости Господня» и «многообразными наказаниями мучаться»35.
Так базовая абстракция христианского Бога в ходе ее интерпретации и конкретизации применительно к государственной жизни доводилась до идеи архаичного языческого тотема. Но – с двумя отличиями. Будучи перенесенным из до государственного жизнеустройства в централизованное государство, он превращался из двухполюсного в однополюсный. Можно сказать, что это был отход от княжеско-вечевой племенной модели, которую пытались приспособить к большому обществу киевские правители, к модели еще более древней, родовой, при которой, как и в патриархальной семье, власть отца являлась никем и ничем не ограниченной36. Кроме того теперь тотем воплощался не в животных, птицах или деревянных идолах, а в образе православного царя.
Идеология «отцовской» модели московского самодержавия, подчеркнем еще раз, складывалась под непосредственным воздействием определенных социально-политических обстоятельств, о которых говорилось выше. Но конкретная интерпретация православия, возобладавшая на Руси, не может быть объяснена только социально-политическими причинами. Немалую роль сыграла здесь и религиозно-идеологическая атмосфера той эпохи.
Русь жила тогда ожиданием скорого конца света и Второго Пришествия Христа37. И она – прежде всего в лице своих церковных идеологов – хотела сохраниться как богоспасаемая земля. Идея «Москвы – Третьего Рима» была идеей не внешней экспансии
35 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 39.
36 По мнению известного отечественного историка XIX века Ивана Забелина, "Самодержавие в своей самовластной форме XVI и XVII вв. явилось ‹…› плодом именно родовой культуры, которая заботливо воспитала нас с самых первых времен нашей истории» (Забелин И. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII вв. М., 1869. С. 59). К тому стоило бы только добавить, что политически «родовая культура» поначалу сплотилась в родовое правление Рюриковичей с «племенным» добавлением в виде веча, а ее второе, самодержавное воплощение было опосредовано освоением Рюриковичами политического опыта монголотатар. Между тем сам Забелин влияние «татарской идеи» на русскую власть пытался оспорить.
37 Обстоятельный и глубокий анализ влияния этих ожиданий и их влияния на сознание и поведение людей того времени дан в уже цитировавшейся книге А.Л. Юрганова «Категории русской средневековой культуры» (М., 1998).
и вечного земного царства, а последнего такого царства перед Вт-орым Пришествием38. Русскому царю, согласно ей, предстояло предать власть Богу, что предполагало сохранение в чистоте православной веры и противодействие человеческой греховности и неправедности во всех их проявлениях. К этой миссии и готовил себя набожный царь Иван Васильевич Грозный, учиняя свой суд над теми, кого считал злостными грешниками.
Не забудем, однако, что греховным в его идеологической доктрине было все, что реально или потенциально противостояло его единовластию, а грешниками, соответственно, те, в ком он видел реальных или потенциальных политических противников Вечное и ситуативное, общий интерес государства и частный интерес самодержца сплелись в некую нерасчлененную иррациональную мотивацию. Результатом же, повторим, стало уподобление православного царя архаичному языческому тотему и беспредел опричнины с катастрофическими для государства последствиями.
Историки до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, можно ли форму правления, сложившуюся и существовавшую на Руси до Петра I, называть самодержавной. Те, кто считают это некорректным, ссылаются обычно на то, что власть московских государей ограничивалась Боярской думой и их официально декларировавшейся ответственностью перед Богом, предполагавшей, в свою очередь, сдерживающую роль церкви. При таком толковании опричный террор Грозного выглядит не системной нормой, а кратковременным отклонением от нее, повторений в дальнейшем не имевшим. Но прецедент с опричниной тем-то и показателен, что он продемонстрировал слабость институциональных, а главное – культурных ограничителей самодержавного произвола в послемонгольской Руси.
Идея божественного происхождения верховной власти без укоренившейся в культуре идеи законности – это и есть самодержавная идея в ее религиозной форме. Важно не то, существовали формальные противовесы единоличной власти или нет. Важно то, что их наличие, как показал опыт опричнины, не только не было способно заблокировать произвол, но и было совместимо с ним. Иван Грозный не отменял ни полномочий Боярской думы, которые сам же узаконил
38 Такая интерпретация данной концепции в последние годы становится все более распространенной. См.: Юрганов А.Л. Указ. соч. С. 344-346; Люкс Л. Указ. соч. С. 18; Перцев А.В. Жизненная стратегия толерантности: Проблема становления в России и на Западе. Екатеринбург, 2002. С. 108-109.
юридически, ни полномочий церкви. Но он почти без сопротивления реализовал возможность эти институты игнорировать, противопоставив им себя в роли полновластного наместника Бога.
Противоядия же в культуре против такой интерпретации царских полномочий – языческой по своей природе – не было, и под влиянием трагических последствий опричнины оно не появится. «Бог на небе, царь на земле», «ведает бог да государь», «никто против бога да против царя», «на все святая воля царская», «суди меня бог да государь», «воля божья, а суд царев»39, – это не христианское, а языческое мироощущение. И пока оно сохранялось, сохранялись и предпосылки для реализации самодержавной идеи не только в религиозной, но и в светской форме, что и произошло при Петре I. На основе этого мироощущения смогла оформиться в XX веке и откровенно атеистическая советская государственность. Бога она отвергла, но это не помешало Сталину, как до него и Петру, считать себя политическим преемником творца опричнины.
Уже само идеологическое многообразие, с которым оказалось совместимым отечественное самодержавие, свидетельствует о том, что его истоки – не в идеологии, а в чем-то другом. Ссылки на языческое мироощущение, воспроизводившее модель власти-тотема, объясняют многое, но тоже не все. Остается неясным, почему это мироощущение оказывалось отзывчивым к столь разным, даже исключающим друг друга идеологиям, – от христианско-православной до коммунистической. Данное обстоятельство не позволяет обойтись и указанием на такую первопричину, как «отцовская» культурная матрица: вопрос о том, каким образом и благодаря чему она может легитимировать и власть «отца», как наместника Бога, и власть воинствующего безбожника, тоже остается открытым.
Конечно, многое объясняется конкретными историческими обстоятельствами той или иной эпохи, смена которых видоизменяет и конкретные жизневоплощения культурных констант. Поэтому в дальнейшем именно на этих изменяющихся обстоятельствах нам придется сосредоточить основное внимание. Однако как бы они ни менялись, авторитарно-самодержавное правление в его наиболее жестких формах каждый раз опосредовалось еще одним константным фактором, который впервые отчетливо обозначился опять-таки в Московской Руси.
39 Пословицы русского народа. Т. 1. С. 212-213.
Глава 7 Самодержавие и милитаризм. Новая роль войны
Таким фактором стало перманентное состояние войны и сопутствовавшая ему милитаризация государственного и общественного быта. Эта милитаризация, предполагавшая выстраивание повседневности по армейскому образцу, не могла быть еще доведена до тех пределов, до которых доведет ее Петр I. Но он начинал не с чистого листа, а лишь завершал то, что началось в послемонгольской Московии. Уже одна только обусловленность землевладения военной государевой службой – красноречивое тому подтверждение. В Московской Руси началось и прикрепление к земле крестьян, призванное обеспечивать нужды служилых бояр и дворян и окончательно узаконенное еще в допетровские времена.
Милитаризация жизненного уклада – это и есть то главное звено в системе складывавшейся послемонгольской государственности, без которого не могли бы стать политической и идеологической реальностью ни самодержавная «отцовская» модель властвования, ни языческая интерпретация христианства. В свою очередь, «отцовская» модель только потому и могла возродиться в принципиально новой идеологической форме в советскую эпоху, что милитаристская составляющая была в данной модели первичной. Сталинская идеология «осажденной крепости» опиралась на давнюю отечественную традицию, которая не всегда проявлялась на политической сцене, временами уходила на задний план, но никогда не исчезала, сохранив свой потенциал до XX столетия. Закладывалась же такая традиция в послеордынской Москве, где ее зарождение и упрочение диктовалось конкретными внешними и внутренними обстоятельствами.
7.1. «Боевой строй государства»
Эти обстоятельства во многом складывались естественно, задавались историческим ходом вещей. Граница между войной и миром в восприятии людей была ликвидирована уже самим фактом монгольской колонизации, при которой даже в самые спокойные времена не было никаких гарантий от разорительных татарских набегов. Но и после того, как Москва в конце XV века перестала быть данником Орды в данном отношении мало что изменилось.
После ее распада образовалось несколько ханств (Крымское, Казанское, Астраханское), из которых совершались опустошительные на6еги на Русь, не раз докатывавшиеся и до Москвы. Пленялись тысячи людей, уводился скот, захватывалось имущество. И так продолжалось из года в год, из десятилетия в десятилетие.
Кроме того, страна вела бесконечные войны на западе – с Литвой и Польшей, объединившихся со временем в Речь Посполитую, со Швецией. По подсчетам историков, за столетие (1492-1595) войны «поглотили не менее 50 лет»40. Иностранные наблюдатели, посещавшие Московию в те времена, отмечали, что «для нее мир – случайность, а не война»41.
В таких условиях осуществлявшаяся сверху милитаризация повседневности находила основание в самом жизненном укладе, не создававшем предпосылок для расчленения в сознании образов войны и мира. Так закладывалась политическая традиция, суть которой историки разных идеологических направлений солидарно усматривают в «боевом строе государства»42, в том, что оно «имело характер военного общества, построенного как большая армия, по принципу суровой тягловой службы»43.
Русская Власть – это, конечно, Власть-моносубъект. Но лишь потому и постольку, поскольку в пределе она – Власть-милитаризатор, чем и обусловлено в конечном счете ее историческое своеобразие. Как только она приступала к демилитаризации социума, ее моносубъектность начинала размываться, и Русской Властью в строгом смысле слова она быть переставала.
Таким образом, в Московской Руси роль войн была уже иной, чем в Руси Киевской, милитаризации в ее московском варианте не знавшей. Во-первых, войны перестали быть способом добывания власти; после подчинения Твери и Новгорода, колебавшихся в выборе между Московией и Литвой, они вообще ушли из внутренней жизни. Во-вторых, внешним угрозам – явным или потенциальным – противостояли теперь не отдельные княжества
40 Ключевский В. Указ. соч. Ч. 2. С. 222.
41 Там же.
42 Там же. С. 424.
43 Алексеев Н. Указ. соч. С. 73.
или группы княжеств, а совокупная сила всего централизованного государства. В-третьих (и это в нашей логике едва ли не самое важное), внешние войны, которые сплачивали в киевскую эпоху князей и свободную дружинно-боярскую элиту, но не обеспечивали ее долговременное подчинение князьям, стали в послемонгольский период одним из важнейших средств именно подчинения элиты и утверждения самодержавной власти.
Когда говорят, что московская государственность складывалась под воздействием внешних вызовов и угроз, с этим трудно спорить. Но верно, как нам кажется, и обратное утверждение: без таких вызовов и угроз, равно как и без встречных завоевательных амбиций, подобная государственность не могла бы сложиться вообще.
Консолидация социума вокруг власти-тотема невозможна в условиях длительного мира. Потому что длительный мир посте пенно расшатывает архаичную общественную целостность, где «Мы» консолидируется исключительно благодаря тому, что существует враждебное «Они». Он неизбежно сопровождается социальным и культурным расслоением, формированием и развитием частных интересов, возникновением между ними конкурентных отношений. Этому не в состоянии противодействовать как догосу-дарственные локальные общности, так и общности государственные, выстроенные на фундаменте архаичной культуры. Тем более если речь идет о государствах только что сложившихся, не успевших наработать скрепляющие их традиции. Сказанное и вынуждает нас более внимательно присмотреться к роли войн в Московской Руси.
Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что в первое послеордынское столетие они, как правило, не были оборонительными. Войны с Литвой, начавшиеся при Иване III, имели своей целью присоединение к Москве бывших областей западной Руси, отошедших к Литве в монгольский период. Учитывая, что последняя приняла католицизм, эти войны в известном смысле можно считать религиозными. Борьбой против «неверных» выглядело в глазах современников и завоевание Иваном IV Казанского и Астраханского ханств. Но оно же покончило с татарскими набегами из Поволжья, пополнило земельный фонд казны и обеспечило контроль Москвы над волжским торговым путем, блокирование которого татарами оборачивалось для нее серьезными экономическими проблемами. Казалось бы, после этого логичным было собрание сил для борьбы с Крымом – главным очагом тогдашних реальных угроз. Во всяком случае, доводов в пользу такой политики было немало, и правительство «Избранной рады» склонялось именно к ней.
Усмирение Крыма означало бы не только выход к Черному морю, в чем страна, безусловно, нуждалась. Оно означало бы и окончательное завершение эпохи татарского владычества на Руси, и обеспеченную безопасность ее населения. Триумфальная встреча, которую народ устроил Ивану IV, возвращавшемуся в Москву после покорения Казани, свидетельствовала о том, чем была тогда в глазах русских любая победа над татарами. Тем более что в случае с Крымом речь шла бы о победе окончательной.
Через полтора десятилетия после смерти Грозного только что избранный Земским собором новый царь Борис Годунов лично решил возглавить поход против крымского хана Казы-Гирея, двигавшегося к Москве. Годунов собрал огромную по тем временам армию. Он хотел непременно победить перед предстоявшей коронацией, ибо понимал: такая победа будет расценена в народе как знак благоволения небес и обеспечит «неприродному» царю недостававшую ему легитимность. Сражение не состоялось: узнав о такой подготовке к нему русских, хан на Москву не пошел. Но этот факт интересен тем, что показывает, как воспринималась на Руси даже неокончательная победа над крымскими татарами, каким символическим содержанием она наполнялась.
Однако Иван IV предпочел другой путь. В 1558 году он начал войну на западе, в Ливонии.
Конечно, у этой войны были свои причины и поводы. Русь нуждалась в выходе и к Балтийскому морю. И такой выход она получила сразу же после начала войны, взяв Нарву. Этот порт оставался в руках Москвы и после того, как в военные действия против нее стали втягиваться Литва, Польша и Швеция, имевшие на Балтике свои стратегические торговые интересы. Столкновения с этими странами сопровождались чувствительными поражениями и вытеснением русских войск со значительной части захваченных ими территорий. В результате достижение целей войны, столь удачно начавшейся, вскоре оказалось под угрозой. Москва могла сохранить выход балтийское море, заключив в 1566 году перемирие с Литвой, – та располагала его на условии, что каждая из сторон удерживает за собой контролируемые ею на данный момент районы Ливонии. Царь Ил вынести этот вопрос на уже упоминавшийся нами Земский собор. Его участники солидарно высказались за продолжение войны, что сыграло не последнюю роль в объединении Польши Литвы в единую Речь Посполитую (1569) и обернулось в конечном счете, тяжелейшими для Москвы последствиями: именно Речь Посполитая нанесет ей решающие военные удары.
Некоторые историки интерпретируют солидарность царя и Собора как проявление их единства в понимании государственных интересов. Но это единство демонстрировалось в атмосфере уже начавшегося опричного террора. Собравшиеся на Собор, судя по всему, первоначально не были осведомлены о мнении царя и с ответственно, не могли быть уверены в том, что позиция не в пользу войны не будет расценена как измена. Потому что задолго до Грозного, еще со времен Ивана III, государевой опале всегда подвергались те, кто войнам предпочитал мир44. Установка на него не соответствовала милитаристским основаниям государственной системы и поддержки у московских правителей не находила. И если напомним, часть участников Собора, рискуя жизнью, сочла все же возможным обусловить свое согласие на продолжение войны отменой опричнины, то это значит, что само согласие могло восприниматься ими как вынужденная уступка царю: сознательная и заинтересованная позиция выдвижения условий ее принятия не предполагает.
Приоритет в Московии ценности войны и победы в ней над ценностью мира наводит на мысль, что и первоначальный выбор Грозного (война с Ливонией вместо подготовки к борьбе с Крымом) мог мотивироваться не только внешнеполитическими соображениями. На крымском направлении быстрого успеха быть тогда не могло. Крымское ханство было хорошо защищено, а на пути к нему лежала огромная степь, в которой для продвижения армии предварительно следовало построить многочисленные укрепленные пункты. Наконец, за Крымом стояла чрезвычайно сильная в то время Турция, воевать с которой при отсутствии морского флота Москва была не в состоянии. Поэтому выбор Крыма в качестве главного противника был бы в таких условиях равнозначен выбору длительного мира. Но такой мир был чреват не только разрушением базового консенсуса, основанного в значительной степени на «боевом строе государства», но и кризисом идеологии богоизбранного «Третьего Рима».
44 См.: Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 284.
Сама по себе эта идеология военной экспансии не предполагала. Она подразумевала лишь сохранение сложившихся на Руси жизненных устоев и недопущение их размывания чужеродными влияниями. Но государственная политика не может строиться на пассивном ожидании спасения. Тем более, что опустошительные набеги из Крыма, которым Москве не всегда удавалось противостоять, веру в спасение могли поколебать. «Третий Рим», чтобы подтверждать свою богоизбранность, должен был побеждать тех, к кому Бог не благоволит, и обращать их, по возможности, в свою веру. Такова политическая логика первого осевого времени (в нашем его мании) – логика имперской экспансии. Московская Русь, подчинив казанских и астраханских татар, начала действовать и развиться именно в этой логике. Ее продолжением стало вторжение Ливонию, тогдашняя слабость которой сулила, в отличие от наступления на Крым, быструю и легкую победу вместе с прорывом к балтийским портам и балтийской торговле. Победы, однако, не случилось.
Мы можем лишь предполагать, как развивались бы события при благоприятном для Москвы ходе и исходе Ливонской войны. Дальнейшая эволюция русской власти в направлении самодержавия, безусловно, имела бы место и в этом случае. Но опричнины могло и не быть, поскольку она стала реакцией именно на военные поражения и их последствия, в том числе и измену Курбского. «Террор опричнины может быть понят только в связи с неудачами Ливонской войны, как французский террор 1792-1793 годов в связи с нашествием союзников»45.
Военные поражения и сам факт измены позволили Ивану Грозному ликвидировать границу между реальными опасностями и изменами и опасностями и изменами потенциальными. В подобной атмосфере в предательстве может быть заподозрен и уличен кто угодно. Естественная реакция на ее возникновение – всеобщий страх. Поэтому не только беспредел опричнины по отношению к элите, но и такие акции, как учиненная Грозным – ради упреждения возможного сепаратизма и предательства – массовая резня в Новгороде (1570), не вызывали никакого сопротивления. Террор означал перевод неудачной внешней войны в войну внутреннюю.
45 Покровский М.Н. Избранные произведения: В 4 кн. М., 1966. Кн. 1. С.302. Под союзниками имеются в виду страны монархической Европы, выступившие против Революционной Франции.
Внутренняя война при отсутствии сопротивляющегося противника позволила осуществить то, что должна была обеспечить победа в войне внешней, – укрепление самодержавной власти царя.
Знаменитая переписка Грозного с Курбским, начавшаяся в преддверии опричнины, – идеологическое обоснование этой власти. Главным адресатом писем Ивана IV был не сбежавший князь. Главными адресатами были те, кто оставался в Московии.
В ходе Ливонской войны, растянувшейся на четверть века, не удалось решить ни одной из внешнеполитических задач, которые ставились в ее начале. Все завоеванные в Ливонии территории пришлось отдать. Выхода в Балтийское море Русь снова и надолго лишилась. Откладывание крымского вопроса отозвалось через несколько лет страшным нашествием крымского хана Девлет-Гирея на Москву (1571), сопровождавшемся для Руси колоссальными потерями: в центральных районах страны сотни тысяч людей были убиты, десятки тысяч – уведены в плен. По мнению некоторых историков, запустение этих районов во времена Ивана Грозного – результат не только опричнины, но и татарского разорения и страха перед его повторением46. Однако все это, ослабив страну, власть самого царя не ослабило. Русское самодержавие в его тиранической форме состоялось, прецедент был создан.
Тем самым Иван IV наглядно продемонстрировал самобытную природу «отцовской» модели властвования на Руси. В своих крайних проявлениях, предполагающих выстраивание жестко централизованной «вертикали власти» и устранение всех потенциальных претендентов на субъектностъ, т.е. полное подчинение первому лицу не только населения, но и элиты, данная модель равнозначна тотальной милитаризации, переводящей внешнюю войну во внутреннюю.
Столетия спустя последователь Грозного усовершенствует эту модель, выявив ее скрытые возможности. Окажется, что для массового производства «изменников Родины» вовсе не обязательны поражения в войнах и реальные измены. И даже воевать для этого вовсе не обязательно – достаточно иметь враждебное внешнее окружение и поддерживать в стране атмосферу «осажденной крепости», сохраняя ощущение неизбежности грядущей войны. Во времена Ивана Грозного, имевшего дело с родовой землевладельческой, а не безродной большевистской элитой, такое было вряд ли
46 Покровский М.Н. Указ. соч. С. 320-321.
возможно. Но сталинский террор и опричнина Грозного представляют собой вариации одной и той же милитаристской модели, истоки которой – в послемонгольской Московской Руси.
У такой модели есть, однако, и еще одна особенность. Дело в том, что милитаризация внутренней жизни декларируется в ней не как самоцель, а как необходимое условие внешней конкурентоспособности страны. Никаких других обоснований у этой модели быть не может. Но внешняя конкурентоспособность предполагает способность к инновациям – технологическим, организационным, культурным (в широком смысле слова). Между тем милитаристская модель продуцирование инноваций исключает – она ориентирована на приказ и исполнение, а не на творчество, на воспроизводство существующего, а не на создание нового. Но рано или поздно это обрекает страну на отставание. Когда же оно начинает осознаваться как угроза, используется обычно единственно приемлемый в данной модели метод – заимствование чужого. И в этом отношении Ливонская война Ивана Грозного тоже представляет безусловный интерес.
7.2. Поход за чужой культурой
Отечественные историки самых разных идеологических ориентации – от либералов до монархистов – солидарны в том, что целью Ливонской войны было «завязать непосредственные отношения с Западной Европой, попользоваться ее богатой культурой»47, осуществить «приобщение России к европейскому образованию»48. Во времена Ивана Грозного преимущества западной культуры еще только начинали ощущаться царем и правящим слоем, отставание Руси не выглядело слишком значительным, а тем более – опасным. Но подобно тому, как в Киевскую Русь проникал из Византии дух и пафос христианства, в Русь Московскую постепенно проникал Дух и пафос Запада.
Пройдет всего несколько десятилетий, и вестернизация московской элиты пойдет полным ходом. В эпоху же, которая нас интересует, возникало лишь некоторое первичное представление о Западе как обладателе неких сущностей, вещей и умений, Руси Неведомых, носителе чего-то такого, что правоверные русские не всегда могли и сформулировать. Это что-то неудержимо их к себе
47 Ключевский В. Указ. соч. Ч 2. С. 184.
48 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998. С. 278.
влекло, его хотелось заимствовать и присвоить. Но в архаичной культуре, как мы уже отмечали в первой части книги, посвященной Киевской Руси, заимствование чужого может быть легитимировано только посредством его завоевания. Под этим углом зрения могут быть рассмотрены и неоднократно упоминавшееся нами вторжение германцев на территорию Римской империи, и более поздние попытки некоторых славянских народов проникнуть на территорию Византии, и еще более позднее стремление закрепиться на Западе турок. Независимо от того, как осознается завоевание чужого субъектом завоевания, суть его в конечном счете заключается в заимствовании более развитой культуры. В этой логике может быть рассмотрена и Ливонская война – первое в отечественной истории стратегическое столкновение Руси с Западом.
У нас нет оснований утверждать, что здесь имело место осознанное стремление к легитимации заимствуемого чужого посредством его завоевания. Скорее всего, вопрос о том, чтобы воевать с Ливонией ради заимствования и перенесения в русское самосознание чего-то конкретного, даже не возникал. В то время европейский опыт использовался главным образом посредством приглашения зарубежных специалистов – медиков, аптекарей, художников, архитекторов, военных инженеров, ружейных мастеров. Это началось еще при Иване III. Кое-какие умения, например литье пушек, русские быстро освоили, продемонстрировав, по мнению иностранных наблюдателей, редкую обучаемость. Но основная ставка делалась все же на специалистов из-за рубежа.
Показательно, что после вторжения Грозного в Ливонию воевавшие с Русью страны едва ли не больше всего были обеспокоены тем, чтобы перекрыть ее торговлю с Англией через Нарву. Польский король, например, с тревогой писал английской королеве, что русским поставляются оружие и мастера, посредством которых московский царь «приобретает средства побеждать всех». Раньше над ним можно было брать верх лишь потому, что «он был чужд образованности, не знал искусств». Но если приток товаров и мастеров будет продолжаться, то «что будет ему неизвестно?»49.
Если это понимали противники Грозного, то сам он, наверное, осознавал свои цели не хуже. Мы не знаем, отдавал ли он себе отчет в том, что его «западничество», проявлявшееся и в расширении созданного в Москве инокультурного анклава иностранцев
49 См.: Покровский М.Н. Указ. соч. С. 319.
в виде Немецкой слободы, которая во время Ливонской войны заметно разрослась, и в льготах английским купцам, торговавшим на Руси, и в попытках заключения с Англией союзнических отношений посредством династического брака, и в опытах публичных дискуссий с протестантскими пасторами, в случае полной реализации могло создать критическую массу чужеродных элементов в культуре. Через столетие такая критическая масса скопится и станет одной из причин церковного раскола. Легитимация чужого будет осуществляться с трудом, что, в свою очередь, будет сдерживать дальнейшее заимствование этого чужого. Петр I, осуществив заимствования посредством завоевания, откроет для страны новую эпоху, которую правителям Московской Руси открыть не удалось.
Начиная с Ивана III, они пытались перенести в Москву культурный опыт поверженной турками Византии – правда, как и их киевские предшественники, весьма избирательно и дозированно. Это относилось лишь к жизненному укладу и стилю поведения самих правителей и узкого околовластного слоя. Однако его представители, примирившись с новшествами, не были от них в восторге. Неприятие культурно чужого получило распространение в княжеско-боярской элите, причем ее не убеждало даже то, что греческая культура – это не совсем чужое, что это культура такой же, как и Русь, православной страны. Именно в византийских влияниях искались и находились причины отклонений от правильного хода вещей, т.е. от освященных традицией отношений между правителями и их элитой. «Как пришли сюда греки, так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша русская в мире и тишине жила, – сетовал в одном из разговоров с выходцем из Византии Максимом Греком Иван Беклемишев, опальный боярин времен Василия III (сына Ивана III и Софьи Палеолог). – Как пришла сюда мать великого князя великая княгиня Софья с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в Царегороде при ваших царях»50.
Но то была реакция на чужое, которое считалось хуже своего. Предполагалось, что его не следует перенимать, потому что от него и в самой Византии были одни лишь «нестроения великие». Что такое заимствование чужого из стран, которые не только не пали от своих «нестроений», но развивались увереннее и успешнее, чем Русь, Москве еще только предстояло узнать. И в этом отношении
50 См.: Ключевский В. Указ. соч. Ч. 2. С. 173.
вторжение в Ливонию и в самом деле можно рассматривать как начало долгого похода за европейской культурой. Начало, которое не было еще осознано ни инициатором похода, ни его участниками.
Если бы Иван IV победил в Ливонской войне, то ко времени Петра I страна наверняка была бы несколько иной и в прорубании «окна в Европу» уже не нуждалась. Победа легитимировала бы многое из того, что Русь, оказавшись под облучением европейской культуры, захотела бы заимствовать и присвоить. Но в XVI веке так войну Московия выиграть не могла, а поражение отбросило ее далеко назад.
Пройдет совсем немного времени, и выборный царь Бори Годунов, один из ближайших подручных Грозного, впервые пошлет русских учиться в Европу. Это значит, что спрос на новое культурное качество личности в ту эпоху уже появлялся. Но ни один из тех, кого послал Годунов, домой, как известно, не вернулся. Мы не знаем, кто были те первые новые русские, чему они учились и научились на Западе и почему там остались. Но можно предположить: они не вернулись домой потому, что ощущали – их время на Руси еще не пришло.
В Московии имело место принципиально иное, чем в тогдашней Европе, отношение к индивидуально-личностным ресурсам человека. Иными были и способы их мобилизации в различные виды деятельности.
Глава 8 Потенциал «беззаветного служения»
В Московской Руси мы обнаруживаем первую в отечественной истории попытку мобилизовать личностные ресурсы – индивидуальные способности, умения и навыки людей – на службу централизованному государству, воплощенному в сакральной личности правителя. Именно в особенностях этой мобилизации описанный выше синтез «отцовской» культурной матрицы, языческой интерпретации христианства и армейской организации жизни проявился максимально рельефно. Главная же особенность заключалась том, что любое личное «хочу» постепенно лишалось статуса подлинности и переводилось в разряд профанного по сравнению с безличным и одновременно персонифицированным государственным «надо». Более того, это «надо» надлежало воспринимать не как нечто навязанное и предписанное извне, а как предельное проявление личного «хочу». Иными словами, человеку предписывалось желать лишь сознательного и беспрекословного подчинения государевой воле, усматривая в нем высшую добродетель.
Едва ли не самое адекватное выражение такая мобилизация (точнее – самомобилизация) личностного ресурса нашла в идеологическом языке коммунистической эпохи. Тогда она называлась «беззаветным служением» (делу партии, коммунизма, Ленина – Сталина, советскому государству и т.п.). В этих словах – независимо от того, как они осознавались в советское время и воспринимаются теперь, – интересующее нас явление обозначено максимально точно.
Завет означает контракт, заключаемый договаривающимися сторонами и определяющий их права и обязанности. Соответственно, «беззаветное служение» равнозначно служению вне контракта и без контракта, т.е. служению, никакими личными интересами и гарантирующими их правами не опосредованному. Но это есть модель взаимоотношений патриархального семейного самодержца с домочадцами. И одновременно модель взаимоотношений армии, но – не контрактной, а выстроенной по принципу обязательной службы. И, наконец, модель взаимоотношений архаичных общностей с языческим тотемом. К христианству же, строго говоря, она отношения не имеет: ведь оно-то основано как раз на идее завета между Богом и человеком – Библия, как известно, включает в себя Ветхий и Новый Заветы. Поэтому «беззаветное служение» могло культивироваться не только в религиозном, но и в атеистическом идеологическом обрамлении. Правда, московские государи, именовавшие всех своих подданных холопами или рабами, были все же более последовательными и менее лукавыми, чем их отдаленные преемники, называвшие подвластных «товарищами».
Идея «беззаветного служения», направленная против эгоизма и корысти, всегда была призвана обеспечивать предельную мобилизацию и максимально эффективное использование личностны» ресурсов на общие цели. Посмотрим, что из этого получалось на разных уровнях социальной иерархии в тот период нашей истории, когда данная идея была впервые востребована и когда она звучала как служение «верой и правдой» – при том понимании правды и том государевом праве принуждать к ней, о которых мы уже говорили.
8.1. Демобилизация старой элиты
В послемонгольской Московии сложились три протосословия. Они отличались друг от друга не правами и привилегиями, подобно западным сословиям, а только обязанностями. Обязанность одних заключалась в государевой службе (служилые), другие должны были платить налоги и нести повинности для содержания государя и служилых (податные), третьи были прислугой у государя и служилых (холопы). Внутри этих «сословий» и между ними существовали статусные иерархии, но по отношению к первому лицу холопами, равными в своем бесправии, постепенно становились, повторим, все без исключения.
Отсюда следует, что задача, стоявшая перед московскими правителями, была изначально парадоксальной. Им предстояло осуществлять мобилизацию личностных ресурсов подданных, их энергии и способностей, одновременно нейтрализуя их личностные качества, которые проявляются только в инициативной деятельности, в самостоятельности суждений и решений. Им предстояло устранить все объективные критерии оценки этих качеств и, соответственной, их самооценки самими подданными, превратив право на такую оценку и определение ее критериев в свою абсолютную привилегию.
Понятно, что труднее всего было осуществить подобное обезличивание по отношению к княжеско-боярской элите: переход в состояние «беззаветного служения» был несовместим с ее традициями и менталитетом. В относительно спокойные времена эта несовместимость открыто не проявлялась, но в ситуациях экстремальных могла и проявиться: тот же Андрей Курбский, проиграв сражение, предпочел смиренному ожиданию царского гнева и царской кары, что предусматривалось идеологией «беззаветного служения», переход на сторону противника и предоставление в его распоряжение своих немалых личностных ресурсов, которые оказались востребованными. В таких ситуациях и выясняется, что последовательная реализация этой идеологии невозможна без запуска на полную мощность машины страха. В свою очередь, ее запуск требует легитимации, а последняя может быть обеспечена только посредством тотальной милитаризации, позволяющей представлять неготовых (или подозреваемых в неготовности) к «беззаветному служению» как изменников. Это и сделал Иван Грозный.
Он не мог уничтожить княжеско-боярскую элиту как таковую – заменить ее во времена Московской Руси было некем, служилое дворянство и бюрократия еще не могли стать альтернативными опорами власти. Но претензии на индивидуальную и коллективную субъектность творец опричнины своими казнями в правившем слое подавил. Отныне его личностные ресурсы могли реализовываться только в исполнении решений царя – независимо от того, каковы были сами решения.
Однако ресурсы, направляемые на исполнение неисполнимых заданий, растрачиваются впустую, что и продемонстрировали наглядно ход и исход Ливонской войны. В результате же все усилия по мобилизации этих ресурсов могут обернуться в конечном счете их демобилизацией. Ахиллесова пята «беззаветного служения» – его предрасположенность при реализации недостижимых целей и отсутствии у исполнителей права корректировать их к превращению в имитацию служения. И в наибольшей степени такая предрасположенность проявляется обычно у тех, кому поручается к «беззаветному служению» принуждать других: отборное опричное войско Грозного, развращенное неограниченными возможностями произвола, обнаружило полную моральную и боевую несостоятельность, когда ему пришлось отражать уже упоминавшийся поход на Москву крымских татар.
Иван Грозный был отнюдь не первым московским государем, осуществлявшим десубъективацию княжеско-боярской элиты. Он лишь насильственно форсировал то, что началось при его деде и продолжалось при его отце. Суть их действий была той же: служебная мобилизация личностных ресурсов привластного слоя при одновременной политической его демобилизации. Достижение этой цели было несовместимо с сохранением экономической зависимости боярства от власти. Ослабление его позиций как земельного собственника, достигавшееся обеспечением зависимости землевладения от государевой службы, фактически и означал десубъективацию элиты. Относительную самостоятельность ей удавалось сохранять лишь благодаря тому, что армия в значительной степени комплектовалась в боярских вотчинах (регулярное войско появится только при Петре I), а также благодаря слабости и малочисленности чиновничества, что бюрократическую «вертикаль власти» выстроить не позволяло.
При таких обстоятельствах у московских правителей не могло быть, однако, полной уверенности в том, что политическая демобилизация элиты уже состоялась и что последняя не соблазнится, например, вольностями польской шляхты, добившейся со временем права самой выбирать королей. Поэтому создание опричного войска, подчиненного лично царю, являлось и своего рода превентивной мерой, вызванной опасениями относительно лояльности элиты. Показательно, что Иван Грозный был не первым среди московских государей, кто озаботился формированием такой военной структуры: обособление дворового войска (великокняжеской гвардии) от армии началось еще при его отце Василии III51. И это при том, что притязания княжеско-боярских групп на субъектность открыто проявлялись лишь в годы боярского правления – ни до, ни после того такого не наблюдалось. Московские государи осуществляли демобилизацию политического потенциала элиты, и создание собственных автономных военных подразделений было не единственным, а лишь одним из инструментов, которые ими для этого использовались.
Во-первых, московские властители постепенно устранили саму возможность диалога между собой и привластным слоем. В монгольскую эпоху несогласие его представителей с московским великим князем по тем или иным вопросам и их коллективное обсуждение были обычным делом. Но по мере того, как великий князь превращался в великого государя и Божьего наместника, он приобретал и соответствующее мироощущение. Перечить ему
51 Зимин А.Л. Указ. соч. С. 423.
становилось опасно, ибо это воспринималось как непризнание его нового статуса; опала на уже упоминавшегося Ивана Беклемишева была вызвана именно тем, что он позволил себе с московским правителем в чем-то не согласиться. Диалог в политике и управлении уходил в прошлое, на смену ему шел государев монолог. Возможно, именно это обстоятельство и создавало у иностранных наблюдателей впечатление, что власть московских правителей над подданными превышает власть любых других монархов. И речь шла не об Иване Грозном опричных времен, а о его отце.
Этот новый стиль управления быстро стал привычной нормой и потому, что был обеспечен институционально. Наивысший статус в тогдашней Москве имели те, кто обладал правом заседать в Боярской думе, количественный и персональный состав которой зависел от воли государя. С одной стороны, это позволяло последнему поднимать наверх людей не только в соответствии со знатностью их происхождения, но и руководствуясь их способностями и заслугами. Иными словами, Боярская дума была важным каналом, через который осуществлялась мобилизация личностных ресурсов для государственных нужд. С другой стороны, получение и сохранение думского статуса были обусловлены готовностью к «беззаветному служению», т.е. реализацией личностного ресурса в ограниченном пространстве, очерченном государевой волей. При необходимости в Боярскую думу можно было вводить энергичных и инициативных людей вроде Алексея Адашева, но так же легко их было оттуда и вывести, предав государевой опале. Кроме того, саму Думу, как продемонстрировал при случае Иван Грозный, можно было обвинить в недостаточной «беззаветности» служения и обратиться через ее голову к народным низам как эталонному воплощению такой «беззаветности».
Во-вторых, московские правители преуспели в том, что в современных терминах можно охарактеризовать как атомизацию старой боярской элиты. Это им было нетрудно сделать, учитывая утвердившуюся в послемонгольской Московской Руси и уже упоминавшуюся нами систему местничества, при которой назначения на высшие придворные и военно-административные должности производились с учетом происхождения и служебного положения Предков.
Местничество – это рудимент старого родового принципа властвования в новой исторической ситуации. Раньше на его основе между отдельными ветвями и представителями княжеского рода разделялась территория Руси. Теперь, когда все князья и их потомки собрались в Москве и стали московскими боярами, он стал и принципом наследственного распределения статусов. Местничество существенно ограничивало самодержавные притязания правителей, не позволяя назначать людей на высшие посты по собственному усмотрению. Но ни один из московских государей, включая Ивана Грозного, на эту систему не покушался – она просуществовала почти целое столетие и после его смерти.
Мы далеки от того, чтобы объяснять долголетие местничества какой-либо одной причиной. Но не последней среди них было то, что укреплению самодержавной власти оно не мешало, а политической мобилизации княжеско-боярской элиты не способствовало. Напротив, родовые местнические счеты блокировали ее консолидацию и самоорганизацию, предопределяли ее разрозненность Московским государям можно было не предпринимать особых усилий для атомизации «княжат» и боярства. Для этого им достаточно было поддерживать сложившуюся систему, что они и делали.
С точки зрения мобилизации личностных ресурсов – даже в том ограниченном ее понимании, которого придерживались московские властители, – трудно было придумать что-либо менее эффективное. Высшие государственные должности, в том числе и военные, при такой системе часто доставались людям, не имевшим никаких данных, чтобы эти должности занимать. Порой сражения проигрывались именно потому, что войска возглавлялись воеводами, для роли полководцев совершенно не пригодными. Бывало и так, что перед боем воеводы начинали выяснять, кто из них выше в местнической иерархии и, соответственно, кто кому должен подчиняться. Показательно, что отмена этой системы (1682) произошла после того, как специальной комиссии, в которую входили и бояре, было поручено проанализировать причины нескольких подряд поражений русских войск. Главной рекомендацией комиссии и стало упразднение местничества.
Тем самым было признано, что вполне совместимое с ним «беззаветное служение» или его имитация сами по себе не обеспечивают мобилизацию личностных ресурсов для обслуживания общегосударственных интересов. Но в интересующий нас период такие соображения если и приходили московским государям на ум – при Иване IV был принят даже специальный закон, запрещавший местнические счеты во время военных действий, – то основной вектор политики не определяли. Местничество было удобной формой, позволявшей укреплять самодержавную власть, сохраняя лояльность по отношению к политической «старине». Ведь признание за человеком его родового статуса и достоинства вовсе не предполагало признания достоинства личного.
Иван Грозный, скорее всего, был искренен в своем недоумении, прочитав рассуждение Курбского о доблести как о личном достоинстве человека, его индивидуальном качестве. Это в католической («латинской») Европе в цене были рыцарские отвага, честь и любовь, а не в оставленной Курбским Москве, культивировавшей другую ментальную триаду – терпение, покорность, набожность52. Никаким личным достояниям, существующим независимо от воли Божьего наместника, в мироощущении Грозного просто не было места. Единственное позитивное человеческое качество, которое он признавал, – преданность самодержцу. Поэтому он истреблял тех, кого подозревал в отсутствии или недостатке такой преданности. Поэтому же его, как и его предшественников, не могли всерьез беспокоить местнические счеты и раздоры. Местничество, за которое держалась княжеско-боярская элита, уже самим фактом своего существования способствовало ее разобщению и ослаблению.
В-третьих, московские государи сразу после освобождения Руси от татар начали целенаправленно создавать новую элиту. При сохранении местничества она не могла претендовать на высшие государственные должности. Но возможности карьерного роста ей были предоставлены значительные. Новая властная иерархия создавалась не вместо старой, а рядом с ней и независимо от нее. На вершине этой иерархии находился государь. То была его элита, обязанная своим происхождением только ему. Поэтому рекрутированных в нее людей не нужно было приучать к «беззаветному служению»: в отличие от «княжат» и бояр, обремененных воспоминаниями о статусах и вольностях предков, они до своего выдвижения на государеву службу были ничем, а после выдвижения становились почти всем.
8.2. Мобилизация новой элиты
Наиболее выразительные свидетельства о том, чего ждали московские властители от новобранцев правящего класса и насколько последние этим ожиданиям соответствовали, относятся к временам опричнины. Сохранилось письмо Ивана Грозного опричнику Васю-
52 Геллер М. История Российской империи: В 2 т. М., 2001. Т. 1.С. 163.
ку Грязному. Царь писал, что его бояре, как и бояре его отца, изменяли и изменяют государю, а потому «мы вас, страдников, приближали, ожидая от вас службы и правды»53. Опричник же отвечал, что царь, как Бог, может сотворить из малого человека великого. Естественно, что человек, ощущающий себя заново сотворенным, не может не воздать творцу «службой и правдой» – в его, творца, представлении о них. Хотя бы потому, что последний, будучи подобен Богу, способен великого человека снова превратить в малого или вообще лишить телесного бытия.
В этой короткой переписке переданы едва ли не самые существенные черты складывавшейся в послемонгольской Руси модели властвования и особенности человеческого материала, на который она опиралась. «Служба и правда», которых царь ждал от новой элиты, – это старомосковский аналог более позднего «беззаветного служения». Уподобление же опричником царя Богу, способному творить из малых людей великих, обнажало не только культурные но и вполне житейские причины языческого обожествления московских правителей в определенной среде: выдвижение в элиту из низов и предоставление выдвиженцам права вершить суд и расправу над сильными мира сего не могло не восприниматься как чудо, сотворение которого простым смертным недоступно.
Опричный террор – это, конечно, аномалия даже для Московской Руси. Но он тем не менее представляет собой не отклонение от магистральной тенденции той эпохи, а лишь крайнюю форму проявления данной тенденции. Иван Грозный не случайно говорит с Васюком Грязным не только от своего имени, но и от имени своих предшественников на московском троне. Это значит, что рекрутирование новой элиты из низов началось до опричнины и даже до воцарения Грозного. Вертикальная мобильность – одна из существенных особенностей всей московской эпохи. Она не была, конечно, столь масштабной, как в сталинские времена, когда почти весь государственный аппарат формировался из «рабочих и крестьян» и разросся до размеров, в России ранее неведомых. Но для своего времени начавшиеся в послемонгольский период перемещения «из грязи в князи» было явлением значительным и заметным.
Во многом это обусловливалось нуждами только что образовавшегося централизованного государства. Ему нужны были вооруженные силы, и оно создавало служилое дворянство, которое
53 См.: Ключевский В. Указ. соч. 4.2. С.194.
в обмен на предоставленные ему земельные участки в случае войны должно было участвовать в ней вместе с приведенным с собой определенным количеством вооруженных ратников. Государству нужен был и аппарат управления, и он постепенно формировался на основе государева двора, обраставшего разветвленной сетью учреждений («приказов»), которые ведали различными сферами жизни в центре и на местах. Все это делалось в значительной степени заново – в Киевской Руси и Руси монгольской соответствующие традиции сложиться не могли. Вместе с тем все это делалось людьми типа Васюка Грязного, приспосабливавшими к новым государственным задачам свои старые навыки и привычки.
Новые задачи требовали качественно иных личностных ресурсов, но от власти на них не было запроса. В системе критериев, которыми она руководствовалась в оценке подвластных, повторим еще раз, качество человека как нечто особое, принадлежащее только ему, в расчет почти не принималось и даже выглядело подозрительным; главным считались его преданность, готовность к «беззаветному служению». Низы, из которых формировалась новая элита (очень часто это были бывшие холопы, т.е. представители самого бесправного «сословия» Московской Руси), этому требованию соответствовали, но – только этому.
В ситуации, когда ни сверху, ни снизу не поступал запрос на изменение и самоизменение человеческого материала, страна была обречена на отставание и, как следствие, на военные поражения. Победы московского войска были, как правило, обусловлены храбростью русских воинов, признававшейся всеми иностранными наблюдателями, и их численным превосходством над противником. Но входе Ливонской войны московские войска начали проигрывать сражения, имея значительный численный перевес. Постепенно выяснялось, что мало научиться пользоваться пушками и огнестрельным оружием, что не меньшую роль играют специальная подготовка, способность к организованным действиям и воинская дисциплина, которые тоже формируются только в ходе обучения. Но ответить на этот вызов Московская Русь не смогла. Ответит она на него только при Петре I, который начнет принудительно преобразовывать наличный человеческий материал, трансформировать его в новое качество.
Что касается рациональной и эффективной системы государственного управления, то ее не удастся создать и Петру, хотя усилий для этого он приложит немало. Не возникнет такая система и потом, ее нет в России до сих пор. Потому что пока сохраняется идеология «беззаветного служения».пока она не вытеснена окончательно идеологией служения по контракту, будет воспроизводиться и соответствующий ей тип чиновника, с эффективным управлением несовместимый. Сегодня он, конечно, не совсем такой, как во времена послемонгольской Руси. Он изменился, но это – изменения внутри одного и того же культурного типа. И потому небесполезно помнить о его родословной, восходящей именно к Московской Руси.
Историческое и социокультурное происхождение российского чиновничества было таким же, как у служилого дворянства. Их последующие биографии в чем-то совпадают и даже пересекаются, в чем-то существенно расходятся, но первые страницы у них одинаковы. Как мы уже отмечали, новый господствующий класс в обеих своих ипостасях – дворянской и чиновничьей – комплектовался московскими правителями из низших слоев населения и вполне отвечал их ожиданиям. Но новая элита, будучи порождением верховной власти, ставила всех, с кем соприкасалась, в зависимость от своей культуры и своего менталитета. В том числе – и саму власть.
Вот как еще в советское время описывал это взаимовлияние известный отечественный исследователь, стремившийся, скорее всего, вызвать у читателя ассоциации с коммунистическим правящим слоем и его социальным происхождением: «Роль несвободной челяди в формировании господствующего класса русского государства – факт, уже отмечавшийся ранее историками. Речь идет о тех слугах „под дворским", которые состояли из постельных, конюхов, псарей и т.д. Нравственно растленные, они ненавидели своих господ и в любое время могли предать их. Получая за „службу" землю в условное держание, они вливались в состав господствующего класса и образовывали основную массу помещиков конца XV в. Факт испомещения на новгородских землях послужильцев из распущенных боярских дворов общеизвестен. Холопье происхождение, собачья преданность самодержавию значительной части служилого люда сыграли большую роль в том, что власть московского государя, опирающегося на них, приобрела явные черты деспотизма. Господа „из холопов" становились лютыми крепостниками и душителями всякого неповиновения, стараясь выместить на подвластных им угнетенных и оскорбленных то, что пришлось им вытерпеть самим»54.
54 Зимин А.А. Холопы на Руси. М., 1973. С. 374.
Это – о дворянах первых поколений. Далее о чиновниках: «Аппарат власти созидающегося единого государства в значительной степени формировался на основе дворцового ведомства и личной канцелярии великого князя. Дворцовые слуги – казначеи, дьяки, ловчие, постельничьи, сокольники и т. п. – выходили очень часто из среды дворцовой челяди. Этим объяснялась их преданность монарху, от каждого движения пальца которого зависела их жизнь или смерть. Покидая холопье состояние, новые господа становились как бы „холопами" великого князя, а формула „яз, холоп твой" сделалась официальным обращением к великому князю его подданных. История холопства во многом объясняет ту силу, которую приобрело самодержавие на Руси, и раболепную преданность его верных слуг…»55.
Таким образом, новая московская элита еще больше отличалась от старой домонгольской, чем княжеско-боярская. И именно потому, что она, будучи новой и не обремененной воспоминаниями о прошлом, в большей степени соответствовала изменившемуся положению вещей. В киевский период элита состояла из свободных дружинников, а в московский – из людей, полностью зависимых от государя. В том и другом случае речь шла о «беззаветном» (недоговорном, неконтрактном) служении, но в первом случае дружинник был так же свободен от фиксированных обязательств, как и князь, а во втором – одна из сторон свободы лишалась: ее степень у служилых людей по отношению к государю была сведена к нулю. При таких обстоятельствах плебейская карьерная мотивация Васюка Грязного в большей степени оказывалась ко двору, чем аристократическая мотивация Андрея Курбского, чья озабоченность признанием индивидуальных доблестей в глазах царя выглядела крамолой. Однако служебное рвение новобранцев правящего класса не могло компенсировать бедность их личностных ресурсов.
Если дружинник киевской эпохи был воином-профессионалом, отвечавшим требованиям и стандартам того времени, то военнослужилый дворянин (впрочем, как и боярин) московской эпохи от требований своего времени начинал уже отставать, и Ливонская война это наглядно продемонстрировала. Что касается чиновников, то уровень их профессионализации, по сравнению с домонгольским периодом, заметно возрос уже потому, что при отсутствии централизованной государственности никакой государственной бюрократии
55 Там же.
на Руси не было вообще. В послемонгольской Московии возникло делопроизводство, появились архивы, постоянно увеличивал количество административных функций, расширялся круг чиновничьих полномочий. Чтобы осуществлять управление и контроль, требовалась определенная специализация, не говоря уже о грамотности. Но то было движением вперед по сравнению с собственным прошлым при сразу же обозначившемся отставании от окружавшего Русь настоящего. Тип чиновника, формировавшийся на Руси, изначально отличался крайней архаичностью, его профессиональные отличия на фоне других слоев населения проявлялись слабо. Этим зарождавшаяся отечественная бюрократия отличалась от чиновничества не только западного, но и восточного типов.
Даже в XVII веке высокой специальной квалификации от чиновников московских приказов не требовалось. Они выполняли поочередно самые разнообразные обязанности, не рассматривали службу как свою единственную профессию, а их служебные отношения с коллегами и населением выстраивались не на рационально-функциональной, а на эмоционально-личной основе56. Это значит, что на государственный уровень переносился тип взаимоотношений, характерный для догосударственных локальных миров. Но это означает также, что качественно чиновники от других людей почти ничем не отличались.
На Западе, как и в старых и новых государствах Востока, уже в те времена дело обстояло иначе. На Востоке «отцовская» модель властвования потому и демонстрировала устойчивость, потому и обеспечивала относительно прочный базовый консенсус, что промежуточный – между правителем и рядовыми подданными – элитный слой легитимировался своими особыми качествами, знаниями и умениями, приобретенными в процессе специальной подготовки. Так было в Китае, где место в бюрократической иерархии можно было получить, лишь пройдя жесткий экзаменационный отбор. Так было в Османской империи, где чиновников, напомним, готовили в созданных для этого школах из славянских рабов и специализировали с учетом индивидуальных способностей. Русь и в данном отношении изначально шла своим «особым путем», что предопределило ее развитие на столетия вперед. Русские чиновники в большинстве своем выглядели в глазах населения такими же, как все, но при этом, в силу непонятных обстоятельств, находящимися во власти
56 Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 162-163.
и пользующимися даваемым таким положением преимуществами. Поэтому отношение к московским чиновникам на Руси изначально складывалось примерно такое же, как к боярам-«кормленцам».
Конечно, причина подобного отношения – не только в качественной неопределенности отечественной бюрократии, ее профессиональной непроявленности. Главная причина в том, что эти неопределенность и непроявленность не мешали чиновнику получать за свою деятельность неплохое вознаграждение, причем не от государства, а от населения. До середины XVIII века большинство чиновников вообще не получало денежного содержания. Им официально дозволялось брать от населения подношения («взятки») а вои услуги. При этом услуга заключалась обычно в том, чтобы ускорить решение того или иного вопроса и гарантировать, что само решение будет для клиента благоприятным57. Оплата могла производиться как деньгами, так и натурой (продуктами) – традиция, пожившая до начала XX века, устоявшая при большевистском режиме и сохраняющаяся до сих пор. Люди такую практику принимали – ничего другого им не оставалось. Но это не значит, что она им импонировала.
Историки по-разному оценивают масштабы чиновничьих злоупотреблений в Московской Руси. Существуют свидетельства относительно взяток, вымогавшихся у русских и иностранных купцов58. Что касается взаимоотношений с московской бюрократией основной массы населения, то документов об этом до нас дошло немного. Но есть пословицы, выражающие народное восприятие деятельности чиновников. «У приказного за рубль правды не купишь»; «подьячий – породы собачей, приказный – народ пролазный»; «таков, сяков, да лучше приказных дьяков»59 – так выглядел в глазах людей управленческий слой, который начал формироваться в послемонгольской Руси.
Новая государственная элита, создававшаяся первыми московскими государями, рекрутировалась, повторим еще раз, из самых низших слоев населения. Из них черпала власть необходимые ей человеческие ресурсы. Мы не можем эти ресурсы назвать личностными, потому что речь идет о людях, у которых личностное начало
57 Там же. С. 164.
58 См.: История предпринимательства в России: В 2 кн. М., 2000. Кн. 1: От Средневековья до сере-
дины XIX века. С. 58-59.
59 Пословицы русского народа. Т. 1. М., 1989. С. 144.
не было развитым даже по меркам той эпохи. По крайней мере, оно было развито несоизмеримо меньше, чем у старой боярской элиты. Но идея «беззаветного служения» языческому тотему в образе православного государя была им понятна и близка. И дело не только в том, что она была глубоко укоренена в культуре. Дело в том, что «беззаветное служение» не только не ущемляло частные интересы новой элиты, но и максимально способствовало их реализации.
Священник Сильвестр – автор «Домостроя» и один из ближайших советников Ивана IV в первый период его правления – в письме сыну-чиновнику советовал ему «служить верою да правдою безо всякие хитрости и безо всякого лукавства во всем государьском»60. Но уже сам факт такого совета свидетельствует о том, что в реальной жизни служили не всегда так. Уязвимость идеала «беззаветного служения» в том, что если вершина власти выводится за сферу завета (контракта, закона, права), то не будет никакого завета (контракта, закона, права) и на более низких ступенях властной иерархии. И тогда сам этот идеал окажется лишь прикрытием тотальной «беззаветности». Или, говоря иначе, беззакония и бесправия. Или, что то же самое, разгула частных интересов под видом служения интересу общему, персонифицированному в фигуре великого государя.
8.3. Ресурсы бизнес-групп
Едва ли не главная особенность милитаристской государственности, складывавшейся в Московской Руси, заключалась в том, что она, решая одни проблемы, способствовала накоплению других, которые для данного типа государственности неразрешимы в принципе. И все эти проблемы так или иначе всегда упирались в одну, выражаемую словами «экономическая эффективность».
С самого начала послемонгольская Московия оказалась в ситуации военно-технологической конкуренции с Западом. Для старых государств Востока она в то время была еще неактуальна. Запад находился от них далеко, а потому они имели возможность спокойно воспроизводить свои вековые жизненные уклады, не обременяя себя заботами об инновациях и даже о заимствовании чужих технологических и прочих новшеств. Московская Русь, в отличие от них, должна была о такой конкурентоспособности заботиться. Но при этом речь шла о соперничестве с государственной и общественной
60 Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985. С.
системой, которая по своей экономической эффективности стремительно уходила в исторический отрыв от всех других существовавших тогда систем.
Во времена Московской Руси Европа, как мы уже отмечали, тоже шла к утверждению абсолютной монархической власти. Однако она возникала там на совершенно иной основе и предполагала существенно иной, чем на Руси, тип взаимоотношений между государством и, как теперь говорят, «хозяйствующими субъектами».
Как и любое монархическое правление, его западная разновидность уходила корнями в «отцовскую» культурную матрицу. Но европейские короли не были монопольными собственниками, а потому не были и отцами-самодержцами, подчинявшими все частные и групповые интересы персонифицированному в лице монархов интересу общему. Они могли позволить себе эти интересы ущемлять, могли, скажем, отбирать земли у монастырей, на что не решалась даже московская власть, но лишь для того, чтобы изменить историческую конфигурацию частных интересов, а не для того, чтобы привязать их к себе государственной служебной зависимостью. В Европе правители нуждались не столько в земле, сколько в деньгах, которые позволяли бы оплачивать наемные войска, бывшие основной опорой их абсолютной власти. Поэтому и земельные участки, отобранные у тех же монастырей, они не присваивали, а продавали в собственность другим владельцам и, соответственно, налогоплательщикам. Можно сказать, что европейские абсолютные монархи были отцами-арбитрами, которые отцами-самодержцами стать не могли. Потому что социально-экономическая и культурная эволюция, предшествовавшая утверждению их власти, разительно отличалась от той, которая предваряла и обусловливала единовластие московских государей.
На Западе к тому времени значительными успехами городов завершилось их долгое противоборство с феодальными баронами, огородах сложилась система самоуправления, сословной и профессиональной корпоративной организации, возникли предпосылки для накопления частных капиталов и появления буржуазного класса. При наличии юридических гарантий прав собственности это создавало условия для стимулирования частной инициативы, инноваций и развития общенациональных внутренних рынков.
Таковы были процессы, подготовившие становление на Западе абсолютных монархий. Последние ничего в данном отношении не меняли и изменить не могли. Опираясь на складывавшиеся в ходе развития национальных рынков национальные общности и балансируя между интересами земельных и городских собственников, короли концентрировали в своих руках всю полноту политической власти, не покушаясь на экономическую независимость и гарантировавшие эту независимость права других субъектов. Были ограничения хозяйственной свободы, была государственная регламентация, но сама независимость под сомнение не ставилась.
В послемонгольской Руси городов европейского типа не существовало, да и самих городов было сравнительно немного61, что уже само по себе свидетельствовало о зародышевом состоянии национального рынка. Существовали, правда, некоторые элементы, которые можно рассматривать как предпосылки европейского варианта развития, – самоуправлявшиеся Новгород и Псков, а так же крупные княжеско-боярские земельные владения. Можно спорить о том, достаточно ли этого было для движения Руси по европейскому пути. Но такие поиски исторических альтернатив задним числом малопродуктивны уже потому, что альтернативы эти не реализовались и дальнейший ход истории не определяли. Факт остается фактом: на Руси централизованная государственность, в отличие от стран Запада, сложилась не просто до возникновения общенационального рынка, но на самой ранней стадии его становления. И складывалась она таким образом, что альтернативные социальные анклавы предшествовавшей эпохи – самоуправлявшиеся города и частные земельные владения – или устранялись вообще, или превращались в детали государственного механизма. Поэтому и государственность эта почти ничего общего с западным абсолютизмом не имела62.
Фактом, однако, остается и то, что Московская Русь с динамично развивавшимся Западом вынуждена была соперничать. Поэтому ей предстояло изыскать свои собственные способы мобилизации личностных ресурсов в хозяйственно-экономической сфере. Такую функцию, по логике вещей, государство, ставшее в лице государя почти монопольным собственником, тоже должно было взять на себя. Но для этого у него самого не было никаких ресурсов, кроме устрашения и идеологии «беззаветного служения». Вскоре
61 Если, например, в Нидерландах, территория которой в десятки раз уступала по размерам территории Московии, насчитывалось в те времена 300 городов, то на Руси – всего 160 (Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 13).
62 Яков Л. Тень Грозного царя. М., 1997. С. 98.
выяснилось, однако, что подобных ресурсов недостаточно. Неконкурентоспособность московской модели государственности постепенно становилась очевидной.
Эта государственность была вполне дееспособна, когда речь шла об изъятии у населения плодов его труда. Монгольская власть оставила своим русским преемникам отлаженную систему налогообложения. Она была разработана татарами с помощью китайских специалистов – лишнее подтверждение управленческо-организационной эффективности восточной бюрократии. После освобождения от колонизаторов собиравшаяся для них дань («выход») стала поступать московским государям.
Эта государственность могла обеспечить заимствование у более развитых европейских стран отдельных технологических достижений и воспроизведение заимствованных образцов. Разумеется, прежде всего речь шла о производстве вооружений. Пушечный двор и Оружейная палата в Москве, Оружейная слобода в Туле были государственными предприятиями, о профилировании которых говорят сами их названия.
Эта государственность могла использовать для своего укрепления богатые природные ресурсы, что и делала Московия. Она экспортировала сырье и продукты его первичной переработки – лес, пушнину, пеньку, лен, воск, кожи, смолу и некоторые другие товары, пользовавшиеся спросом на международных рынках. На вырученные деньги закупались оружие и новые военные технологии, привлекались иностранные специалисты. Но здесь уже возникали проблемы, на которых такая государственность начинала спотыкаться.
Чтобы успешно развиваться, страна должна была наращивать объемы внешней торговли, для чего был нужен выход к морским портам и доступ к мировым торговым путям. Этого можно было добиться только при военно-технологическом превосходстве над другими странами, заинтересованными в контроле над такими портами и путями не меньше. Но превосходство невозможно обеспечить, а тем более – долговременно поддерживать, ориентируясь только на заимствование чужих технологических, организационных и прочих достижений. Эта проблема и обнаружила себя – впервые на Руси – во время Ливонской войны Ивана Грозного. Тогда же обнаружилось и то, что она не решается даже при запуске на полную мощность машины страха или, говоря иначе, насильственного принуждения к «беззаветному служению».
При отсутствии собственных внутренних источников и стимулов инноваций страна обречена на стратегическое отставание. Можно освоить навыки литья пушек, догнав тем с самым страны, ушедшие в этом направлении вперед, но условия для дальнейшего развития технологии и создания в будущем более совершенных образцов при этом не возникнут. Рано или поздно он будут созданы, но – опять за рубежом. И тогда снова придется начинать гонку за лидерами. Конечно, стимулирование количественных изменений в границах заданного качества возможно при любых обстоятельствах, пример чему – знаменитая Царь-пушка. Но – не более того.
Инновации всегда связаны с риском, который государство взять на себя не может, – тем более, при дефиците ресурсов. Достаточно вспомнить, как Сталин, получив информацию об устройстве американского стратегического бомбардировщика и будучи озабоченным созданием средств доставки ядерного оружия, настаивал на предельно точном воспроизведении зарубежного образца. Ему объясняли, что он уже устарел и есть возможность его усовершенствовать. Сталин пригрозил Колымой.
Риск – привилегия собственника-предпринимателя, которого никакое государство, даже очень богатое, полностью заменить не в состоянии. Но, как показывает исторический опыт, предприниматель рискует лишь тогда, когда он от государства независим и его права гарантированы. Между тем во времена Московской Руси была заложена традиция, суть которой мы сегодня обозначаем как сращивание бизнеса и власти. Эта традиция и предопределила маршрут исторического развития страны: она догоняла ушедших вперед, потом снова отставала и снова догоняла. Сегодня она – в стадии очередного отставания. Можно еще раз поискать решение, опираясь на многовековой отечественный опыт. Можно признать, что он исчерпан, и пришло время прокладывать иные пути. Но в любом случае лишнее напоминание о самом этом опыте не помешает.
В одном из своих писем английской королеве Елизавете Иван Грозный объяснил, какими, по его мнению, должны быть взаимоотношения власти и бизнеса и почему в Англии они неправильные. Мы полагали, писал он, что ты «на своем государстве государыня», что «сама владеешь» им, обеспечивая ему «прибытки». Оказалось же, что «у тебя мимо тебя люди владеют», причем «не токмо люди, но мужики торговые», которые о государстве не думают, а «ищут своих торговых прибытков»63. Русский царь имел в виду то, что английские предприниматели через парламент ограничивали английскую правительницу в принятии государственных решений. Но это означало, что в его глазах частные интересы «мужиков торговых» публичному отстаиванию не подлежали, т.е. были заведомо нелегитимными, а легитимными были только интересы государства, полностью совпадающие с интересами владеющего им государя и отдельно от него не существующие.
Однако «беззаветное служение», не опосредованное частным интересом, в бизнесе обеспечить труднее, чем где бы то ни было. Для предпринимательской деятельности требуются особые способности и индивидуальная предрасположенность. Массовый набор в купцы из холопов невозможен, милитаристская модель мобилизации личностных ресурсов здесь бессильна. Поэтому московские государи в данном случае ею не пользовались. Купцами на Руси становились люди, способные быть купцами. Они становились ими независимо от власти. Но это не значит, что они могли стать от нее независимыми. Даже при наличии значительных частных капиталов. Наоборот, степень несвободы купцов увеличивалась пропорционально размерам их состояний.
Русский царь не лукавил, объясняя английской королеве ненормальность такого положения вещей, когда торговцы «ищут своих торговых прибытков». Смысл его слов в том, что прибытки эти не должны притекать к «мужикам торговым» в обход власти, вне ее контроля и службы ей, что они могут быть лишь следствием ее расположения и ее милостей. Частный капитал – не гарантия независимости от государя, а инструмент обеспечения зависимости. Поэтому сам по себе капитал нелегитимен. Поэтому его интересы могут произвольно ущемляться – вплоть до физической ликвидации его владельца. Иван Грозный действительно не лукавил, английские порядки и в самом деле очень мало походили на московские и казались ему странными.
Можно сказать, что частный капитал на Руси был интегрирован в государеву собственность и функционировал на огосударствленном, т.е. приватизированном государем, рынке. Предприимчивые купцы могли, скажем, обнаружить спрос на какой-то «известный прежде товар и выбросить его на рынок, получая
63 См.: Толстой Ю. Первые сорок лет сношений между Россиею и Англией, 1553-1593. СПб., 1875. С. 109.
большую прибыль. Такая инициатива допускалась. Но после того, как власть это обнаруживала, данный товар попадал в разряд «заповедных». Или, говоря иначе, торговля им объявлялась государевой монополией, что устраняло на этом поле какую-либо конкуренцию64. Не было и не могло быть на Руси ходового товара, торговля которым избежала бы такой монополизации.
Огосударствление рынка проявлялось и в том, что «нередко казна скупала по установленным произвольным ценам некоторые товары (пушнину, воск, мед, сало и др.), а затем с большой выгодой сбывала их на внутренних и международных рынках». Бывало и так, что «всем подданным запрещали продавать определенные товары до полной распродажи аналогичных продуктов из царских запасов»65. Кроме того, московский государь как верховный и единственный собственник пользовался правом быть первым покупателем товаров, ввозимых русскими и иностранными купцами из-за рубежа. При этом они в данном случае мог диктовать цену, на которую купец вынужден был соглашаться, – торговать на Руси до того, как государь купит по им же назначенной цене все, что хочет (и столько, сколько захочет) категорически запрещалось. Разумеется, после этого купленный казной товар шел в продажу, но уже по рыночной цене.
Огосударствление рынка не означало его полного устранения. Оно означало лишь то, что один из игроков наделялся привилегией, позволявшей ему обходить рыночные законы.
Тем не менее крупные частные капиталы в Московской Руси возникали. Но независимости от власти они, повторим, их владельцам не добавляли. Все обстояло с точностью до наоборот. Как только властям становилось известно, что какой-то провинциальный купец сумел сколотить себе приличное состояние, его вызывали в Москву, где он превращался в купца на государевой службе. Его личностные ресурсы – как и ресурсы тех, кто попал на нее раньше, – использовались для обслуживания государевой коммерции
64 Конкретные факты, свидетельствующие о распространении в Московской Руси такой практики, приводятся, в частности, в книге Р. Пайпса «Россия при старом режиме». См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 258. В этой же работе содержится обстоятельный анализ других особенностей экономической политики московских властей в интересующий нас период.
65 История предпринимательства в России. Кн. 1. С. 59. См. также: Пашков А.И. Принципы экономической политики Ивана Грозного // История русской экономической мысли. М., 1955. Т. I. Ч. 1. С. 181.
(сбора налогов, таможенных пошлин, оценки ввозимых в страну товаров, их отбора для государя и последующей продажи и т.п.). Его таланты и способности не признавались его личным достоянием, которым он вправе распоряжаться по собственному усмотрению. Распоряжаться ими мог только московский правитель. Это относилось и к капиталу служилых купцов – государь был вправе часть его брать в залог, а также рассчитывать на «добровольные» пожертвования в пользу казны.
Б своей коммерческой деятельности московская власть не могла обойтись без «торговых мужиков», вынуждена была использовать их личностные ресурсы, считаться с их частными интересами предрасположенностью к получению личных «прибытков» – без этого бизнес невозможен. Но подобные предрасположенности не легитимировались; легитимными считались лишь «беззаветное служение» одной стороны и милости и опалы другой. Крестьяне Строгановы смогли стать богатейшей купеческой семьей, контролировавшей значительную часть солеварения и рыболовства Московии. Но они стали таковыми лишь постольку, поскольку пользовались царской лицензией. За это они регулярно платили в казну огромные суммы денег и оказывали власти многочисленные другие финансовые и административно-коммерческие услуги. Они знали, что лицензия в любой момент может быть отобрана, что их бизнес и жизнь находятся в полной зависимости от московской власти.
Личные «прибытки» могут иметь место, лишь будучи обусловлены «беззаветным служением», – вот что хотел объяснить русский царь английской королеве. Но вряд ли ему было суждено быть понятым ею. Впрочем, как и ей быть понятой им.
Русская власть и в отношениях с бизнесом шла своим особым путем. Это обеспечивало ее политическую монополию, т.е. позволяло ей быть самодержавной. Но это же обусловливало стратегическую неконкурентоспособность страны в приумножении общественного богатства, что не могло не сказываться и на конкурентоспособности военно-технологической. При той роли, которая бизнесу отводилась на Руси, на инновации он мотивирован не был. Письмо Грозного и обозначенная в нем позиция позволяют понять, почему Россия не стала родиной промышленной и информационной революций и почему тема «бизнес и власть» до сих пор в нашей стране одна из самых актуальных. Но в нем же задним числом можно уловить и косвенный намек на то, почему Россия стремилась стать тем, чем стала, а именно – страной огромных пространств.
8.4. Ресурсы низших слоев
Общественное богатство, как известно, создается народным трудом и зависит от его продуктивности. Продуктивность же, в свою очередь, зависит от реализации личностных ресурсов населения Принципы, на которых строилась московская государственность, этому не способствовали. Более того, развитие хозяйственной активности и инициативы населения было ею заблокировано. Поэтому и в данном отношении правомерно утверждать, что экономическое отставание России от Запада закладывалось именно в московскую эпоху.
Если это отрицать, то придется согласиться с теми, кто причину отставания ищет не в государстве, а в народе. На наш же взгляд, дело именно в государстве и в заданном им маршруте развития Мы вовсе не хотим сказать, что московская государственность, будь ее создатели поумнее и подальновиднее, могла быть принципиально иной. Мы лишь констатируем, что ее формирование и упрочение закладывали предпосылки экономического отставания и что проявляться оно начало уже во времена Московской Руси.
По данным исследователей, коэффициент урожайности зерновых в средневековой Европе составлял 1:3, т.е. каждое посеянное зерно давало дополнительно три зерна при уборке урожая. На Руси в те времена урожайность была примерно такой же. Однако с середины XIII века в Европе она начала расти, и к исходу Средневековья ее показатель составлял уже 1:5. На протяжении XVI-XVII столетий она достигла уровня 1:6 или 1:7, а в наиболее развитых странах-1:10. Главная причина роста – развитие городов. Их население перестало выращивать хлеб, стало покупать его у крестьян, что побудило последних интенсифицировать производство и производить излишки на продажу. Русь же вышла из московской эпохи все с тем же показателем 1:3. Примерно таким он оставался в ней до XIX века66.
У русских крестьян стимулов для интенсификации труда не было. При неразвитости внутреннего рынка и незначительном количестве городов и городских жителей этим стимулам появляться было попросту неоткуда. Что касается московской власти, то она была в те времена озабочена совсем другими проблемами.
Ей нужно было, чтобы крестьянин исправно платил подати. Стимулируют они его труд или нет – такой вопрос даже не возникал. Также ей было нужно обеспечить рабочими руками разраставшийся служилый класс, посаженный для кормления на землю. Этого ждал
66 Пайпс Р. Указ. соч. С. 19-20.
от нее и сам служилый люд – особенно вновь возникший поместно-дворянский, заинтересованный в ликвидации крестьянских вольностей, т.е. права перехода от одного хозяина к другому. Служилые люди нуждались в том, чтобы выстроенная по отношению к ним «вертикаль власти» была доведена до самого низа.
Шедший от них запрос еще больше усилился после того, как опричные погромы, татарские набеги из Крыма и страх перед их повторением привели к массовому бегству населения из центральных районов страны. Уже после смерти Ивана Грозного, при его сыне Федоре, а потом при Борисе Годунове были приняты указы, запрещавшие крестьянские уходы от вотчинников и помещиков, прикреплявшие их к земле. Согласно Судебнику Ивана III (1497), время этих уходов ограничивалось двумя осенними неделями до и после Юрьевого дня. Столетие спустя крестьянские свободы были устранены. Создание милитаристской государственности осуществлялось постепенно и заранее не планировалось; проблемы решались по мере их поступления. Москва и в самом деле строилась не сразу.
По мере закрепощения крестьян среди них выделялись две группы, два культурно-психологических подтипа в границах единой культуры: «пахари» и «воины». Первые примирялись с несвободой и приспосабливались к ней. Вторые от нее бежали в «дикое поле», пополняя ряды вольных казаков. Физическая сила и удаль не могли больше найти приложения в многочисленных княжеских дружинах, централизованное государство последовательно устраняло все вольности – не только вверху, но и внизу. В результате личностные ресурсы значительных слоев населения устремились туда, где могли реализоваться независимо от власти и ее предписаний, где не было ни государевых податей, ни государевых слуг. Наступление государства на население сопровождалось массовым бегством второго от первого.
Что касается «пахарей», то при низких урожаях, значительных размерах налогов и необходимости кормить не только себя, но и помещиков, их личностные ресурсы находили приложение в дополнительных занятиях (промыслах). В некоторых районах страны они получили довольно широкое распространение. Служилый класс таким занятиям не препятствовал – для него важно было, чтобы крестьяне исправно платили оброк (барщина в эпоху Московской Руси широкого распространения еще не получила), а промысловая деятельность и продажа ее продуктов на рынке этому способствовали. Но уже сам факт перетекания энергии «пахаря» в побочные занятия свидетельствовал о том, что вопрос об интенсификации сельскохозяйственного труда в его сознании даже не возникал и что ни его хозяева – вотчинники и помещики, ни государство в данном отношении его не стимулировали. Учитывая же, что в эти занятия могла быть вовлечена лишь относительно небольшая часть крестьян, можно говорить о невостребованности в Московии личностных ресурсов большинства населения.
Такому положению вещей соответствует и вполне определенный массовый человеческий тип. Его отличительные особенности – замороженность личностного потенциала, уверенность в том, что перемены к лучшему возможны лишь в результате перемещения в пространстве, и отсутствие установки на самоизменение во времени.
Московская власть этот тип сознательно не формировала, он начал складываться до нее и независимо от нее еще в киевскую эпоху. Перемещение людей из южных степных районов в северо-восточную лесистую зону сопровождалось распространением подсечно-огневого земледелия – едва ли не самой архаичной формы хозяйствования. Суть ее в том, чтобы перевести в продукт потребления потенциал, накопленный природой за века жизни без человека, а потом, когда потенциал этот исчерпывается, забросить истощенную и деградировавшую территорию и перейти на другой участок. Подсечное земледелие обусловливало «образование замкнутого круга процессов: непрерывное вовлечение в оборот новых природных ресурсов стимулирует демографический рост, который, в свою очередь, требует вовлечения в оборот новых ресурсов»67.
Московские власти, повторим, этот «замкнутый круг» не изобретали. Но они его и не разорвали – наоборот, он стал основой их государственной стратегии и оставался ею и после того, как возможности подсечного земледелия были исчерпаны.
На многих землях Московской Руси это произошло уже в XV столетии. В результате разразился серьезный социально-экологический кризис. В ответ на него власти принудительно ввели трехпольную систему, которая культивировала более бережное от ношение к земле, но сама по себе интенсификации производства не способствовала.
Ростки нового, интенсивного хозяйствования начали, правда, появляться в самой крестьянской среде в виде, например
67 Кульпин Э.С. Золотая Орда (проблемы генезиса российского государства). М, 1998. С. 229.
навозного животноводства. Аналогичные нововведения осуществлялись в свое время и в Европе – именно они предшествовали там росту эффективности сельскохозяйственного производства. Однако на Руси они сколько-нибудь заметным экономическим оживлением не сопровождались: при неразвитости городов и внутреннего рынка у крестьян не было достаточных стимулов для повышения урожайности, а при низкой урожайности и, соответственно, отсутствии кормовой базы для животноводства не могло быстро развиваться и последнее.
Не в состоянии было восполнить отсутствие сильных рыночных стимулов и Московское государство. Во-первых, потому, что любое государство при всем желании не способно компенсировать отсутствие спонтанных экономических процессов. А во-вторых, потому, что московская его разновидность изначально была ориентирована не на компенсацию, а на замену экономической логики военно-административной. Или, что то же самое, логикой экстенсивного развития.
В этом отношении московские Рюриковичи двигались по маршруту, проложенному их киевскими предками. Послемонгольские государи были лишены тех преимуществ, которые давал когда-то контроль над торговым путем «из варяг в греки». Но они обладали преимуществом централизованной государственности: она открывала перспективу новых территориальных приобретений, которая Киевской Русью была утрачена в силу ее политической раздробленности и сотрясавших ее междоусобных войн.
Милитаристская природа Московского государства диктовала ему именно такой способ развития, который, в свою очередь, только и мог позволить ему существовать и укрепляться. Поэтому было вполне естественно, что на Руси «государство пошло по пути захвата чужих земель», сделав «свой принципиальный выбор в пользу экстенсивного пути развития»68.
Колонизация окружавших Московскую Русь пространств облегчалась тем, что многие из них были либо «бесхозными», либо принадлежали более отсталым народам, что обусловливало и слабость их правителей. Результаты этой колонизации были впечатляющими – к концу XVI века, присоединив значительную часть Сибири, Московская Русь по размерам своей территории значительно превзошла всю остальную Европу. Если в последней по
68 Кульпин Э. Путь России. М., 1995. С. 123.
нарастающей происходили активизация и обогащение личностных ресурсов населения, то Москва наращивала ресурсы природные. Это консервировало экстенсивную доминанту национальной культуры. Территория страны увеличивалась, ее богатства прирастали. Но пройдет немало времени, прежде чем станет очевидно: владение огромными земельными массивами не есть убедительная альтернатива высокому коэффициенту урожайности.
Экстенсивную направленность отечественной политики и экономики можно, конечно, объяснять и неблагоприятным климатом – подобные толкования появились не сегодня, хотя вряд ли когда-нибудь они были столь же популярны, как в наши дни. И они были бы убедительными, если бы речь шла о неудачных попытках интенсификации. Но они очень мало что объясняют, когда дело касается дефицита или отсутствия самих таких попыток.
Колонизация, осуществлявшаяся московскими властями, вполне сочеталась с ожиданиями крестьян. Многие из них охотно снимались с места и переезжали на завоеванные территории, а нередко шли впереди государства, оседая на «бесхозных» землях. По мере того, как возрастало государственное давление, люди бежали не только в разбойничье казачье воинство. Многие и на новых местах продолжали крестьянствовать, оставались «пахарями». Потом власть все равно настигала беглецов, присоединяя уже колонизованные территории. Но само бегство населения на окраины было весьма показательным, ибо свидетельствовало о воспроизведении в новых условиях и новых формах старого социокультурного раскола.
Народные низы открыто демонстрировали свое неприятие государства, голосуя против него ногами. Но это не был протест против конкретной его разновидности ради утверждения другой. Потому что образа какой-то другой государственности в культуре не сложилось, а сохранявшееся в ней представление о народно-вечевой альтернативе было остаточным проявлением культуры догосударственной.
Локальные вечевые миры, отстраненные от политики и вытесненные из городов, воспроизводились в казачьих кругах и сельских сходах – в том числе и на новых местах. Бывало так, что эти низовые миры удавалось – хотя бы отчасти и ненадолго – вписать в государство. Пример тому – передача при Иване IV некоторых государственных функций местным выборным органам. Бывало и так, что такие миры по собственной инициативе оказывали властям услуги. Достаточно вспомнить, что Сибирь была покорена казаками Ермака на деньги Строгановых. Но это движение верхов и низов навстречу друг другу было ситуативным и не меняло общей картины.
Массовое бегство от государства, стремление спрятаться от любого начальства свидетельствовали о том, что своей политикой московская власть не только не способствовала интеграции низов в государственную жизнь, но и отталкивала от нее. При замороженности личностных ресурсов, их невыявленности и невовлеченности в хозяйственную деятельность прорыв за пределы архаичной догосударственной культуры (в широком смысле слова) невозможен в принципе. Не может при таких обстоятельствах сформироваться и ответственность за государство, а может лишь нарастать отчуждение от него. Во время всеобщей смуты, разразившейся в начале XVII столетия, этот накопившийся потенциал анархии выплеснется наружу.
Глава 9 Коррекция цивилизационного выбора
Послемонгольская Русь оставалась в границах цивилизационного выбора, осуществленного князем Владимиром. Комбинация базовых элементов, составляющих ее цивилизационное своеобразие, существенных изменений не претерпела. Московское государство, преодолевшее домонгольскую политическую раздробленность и ставшее централизованным, сохранило приверженность христианской вере и по-прежнему пыталось соединять ее с силой, применение которой не опосредовано и не ограничено законом. Не в том смысле, что в упорядочивании жизни закон не использовался вообще. Наоборот, область его действия, по сравнению с киевским периодом, значительно расширилась и стала распространяться не только на взаимоотношения между частными лицами, но и на государственные обязанности разных групп населения – элитных и низовых. Тем не менее само государство и его институты оставались выведенными за пределы правового регулирования, а в тех единичных случаях, когда регулирующие нормы появлялись, как в случае наделения законодательными полномочиями Боярской думы, они не были застрахованы от попрания. Поэтому и по отношению к московской государственности правомерно утверждать, что она, как и киевская, находилась в некоем промежуточном предцивилизационном состоянии: сохранив заимствованную веру и укрепившись в ней, она оказалась маловосприимчивой к другому базовому государствообразующему элементу – законности, без которой обретение цивилизационного качества невозможно.
Однако коррекции цивилизационного выбора могут происходить и в предцивилизационном состоянии. И такие коррекции в монгольский и послемонгольский периоды были на Руси осуществлены. Они касались границ применения силы, субъектов, которые могут ее использовать, религиозных обоснований этих грани и полномочий этих субъектов. Они касались и институционального оформления силы, равно как и ее организационно-технологического обеспечения.
Новшества обусловливались набиравшей темп централизацией, поиском формы правления, этой централизации соответствовавшей, и шли в основном от монголов. Не потому, что те что-то навязывали (как мы уже отмечали, навязывали они очень немногое), а потому, что у них заимствовали. Причем не столько во времена их владычества, сколько после того, как от него освободились. В свою очередь, такого рода заимствования сопровождались ревизией византийской религиозной составляющей отечественной властной модели при одновременном подчеркивании преемственной духовной связи с Византией и продолжавшимися заимствованиями отдельных элементов ее политического опыта. Наконец, в этот монгольско-греческий синтез привносилось и нечто специфически русское, чего не было ни у греков, ни у монголов. В результате возникло гибридное и вполне оригинальное протоцивилизационное качество, предопределившее развитие страны на столетия вперед.
У истоков этого нового качества стоял новгородский князь (а потом великий князь владимирский) Александр Невский. Суть цивилизационного выбора, который он сделал, заключалась в соединении православно-христианской веры с большей, чем располагали русские князья, силой – с силой Золотой Орды. Внуку Владимира Мономаха и деду Ивана Калиты суждено было возвести цивилизационный мост от Киевской Руси к Московской.
9.1. Разворот на Азию
Ставка Невского на союз с Ордой не была его личным выбором. Это был выбор северо-восточных князей – владимирский стол во время нашествия монголов занимал отец Александра Ярослав Всеволодович, признавший себя их данником. Вопрос, который перед ними стоял, был не в том, что предпочесть, – независимость или утрату суверенитета. Вопрос заключался в том, в чью пользу поступиться суверенитетом: монголов, литовцев, поляков или Ливонского ордена. Северо-Восточная Русь не без колебаний и борьбы между преемниками Ярослава выбрала монголов. Русь Юго-Западная – западных соседей. Отсюда – две принципиально разные линии политического поведения, проявившиеся в деятельности двух современников – Александра Невского и Даниила Галицкого.
Первый, Александр Невский, не просто противостоял Западу и воевал с ним (приграничные столкновения с немцами и шведами, возведенные впоследствии в ранг судьбоносных победных сражений), но в своем противостоянии сделал стратегическую ставку именно на монголов. Невский отверг предложенный римским папой (1248) союз для совместной борьбы с ними. Он был предельно последователен в своем выборе. Его расправа над выступившими против татар новгородцами и принуждение их к уплате дани, наведение монгольской рати против своего брата Андрея, правившего до Невского во Владимире и ориентированного на Запад, бегство в Орду во время антитатарского восстания (1262) – все это свидетельствует о том, что русский князь рассматривал свою власть над русскими землями как проекцию власти Орды, а силу Орды – как главный источник своей собственной силы.
Даниил Галицкий не был и не мог быть столь же последовательным. Идею союза с Западом, к которой он склонялся, политически осуществить было намного труднее, чем стать наместником Орды. Такой союз означал признание верховенства католической церкви над православной и уступки в делах веры, чего галицко-волынскому князю хотелось бы избежать. Тем не менее он, в отличие от Невского, сам начал искать помощи у папы, обещая тому церковную унию, т.е. фактическое подчинение католическому Риму, в обмен на крестовый поход Европы против татар. Он принял от папы королевский титул, наладил союзнические отношения с растущим Литовским княжеством, в те времена еще языческим, пригласил на свои земли колонистов – немцев, поляков, венгров. Это была принципиально иная, чем на северо-востоке, стратегия, которой Невский активно и целенаправленно противодействовал.
Цивилизационный выбор владимиро-суздальских князей имел своим итогом вызревшую в монгольском «инкубаторе» централизованную московскую государственность. Выбор Даниила Галицкого в перспективе вел и привел к вхождению большей части юго-западной Руси в Литву, которая развивалась вне монгольской опеки. На территории Владимиро-Суздальской Руси сформировался русский народ. На землях, не находившихся под властью Орды› сформировались народы украинский и белорусский.
Как и во всех других случаях, мы не собираемся выставлять оценки историческим деятелям той эпохи, полагая, что дело это малопродуктивное. Задним числом можно сказать, что у Александра Невского была возможность пойти на антитатарский союз с Данилом Галицким, как пытался сделать его уже упоминавшийся брат Андрей. Не лишено оснований и предположение, что именно отказ от такого союза и, соответственно, от союза с папой вызвал падение интереса к русским проблемам на Западе. Однако судить о том, что получалось бы и каким был бы общий исторический результат, будь выбор Невского иным, мы не решаемся. И потому, что иной выбор не мог быть поддержан благоволившей к веротерпимым монголам и обласканной ими русской церковью. И потому, что не знаем, как повел бы себя в таком случае Запад. Ведь Даниилу Галицкому, хотя тот и принял католичество, папа все же помочь не сумел. На его призывы к европейским монархам о помощи восточному соседу никто не откликнулся: Галицко-Волынскому княжеству пришлось пережить несколько опустошительных татарских набегов и от противоборства с Ордой отказаться.
Тем не менее факт остается фактом: после монгольского нашествия Юго-Западная Русь сделала первый шаг в сторону европейской цивилизации, а Русь Северо-Восточная – в сторону от нее. Но это единственное, что можно уверенно констатировать. Вопрос о том, могло ли быть иначе и чем могло быть иное, вряд ли корректен, ибо на него заведомо не существует ответа. Прогнозирование прошлого, в отличие от прогнозирования будущего, бессмысленно уже потому, что в первом случае, в отличие от второго, прогноз невозможно проверить жизнью.
Мы полагаем, что разные политические и цивилизационные стратегии, избранные Александром Невским и Даниилом Галицким, во многом диктовались различием исходных состояний двух княжеств и складывавшихся в них традиций. Княжеско-боярская модель, формировавшаяся в Юго-Западной Руси, тяготела к европейскому феодализму и свойственным ему договорно-правовым регуляторам. Идея внезаконной и надзаконной силы, воплощавшаяся в ордынском типе властвования, здесь не находила почвы. Галицко-Волынское Княжество не встраивалось в монгольский порядок, оно из него вываливалось.
При наличии влиятельного и амбициозного боярства князь не мог перенести в свое княжество ордынский способ властвования. Для этого нужно было, чтобы монголы находились рядом, чтобы их сила постоянно присутствовала как дополнительный властный фактор. Однако монголы были далеко. При таких обстоятельствах соглашаться на подчинение Орде и выплату ей дани было равносильно ослаблению позиций князя в его противоборстве с боярами. Эти позиции ослаблялись бы уже самим фактом его зависимости от внешней власти, его политической несамодостаточностью. Поэтому Даниил Галицкий и решился предложить папе церковную унию: он готов был частично пожертвовать верой ради удержания уже достигнутого цивилизационного качества, которое выражалось в утверждавшихся принципах феодального правопорядка. И колонистов он, наверное, приглашал в свое княжество по той же причине: он надеялся расширить западный цивилизационный анклав в Юго-Западной Руси, обеспечивая тем самым основательность и необратимость своего выбора.
Считаем нужным оговориться: речь идет о наметившейся тенденции, а не о сложившемся новом качестве. Движение Юго-Западной Руси к правовому типу феодальных отношений в ту эпоху еще не завершилось. К тому же даже в завершенном своем виде складывавшаяся там княжеско-боярская модель в обозримой перспективе вхождения в западное цивилизационное состояние не обеспечивала. Об этом свидетельствует последующий опыт Других восточноевропейских стран.
В интересующий нас период права земельных собственников были там уже гарантированы, их права по отношению к княжеской или королевской власти – тоже. Но эти страны не знали той борьбы между феодалами и городами, которой суждено было сыграть едва ли не судьбоносную роль в истории Западной Европы. Не возникнет в них поэтому и абсолютных монархий, проделавших на Западе значительную работу по универсализации принципа законности, его распространению на все слои населения и жесткому проведению в жизнь.
История Восточной Европы показала, что доминирование в экономической и политической жизни феодального класса при относительной слабости городов не сопровождается ни быстрым динамичным развитием, ни решением проблем низших классов – в Восточной Европе, как и на Руси, крестьяне закрепощались в то время, когда на Западе начиналось их освобождение. Не возникает при таком доминировании и сильной государственности, ибо власть оказывается в полной зависимости от земельных собственников. Так что когда мы говорим о развитии юго-западной Руси в предмонгольскую и монгольскую эпоху, то имеем в виду лишь цивилизационный вектор этого развития и его несовместимость с тем вектором, который задавался Ордой.
В Северо-Восточной Руси ничего похожего к моменту монгольского нашествия не сложилось. Землевладельческое боярство не играло здесь той роли, которую оно играло на Юго-Западе, а договорно-правовые отношения между князем излитой зародиться не могли: события развивались в противоположном направлении. Убийство Андрея Боголюбского притормозило форсированное им движение к единоличной княжеской власти, но не остановило его.
И если смотреть на выбор Александра Невского под этим углом зрения, то понятнее будет и сам выбор.
Уступая заведомо превосходящей силе, русский князь становился наместником колонизаторов. Но выполнение возложенных на него функций не требовало отказа от модели власти, которая складывалась в Северо-Восточной Руси. Наоборот, позиции князя на подвластной территории при этом укреплялись. То была уступка суверенитета в обмен на единовластие.
Иной выбор, в духе Даниила Галицкого, был равнозначен отбрасыванию формировавшейся во Владимиро-Суздальской Руси политической традиции. Александр Невский, княживший в Новгороде на собственном опыте мог узнать, что такое договорно-правовое ограничение княжеской власти, ее зависимость от народного волеизъявления и землевладельческого боярства. Западный феодализм и его галицко-волынская русская версия воспринимались им, скорее всего, как вариации новгородского правления, владимиро-суздальским князьям совершенно чуждого.
Трения и конфликты между Новгородом и князьями Северо-Восточной Руси начались задолго до Ивана III. Они начались еще в домонгольский период. Это были столкновения новгородской политической традиции и новой политической тенденции, пробивавшей историческое русло во Владимиро-Суздальском княжестве. Это было противоборство принципов законности и надзаконной силы. Между ними и выбирал Александр Невский после татарского нашествия. В его время то был выбор между Европой и Азией. Русский князь предпочел Азию. Это не предполагало ни отказа от принципа надзаконной силы (наоборот, санкционировало ее бесконтрольное применение), ни компромиссов в области веры. Феодально-городская католическая Европа в обмен на союз против монголов потребовала бы, скорее всего, того и другого.
Сказанное, однако, еще ничего не говорит о том, каково было цивилизационное содержание выбора Невского, подтвержденного затем политикой его преемников и последователей. Новая Русь формировалась под монголами, но – не как второе издание Золотой Орды, и дело не только в том, что важнейший цивилизационный элемент (религия) у нее был иной, чем у колонизаторов, – в пору завоевания Руси те были язычниками, а потом приняли ислам. Дело в том, что Русь, будучи данником Орды, уже поэтому не могла стать ее копией. И Византию она не повторяла, хотя многое заимствовала и у нее. Русский цивилизационный проект в значительной степени был новым и оригинальным. Но его своеобразие трудно уловить без учета тех перекрестных монгольско-византийских влияний, под воздействием которых он формировался.
9.2. Русский проект
Мы уже отмечали, что основными составляющими этого проекта, как и в Киевской Руси, были сила и вера при вспомогательной роли закона, служившего инструментом в руках государства, но не способом его организации. Однако после почти двух с половиной столетий, прожитых под татарским владычеством, и падения Византии интерпретации той и другой составляющей не могли не изменится. В результате таких изменений новый русский проект – в его московском воплощении – и стал реальностью.
Сначала попробуем понять, как преломился в нем ордынский опыт. Естественно, что речь в данном случае не может идти о вере, которая у монголов была другая. Речь может идти только о факторе силы.
В доордынской Руси совокупная военная сила Рюриковичей была рассредоточена между отдельными князьями, друг от друга политически и административно независимыми. В послеордынской Руси центр силы был уже только один, и русские государи получили возможность пользоваться ею монопольно и произвольно. В данном отношении влияние монгольского опыта, осваивавшегося несколькими поколениями московских князей при исполнении ими роли монгольских наместников, не вызывает сомнений.
В доордынской Руси использование силовых ресурсов княжеской власти было ограничено свободой дружинников, их правом перехода от одного князя к другому. В послеордынской Руси все эти ресурсы были подчинены государю: вольности военнослужилого класса остались в прошлом, пожизненная государева служба стала для него обязательной. Столь жесткому прикреплению военной силы к верховной власти можно было, конечно, научиться не только у монголов. Но опыт монголов можно было наблюдать непосредственно, и московские правители наверняка получали, посещая Орду, дополнительные стимулы для превращения боярских дружин в централизованно управляемое войско, а вольных дружинников – в обязанных служить подданных.
В доордынской Руси возможности использования силы для расширения территории были фактически исчерпаны. Князья воевали, в основном, между собой или отбивались от степных кочевников. Для экспансии за пределы Киевской Руси у отдельных княжеств сил не было, а их объединение при родовом принципе властвования было невозможно. В послеордынской Руси силовая имперская экспансия возобновилась: наряду с бывшими русскими территориями, которые отвоевывались у Литвы, начали присоединяться земли, заселенные неправославными народами (Казанское и Астраханское ханства, Сибирь, попытка захвата Ливонии). И это, не исключено, тоже не без влияния монголов, у которых сила, направленная вовне ради доступа к новым ресурсам, была естественным способом существования, причем использовалась она для подчинения не только (и даже не столько) отдельных племен, но и государственных общностей. Между тем домонгольские русские князья могли разорять и обирать государственно-организованных иудеев-хазар или мусульман, но включать их территории в состав Руси или превращать в ее постоянных данников не пытались.
В доордынской Руси в действиях князей не просматривалось установки на то, что много позже стало называться победой любой ценой. В послеордынской Руси такая установка появилась. Использование силы стало равнозначно использованию значительного количественного превосходства в силе, не считаясь с жертвами. Или, говоря иначе, равнозначно человекозатратности. Но именно гак действовали и монголы, чему были свои причины. В евразийской степи, заселенной множеством тюркских кочевых народрв, установка на победу любой ценой открывала перспективу значительного приращения силы. Здесь людские потери были не важны, потому что после победы над противником и уничтожения его наследственной элиты вся масса рядовых воинов вливалась в войско победителей, и это новое пополнение обычно превышало любые потери. Московская Русь не могла использовать человекозатратную силовую стратегию с тем же успехом – противники у нее были, как правило, не те, что у монголов. Но она будет ее использовать, прежде всего в Ливонской войне, заложив традицию, дожившую до наших дней.
В доордынской Руси не было таких организационно-технологических инструментов, способных обеспечить функционирование централизованной государственности, как система унифицированного налогообложения и почтовая связь. В послеордынской Руси такая система и такая связь (ямская) уже существовали, и они достались Москве от монголов.
Наконец, в доордынской Руси не было русского самодержавия, которое в Руси послеоодынской стало политическим воплощением принципа надзаконной силы: в самодержавии этот принцип обрел государственную форму. Монгольское влияние не вызывает сомнений и в данном случае. Оно, разумеется, не афишировалось, а быть может, отчетливо и не осознавалось. Но в политике, как и в быту. заимствование чужого опыта вовсе не всегда признается, даже будучи сознательным, не говоря уже о том, что очень часто оно происходит на подсознательном уровне. И если после распада Орды монголы так охотно небольшом количестве шли на русскую службу, став со временем заметной частью русской элиты, то это значит, что особых проблем с адаптацией у них не было. Они попадали в политическую и культурную среду, которая мало отличалась от той, из которой они вышли.
Идея ничем не ограниченной самодержавной власти имела, конечно, не только татарские, но и русские, а также византийские корни. В домонгольские времена князь-вотчинник тоже соединял в одном лице функции политического правителя и собственника территории. Но, во-первых, тогда таких князей было много, а, во-вторых, их возможности были ограничены боярско-дружинными вольностями. Что касается византийских императоров, то их единовластие опосредовалось, по крайней мере формально, унаследованной от Рима византийской законностью, включавшей в себя и право частной собственности. Тем не менее русское самодержавие, будучи незапланированным продуктом Золотой Орды, подчеркивало свою преемственную связь именно с византийскими императорами. Потому что второй базовый элемент русского цивилизационного проекта был греческого происхождения.
Московская Русь, универсализируя на монгольский манер применение принципа силы и институционализируя этот принцип в самодержавной форме правления, оставалась православной христианской страной. Идеологически и культурно она была связана не с Ордой, а с Византией. Неафишируемое заимствование у монголов идеи надзаконной и бесконтрольной силы легитимировалось греческой верой. Поэтому самоидентификация московской государственности и осуществлялась поначалу посредством подчеркивания преемственности именно с Византией и продолжавшего заимствования у нее символического капитала.
Двухглавый орел, ставший московским гербом, апелляции к преданию о передаче знаков царского сана византийским императором Константином Мономахом киевскому князю Владимиру Мономаху, византийский церемониал в Кремле, сама женитьба Ивана III на Софье Палеолог – все это свидетельствовало о том, что иного источника легитимации власти, кроме греческой традиции, московские государи на первых порах не видели. Но они не могли не отдавать себе отчет и в том, что у византийского образца был существенный изъян. Это не был образец прочного синтеза веры и силы. Это был, наоборот, пример капитуляции веры перед силой иноверцев в лице турок-османов. Отсюда, быть может, и попытки возвести родословную Рюриковичей не к византийским императорам, а к римским цезарям (летописная легенда о том, что первый русский князь был якобы потомком Пруса, брата римского императора Августа). Но отсюда же – московская ревизия православия в тех его аспектах, которые имели непосредственное отношение к легитимации политической власти и обоснованию ее полномочий.
Русский цивилизационный проект возникал на пересечении ордынской и византийской традиций, был результатом их синтезирования. Но он, повторим, ни одну из них не воспроизводил буквально, подвергая их существенным коррекциям. Посмотрим, в чем эти коррекции традиций проявлялись. Начнем с византийской.
Выше уже говорилось о том, что единовластие и полновластие государя обосновывались в Московской Руси посредством апелляций к ветхозаветным текстам. Из них бралась идея всемогущего и непредсказуемого в своих действиях Бога, безграничная власть которого переносилась на русского царя как Божьего наместника. Духу и букве Ветхого Завета такое перенесение не вполне соответствовало, но московских идеологов и усваивавших их идеи правителей это не смущало, как не смущало и то, что в Новом Завете и сам образ Бога представлен несколько иначе. Но к греческой интерпретации православия все это никакого отношения не имело.
Кроме того, попытки осмыслить падение Византии, которой православная вера не помогла устоять перед турками, вели к провозглашению веры более низкой духовной инстанцией по сравнению с правдой. Последняя объявлялась высшим критерием, позволяющим оценивать искренность и подлинность веры и соответствие ей поведения людей. В свою очередь, верховным носителем и блюстителем этой правды объявлялся московский государь. Можно сказать, что коррекция цивилизационного выбора киевского князя Владимира, осуществленная в Московской Руси, как раз и заключалась в дополнении веры правдой и возвышении второй над первой.
Киевский митрополит Иларион, возвысивший благодать над Законом, мыслил и писал в духе Нового Завета. В Московской Руси сходные идеи, развивавшиеся «нестяжателями» (Нилом Сорским и его последователями), довольно быстро стали оппозиционными и были отброшены. Но – не в пользу закона, а в пользу языческого дозакония, воплощаемого в безграничной надзаконной власти тотема-самодержца. Так византийская религиозная доктрина была приспособлена для обоснования и легитимации властной модели, заимствованной у Золотой Орды.
Однако и эта модель подверглась существенной коррекции. Московия не могла стать ни второй Византией, ни второй Ордой.
Монгольская империя была продуктом многовекового существования степных кочевников и древних восточных цивилизаций. Захватив значительную часть Китая и среднеазиатские государства, татары заимствовали у покоренных народов и освоили то, в чем видели для себя смысл, – военные и административные технологии. В результате получился чрезвычайно прочный и эффективный сплав имперской и варварской традиций. Он позволил монголам создать систему жизнеобеспечения и обогащения за счет покоренных народов и контроля над транзитными торговыми путями. Производящая экономическая деятельность в системе такого типа не предполагается. В ней все мужчины – воины и только воины. Поэтому ее исторический срок определяется возможностью новых завоеваний – как только такие возможности исчерпываются, система начинает разлагаться. Золотая Орда не явилась в данном отношении исключением.
Московская Русь именно потому и сумела стать успешным преемником Орды, что и под монголами, и после освобождения от их опеки заимствовала татарскую модель весьма избирательно. Даже при желании она не могла превратить всех мужчин в солдат – не позволили бы ни сложившиеся традиции оседлости и земледельческой экономики, ни колонизаторы, пользовавшиеся ее плодами. Не было у Московии и реальных или потенциальных данников, за счет которых можно было бы обеспечить второе издание Орды после того, как первое развалилось. В послемонгольские времена Русь попробовала было воспроизвести такую практику в отношениях с сибирскими ханами. Но последние не были добросовестными поставщиками дани, и в Сибири в конце концов появились русские гарнизоны и русская администрация. Это, однако, уже другой, не татарский способ контролирования завоеванных территорий. Это присоединение, а не прост обложение данью, сбор которой поручается местным правителям- Русский проект, как и ордынский, был милитаристским. Его базовым принципом тоже была сила, организующая повседневную жизнь по военному образцу. Но, в отличие от ордынского, проект этот базировался не на паразитарном присвоении чужих ресурсов и контроле над торговым транзитом, а на производящем экстенсивном хозяйствовании, предполагавшем установку на постоянное расширение контролируемой территории.
Формирование милитаристской государственности в условиях такого хозяйствования было обеспечено благодаря созданию особого «сословия», которое наделялось на правах условного владения государевой землей в обмен на несение им военной службы. Естественным следствием этого стало прикрепление к земле крестьян с возложением на них обязанностей по содержанию служилого класса. Дань, которую монголы брали с чужих, в данном случае была возложена на своих, которым приходилось платить еще и государственные подати.
Сам по себе этот способ организации военной силы и ее жизнеобеспечения не был, однако, оригинальным. Он использовался во многих ранних монархиях, а ко времени освобождения Руси от монголов такая система существовала в Османской империи, где владение земельными поместьями (тимарами) тоже было обусловлено обязательной военной службой. Мы не знаем, сознательно ли заимствовала Москва турецкий опыт или оплата воинской службы землей и крестьянским трудом была ее собственным изобретением. Известно лишь, что победа «неверных» османов над единоверной Византией обусловила пристальное внимание к Турции московских идеологов и стала одним из стимулов для русского возвышения правды над верой. Но, как бы то ни было, русский цивилизационный проект неправомерно рассматривать и как простое воспроизведение турецкого. И не только потому, что идеологически он освещался православием, а не исламом. Дело еще и в том, что русский проект предполагал иной, чем в Османской империи, тип милитаризации.
Милитаризация жизненного уклада может быть разной. Она может осуществляться на монгольский манер, когда все мужчины – воины. Она может сочетаться с производящей экономикой, когда последняя в значительной степени работает на армию и войну, как было в Турции и на Руси. Но и в данном случае глубина милитаризации, степень ее проникновения в повседневную жизнь и степень подчинения ею этой жизни не обязательно одинаковы.
Всесильная Османская империя, долгое время не знавшая поражений, вела войны на чужих территориях, присоединяя их к себе одну за другой, и стремительно богатела – и за счет военной добычи, и благодаря быстрому развитию своей экономики, которое обеспечивалось в том числе сильными турецкими позициями на морских торговых путях. Поэтому милитаризация повседневности оставалась в Турции способом организации жизни, не подрывая оснований мирного образа жизни, не привнося в него ничего чрезвычайного или экстремального. В Московии же дело обстояло не так.
Послемонгольская Русь тоже стремилась к военной экспансии и осуществляла ее. Но, во-первых, с несопоставимо меньшим успехом и не без тяжелейших поражений. Во-вторых, ей приходилось не только наступать, но и обороняться: постоянные угрозы со стороны Крыма создавали ситуацию, по отношению к которой метафора «осажденной крепости» звучит более уместно, чем по отношению к ситуации в сталинском СССР. Поэтому и милитаризация в Московии была мобилизационной, фактически устранявшей границы между войной и миром. В этом – главная особенность пос-лемонгольского русского проекта и, если угодно, его уникальность: заимствования из других проектов и самобытные интерпретации заимствованного сочетались в нем с особой, только ему свойственной мобилизационной компонентой. Она обусловила не просто глубокое проникновение милитаристского начала в жизненный уклад, но и закрепление этого начала в культурном генотипе, что, в свою очередь, обусловило в дальнейшем и возможность появления такой фигуры, как Петр I. В Османской империи подобного правителя не появилось и, скорее всего, появиться не могло. Но в этом же -и проявление цивилизационной несамодостаточности московского проекта и всех его воплощений: всеобщая мобилизация может осуществляться ради достижения военных или других целей, но не может быть самоцелью.
Естественно, этот проект не осознавался и не выдвигался как стратегический. Отдельные его составляющие формировались постепенно, под воздействием внешних вызовов и набиравшей государственной системой собственной исторической инерции. Но то, что формировалось, было и заявкой на новое социально-политическое и культурное измерение, на «особый путь». В этом и только в этом смысле говорить о русском цивилизационном проекте представляется нам корректным.
Как и все его имперские аналоги, он был проектом первого осевого времени, ориентированным на экстенсивное развитие посредством приращения территорий. Но, в отличие от этих аналогов, он был имперско-оборонителъным. Поэтому, возможно, его имперская составляющая, отчетливо проявившись в экспансионистской политической практике, не обрела еще того универсалистского («осевого») идеологического оформления, которое сопутствует обычно глобалистским притязаниям и амбициям.
Для таких притязаний и амбиций Москва не чувствовала себя достаточно уверенной. По-своему синтезировав силу и веру, она не могла не считаться с тем, что силы у нее не хватало даже для обороны, а веру даже внутри страны приходилось укреплять дополнением ее правдой. В том числе и потому, что испытания, выпавшие на долю веры и единоверцев за пределами Московии, отнюдь не свидетельствовали о ее (веры) самодостаточности.
Распалась и оказалась поверженной Золотая Орда, но повержена была и православная Византия. Более того, почти весь православный мир находился под властью католиков или мусульман. Тревожное чувство вселенского одиночества не покидало Русь на всем протяжении московского периода. Внешне имперская, но лишенная имперского пафоса формула «Москва – Третий Рим» – реакция на одиночество и неуверенность, их идеологическая компенсация: Русь – единственная, кому удалось сохранить подлинную веру в мире, погрязшем в грехе. Поэтому только ей уготовано спасение, только она войдет в Царствие Небесное после скорого Второго Пришествия. Но эта эсхатологическая формула, идущая из церковных кругов, не в состоянии была снять вопросы, стоявшие перед политиками.
Они не могли не учитывать, что главный враг – католический Запад, равно как и возникавший на глазах Запад протестантский, – не только устоял, в отличие от православного мира, перед мусульманским военным напором, но начинал уверенно наращивать свое могущество. Ливонская война Ивана Грозного – первая попытка проверить на прочность московский сплав силы и веры в противостоянии Западу и обеспечить Руси доступ к европейским культурным и цивилизационным ресурсам. Попытка наглядно продемонстрировала: на западном направлении сплав этот бессилен. Внутренний террор, ставший ответом на военные поражения, вползание страны во всеобщую смуту под воздействием разрушительных последствий опричнины свидетельствовали о том, что русский цивилизационный проект оказался нереализуемым и, по меньшей мере, нуждался в новых серьезных коррекциях.
Краткое резюме. Исторические результаты второго периода
Итоги развития страны в ту или иную эпоху измеряются тем, насколько удалось ей обеспечить стабильность в сочетании с динамичным развитием, ее способностью отвечать на внешние вызовы ее местом и ролью в мире. Руководствуясь этими критериями, попробуем суммировать все сказанное выше о временах Московской Руси.
Сначала – о том, чего деятелям той эпохи удалось добиться, какие решить исторические задачи. Разумеется, речь идет лишь о тех задачах, которые они сами перед собой ставили.
1. Главный итог заключался в создании централизованной отечественной государственности, объединенной вокруг нового центра – Москвы. Дробление на княжества, характерное для предшествующего периода, осталось в прошлом, произошла политическая консолидация пространства. Был преодолен архаичный родовой принцип осуществления власти, утвердились и стали привычными легитимные процедуры, обеспечивавшие ее преемственность. Эта государственность, медленно формировавшаяся под монгольским владычеством, оказалась достаточно сильной, чтобы вывести страну из колониального состояния и обеспечить ее суверенитет.
Типологически она представляла собой новое, оригинальное политическое образование. В отличие от западных абсолютистско-монархических аналогов, Московское государство сложилось при отсутствии феодальной договорно-правовой среды, развитых торгово-ремесленных городских центров и национального рынка. В отличие от Монгольской империи, жившей данью с покоренных народов и доходами от торгового транзита, оно базировалось на собственной производящей экономике. Будучи, как и государство византийское, христианско-православным, оно, в отличие византийского, обходилось без юридически фиксированных прав частной собственности и профессионального бюрократического аппарата.
В пределах московского периода отечественная государственность обнаружила свою слабость и оказалась на грани распада во время смуты. Но смута выявила одновременно и ее жизнеспособность, а последующие столетия – ее способность к развитию на собственной основе и ассимиляции культурных и цивилизационных заимствований. Не последнюю роль в этом сыграла заложенная при московских Рюриковичах милитаристская традиция, предполагавшая выстраивание жизненного уклада по армейскому образцу и использование военно-мобилизационных методов в решении невоенных задач.
2. Были исторически преодолены некоторые прежние формы социокультурного раскола. Православное христианство консолидировало государственную общность, способствовало формированию государственной идентичности и, соответственно, духовно-религиозных предпосылок базового консенсуса. Абстракция единого христианского Бога становилась эмоционально окрашенной идеей единства страны, выводившей сознание людей за пределы их локальных миров и вводившей в него образ большого общества.
Это не было еще массовым освоением абстракции государства. Речь правомерно вести лишь о том, что православная вера в специфических условиях монгольской колонизации способствовала трансформации догосударственной культуры в иную догосударственную. Иное заключалось в том, что культура, оставаясь чуждой рациональному абстрагированию, обогатилась ощущением принадлежности к общности несравнимо более широкой, чем локальная, общности, включавшей всех единоверцев. Консолидация широких слоев населения в 1612 году вокруг Минина и Пожарского (или, что то же самое, консолидация перед угрозой утраты религиозной идентичности, исходившей от католической Польши) была бы без этого невозможной.
3. Изживание коллективно-родового принципа властвования и устранение – в монгольскую эпоху и первые послемонгольские Десятилетия – вечевых институтов свидетельствовали о преодолении прежних проявлений социокультурного раскола и на институциональном уровне, что сопровождалось консолидацией ранее Раздробленного политического пространства. Перенесенная из догосударственного состояния в государственную жизнь двухполюсная модель властвования (князь – вече) сменилась моделью однополюсной (единовластие московского государя). Вече, в условиях централизованного государства будучи «лишним» институтом, закономерно ушло с политической сцены вместе с автономными от центра князьями.
Однако в Московской Руси начинает осознаваться и то, что авторитарная однополюсная модель нуждается в легитимных управленческих механизмах, которые обеспечивали бы ее функционирование. Попытки использовать для реализации государственных функций (судебных, полицейских, фискальных) местные выборные органы, начало созыва Земских соборов – это первые в истории страны опыты подключения к однополюсной модели второго полюса, но без наделения его самостоятельными властными полномочиями. То не были зародыши местного самоуправления, и представительской демократии в современном их понимании. То были попытки компенсировать слабость и малочисленность бюрократического аппарата возложением общегосударственных за дач на избираемых населением представителей и упрочить внутриэлитный консенсус, когда власть сталкивалась с трудностями. Но эти первые «демократизации» закладывали традицию, которой суждено будет сыграть определенную роль в более поздние периоды отечественной истории.
4. Если на местах государственный аппарат в интересующий нас период сформирован не был, то в центре он постепенно создавался. Возникла целая сеть ведомств («приказов») с расчлененными функциями (внешнеполитической, военной, финансовой и др.). Специализация управления была еще очень неглубокой, профессионализация чиновников – крайне неразвитой, труд их не был регламентирован правилами и процедурами и оплачивался, за редкими исключениями, не государством, а населением, которому чиновники оказывали услуги. Но это не отменяет факта, что в послемонгольской Руси зарождалась государственная бюрократия, которой до того не было.
Другим новым институтом, отсутствовавшим в предшествовавшие периоды, стала русская армия. Она не была еще регулярной, комплектовалась лишь в случае войны из специально предназначенных для ее ведения служилых «сословий» – старого боярского и заново созданного дворянского. Однако, в отличие от княжеских дружин, армия подчинялась одному властному центру, а военная служба больше не определялась свободным выбором и стала обязанность Ее исполнение обеспечивалось тем, что воинской службой было обусловлено владение землей, причем не только дворянскими поместьями, но и наследственными боярскими вотчинами. Постепенно эта тема условного землевладения дополнится закрепощением крестьян, на которых будет возложено жизнеобеспечение обязанных служить.
Осуществление таких перемен потребовало изменения роли закона, расширения зоны его применения. В Московии, в отличие от Киевской Руси, он стал не только регулировать имущественные отношения частных лиц и устанавливать меру наказания за различные преступления, но и определять появившиеся государственные обязанности отдельных групп элиты и населения. Впервые были юридически обозначены и субъекты законодательства (государь и Боярская дума), что было, безусловно, шагом к универсализации принципа законности. Однако на практике этот шаг, а вместе с ним и принцип законности как таковой, был дезавуирован утвердившимся самодержавием Ивана Грозного.
Сложившаяся в послемонгольской Руси система разверстки гражданских и военных государственных обязанностей какое-то время и в определенных пределах была эффективной. Она позволила Москве одержать несколько военных побед и стать сильным и влиятельным международным игроком в регионе. И Московия оставалась таковым до сокрушительных поражений в Ливонской войне. Эти успехи были достигнуты и благодаря тому, что московская государственность обнаружила, опять-таки в определенных пределах, способность к заимствованию и освоению зарубежных достижений – прежде всего, в области военных технологий.
5. В московский период было возобновлено движение страны по экстенсивному пути развития. Главными его источниками стали экспорт сырья и расширение территории. В данный период она увеличилась многократно – как в результате отвоевания у Литвы бывших земель Киевской Руси, так и благодаря присоединению Казанского и Астраханского ханств, а также значительной части Сибири. Тем самым послеордынская Москва задала имперский вектор Дальнейшей исторической эволюции страны. Или, говоря иначе, вектор ее развития в первом осевом времени, в котором страна новь обрела субъектность после утраты последней в период государственного распада Киевской Руси и монгольской колонизации.
Падение Византии, центра мирового православия, открывало перед Москвой перспективу соединения имперской политической практики с имперской универсалистской идеологией. И эта новая перспектива была осознана, хотя и в специфической форме богоизбранности к спасению. Однако впоследствии фиксировавшая эту 6огоизбранность формула «Москва – Третий Рим», которая появилась помимо имперской практики и даже до нее, с ней соединится и станет ее идеологическим обоснованием. Претензия «Третьего Рима» на богоизбранность трансформируется в претензию на овладение Римом Вторым, т.е. находившимся под турками Константинополем.
Эта задача окажется неразрешимой. Тем не менее имперская модель, контуры которой обозначились при московских Рюриковичах, на несколько столетий обеспечит воспроизводство отечественной государственности и ее международный вес. Но данная модель была настолько же прочной, насколько и хрупкой, а потому не застрахованной от катастрофических обвалов.
Первый из них случится в начале XVII столетия и станет следствием нерешенности тех проблем, которые оказались камнем преткновения для московских правителей. Частично эти проблемы обусловливались недостроенностью послемонгольской централизованной государственности. Но были среди них и такие, которые при сохранении данной модели и при любых ее трансформациях не решались вообще.
Зафиксируем еще раз те и другие.
1. Династически-родовой принцип властвования, замененный династически-семейным в отношении первого лица государства, сохранился в околовластном боярском слое Московской Руси. Бывшие князья, владевшие отдельными территориями, а потом переместившиеся в Москву, продолжали рассматривать Русь как свою коллективную родовую вотчину, которой они вправе были управлять вместе с государем. Их притязания получили воплощение в практике местничества, ставившего занятие государственных должностей в зависимость от знатности происхождения и служебного статуса предков. Эта практика, с одной стороны, препятствовала выдвижению на руководящие посты наиболее способных людей, а с другой – блокировала консолидацию боярства, делала его бессильным перед произволом формировавшейся в послеордынской Руси самодержавной власти. Но тем самым создавалась ситуация, при которой внутриэлитный базовый консенсус относительно понимания общего интереса не мог обрести устойчивость. Неустойчивость же его, до поры до времени скрытая, обнаружила себя в период военных поражений и выразилась в тотальном недоверии персонификатора общего интереса ко всей княжеско-боярской и церковной элите. Тогда-то и выявился изначально заложенный в московскую государственность конфликт между принципом единоличного самодержавного властвования, тяготевшего к произволу, и принципом аристократическим, предполагавшим гарантированную защищенность элиты от такого произвола.
Тот факт, что эта государственность после ужасов опричного террора и сокрушительного поражения в Ливонской войне смогла устоять, свидетельствовал о подавляющем политическом и социокультурном превосходстве самодержавного принципа над аристократическим. Но эта государственность обвалилась, когда сакральность самодержавия была поколеблена обрывом династической ветви. Латентный конфликт двух принципов вылился в столкновение внутри самой политической элиты между сторонниками неродовитого Бориса Годунова, тяготевшего к самодержавию (только оно делало его независимым от родовитых) и приверженцами потомка Рюриковичей Василия Шуйского, выражавшего их стремление застраховаться от самодержавного диктата. В результате Шуйский и стоявшие за ним силы сделали ставку на самозванца, после чего смута быстро поползла вниз, превратившись из верхушечной в общенародную.
Впоследствии конфликт двух принципов будет разрешен: самодержавие утвердится как ничем не ограниченное в принятии законов и решений, но от немотивированного тиранического произвола по отношению к элите будет воздерживаться. Поэтому сам этот конфликт можно считать порождением исторической инерции домонгольской и монгольской эпохи, а не продуктом московской государственной системы. Но он вместе с тем наглядно продемонстрировал ее основное свойство – неприспособленность к сосуществованию различных субъектов (субъект в ней может быть только один) и, соответственно, к правовому урегулированию отношений между ними. Аукнется такая неприспособленность нескоро, но именно ее долголетие окажется одной из главных причин, обусловивших неготовность страны к правовому порядку даже тогда, когда все неправовые альтернативы ему себя исчерпают.
Домонгольский период оставил после себя традицию нерегулируемой правом свободы. Московский – противостоящую ей традицию бесправия в несвободе.
2. Социокультурный раскол, доставшийся Московской Руси от предшествовавшей эпохи, полностью преодолен не был. Частично он сохранился и на политической поверхности: местничество – это новое проявление догосударственной родовой культуры в условиях централизованного государства. Да, местничество, как показало последующее развитие, оказалось лишь инерцией прошлого опыта и могло быть изжито. Но существовали и более глубокие пласты архаики, которым предстояла еще очень долгая – вплоть до нашего времени – историческая жизнь.
Государственное начало, воплощаемое в сакральной личности первого лица и только в ней, не в состоянии вытеснить догосударственную культуру. В том числе и потому, что само на эту культуру опирается, находя в ней главный источник своей легитимации. Но легитимация первого лица не есть еще легитимация государства.
«Отцовская» модель властвования, перенесенная московскими правителями из патриархальной семьи на уровень большого общества, не предполагает промежуточных управленческих звеньев между отцом и другими домочадцами, исключает среди последних какую-либо иерархию властных полномочий. Поэтому легитимность правящего класса и государственного аппарата в данной модели обеспечить непросто, причем независимо от того, насколько отдельные их представители падки на должностные злоупотребления. Единственный способ, выработанный для этого мировой историей, заключается в профессиональной и культурной вычлененности элиты и чиновничества, чего в Московии не было. Отсюда – хрупкость базового консенсуса между «верхами» и «низами», их пребывание в состоянии постоянно воспроизводящегося раскола, который неоднократно выплескивался наружу в народных волнениях и который обрушит государственность во время смуты. И это будет не в последний раз. Потому что сохранявшаяся «отцовская» модель государственности, опиравшаяся на патриархальную составляющую догосударственной культуры, консервировала и ту ее составляющую, которая государство отрицает.
При однополюсной «отцовской» модели властвования, как показала практика ее использования в Московской Руси, второй (народно-вечевой) полюс не устраняется и не может быть устранен. Догосударственные вечевые институты, лишенные политических функций, не могут быть и интегрированы в однополюсную модель. Попытки сделать их управленческим инструментом центральной власти, имевшие место в московский период, нельзя считать абсолютно безуспешными, но изживанию социокультурного раскола они не способствовали. Казачьи и крестьянские миры, ворвавшиеся в политику во времена смуты, противопоставили распадавшейся государственности догосударственную вечевую архаику со «своим» царем в виде второго ее полюса. Их напор удастся остановить, но – лишь на время. При сохранении однополюсной «отцовской» модели раскол между государственной и догосударственной культурой не преодолим в принципе.
3. Опыт послеордынской Руси продемонстрировал, что ощущение религиозной общности консолидирует население лишь по отношению к внешнему противнику и вполне совместимо с отсутствием консолидации внутренней. Однополюсная «отцовская» модель государственности преодолеть такое состояние не способна, она может лишь блокировать его разрушительный потенциал. Но – только в том случае, если первое лицо сакрализируется в качестве языческого тотема. Или, говоря иначе, если первое лицо от имени Бога наделяется неограниченной надзаконной властью.
Сочетание в послемонгольской Руси архаичной патриархальной культуры с православной идентичностью обусловило презентацию языческого тотема в образе православного государя. Но такой государь-тотем из единственного оплота государственности может превратиться в ее разрушителя, если его сакральный статус начинает выглядеть проблематичным – например, при военных поражениях. Террор Ивана Грозного, заложивший предпосылки будущей смуты, именно это и продемонстрировал.
Предпосылки смуты – это, конечно, еще не сама смута, которая разразилась через два с лишним десятилетия после смерти Грозного. Но у нее была и другая, не менее существенная, предпосылка. Власть однополюсного тотема не предполагает различий между государем и государством. Она предполагает, что это одно и то же, что государь и есть единственное воплощение государства. Но такая модель бессильна перед прекращением правящей династии: исчезновение «природного», наследственного государя, которое воспринимается как исчезновение государства, легитимирует смуту.
После смуты и под воздействием ее опыта и ее уроков начнется расчленение в сознании людей образов царя и царства. Но оно будет происходить медленно и не завершится до наших дней. Абстракция государства не может быть освоена, пока не освоена абстракция универсального закона. Опыт же Московской Руси интересен и важен тем, что именно в ней возникла модель государственности, которая идею законности освоить и провести в жизнь не состоянии. Такие попытки были уже при московских Рюриковичах, их будет немало и в дальнейшем, но все – безуспешные.
4. Синтез надзаконной силы и легитимировавшей ее православной веры, который обеспечивал формирование московской государственности, оказался эффективным лишь в определенных пределах. Неудачи в Ливонской войне, бессилие страны перед опустошительными набегами из татарского Крыма показали, что слабейшим звеном в этом синтезе была сила. Ее хватило, чтобы одолеть Казанское и Астраханское ханства. Но ее не хватало, чтобы вести войны на Западе.
Новая комбинация силы и веры, утвердившаяся в централизованной послемонгольской Московии, предполагала уникально глубокую милитаризацию жизненного уклада всех слоев населения. Это заложило традицию, которая позволит впоследствии Петру I осуществить беспрецедентную по тем временам милитаристскую модернизацию. Такой способ развития можно рассматривать как заявку на оригинальный цивилизационный проект, но – при отсутствии в нем собственного цивилизационного качества и цивилизационной самодостаточности. Потому что выстраивание повседневности по армейскому образцу может иметь своей целью достижение военных побед, но не может придать смысл человеческому существованию в условиях мира. Однако с этой проблемой страна столкнется много позже. В послемонгольской же Московии милитаризация жизненного уклада не гарантировала страну и от военных поражений.
Московская Русь оказалась лицом к лицу с неразрешимой для нее проблемой технологических и организационных инноваций. Она была неразрешима, потому что сосредоточение почти всех природных и вещественных ресурсов в руках государства и культивирование идеологии и практики «беззаветного служения» подданных государю исключали легитимацию частных интересов и, соответственно, активизацию и мобилизацию личностных ресурсов, личностной энергии. Начавшаяся военная конкуренция с Западом, обусловленная в том числе и необходимостью прорыва к морским торговым путям, требовала установки на самоизменение, на качественную культурную трансформацию «человеческого фактора». Однако от власти такой установки не поступало. Она не могла легитимировать частные интересы – это противоречило ее природе, фундаментальным основам ее существования как власти-тотема. Но она не могла еще навязать и насильственную модернизацию сверху.
Потому что масштабные заимствования западной культуры (а не только отдельных технических достижений) тоже нужно было легитимировать, т.е. совместить с пафосом русской богоизбранности, обучения у иноверцев не предполагавшей. Для этого как минимум, необходима была предварительная военная победа над иноверцами, но ее-то добиться и не удалось. Тем более нереально было навязать модернизацию стране, разоренной войной и опричниной, после поражения. Даже если бы проект такой модернизации возник в головах правителей.
Прежде чем Петр I начнет ее осуществлять, пройдет целое столетие медленной вестернизации, подготовившей почву и для модернизационного реформаторского прорыва, и для появления самого реформатора. Но в причинах неудачи московских правителей, быть может, даже важнее разобраться, чем в причинах будущих относительных удач Петра. Ведь проблему инноваций и их стимулирования последний не решит, он лишь интенсифицирует их заимствование у других народов и предельно жесткими методами обеспечит их освоение. Сама же эта проблема, передававшаяся потом, как наследственный код, из поколения в поколение, была предзадана отечественной истории в период Московской Руси.
5. Способ приращения ресурсов, сложившийся в данный период, обрекал страну на хроническое отставание. Экстенсивное хозяйствование на постоянно расширяющейся территории не обеспечивало роста продуктивности, не создавало источников саморазвития экономики и стимулов для саморазвития работника. Потенциал такого типа эволюции окажется довольно значительным, в дальнейшем он позволит России стать мощной военной державой и долго воспроизводить себя в данном качестве. Но, во-первых, воспроизведение это будет чередоваться с обвалами и катастрофами. А, во-вторых, рано или поздно такой тип развития себя исчерпывает.
Экстенсивность – едва ли не самая существенная особенность исторического развития России, предопределившая во многом все другие ее особенности. Российская цивилизационная парадигма – это парадигма экстенсивного развития и его использования для обеспечения военно-технологической конкурентоспособности по отношению к Западу. В Московской Руси она была впервые опробована в условиях централизованной государственности, но – с общим отрицательным результатом. В дальнейшем результаты будут более впечатляющими. Но они будут достигаться главным образом благодаря историческому движению в логике первого осевого времени, в логике имперского развития. А набранная имперская инерция обрекала страну на отставание по мере того, как ее соседи переходили из первого осевого времени во второе.
С этими проблемами Россия, правда, столкнется еще не скоро. Выйдя из потрясений смуты и возведя на трон новую династию Романовых, она начнет новый большой цикл своего исторического бытия. В течение трех столетий страна будет развиваться в первом (имперском) осевом времени за счет заимствования у других стран достижений второго и их освоения. На этом пути ей предстоит пережить немало победных взлетов, а в конце его – сползти к третьей в ее истории государственной катастрофе.
Часть III Империя Романовых: новые трансформации российской государственности и третья катастрофа
Первый Романов (Михаил Федорович) получил царский престол после обвала государственности и начал выведение страны из смуты. Последний представитель династии (Николай Александрович) отрекся от престола, когда начиналась новая всеобщая смута. Между этими двумя событиями – триста четыре года исторической эволюции, в ходе которой Московская Русь превратилась в Петербургскую Россию, освоившую многие достижения западной цивилизации и во многих отношениях ставшую развитой европейской страной. Но динамичное развитие, сопровождавшееся очевидными и признанными в мире успехами, не уберегло отечественную государственность от очередного системного кризиса. На определенном этапе обнаружилась тупиковость самого типа развития, выбранного страной.
За три века правления Романовых в России была создана качественно новая элита. В Московской Руси даже представители высших слоев боярства были, как правило, неграмотными. В Петербургской России возник европейски образованный правящий класс. Но это динамичное качественное изменение элиты не сопровождалось в течение двух с половиной из трех романовских столетий исторической эволюцией основной массы населения: последнее оставалось законсервированным в том культурном состоянии, в котором пребывало со времен домонгольской Руси. Это значит, что развитие осуществлялось не за счет преодоления социокультурного раскола, ^посредством его углубления. Когда же власть вознамерилась его преодолеть, она столкнулась с архаикой таких масштабов и такой плотности, с какой реформаторам нигде в мире сталкиваться до того не приходилось.
Архаичная догосударственная культура «низов» и опрокинула в конце концов инокультурную по отношению к ней государственность «верхов». Попытки сблизить элитарный и народный полюса, подключить население к государственному строительству, предпринятые в последние полвека существования империи, вели не к выходу из раскола, а к его политизации и последующему насильственному отсечению одной из сторон расколотого целого.
Большевики отбросили прежний элитарный полюс («Долой царя, долой господ, помещиков долой!»), оседлав народные настроения, сделав основную ставку именно на массовую догосударственную архаику, на культурном фундаменте которой и было воздвигнуто «государство нового типа».
История трехсотлетнего правления Романовых – это, повторим, история вестернизации отечественной элиты и ее деятельности в условиях, когда подавляющее большинство населения удерживалось в том же культурном состоянии, в каком оно пребывало под властью Рюриковичей. При таком положении вещей сложившаяся в Московской Руси самодержавная форма правления могла удерживать устойчивую легитимность – однополюсная «отцовская» модель властвования сохраняла свой «низовой» аналог в патриархальной культуре. В свою очередь, это обеспечивало российским царям и императорам широкую зону автономии по отношению не только к населению, но и к элите, достаточной для осуществления – в ответ на внешние и внутренние вызовы – амбициозных модернизационных проектов, в том числе и весьма радикальных. Но важно помнить, что второй, народный полюс, на протяжении двух с половиной веков переменами не затрагивавшийся, никуда при этом не исчезал и о своем существовании постоянно напоминал.
Новая династия начала свою политическую жизнь после того, как ее представитель был избран на царствование Земским собором – именно народное волеизъявление было источником легитимации Романовых. Но и их уходу с исторической сцены предшествовал созыв народного представительства в виде Государственной думы, которая, однако, их пошатнувшуюся легитимность восстановить уже не могла. Сказанное означает, что как на входе в интересующий нас период, так и на выходе из него однополюсная власть вынуждена была считаться с идеалами, выводящими за пределы однополюсности, и на них опираться.
Конечно, в начале XVII века и в начале столетия XX это были разные идеалы, о чем нам предстоит в своем месте говорить подробно. Но и в том, и в другом случае имели место попытки сблизить разные пласты расколотой культуры, интегрировать ее догосударственную составляющую в государственную жизнь.
В более чем полуторавековой период между тремя первыми и тремя последними Романовыми (от Петра I до начала царствования Александра II) эта составляющая была от государства почти полностью отключена1. И именно данный период стал временем качественного преобразования отечественной элиты, ее поэтапной вестернизации. Оно тоже осуществлялось в соответствии с определенными государственными идеалами, но – иными, чем в начале и в конце России Романовых. Все разновидности идеалов и их конкретные воплощения нам и предстоит рассмотреть.
Учитывая их многообразие и непрямолинейную циклическую изменчивость, чего в прошлые эпохи не наблюдалось, мы вынуждены несколько изменить характер и структуру изложения. Все, касается культурных предпосылок и культурного своеобразия того или иного идеала, их легитимационных потенциалов, сочетания в них пафоса мира и пафоса войны, степени их наполненности содержанием первого и второго осевого времени, войдет в анализ государственных идеалов, выдвигавшихся и воплощавшихся при Романовых. Можно было бы, конечно, включить сюда же и рассмотрение других тематических сквозных сюжетов книги, касающихся мобилизации личностных ресурсов и цивилизационного выбора. Но это сделало бы изложение чрезвычайно дробным и громоздким. Поэтому данные сюжеты мы рассмотрим отдельно.
1 Единственное исключение – попытка Екатерины II опереться на выборных представителей разных групп элиты и населения (тоже, впрочем, не всех) при составлении нового свода законов. Но ожидавшихся результатов созванная императрицей комиссия не принесла и была распущена, никакого свода законов после себя не оставив.
Глава 10 Идеал всеобщего согласия
Смута начала XVII века развалила суверенную отечественную государственность. Москва была занята поляками. Ими, а также шведами были захвачены и некоторые другие территории. Районы же, куда чужеземцы не дошли, подвергались разбойным набегам казачьих отрядов. Страна оказалась без государства и без государя.
На русский трон претендовал польский король Сигизмунд. Альтернативы ему не просматривалось: старая правящая династия оборвалась, а сменявшим ее царям (Годунову, Шуйскому) стать основателями новой легитимной династии не удалось. После кратковременного опыта с первым самозванцем, убитым в Москве после годичного царствования, многие на Руси, в том числе и в высших классах, готовы были отдать престол Лжедмитрию II. Но того успели убить еще до воцарения.
В этой безвыходной, казалось бы, ситуации произошло событие, аналогов которого не знала, возможно, мировая история. Государственность оказалась восстановленной в результате спонтанной самоорганизации народа – тем более удивительной, что достигнутый к тому времени уровень его структурирования и консолидации был весьма невысок, а гражданская ответственность за государство в условиях самодержавного правления не могла сформироваться. Идеология «беззаветного служения» предполагает наличие сакрального государя, которому и следует беззаветно служить. Но в данном случае государя не было. И появится он лишь после того, как ополченцы Минина и Пожарского освободят Москву и инициируют созыв Земского собора, который и изберет в 1613 году нового царя.
В России любят использовать возвышенный пафос, повествуя о тех или иных событиях в истории страны. Быть может, ни одно из них не заслуживает такого пафоса больше, чем возрождение государственности после ее обвала на основе идеала всеобщего согласия, выстраданного под воздействием трагических уроков Смуты. Но это все же не снимает вопроса о том, каковы были культурно-исторические предпосылки народной самоорганизации не в локальном, а в общегосударственном масштабе – ведь такого опыта у населения не было.
Конечно, важнейшую роль в этом сыграла сформировавшаяся на протяжении столетий православная идентичность, отторгавшая перспективу подчинения польскому королю-католику. Но религиозное единство само по себе не ведет к спонтанной государственной самоорганизации людей, которые живут в разных местах страны, сла6о между собой связанных и отделенных друг от друга сотнями и тысячами верст. Для этого нужна культура государственной самоорганизации, и важно понять, откуда появилась она на Руси в начале XVII века.
Ответ прост: она произросла из того, что уже было, а именно – из старой вечевой традиции. В чрезвычайных обстоятельствах всеобщей смуты и угрозы государственному суверенитету вече обнаружило не только антигосударственный, как у казачества, но и государствообразующий потенциал. И произошло это не в сельской Руси, а в городской. Историки прямо говорят о народных сходках, «которые вошли в обычай в городах, благодаря обстоятельствам Смутного времени», и «напоминали собой древние веча»2. Именно на таких сходках было принято в Нижнем Новгороде решение о выделении каждой семьей на нужды ополчения «третьей части имущества; так давать порешил мир, и кто давал меньше, утаивая размеры имущества, с того брали силой»3.
Вечевые институты, возрожденные на местах в обстановке полного безвластия в стране, стали институтами политическими, т.е. стали властью. И решали они ту же самую задачу, что была основной и для их предшественников в Киевской Руси, – задачу военную. Или точнее – задачу организации народного ополчения в условиях военной угрозы.
Это, однако, еще не объясняет, почему в начале XVII столетия такие институты смогли преодолеть свой локальный горизонт, вырваться за пределы местных интересов и озаботиться интересами государственными. Ведь в домонгольской Руси мы ничего похожего не наблюдали. Поход ополченцев Минина и Пожарского на Москву и поддержка, оказанная им во всех городах на пути из Нижнего Новгорода в столицу, могли иметь место лишь потому, что население
2 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской историй. Ростов-на-Дону, 1999. С. 201.
3 Там же. С. 202.
Руси к тому времени уже обладало закрепленным в культуре опытом жизни в централизованном государстве. Оно знало, что такое государство возможно, а Смута убедила людей в том, что упорядочивание повседневности без него неосуществимо. И сильнее всего угрозы, проистекавшие из государственного распада, ощущались именно в городах. Как бы ни ущемлялся властями русский торгово-промысловый люд, он нуждался в защите от разбоя на рынках и торговых путях, равно как и от иностранных конкурентов. Альтернативой воссозданию государства могло быть только совмещение в одном лице купца и воина на старинный манер с сопутствующими междоусобными войнами (теперь за контроль надразвивавшимся внутренним рынком), о чем на Руси к тому времени ста ли забывать и возвращаться к чему не хотели. Был, правда, еще и вариант принятия чужеземной власти, но ее после монголов никто не хотел тоже.
Только с учетом этих вполне определенных интересов конкретных групп населения может быть понята и историческая миссия православия в ту драматическую эпоху. Роль русской церкви, прежде всего патриарха Гермогена, в духовной консолидации народных сил в период Смуты могла быть сыграна только потому, что православная идентичность уже успела глубоко укорениться. Но она консолидировала не всех и не сразу. В первую очередь она объединила тех, кто больше всех нуждался в восстановлении обрушившейся государственности и ее суверенитета. Она объединила русские города.
Однако для противостояния иноземцам и воплощавшейся в казачьей анархии антигосударственной тенденции, которая тоже была продуктом московской централизованной государственности, одной лишь идеи объединения было мало. При отсутствии государства нужна была организационная форма, способная временно его заменить. И она была найдена.
Поход ополченцев из Нижнего Новгорода в Москву продолжался более полугода, три месяца из которых народное войско провело в Ярославле. В это время Пожарскому, как командующему» приходилось осуществлять функции не только военной, но и гражданской общерусской власти, упорядочивая разворошенную смутой жизнь. Но то не была военная диктатура в точном смысле слова. Временная власть, выросшая из спонтанной вечевой самоорганизации, не воспроизводила буквально ни киевскую княжеско-вечевую, ни московскую авторитарную традицию. Это был новый, нетрадиционный способ легитимации и функционирования власти, который возник в открывшемся политическом пространстве между вечевым авторитарным идеалами.
Временное правительство Пожарского управляло подвластными территориями, опираясь на выборных представителей городов. В войске Пожарского «была высшая власть, которой князь повиновался по мотивам чисто нравственным. В его войске был Земский собор»4. Собор и стал той организационной формой, в которой зарождавшийся идеал всеобщего согласия получал институционально-политическое воплощение. К тому времени она была уже не нова. Новой была ее роль, ставшая возможной и необходимой под влиянием трагического опыта Смуты и вызванных ею сдвигов в культуре.
Когда Земский собор в 1598 году впервые избрал царя (Бориса Годунова), это было еще слишком непривычно. Поэтому легитимация избранного царя не была устойчивой и могла быть поколеблена самозванством. Но спустя несколько лет низложение Василия Шуйского уже мотивировалось тем, что он имитировал свое избрание на Соборе, которых (и Собора, и избрания) на самом деле не было. Достоянием массового сознания стала нехитрая мысль о том, что при отсутствии «природного» государя законным может быть лишь правитель, получивший власть «по указу всей земли». Поэтому Пожарский почти сразу после того, как ополченцы заняли Москву, разослал по городам грамоту, в которой звал выборных представителей на Земский собор для избрания нового царя. Но не только и не столько в таких выборах заключался идеал всеобщего согласия. Он заключался и в том, что Собор получал право на управление вместе с царем, и именно этот способ властвования был впервые опробован в войске Пожарского.
Новое царствование и новая династия начинались с попыток воплощения нового идеала на государственном уровне. Но уже в самом избрании государем именно Михаила Романова проявилась зависимость этого идеала от укоренившегося в Московской Руси идеала авторитарного.
10.1. Выборное самодержавие
Власть первого Романова, легитимированная собором 1613 года, считалась и именовалась самодержавной – точно так же, как и власть правителей прежней династии. Но уже сам факт выборности затруднял восприятие ее как божественной. В условиях, когда государствен-
4 Там же. С. 203.
ность развалилась, в стране царил хаос и приходилось принимать множество, как сказали бы сегодня, непопулярных решений, едва ли ни главным оказался вопрос об их легитимности. Они не могли исходить только от царя. Поэтому идеал всеобщего согласия, воодушевлявший людей на воссоздание государственности и ее суверенитета, стал после Смуты идеалом государственного управления.
Все решения были продуктом совместной деятельности царя, Боярской думы и Земского собора и обнародовались как постановления «всей земли». Один только факт, что в течение первых десяти послесмутных лет (1613-1622) Земский собор работал на постоянной основе, свидетельствует о принципиальной новизне ситуации. Власть, восстановленная народом, впервые на Руси и осуществляться стала от имени народа.
Этот новый способ правления в стране не приживется. В истории отнюдь не все новшества необратимы. Со временем Соборы будут созываться все реже, а во второй половине XVII столетия станут эпизодическими событиями по экстренным случаям, к тому же – имитируемыми (малолетних Петра I и его брата Ивана, а первоначально одного только Петра объявляли царями от имени Соборов, которых не было). Потом Земские соборы исчезнут вообще. Но новое политическое содержание, временно нашедшее себя в этой политической форме, окажется непреходящим. В XVII веке в русскую культуру впервые вошла и начала ею осваиваться важнейшая абстракция, служащая мостом из первого осевого времени во второе, – абстракция государства. Освоение ее было медленным, долгим и, как нами уже отмечалось, не завершилось по сей день. Но это не отменяет того факта, что оно началось почти четыре столетия назад.
Петр I считал себя политическим наследником не столько первых Романовых, сколько Ивана Грозного. Но Петр, в отличие от Грозного, вынужден был считаться с происшедшими в культуре сдвигами, а именно – с тем, что государство и государь перестали восприниматься как одно и то же.
При Рюриковичах это было не так. Тогда государство ассоциировалось исключительно с «природным» государем как представителем правящей «природной» династии. Оно выглядело как нечто вторичное, производное от унаследованного царем права владеть своей «отчиной», которое санкционировалось к тому же именем Бога. В эпоху смуты, когда царей стали выбирать, в народное сознание стала проникать и закрепляться в нем мысль о том, что вторично не государство, а государь и династия. «Московское государство – эти слова в актах Смутного времени являются для всех понятным выражением, чем-то не только мыслимым, но и действительно существующим даже без государя. Из-за лица проглянула идея, и эта идея государства, отделяясь от мысли о государе, стала сливаться с понятием о народе»5.
Но царь, избранный народным представительством, не мог уже восприниматься так, как воспринимался правитель «природный». То, что в государстве-вотчине казалось естественным, а именно – обладание властью и собственностью по праву наследования, теперь стало выглядеть противоестественным. Ведь избранный государь, в отличие от государя-вотчинника, ничего не наследовал, потому не мог, подобно вотчиннику, свою власть и собственность кому-то завещать. Более того, теперь стало выглядеть проблематичным и его право единолично распоряжаться ими. «При прежнем господстве частноправовых понятий, еще и в XVI в., неясно отличали государя как хозяина-вотчинника и государя как носителя верховной власти, как главу государства. В XVI в. управление государством считали личным делом хозяина страны да его советников; теперь, в XVII в., очень ясно сознается, что государственное дело не только „государево дело", но и „земское"…»6.
Впоследствии такие представления о государственном деле, как о деле «земском», будут из сознания вытеснены, представления о народе, как субъекте государственности, в культуре не закрепятся. Уйдет в прошлое и идеал всеобщего согласия, а вместе с ним – и наметившееся было движение к выходу из социокультурного раскола. Но абстракция государства как сущности, не совпадающей с государем и по отношению к нему первичной, уже не исчезнет. Самодержавная форма правления от этого не пострадает, она при новой династии будет развиваться и укрепляться. Но способы ее легитимации существенно изменятся. После Смуты не только феномен государя-вотчинника, но и феномен государя, приравниваемого к Богу7, станет невозможным. Даже тогда, когда династия Романовых начнет восприниматься как «природная» и от «всей земли» независимая.
6 Ключевский В. Курс русской истории: В 5 ч. М., 1937. Ч. 3. С. 72.
7 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 333.
8 Это не значит, что уйдет в прошлое официальная легитимация царя как Божьего наместника. Но и она, учитывая начавшееся отделение идеи государства от фигуры государя и соборное воцарение Романовых в XVII веке, свою былую самодостаточность уже не восстановит.
Возникает, однако, естественный вопрос о том, почему и идеал всеобщего согласия, воплотившийся в деятельности демократических институтов, отступил перед идеалом авторитарным, сдал ему все позиции. Он отступил по той простой причине, что на замену авторитарного идеала изначально не претендовал. Он был альтернативой Смуте и безвластию, а не отечественной политической традиции.
Выбрав нового царя, Земский собор не сужал его властные полномочия и не перераспределял их в пользу других институтов. Более того, сам выбор шестнадцатилетнего Михаила Романова обосновывался тем, что он был племянником Федора Ивановича – последнего правителя прежней династии. Тем самым Земский собор не столько легитимировал власть царя фактом его избрания сколько от имени «всей земли» подтверждал его «природную» легитимность. Так что у Михаила Романова и его преемников были все основания именовать себя самодержцами. Изменение способа легитимации власти на ее объеме никак не сказывалось и никаких формальных ограничений на ее использование не накладывало. Идея государства, отделившаяся от идеи государя, не покушалась на самодержавные прерогативы государя как единственного персонификатора государства.
Некоторые историки считают, правда, что боярская элита предварительно добилась от первого Романова гарантий своей безопасности, т.е. гарантий от царского произвола8. В свое время такие гарантии были даны боярам Василием Шуйским – его воцарению предшествовали письменные обязательства не лишать никого жизни без приговора Боярской думы, не подвергать гонениям родственников наказанных и не руководствоваться в своих действиях доносами без их следственной проверки. Но если Михаил Романов и обещал что-то подобное, то обнародованы его обещания не были. Потому что пример Шуйского показал: гарантии, предоставленные одному слою (боярству) не только не увеличивают, но и уменьшают легитимационные ресурсы царя.
Такие гарантии воспринимались, очевидно, как несоответствовавшие идеалу всеобщего согласия. Но и сам этот идеал не воспринимался, похоже, как нечто принципиально иное по отношению к «отцовской» модели властвования. Ведь никакой другой модели в культуре еще не возникло и возникнуть не могло.
8 См.: Ключевский в. Указ. соч. С. 79-83.
Тем не менее базовый внутривластный консенсус, разрушенный Иваном Грозным и до воцарения Романовых отсутствовавший, при них восстановился. То не было возвращением к «князебоярству» монгольской эпохи. То был консенсус на основе самодержавия. Ради его укрепления бояре к концу века сдадут даже свой последний оплот, связывавший их с древнерусской политической традицией, – систему местничества. И произойдет это не в результате жесткой борьбы, а по взаимному согласию – просто к тому времени местничество успеет себя полностью изжить.
Боярство после Смуты было уже не то, что до нее. Многие знатные фамилии сошли со сцены, были сброшены с нее стихийным ходом общенациональной междоусобицы. Не было больше ни «княжат», ни князей удельных – со сменой династии ушли в прошлое последние остатки родового правления в виде автономных вотчин, которыми наделялись при Рюриковичах ближайшие родственники московских государей. Место прежней элиты занимали люди неродовитые, выдвигавшиеся не благодаря своему происхождению, а благодаря личным заслугам или особым качествам, позволявшим входить в доверие царей или их ближайшего окружения. Новые бояре порой тоже не прочь были поиграть между собой в местническую игру, но это и приводило к тому, что ее историческая исчерпанность становилась все более очевидной.
Первые Романовы были предельно лояльны по отношению к боярству. Давал ему основоположник новой династии какие-то обещания или нет, но он и его преемники освободили бояр от страха перед репрессиями, позволили им усиливаться экономически, раздавая земли в вотчинное владение, повысили реальный статус Боярской думы и ее роль в разработке и принятии решений. Но политические позиции боярства в целом при этом не усиливались, степень его автономии по отношению к царю не увеличивалась, скорее все обстояло наоборот. Едва ли не самое красноречивое подтверждение этому – попытка бояр в 1681 году, когда был поднят вопрос об отмене местничества, компенсировать падение своего политического значения в центре увеличением влияния на местах.
Было предложено разделить государство на несколько больших областей по границам существовавших до объединения Руси автономных территорий. Предполагалось, что управлять этими областями будут наместники из состава московской знати, назначаемые пожизненно. Боярам удалось добиться поддержки со стороны царя Федора Алексеевича, но проект децентрализации отказался благословить патриарх. Царь, очевидно, с ним согласился, после чего согласились и бояре. Компенсации за отмену местничества они так и не получили.
Политическое падение боярства, парадоксально сочетавшееся с повышением роли его представителей в управлении страной, весьма показательно. Оно позволяет понять, каков был основной вектор развития Московии после Смуты и каково было реальное историческое содержание идеала всеобщего согласия. Этот вектор и это содержание заключались не в расчленении властных функций между царем и другими институтами, а в укреплении никем не отмененной самодержавной власти царя в условиях, когда инерция Смуты была еще чрезвычайно сильна.
Она проявлялась в многочисленных народных выступлениях, свидетельствовавших о том, что идеал всеобщего согласия оставался всего лишь идеалом. Восстание 1648 года в Москве и бунт Стеньки Разина (1670-1671) – лишь самые известные среди этих выступлений; то столетие не зря называли «бунташным». При таком напоре снизу бояре не могли претендовать на самостоятельную политическую роль – ведь бунты против них в первую очередь и были направлены, и им не от кого было ждать защиты, кроме как от сильной царской власти. Внутриэлитный базовый консенсус был прямым следствием отсутствия консенсуса общенационального. Но при таких обстоятельствах и сама царская власть, лишенная в значительной степени прежних источников легитимности, была заинтересована в своем усилении не меньше, чем околовластные группы элиты. Поэтому идеал всеобщего согласия не мог не восприниматься ею как нечто подчиненное, инструментальное по отношению к идеалу авторитарному.
В равной степени это относилось и к Земскому собору. В первые десятилетия после Смуты слабое выборное самодержавие – а слабое в том числе и потому, что выборное, т.е. не совсем «природное» – не могло и шагу ступить без поддержки Собора. Только решения, санкционированные волеизъявлением «всей земли», имели шанс быть выполненными. Восстановление распавшейся государственности требовало средств. Взять их можно было только у разоренного смутой населения. Огромные дополнительные налоги, которыми оно облагалось, особенно при первом Романове, не могли не сопровождаться рецидивами Смуты. Но без соборного благословения этих податей, без легитимации их не только как «государева», но и как «земского» дела новая династия в той ситуации на троне не удержалась бы. Собор помогал ей удерживаться и укрепляться. Когда же задача эта в первом приближении была решена, надобность в нем отпала, и он перестал созываться. Субъектов, заинтересованных в его сохранении, в стране не оказалось.
Дело в том, что Земский собор, в обход которого царь не мог принять ни одного важного решения, самостоятельной ветвью власти не был и сам себя таковой не воспринимал. Никакими фиксированными полномочиями он не располагал и ни разу их для себя не потребовал; Собор и созван мог быть только царем. Народное представительство, выбрав нового государя, видело свою главную задачу в том, чтобы помочь ему восстановить внутренний порядок и обороноспособность, а не в том, чтобы стать частью власти. «Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть; в этом его отличие от западноевропейского представительства»9.
Трудно, конечно, удержаться от соблазна помечтать о том, как хорошо было бы, «если бы» русская власть не оказалась тогда столь эгоистичной, не превратила бы демократический институт в «правительственное пособие»10 и, вместо сохранения и укрепления самодержавия, оставила бы его в прошлом. Но предаваться таким соблазнам – значит забыть все вышесказанное и об укорененности в культуре «отцовской» модели при отсутствии вызревшей альтернативы ей, и о той скромной роли, которую отечественная традиция отводила в государственной жизни праву, и о том, что на Руси, в отличие от Западной и даже Восточной Европы, не было субъектов народного представительства, заинтересованных в ограничении монархической власти.
Чудес в истории не бывает, и это, быть может, один из немногих уроков, которые из нее можно извлечь. Если же мы хотим, чтобы она стала другой, чем была, то целесообразнее размышлять не о том, какой она могла бы быть, а о том, почему она в свое время пошла не по тому пути, по которому нам сегодня хотелось бы, и что с тех пор изменилось. Альтернативы прошлому полезнее искать в настоящем, а не в прошлом; последнее же может помочь здесь только в одном – оно позволяет лучше понять, какие факторы эти альтернативы блокируют, а какие – способствуют их реализации.
9 Там же. С 227
10 Там же. С. 226.
Смута начала XVII века показала: отечественная милитаристская государственность в случае своего распада и при угрозе захвата иноземцами и иноверцами может воспроизводить себя 6лагодаря тому, что присущая ей армейская организация жизни оседает в культуре в виде способности населения к военной самоорганизации в критических обстоятельствах. Потенциала такой самоорганизации может оказаться достаточно, чтобы восстановить обвалившееся государство и способствовать его упрочению. Но восстановлено и упрочено при этом может быть только государство прежнее, т.е. милитаристское. Более того, армейское начало в его деятельности после таких катастроф и возрождений неизбежно усиливается – в том числе и потому, что энергия низовой военной самоорганизации должна быть нейтрализована. Во всяком случае, в деятельности первых Романовых эта тенденция просматривается достаточно отчетливо.
10.2. «Вертикаль власти»
Мы не хотим сказать, что милитаризация государства осуществлялась сознательно. Действия власти имели своей целью упорядочивание жизни, обеспечение управляемости и контроль над ресурсами страны. Но тот тип государственности, который восстанавливала новая династия, после обвала мог быть воссоздан только посредством усиления милитаризации.
Прежде всего были нейтрализованы выборные органы управления на местах, которые на исходе Смуты сыграли не последнюю роль в военной самоорганизации населения – как известно, Козьма Минин тоже был земским старостой. Над этими органами были поставлены воеводы, которые назначались Москвой и концентрировали в своих руках всю военную и гражданскую власть. Такая практика существовала и до Смуты, но только в приграничных районах, где постоянные внешние угрозы были реальностью. Теперь она стала повсеместной.
Соединение в лице воевод военных и гражданских функций означало, что милитаризация становилась принципом и способом государственного управления. При Рюриковичах она на эту сферу еще не распространялась. Тогда милитаризация проявлялась в мобилизационном подчинении жизненного уклада всех слоев элиты и населения решению военных задач, но в повседневном управлении страной сколько-нибудь отчетливо себя не обнаруживала. В XVII веке армейское начало стало целенаправленно внедряться и сюда, соединяясь с началом бюрократическим. При воеводе появилась «приказная изба» – с дьяками и подьячими на манер московских приказов. Этот бюрократический аппарат был еще малочисленным, но постепенно концентрировал в своих руках всю власть на местах. Если добавить к сказанному, что совокупная численность чиновников в московских приказах в XVII столетии возросла почти пять раз (в том числе и в результате увеличения количества самих приказов), то общая тенденция предстанет во всей очевидности.
Эта тенденция выступала альтернативой тому государственному началу, которое воплощалось в Земских соборах. В условиях усиливавшейся милитаристско-бюрократической централизации Земский собор неизбежно утрачивал земскую почву – население относилось к выборам своих представителей все более равнодушно, а сами они своей миссией начинали тяготиться, рассматривая ее как «соборную повинность»11. Тем более что организацией выборов ведали все те же воеводы, вызывавшие всеобщую неприязнь.
Милитаристско-бюрократическая централизация в мирное время неизбежно сопровождается ростом должностных злоупотреблений. Одна из самых впечатляющих примет времени первых Романовых – лихоимство воевод и их чиновников. Горожане и сельские жители, привлекаемые на службу и становившиеся «воеводскими людьми», быстро обучались использовать свое новое положение с выгодой для себя и невыгодой для населения. В законах, указах и призывах, призванных пресечь злоупотребления, в XVII веке недостатка не было, как не было его в предыдущие и последующие столетия. Но в системе, в которой закон не стал универсальным принципом, стоящим над властью, в том числе и первого лица, а суд не отделен от администрации, он не может быть последовательно воплощен и как принцип локальный. И он действует тем в меньшей степени, чем жестче выстроена «вертикаль власти». В такой системе она не может быть чем-то иным, кроме коррупционной вертикали частных интересов.
В XVII веке наблюдались неоднократные попытки эту вертикаль деприватизировать. Они интересны тем, что были направлены на соединение милитаристски-бюрократического начала с низовой активностью, сознательно инициировавшейся центральной властью. Уже при царе Михаиле был создан специальный Сыскной
11 Там же. С. 217.
приказ для приема от населения жалоб на злоупотребления администрации. Судя по всему, таких жалоб поступало немного – люди предпочитали жаловаться не на конкретных чиновников, с которыми боялись связываться, а на положение дел в целом. После этого власть разослала по стране грамоту, в которой уже под страхом наказания предписывала не давать воеводам взяток и не выполнять их незаконные требования12. Результат был тем же – низовая активность (в том числе и в защите собственных интересов) не вписывается в милитаристско-бюрократическую систему управления, при рода которой такую активность исключает. Последняя может проявляться либо в форме бунта, преодолевающего атомизацию людей и их непреодолимую в обычное время зависимость от начальства, либо не может проявиться вообще.
Историческим итогом XVII века стало не очищение «вертикали власти» от злоупотреблений, а создание и упрочение этой вертикали с присущими ей злоупотреблениями. Она создавалась после того, как прежняя недостроенная вертикаль рассыпалась. Общий вектор изменений, как мы уже отмечали, был направлен в сторону усиления военно-бюрократической централизации. Но проявлялось это не только в административных новшествах вроде повсеместного введения воеводского правления. Это проявлялось и в том, что система, отторгавшая принцип законности, конструировалась посредством значительного, по сравнению с досмутными временами, расширения зоны действия именно принципа законности. Новые проблемы, вставшие перед властью в XVII столетии, могли решаться только на юридической основе. Причем речь идет в том числе и о проблемах, которые до того никогда как юридические не воспринимались.
Во времена правления московских Рюриковичей вопрос о праве государей на власть решался апелляцией к вотчинной традиции (владение страной, унаследованное от предков) и непосредственно к Богу, что переводило их частное право не в публичное, т.е. санкционированное государственным законом, а в божественное, минуя публичное. При «природных» государях этого было вполне достаточно для обеспечения и легитимации власти, и ее преемственности, и ее неприкосновенности. У выборного государя по этой части появились проблемы. Когда в 1648 году вспыхнул мятеж в столице, царь Алексей Михайлович не мог не понимать, чем грозит
12 См.: Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 225.
ему и его неукрепившейся на троне династии народное недовольство – еще живы были свидетели убийства сына и жены Бориса Годунова, сбрасывания с престола Лжедмитрия I и Василия Шуйского. Выборный статус – Алексей Михайлович, как и его отец, был избран Земским собором – не являлся статусом сакральным; во время мятежа его участники высказывались о царе с нескрываемой недоброжелательностью, что по отношению к государям прежней династии казалось немыслимым. Компенсацией отсутствовавшей сакральности и стал для новой династии принцип законности – роль, которую ему на Руси еще исполнять не приходилось. От частного и божественного права, в новых условиях свою легитимирующую силу в значительной степени утративших, Романовы вынуждены были сделать первые шаги к праву публичному.
Законодательный кодекс (Соборное уложение) 1649 года, в экстренном порядке составленный и принятый Земским собором, многократно анализировался, и у нас нет необходимости обстоятельно его рассматривать. Остановимся лишь на некоторых его положениях, которые подводили юридический фундамент под военно-бюрократическую «вертикаль власти».
Прежде всего Соборное уложение ставило под защиту закона вершину этой вертикали в лице царя. Было введено понятие государственных преступлений, согласно которому каралось смертью не только действие, направленное против государя, но и намерение совершить его, а также недонесение о таком намерении. Причем ответственность в равной степени распространялась и на родственников виновных, включая детей. Ответом на смуту и продолжавшиеся народные волнения стало «слово и дело государево», ставившее под юридический контроль не только поступки, но и мысли людей. Узаконенными инструментами такого контроля становились донос и пытка. Напомним, что Уложение было принято Земским собором – лишнее подтверждение того, что идеал всеобщего согласия как альтернатива авторитарному не воспринимался. Он воспринимался как альтернатива смуте и безвластию.
Но Уложение не только ставило под защиту закона власть царя, саму ее оставляя надзаконной. Оно явилось и юридическим заменителем прежнего «беззаветного служения», поколебленного смутой и сопутствовавшей ей десакрализацией государя, которая усугублялась фактом его земского избрания. Отныне служение опосредовалось «заветом», частично учитывавшим и интересы тех, кто служит. Прежде всего – дворянства, которое получило возможность пользоваться и распоряжаться не только землей, но и крестьянами: Уложение, узаконив бессрочный сыск беглых крестьян и их возвращение помещику, юридически завершило установление на Руси крепостного права.
Так идеал всеобщего согласия трансформировался в идеал согласия царя и меньшинства населения. Сельские миры, немногочисленные представители которых и раньше не всегда приглашались на Собор, на этот раз отсутствовали вообще. Не будет их и на последующих собраниях «всей земли». Военно-бюрократическая «вертикаль власти» выстраивалась на фундаменте закрепощенной деревни. Именем закона она принуждалась служить «беззаветно» что консервировало ее в доосевом, догосударственном архаичном состоянии. В таком состоянии деревня доживет до второй половины XIX века, а когда власть попытается ее из этого состояния вывести, обнаружит колоссальной силы инерцию и, в конце концов, взорвется, обрушит государственность и предоставит социокультурную почву для ее воссоздания в новых, до того невиданных советско-коммунистических формах. Впрочем, уже при Алексее Михайловиче крестьянская стихия давала о себе знать, влившись в мятежные отряды Стеньки Разина, который противопоставил утвердившемуся государственному порядку порядок казацко-вечевой и даже успел установить его в захваченной восставшими Астрахани.
Что касается горожан (посадского населения), то с ними был заключен компромисс. Их способность к спонтанной самоорганизации не только ради восстановления рухнувшей власти, но и против власти восстановленной не могла не вызывать опасений. Во время московского восстания люди из ближайшего окружения царя вынуждены были принимать и задабривать словами и угощениями выборных представителей городского «мира». Посадские люди были недовольны своим положением, и Уложение пошло им навстречу. Оно предоставило им монополию на торговую и промысловую деятельность в черте города, освободив их от конкуренции со стороны не подлежавших налогообложению групп населения. Но при этом горожане пожизненно прикреплялись к своему месту жительства.
Если дворяне в обмен на землю и крепостных должны были нести обязательную повинность в виде военной службы, то посадские – в качестве платы за торговую и производственную монополию – лишались свободы передвижения и обязаны были платить подати, размер которых в ту эпоху не фиксировался и мог произвольно изменяться. Тем не менее город, в отличие от деревни, становился одним из оснований «вертикали власти» по «завету» – его представители на Соборе присутствовали и с его решениями согласились. Одобрили они и подтвержденный Уложением приоритет воевод над местными выборными органами. Таким образом, милитаристско-бюрократическая государственная система получала законодательное оформление при участии «земли», хотя и не всей.
Это стало возможным в том числе и потому, что пафос Уложения заключался не только в создании законной «вертикали власти», но и в ее очищении от всего незаконного. В его статьях говорилось и о равной для всех подсудности за преступления, и о наказаниях за взятки, и о многом другом. Но мы уже отмечали, что само устройство обновленной государственной системы исключало ее освобождение от злоупотреблений – ведь именно они и были одной из важнейших предпосылок ее самосохранения и относительной устойчивости. Закон мог укрепить систему, однако был не в состоянии ее изменить.
Первые Романовы немало сделали для того, чтобы приспособить эту систему к требованиям времени. Многое им удалось; их ближайший преемник Петр I получит от них наследство, позволившее ему более решительно двигаться в уже проложенном милитаристско-бюрократическом направлении. Он демонтирует то, что еще оставалось от старой Московской Руси, создаст институты, которых в ней не было вообще, но начинать ему придется не с нуля. Вместе с тем Петру удастся снять проблему, которую правителям XVII столетия решить не удалось, – найти адекватный эквивалент поколебленной божественной легитимации. Таким эквивалентом станет фактор военной победы.
Роль этого фактора понимали и предшественники Петра. Мы уже упоминали о Борисе Годунове, который ждал очередного нашествия из Крыма, чтобы продемонстрировать подданным свою способность побеждать. Много воевали и после смуты: по подсчетам историков, из 70 лет правления первых трех Романовых (1613-1682) не менее 30 пришлось на войны13, причем, как и раньше, вовсе не все они были оборонительными. Но более или менее серьезный успех сопутствовал Москве только однажды, когда она – после соединения Руси с Украиной – воевала с ослабленной шведами и казаками Богдана Хмельницкого Польшей. И уже один тот факт, что Алексей Михайлович решил лично участвовать в этой войне -
13 См.: Ключевский В. Указ. соч. С. 135.
к тому времени традиция уже такого участия не требовала – свидетельствует о том, сколь большое значение придавалось легитимационному потенциалу победы. Военно-бюрократическая государственность, в силу присущих ей и непреодолимых изъянов, без такой символической подпитки не может стать и оставаться устойчивой.
В победе – главное оправдание самого существования такой государственности. Перед поражениями же она, в случае ослабления божественной легитимации верховной власти, оказывается чрезвычайно уязвимой. Закон эту легитимацию заменить не в состоянии – и потому, что он в такой государственности не универсален, и потому, что наталкивается в своей реализации на системные ограничители. Сказанное позволяет понять, почему при царе Михаиле Федоровиче был казнен воевода Михаил Шеин. Руководитель героической обороны Смоленска в годы Смуты, во время войны с Польшей (1632-1634) он в безвыходном положении приказал своей армии прекратить сопротивление и был приговорен к смерти потому, что в такой системе у поражений должны быть конкретные виновники, публичное наказание которых переводит ответственность за неудачу с государства и государя на более низкие уровни. Чем слабее милитаристское государство (а при Михаиле Федоровиче оно было совсем слабым), тем в большей степени нуждается оно для самосохранения в подобной защите.
Размывание божественной легитимации при невозможности компенсировать ее военными победами объясняет и то, почему после Смуты сложились принципиально новые для Руси отношения между светской и духовной властью, между царем и патриархом. Они просуществовали недолго, но само их возникновение, равно как и их последствия, проливает дополнительный свет и на идеал всеобщего согласия, и на причины его капитуляции перед идеалом авторитарным. Обе ветви власти были озабочены в ту эпоху одной и той же проблемой – духовно-религиозной консолидацией Руси после потрясшей ее смуты. Но их усилия успехом не увенчались. Результатом стал первый в истории страны кризис русской церкви и русской православной веры.
10.3. Вестернизация и унификация. Новые линии раскола
Все действия властей в XVII столетии можно рассматривать как цепь попыток, призванных преодолеть социокультурный раскол русского общества. С обрывом династической ветви этот раскол материализовался в смуте, а потом неоднократно выплескивался на политическую поверхность в виде народных волнений и мятежей. Патриархальная «отцовская» модель, на которой держалась московская государственность, обнаружила свою догосударственную природу почти сразу после того, как умер последний «природный» государь-отец: без него его «дети» перессорились и начали грабить и убивать друг друга. Другая линия раскола – между христианством и язычеством – в столь катастрофических формах себя не обнаруживала. Но это не значит, что она не была выражена вообще. И не только в досмутные, но и в послесмутные времена.
Наличие второй линии раскола проявилось уже в том, что нового православного царя выбрали по принципу его родственной близости к старой «природной» династии, сохраняя за ним полномочия языческого тотема и ожидая от него при этом христианских добродетелей. Не исчезла она, как не исчезала никогда, и из бытовой повседневности – здесь язычество и православие сосуществовали в расколе еще со времен Киевской Руси. На протяжении столетий такое сосуществование было вполне мирным по той простой причине, что раскол имел место не столько между отдельными людьми и общественными группами, сколько в сознании и поведении каждого человека. В XVII веке выяснилось, что внутренняя раздвоенность многими к тому времени была преодолена и что в стране возник слой людей, руководствовавшихся в своей жизни идеей христианской аскезы. Это проявилось в отщеплении от социума значительной его части именно по соображениям веры. Наиболее стойкие и последовательные в ней оказались вне государства и сросшейся с ним церкви.
Таким образом, раскол между государственной и догосударственной культурами впервые обнаружит себя как религиозный раскол внутри православия. Говоря «впервые», мы имеем в виду то, что в догосударственное состояние добровольно увели себя не язычники: старообрядцы, культивировавшие христианскую аскезу, с язычеством никем в те времена не ассоциировались. Это – еще один парадокс отечественной истории. Его культурная природа неоднозначна, она, как нам представляется, до сих пор недостаточно изучена и осмыслена. Не претендуя на решение столь сложной и объемной исследовательской задачи, ограничимся лишь некоторыми соображениями о том, как новая линия раскола соотносилась с особенностями возрожденной после смуты государственности, ее изменившимися отношениями с русской церковью и общим духовно-идеологическим контекстом эпохи.
Отпадению старообрядцев от государства и церкви предшествовали наметившиеся сдвиги в культуре элиты. Осознав необходимость заимствовать у Запада его технологические и организационные достижения, прежде всего в военном деле, власти вынуждены были приглашать в Москву все больше иностранцев. Их звали, чтобы они научили русских тому, чего те не знали и не умели, передавали им свое мастерство или, как тогда говорили, «хитрости». Но, как всегда бывает в таких случаях, восприятие себя учениками в чем-то одном (но важном) сопровождалось подражанием учителям во многом другом. Вместе с технологическими и организационными «хитростями» у иностранцев стали перенимать их культуру, воплощенную в европейских книгах, европейском обустройстве жилища и быта, европейской одежде, европейских формах развлечений.
Московская элита ускоренно вестернизировалась, повергая в смятение ортодоксальное православное сознание. То, что мирно уживалось в голове и душе царя Алексея Михайловича, сочетавшего редкую набожность с пристрастием к музыкальным и театральным представлениям на иноземный манер, многим его подданным казалось несовместимым. Культура европейских «хитростей», проникавшая в повседневность, русским религиозным благочестием отторгалась, с представлением о чистоте веры, не раз спасавшей Русь и позволявшей ей претендовать на роль богоизбранного «Третьего Рима», не соотносилась. Тем самым на старые формы раскола накладывалась форма новая, привнесенная извне. Попытки же сгладить его приводили лишь к появлению в культуре еще более глубоких трещин и привели в итоге к распаду религиозной общности.
Вестернизация Руси была неизбежной, она диктовалась увеличивавшимся и все более глубоко осознаваемым военно-технологическим отставанием от Запада, которое проявлялось в чувствительных военных неудачах. Это хорошо понимал уже Борис Годунов, намеревавшийся пригласить иностранцев в Московию в качестве учителей. Духовенство тогда воспротивилось: «нельзя, опасно для веры; лучше послать за границу русских молодых людей, чтоб там выучились и возвратились учить своих»14. Результатом стало появление первых в отечественной истории невозвращенцев.
Альтернативы приглашению заграничных учителей не было, а их призыв в Москву не мог не сопровождаться распространением на Руси чужой культуры. И хотя она затрагивала лишь тонкий
14 Соловьев СМ. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 326.
элитный слой, не только церковь, но и светская власть отдавала себе отчет в проистекающих отсюда угрозах. Народные низы, и без того выражавшие недовольство верхами в повторяющихся вспышках стихийного протеста, теперь могли воспринимать своих господ как культурно чужих, как вероотступников.
Ответом властей на эту новую ситуацию стали попытки нейтрализовать вестернизацию укреплением веры и церкви, выстраиванием, наряду с государственной «вертикалью власти», вертикали духовной. Намечавшийся социокультурный раскол между элитой и населением перекрывался ужесточением религиозной унификации и регламентации, что было равнозначно в ту эпоху наступлению на бытовое язычество. Иными словами, новая форма раскола вуалировалась посредством концентрации внимания на старой его форме, ее максимальной актуализацией как явления, подлежащего устранению.
Курс на унификацию и регламентацию повседневности сложился на Руси не в XVII веке; он проводился московским государством и церковью и раньше. Патриархальный авторитарный идеал предполагает единство однообразия во всем, вплоть до мелочей. «Домострой» предписывал единый для всех распорядок семейной жизни, объемистые (27 000 страниц) «Великие Четьи Минеи» – общий круг чтения, расписанного по дням. И наступление на низовую народную культуру, уходившую корнями в языческую древность, началось отнюдь не при Романовых. Об этом можно судить, например, на основании того, как церковь относилась к скоморохам, популярным среди населения группам бродячих артистов. Их уничтожение подготавливалось на протяжении нескольких столетий, начиная с XIV века15. Но лишь в XVII веке – в результате жестких репрессий – оно стало реальностью16.
Это была попытка преодолеть раскол посредством механического отсечения одной из сторон расколотого целого. «Раньше благочестие и веселье были если не в состоянии равноправия, то в состоянии равновесия. Теперь на первый план выдвигается благочестие, жизнь с „молитвами, поклонами и слезами", как говорил Аввакум»17. И проявлялось это не только в отношении к скоморохам.
15 См.: Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры.
М., 2000. Т. III. С. 132.
16 Там же.
17 Там же.
Светская и духовная власти специальными постановлениями запрещали играть в карты и шахматы, предписывали «песен бесовских не петь», «кулачных боев не делать, на качелях не качаться, на досках не скакать, личин на себя не надевать». Неисполнение наказывалось: «Если не послушаются, бить батогами, домры, сурны, гудки, гусли и хари искать и жечь»18.
Так авторитарно-милитаристское понимание идеала всеобщего согласия обнаруживало себя на уровне повседневности. Духовная вертикаль возводилась в военно-приказном порядке. Набожный царь Алексей Михайлович приказывал воеводам, чтобы они силой заставляли ратников исповедоваться19. Тот же стиль регламентирующих предписаний использовался и по отношению ко всему населению. Народная ярость периода Смуты и ее рецидивы при первых Романовых понудили новую власть всерьез озаботиться духовно-нравственным состоянием подданных. В ее распоряжении был православный идеал аскезы, неотмирности, приоритета должного над сущим20. Опираясь на него, власть и пыталась профанировать, лишать статуса подлинности все, что находилось за пределами труда и молитвы.
Из этого ничего не получилось – страну нельзя заставить жить по монастырскому уставу. Но невозможное в глазах потомков вовсе не обязательно выглядит таковым в глазах современников. Бывают исторические ситуации, когда под грузом неразрешимых проблем именно невозможное начинает казаться единственно возможным. Невиданная до Смуты «бунташная» активность низов вынудила верхи обратить взоры на народную культуру – с тем, чтобы устранить ее расколотость посредством репрессий. Государство и церковь «впервые испугались мирской культуры как способного к победе соперника»21. Разумеется, это было проявлением не силы, а слабости22. Но слабости в истории нередко проявляются в том, что власть взваливает на себя утопические задачи, их утопичность не осознавая.
Вытравливание культуры смеха, веселья, развлечений из народного быта не привело к преодолению старого раскола между
18 Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 343-344.
19 Там же. С. 343.
20 Подробнее см.: Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта. Новосибирск, 1997. Т. 2.
С. 449-452.
21 Панченко А.М. Указ. соч. С. 132.
22 Там же.
христианством и язычеством. Скорее наоборот: способствовало переводу его из подсознания в сознание. Поэтому оно было не в состоянии нейтрализовать и последствия зарождавшегося нового раскола между вестернизировавшейся элитой и подавляющим большинством населения. Царь устраивал многолюдные приемы, где дозволялось и поощрялось многое из того, что официально запрещалось, – лицедейство актеров, игра на музыкальных инструментах. С той лишь разницей, что все это было на заграничный манер. Понятно, что при общем курсе на религиозную унификацию власти старались новую линию раскола не афишировать; то была еще довольно стыдливая вестернизация. Петр I сделает ее открытой и принудительной, а раскол между элитой и населением – легальным. Поэтому не будет у него нужды и в гонениях на народную культуру. Но при Петре это будет уже другое государство, которое консолидировалось не на православном благочестии, а на других основаниях.
Первые Романовы жили еще в другом измерении. Вынужденные двигаться по пути вестернизации, они пытались совместить ее с верностью отечественной идеологической старине, что сопровождалось искусственным унифицирующим насаждением последней. Поэтому и вестернизаторами они были осторожными, постоянно оглядывавшимися на традицию: не переборщили ли, не слишком ли от нее оторвались. Поэтому Алексей Михайлович к концу жизни, как бы спохватившись, издал несколько указов, которые запрещали курить табак, брить бороду, коротко стричь волосы и носить европейское платье. Но при его сыне Федоре Алексеевиче запрещенное будет частично возвращено в жизнь. Отступление от традиции становилось тем легче, чем глубже осознавалось ослабление ее легитимирующего потенциала после церковного раскола; он подорвал позиции православной церкви и привел к тому, что право выступать от имени традиции было монополизировано отщепившимися от церкви старообрядцами.
Этот раскол был самым глубоким среди тех, о которых выше шла речь. Язычество и христианство сосуществовали в расколе, который мог массовым сознанием не осознаваться и не фиксироваться; вестернизировавшаяся элита и чуждые вестернизации низы существовали в нем тоже. Миллионы старообрядцев от такого сосуществования отказались, отделившись и от церкви, и от государства и от социума. Но этот новый катастрофический раскол не был прямым следствием иных расколов – старых и новых. Ведь вожди старообрядцев – такие, как протопоп Аввакум – были солидарны с царем и патриархом Никоном, своим главным противником, во всем, что касалось наступления на языческую культуру и унификации народного быта. Что касается вестернизации, то церковная катастрофа имела к ней самое прямое отношение. Но и в данном случае речь идет не о прямой причинно-следственной связи, а о сложной системе зависимостей с массой опосредующих звеньев. Нельзя, в частности, игнорировать тот факт, что церковному расколу предшествовало беспрецедентное для послеордынской Руси усиление церкви, ее роли в государственной жизни.
10.4. Удвоение единоличной власти
Эта роль была весьма значительной в монгольский период, когда церковь, молившаяся за ордынских ханов, освобождалась от налогов и одновременно поощрялась московскими князьями, политику которых поддерживала. Однако в послеордынскую эпоху позиции духовной власти постепенно ослабевали. Победа «иосифлян» над «нестяжателями» внутри духовенства была победой людей, выступавших за сохранение в руках церкви огромных земельных богатств (около трети всего земельного фонда страны). Но платой за это могла быть только возраставшая зависимость от государей, которые одни только и могли гарантировать церкви сохранность ее владений.
Уже в XVI веке московские правители начали сами назначать епископов и митрополитов, формировать состав церковных соборов и вводить законодательные ограничения на приобретение церковью новых земель. Смещение Василием III (1521) неугодившего ему митрополита и уже упоминавшаяся расправа его сына Ивана IV над митрополитом Филиппом, который оказался далеко не единственным пострадавшим от опричного террора церковным деятелем, возобладавшую тенденцию во взаимоотношениях духовной и светской властей делали очевидной для всех. Самодержавие превращало церковь в подчиненный ему вспомогательный институт. Утверждение на Руси патриаршества (1589), которое было продиктовано стремлением к церковно-религиозной самодостаточности и желанием укрепить международные позиции страны, ослабленные после поражений в Ливонской войне, в данном отношении ничего не изменило. Поэтому столь рельефным и впечатляющим выглядит на этом историческом фоне новое возвышение церкви в XVII столетии.
Идеал всеобщего согласия, вызванный к жизни всеобщей Смутой воплощался не только в примирении царей с боярами и новой роли Земских соборов. Он воплощался и в невиданном до того слиянии царской и патриаршей власти. При первых двух Романовых два патриарха – Филарет (отец Михаила) и Никон (при Алексее Михайловиче) наделялись статусом «великих государей», равнозначным царскому. Как первый, так и второй реально управляли страной: Филарет правил за сына постоянно, вплоть до своей смерти, а Никон – посредством влияния на царя, но временами, когда Алексей Михайлович находился с войсками на войне, и непосредственно. И уже одно то, что феномен слияния светской и церковной власти оказался не единственным, а был воспроизведен второй раз, свидетельствует о его неслучайности.
Новая династия, столкнувшись с размыванием сакральности царской власти, искала способы компенсации этого размывания и, по возможности, возвращения божественной легитимации. Слияние с властью духовной казалось для этого более чем подходящим средством. Оно позволяло укрепить контакт с населением, православная идентичность которого столь ярко проявилась во время похода ополченцев Минина и Пожарского ради освобождения Москвы от иноверцев. В случае же с Никоном к этому добавлялась его широкая популярность в самых разных кругах, приобретенная когда он был еще новгородским митрополитом. В свою очередь, именно выдвижение Никона и его государев статус стали не последними причинами и церковного раскола, и острейшего конфликта между главами светской и духовной властей, стимулировавшего (уже при Петре I) ликвидацию патриаршества на Руси. И не только в силу индивидуальных особенностей Никона. Они сыграли в этом немалую роль, но сыграть они ее смогли лишь потому, что таким расколом и таким конфликтом была чревата изначально сближавшая царя и патриарха идеологическая платформа.
Оба они исходили из того, что выплеснувшиеся в годы Смуты и продолжившие выплескиваться народные страсти можно заблокировать строжайшей религиозной регламентацией. Жизнь покажет, что они на сей счет заблуждались, но отсюда еще никаких Расколов и конфронтации не проистекало. Проистекали же они из воодушевлявшей царя и патриарха идеи «превращения русского царства во вселенское, нео-«царьградское»23, что предполагало
23 Карташев А.В. История русской церкви: В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 191.
возвышение русской церкви до бывшего уровня византийской, превращение ее в центр всего православного мира.
Царя и патриарха, говоря иначе, сближала логика первого осевого времени, актуализировавшаяся на Руси после присоединения Украины. Формула «Москва – Третий Рим» обретала иное, не свойственное ей ранее смысловое измерение. Она становилась универсалистской имперской идеологией. Но мотивы Алексея Михайловича и Никона при этом существенно разнились.
В глазах царя трансформация национальной церкви во вселенскую выглядела важным шагом на пути восстановления международного статуса Руси, символической компенсацией ее вынужденной открытости западным влияниям и, тем самым, способом укрепления позиций выборного самодержавия внутри страны. Алексей Михайлович делал ставку на церковь и ее новую роль, потому что другой способ, избранный впоследствии его сыном Петром I, а именно – снятие всех возникших проблем посредством военных побед, в XVII веке был для Москвы нереализуем. То, что Алексей Михайлович понимал преимущества этого способа, сомнений не вызывает: именно поэтому он ввязался в бесперспективную войну со Швецией, именно поэтому всерьез рассматривал перспективу своего воцарения в Константинополе, предполагавшую не только общеправославный статус русской церкви, но и военную победу над Турцией. Однако в XVII веке такого рода планы были, повторим, безжизненны, и потому московскому царю ничего не оставалось, как уповать на подготовку церкви к ее новой роли, в чем между ним и патриархом наблюдалось полное единодушие.
Но общий замысел последнего был направлен в иную, чем у царя, сторону. Идеология вселенской церкви имела в то время только один жизненный аналог, который находился в католическом Риме. Аналог же этот предполагал верховенство духовной власти над светской. Смутный образ своего рода православного папы и воодушевлял честолюбивого Никона. Использовавшаяся им формула «священство выше царства» призвана была обосновать право патриарха «контролировать по мерке христианского идеала всю государственную жизнь и обличать все ее уклонения от норм канонических, не щадя и самого царя»24. Никон, разумеется, на опыт римской церкви никогда не ссылался – на Руси в те времена это могло вызвать лишь всеобщее отторжение. Но его притязания, сопровождавшиеся
24 Там же. С. 279.
попытками прямого вмешательства в дела светской власти (во время отсутствия царя в Москве они проявлялись в откровенно диктаторских поползновениях), характеризуются историками как «римский клерикализм в его крайней форме»25. Аналогичным было восприятие этих притязаний и многими современниками.
Так идеология вселенской православной церкви, сблизившая паря и патриарха, стала источником двух разных и противостоявших Друг другу стратегий. Так идеал всеобщего согласия, получив воплощение в слиянии духовной и светской властей, продемонстрировал свою авторитарную природу как бы от противного: выяснилось, что подобное слияние ведет не к диалогу персонификаторов власти, не к их конструктивному сотрудничеству, а к противостоянию и противоборству. Удвоение верховной власти, наделение церковного патриарха статусом «великого государя» обернулось борьбой за персональное лидерство и властную монополию. При доминировании в культуре авторитарного идеала это неизбежно. Дело здесь не в индивидуальных особенностях тех или иных исторических персонажей. Дело, как говорили древние, в природе вещей.
В этой борьбе Никон не имел никаких; шансов на успех. Идея православного папы, стоящего над светскими правителями, противостояла одновременно и общему историческому вектору эпохи, и традиции – как русской, так и византийской. Божественная легитимация власти уходила в прошлое, вытеснялась секулярной легитимацией от имени закона, что и нашло свое частичное выражение в Соборном Уложении 1649 года. Но этот способ легитимации для Руси был внове, провести его последовательно не решались – отсутствовал даже закон о порядке престолонаследия. Новая династия, принявшая страну после смуты и будучи не в силах ее консолидировать, чувствовала себя недостаточно уверенно. Поэтому она, двигаясь вперед, постоянно оглядывалась назад, надеясь вернуть утраченную сакральность. Поэтому Алексей Михайлович мог, с одной стороны, законодательно ограничивать права церкви (Соборное Уложение лишало ее судебных льгот и учреждало Монастырский приказ, которому духовенство становилось подсудным в общегосударственном порядке), а с другой – провозглашать патриарха вторым государем и воодушевляться идеей вселенского православного царства. Конфликт между царем и патриархом, ставший одним из следствий реализации этой идеологической платформы, удалось
25 Там же.
погасить. Никона отстранили, а церковь вернули примерно в то же положение, в каком она находилась до Смуты. Но побочным эффектом данной платформы стал еще один конфликт – гораздо более глубокий. По замыслу, утверждение вселенского православного царства с центром в Москве должно было способствовать преодолению всех старых и новых расколов, духовно нейтрализовать и инерцию язычества, и заимствование западных «хитростей». Воплощение же замысла обернулось расколом, какого Русь еще не знала, – расколом религиозным.
Чтобы стать центром православия, для начала хотя бы по отношению к присоединенной Украине, Москва должна была предложить приемлемый для всех церковный канон. Она не могла заставить другие церкви креститься двумя перстами и называть Иисуса Исусом, как было принято на Руси. Наоборот, она должна была изменить свою собственную обрядность и свои духовные книги в соответствии с общеправославным византийским образцом. Это и взорвало ситуацию, ибо было воспринято как покушение на саму идею «Москвы – Третьего Рима» в ее прежнем толковании, которое основывалось на восприятии Руси как единственного царства, сохранившего в чистоте православную веру, и потому единственного, которое вправе рассчитывать на спасение.
Для выстраивания духовной вертикали внутри страны власть решила идеологически усилить себя внешним возвышением. В результате же от нее отшатнулись люди, которым идея такой вертикали была ближе всех и в мироощущении которых православная идентичность в большей степени, чем у других, соединялась с православным благочестием. Старообрядцы отторгали греческую обрядность и греческие церковные книги, потому что греки, согласившиеся в 1439 году на Флорентийскую унию с католическим Римом, воспринимались как вероотступники, понесшие заслуженное наказание от Бога, что и проявилось в их капитуляции перед турками. Это вероотступничество подтверждалось в глазах старообрядцев и тем, что греческие церковные книги, с которыми сверялись книги русские, печатались в «латинских градах» – Риме, Париже и Венеции26.
Конечно, в самой этой православной щепетильности и истовости нетрудно рассмотреть следы облекшегося в христианскую форму языческого манихейства, проявления дохристианского
26 Там же. С. 225.
локализма и изоляционизма. Но отсюда следует лишь то, что страна переживала в ту эпоху глубокий культурный кризис, вывести ее из которого государство и церковь были не в состоянии. При том наборе средств, которым они были способны воспользоваться, попытки преодолеть кризис вели к его углублению.
Церковный раскол, как ничто другое, выявил неукорененность в культуре идеала всеобщего согласия. Он выявил и исчерпанность прежних ресурсов, позволявших осуществлять легитимацию милитаристской модели государственности. Религия не могла уже играть той роли, которую играла раньше. Стремление усилить государственную «вертикаль власти» вертикалью духовной было равнозначно стремлению выстроить повседневную мирскую жизнь по уставу монашеского ордена. Идея вселенского православного царства, ставшая естественным следствием такого стремления, в ходе своей реализации привела к отпадению от церкви и государства тех, кто был больше других предрасположен жить по монастырскому уставу. Отсюда следовало, что власть от самого этого устава должна отказаться и найти ему замену. Она найдет ее в уставе воинском.
Глава 11 Авторитарно-утилитарный идеал
Религиозный раскол, в результате которого часть населения отщепилась от церкви и государства, продемонстрировал ситуативность идеала всеобщего согласия, выявил его неукорененность в культуре. Но этим расколом был поколеблен и идеал авторитарный: царь, вышедший победителем в борьбе с патриархом, укрепил свою самодержавную власть, но для консолидации социума ее оказалось недостаточно. Кроме того, отпадение от церкви значительных слоев населения подрывало ее легитимирующую по отношению к самодержавию роль даже в глазах тех, кто формально от официального православия не отрекался; многие из них отнюдь не были уверены в неправоте старообрядцев, готовых идти за свою веру на смерть. Если учесть, что сакральность царской власти и без того была поколеблена самим фактом ее народного избрания, то трудности, которые она испытывала в конце XVII столетия, станут очевидными.
Власть, чье божественное происхождение было поставлено под сомнение, могла опереться только на закон, т.е. легитимировать себя от его имени. Но последовательно провести принцип законности, который сам по себе сакральность не возвращал, новая династия не решалась, как не решалась – по той же самой причине – воспроизводить и практику соборного избрания. Петр I, издавший указ о праве царя завещать престол по своему усмотрению, строго говоря, никаких традиций и обычаев не ломал. Потому что ломать к тому времени было уже нечего.
Собор 1613 года присягнул Михаилу Романову и его детям. Его сын Алексей Михайлович мог на этом основании считаться законным царем, но и его легитимность тоже сочли нужным подкрепить от имени «всей земли». Внукам же Михаила Собор не присягал. Поэтому старший сын Алексея Федор мог стать наследником престола только в результате соборного избрания. Но такое избрание Алексей Михайлович в традицию превращать не хотел и попытался найти компромисс между легитимацией от имени «всей земли» и принятой до смуты «природной» легитимацией по завещанию, которая была основана на частном вотчинном праве. В 1674 году он публично, на Красной площади, в присутствии высшего духовенства и при большом стечении народа объявил наследником своего старшего сына. Тем самым была сделана первая заявка на превращение новой династии в «природную». Но, как вскоре выяснится, проблему таким образом снять не удалось, как выяснится и то, что ее нерешенность чревата новой политической смутой, которая после церковного раскола накладывалась на смуту духовную и с ней сливалась.
При отсутствии узаконенной процедуры престолонаследия и пошатнувшемся авторитете церкви даже наличие «природных» наследников не могло застраховать власть от династических кризисов. После смерти бездетного Федора Алексеевича (1682) патриарх благословил на царство десятилетнего Петра – сына Алексея Михайловича от второго брака. Толпа, собравшаяся у царского дворца, предпочла его слабоумному старшему сыну от первого брака Ивану, духовенство и бояре этот выбор поддержали, и он был представлен как решение «всей земли». Но такая имитация соборного избрания даже после патриаршего благословения, учитывая ослабление авторитета церкви, не могла обеспечить устойчивую легитимность царской власти. Не прошло и месяца, как взбунтовавшиеся московские стрельцы потребовали, чтобы Петр царствовал вместе с Иваном, причем при первенстве Ивана и, учитывая его подростковый возраст, опеке над ним со стороны его сестры – царевны Софьи. Патриарх благословил и это беспрецедентное для Руси двоецарствие.
Так в первый, но не в последний раз вопрос о престолонаследии был решен военной силой. И также впервые наметился союз этой силы с религиозной оппозицией. Стрельцы, приведшие Софью к власти, не остановились на достигнутом: попав под влияние старообрядцев, они начали требовать возвращения к старой вере. Властям удалось конфликт погасить, но он важен для понимания той общественной атмосферы, которая предшествовала утверждению на престоле Петра I. Заканчивавшийся XVII век оставлял следующему столетию трудноразрешимые проблемы.
XVII век оставлял ослабленную расколом церковь, которая не могла, как прежде, служить опорой самодержавной власти и обеспечивать ее сакрализацию.
XVII век оставлял поколебленными вековые традиции и поколебленный статус традиции как таковой – после того, как со «стариной» стали ассоциироваться отщепившиеся от государства и церкви старообрядцы, апелляции к ней не могли уже символизировать государственное начало и способствовать его упрочнению.
XVII век оставлял новые догосударственные общности, способные переплетаться со старыми (контакты старообрядцев с казачеством у историков не вызывают сомнений) и даже оказывать влияние на силовые опоры власти, как в случае со стрельцами.
Царевне Софье удалось стабилизировать ситуацию, но она не могла вдохнуть новую жизнь в поблекший авторитарный идеал, как не могла и заменить его каким-то другим, даже если бы хотела, – альтернатива ему в культуре не вызрела. В сложившихся обстоятельствах идеал этот требовал подпитки, которую была способна обеспечить только военная победа. Однако такая победа оказалась недостижимой – в последний период семилетнего правления Софьи (в 1687 и 1689 годах) Москва предприняла два похода на Крым, от угроз которого все еще приходилось откупаться данью и оба они закончились неудачами. Первые Романовы, отвечая на вызовы времени, немало сделали для технологического перевооружения и организационной перестройки армии по западному образцу. Но конкурентоспособной она не стала – ей было не по силам одолеть даже крымских татар, не говоря уже о войсках европейских государств. Русский XVII век был веком развития, а не застоя и деградации. Вместе с тем он был и веком растущего отставания, потому что Запад развивался быстрее.
Такова была ситуация перед приходом к власти Петра I. К концу его правления она станет принципиально иной. Петр осуществит первую на Руси радикальную модернизацию, которая по своему характеру не имела мировых аналогов. При этом существенной трансформации будет подвергнута и сама отечественная государственность. Унаследовав от предшественников авторитарный идеал, Петр опустит его с небес на землю, освободит от религиозной составляющей и заменит ее составляющей утилитарной. То будет уход из вечности, из области расколовших страну предельных божественных смыслов и ценностей ради того, чтобы более уверенно обосноваться в историческом времени.
11.1. Две версии утилитаризма
Мы отдаем себе отчет в том, что само сочетание прилагательного «утилитарный» с существительным «идеал» может казаться уязвимым, содержательно не согласующимся. Под идеалом принято понимать нечто абсолютное, сопрягаемое с возвышенными целями, выводящими за пределы повседневной обыденности. Утилитаризм же, наоборот, отдает предпочтение относительному, предполагает рассмотрение мира как источника реальных и потенциальных средств для достижения пользы и выгоды27, т.е. целей самых обыденных. И тем не менее по отношению к рассматриваемому периоду российской истории это сочетание несочетаемого представляется нам вполне оправданным.
Утилитарная компонента присутствует в любой человеческой деятельности уже потому, что последняя и есть ни что иное, как пользование готовых и создание новых средств для поддержания улучшения жизни. Пока общество находится в архаичном состоянии и воспроизводит себя в неизменном виде из поколения в поколение, оно эту компоненту в своем сознании не вычленяет. При таком воспроизводстве неизменного мир выглядит целостным и нерасчлененным, а потому и в представлениях людей нет ни идеалов, возвышающихся над реальностью, ни отделенных от целей средств, ни абсолютного, противостоящего относительному.
С возникновением мировых религий идеальное (подлинное, небесное, вечное) отделяется от реального (профанного, земного, преходящего). Но при этом ценность мирской жизни в разных религиях (и даже разных ветвях одной и той же религии) разная. В западном христианстве, например, она выше, чем в восточном, которое заимствовала Киевская Русь. Поэтому и утилитарная компонента деятельности в западноевропейском сознании начала вычленяться раньше: поиск новых, более эффективных средств, проявившийся в обогащении знаний, навыков, умений, в технических достижениях, постепенно становился легитимным.
Московская Русь, обнаружив материальные результаты такого поиска, почти сразу после освобождения от монголов приступила к выборочному заимствованию чужих средств. Тем самым западное утилитарное начало получило пропуск в русскую повседневность. Однако с православным идеалом, лишавшим земную жизнь статуса подлинности, оно не сочеталось, а потому вводилось в нее как бы контрабандой. Возникшая еще во времена московских Рюриковичей Немецкая слобода при первых Романовых значительно расширилась и превратилась в иностранный городок – власть вынуждена была приглашать заграничных учителей для передачи
27 Подробнее см.: Яркова Е.Н. Утилитаризм как тип культуры: Концептуальные параметры и специфика России. Новосибирск, 2001.
европейских «хитростей». Но уже сам факт, что разросшаяся Немецкая слобода была вскоре перемещена на окраину Москвы и доступ в нее для русских был закрыт, свидетельствует о том, что утилитарное начало легитимным не считалось.
Над первыми Романовыми довлела историческая инерция. Они, напомним, надеялись восстановить поколебленную сакральность царей, вернуть им статус земных наместников Бога. Поэтому они, заимствуя чужие средства, одновременно пытались возвысить русскую церковь до уровня вселенской и административно насаждать православное благочестие, чтобы идеологически эти средств нейтрализовать, создать им надежный противовес. С авторитарным идеалом, освященным божественной санкцией, такие средства и в самом деле не сочетались. Однако и попытки нейтрализовать их завели в тупик, обернувшись, в конечном счете, церковным расколом и духовной смутой, что ставило под вопрос саму возможность религиозной легитимации государственности. Из этого тупика и предстояло искать выход Петру I. В традиции, в «старине» найти его было нельзя. Проблемы, стоявшие перед страной, требовали новаторских решений.
Если попробовать кратко сформулировать суть избранной Петром стратегии, то она заключалась, во-первых, в придании заимствуемым иноземным средствам легитимного статуса, а, во-вторых, в превращении самих этих средств в одну из составляющих доминировавшего в культуре авторитарного идеала. Можно сказать, что новый царь, сформировавшийся во многом в изолированной от русского мира Немецкой слободе, начал превращать в Немецкую слободу всю страну. По дороге, проложенной предшественниками, он двинулся так решительно и безоглядно, как они, скорее всего, не могли себе даже представить.
Борис Годунов вынужден был уступить духовенству, опасавшемуся приглашать в Московию заграничных учителей из-за угроз, которые могли исходить от них для православного благочестия. Первые Романовы, зазывая на Русь иностранцев, считали необходимым изолировать их от своих подданных и остерегались приближать их к себе и к власти. Царь Петр окружил себя иностранцами, оказывал им, по его собственному признанию, «видимое преимущество», дабы «от них научиться и подражать их наукам и искусствам»28.
28 Петр Великий: Pro et contra. СПб., 2003. С. 51.
Он мог позволить себе пойти значительно дальше предшественников и осуществить невиданную для Руси перестройку потому, что церковь как главный хранитель традиции была ослаблена расколом, а также потому, что XVII век оставил после себя представление о государстве, не совпадающем с фигурой правителя и по отношению к нему первичном. Это позволяло провозгласить идеалом пользу государства и, тем самым, включить в идеал и все те средства, в том числе и заимствованные, которые такую пользу обеспечивали.
Так идеальное, спущенное с небес на землю, было сращено утилитарным. Но и авторитарное начало, укорененное в «отцовской» культурной матрице, никуда при этом не исчезало: авторитарный самодержец из наместника Бога превращался в первослужителя государства и главного радетеля о его благе, наделенного монопольным правом решать, в чем именно оно заключается и что пади него допустимо использовать. Церковные колокола, переплавленные в металл для изготовления пушек, – едва ли не самое выразительное свидетельство происходивших при Петре перемен, позволяющее составить представление о том, что такое авторитарно-утилитарный идеал и как он воплощался в жизнь.
Поставив во главу угла пользу государства, Петр хотел, естественно, чтобы его представления об этой пользе разделялись если не всеми, то большинством соотечественников. Но то не было и не могло быть возвращением к идеалу всеобщего согласия послесмутного времени. Заимствование – без каких-либо идеологических ограничений – чужих средств ради государственной пользы предполагало их освоение, а освоение предполагало радикальное изменение и самоизменение людей, к тому не готовых и не предрасположенных. Советом «всей земли» такие задачи не решаются.
Мы потому и назвали идеал Петра авторитарно-утилитарным, что он означал служение пользе государства, отделенного от фигуры правителя, но им олицетворяемого. Польза государства, воплощаемая в решениях и указаниях царя-самодержца, – вот в чем суть данного идеала. Когда Петр требовал от подданных «более усердия к службе и верности ко мне и государству»29, он имел в виду именно это. Государство и царь – не одно и то же, но верность царю и верность государству – одно и то же.
Выдвигая подобные требования, преобразователь следовал старомосковской идеологии «беззаветного служения». В полном
29 Там же. С. 24-25.
соответствии с ней, главными инструментами, призванными обеспечить такое служение, в руках Петра выступали принуждение и устрашение. В этом отношении между ним и его кумиром Иваном Грозным никакой разницы не было. Но Петр уже не рассматривал служение себе как служение непосредственно Богу: «Какое же различие между Богом и царем, когда воздавать будут ровное обоим почтение?»30. В устах Ивана IV такой вопрос представить невозможно, как невозможно представить, чтобы он произнес нечто подобное тому, что прозвучало в обращении Петра к войскам перед Полтавской битвой: вы не за Петра сражаетесь, «но за государство, Петру врученное»31.
Однако едва ли не самое главное отличие между двумя самодержцами заключалось в том, что Иван Васильевич принуждал и устрашал подданных ради того, чтобы подчинить их себе и укрепить свое единовластие, между тем как Петр Алексеевич, повторим, – чтобы подчинить и изменить их, сделать хотя бы отчасти европейцами. Оба они пытались испытать русское государство в долгой войне с западными странами: Иван воевал с ними четверть века, Петр – всего на четыре года меньше. Но первый свою войну проиграл, потому что без модернизации русского жизненного уклада победить в ней было невозможно, а вопрос о такой модернизации во времена Грозного даже не вставал. Второй же выиграл, потому что сумел оснастить государственность и обслуживавшие ее слои населения достижениями европейской цивилизации. Потому что разорвал путы исторической инерции, сломал многие культурные стереотипы, обычаи и ритуалы, которые до того рассматривались как нечто естественное и безальтернативное. Потому что вместо старомосковского авторитарного идеала, освященного религиозной традицией, стал руководствоваться идеалом авторитарно-утилитарным, в котором сама эта традиция была низведена до уровня инструментального средства.
Осуществляя капитальный евроремонт старомосковской государственности, Петр приспосабливал ее к историческим задачам первого осевого времени (имперская экспансия) посредством оснащения принципами и достижениями второго. Абстракции государства, отделенного от личности государя, и общего интереса, отделенного от частных интересов царя, вошли в официальный
30 Там же. С. 24.
31 Там же. С. 50.
язык, стали политическим фактом. Но одновременно легализовывались и все средства, которые способны были общий интерес обслуживать, включая заимствованные иноземные знания. Научные абстракции не вытесняли абстракцию христианского Бога, но были отделены от нее, перестали проверяться на богоугодность, на соответствие православной вере.
Принято считать, что утилитаризм, привнесенный в русскую культуру извне, в ней не прижился, глубоких корней не пустил. Известном смысле это так: утилитаристский культ пользы и выгоды отторгался православной церковью, третировался русской художественной литературой и общественной мыслью. Более того, он смущал даже многих из тех, кто к Петру и его преобразованиям относился благосклонно. Потому что под утилитаризмом в России всегда подразумевалась та его разновидность, которая утвердилась на Западе. На Западе же речь шла о нравственной легитимации частной пользы и выгоды, чего на Руси не было до Петра (вспомним отношение Ивана Грозного к личным «прибыткам» купцов), но и при нем не появилось тоже.
Утилитаризм Петра был государственным утилитаризмом общего блага, а не утилитаризмом в западном, индивидуалистическом его понимании. Преобразователь призывал «полезность в государство вводить»32, «стараться о пользе общей»33, «трудиться о пользе и прибытке общем»34. То был надличный идеал, в котором частным интересам отводилась производная, вспомогательная, обслуживающая роль. В данном отношении Петр вел Россию отнюдь не в Европу. Скорее, он выступал отцом-основателем того самобытного отечественного типа модернизации, который в XX веке опять будет востребован вторично. Большевистская формула «подчинения личных интересов общественным» уходит своими истоками в идеологию и практику петровской эпохи.
Государственный утилитаризм, разрушая нерасчлененную целостность культурной архаики, спуская идеалы с неба на землю, заменяя культ традиции культом обновления и развития, легализуя использование любых средств в соответствии с критерием эффективности, тяготеет к превращению в средство всего, кроме государства.
32 Там же. С. 24.
33 Там же. С. 50.
34 Цит. по: Богуславский М.М. Петр Великий (опыт характеристики) // Петр Великий: Pro et contra. СПб., 2003. С. 513.
Человека – в том числе. И этим данная разновидность утилитаризма отличается от его европейской индивидуалистической вер
Дело не в том, что западный утилитаризм был более разборчив и щепетилен в выборе средств. В своих первоначальных воплощениях он этим тоже не отличался. Достаточно вспомнить широкое применение детского труда в пору раннего промышленного капитализма или утилитарно-хищническое отношение к природе в более поздние времена. Но идея индивидуальной пользы и выгоды, неотделимая от идеи индивидуальной свободы, способна была трансформироваться в представление об общественном порядке, при котором ограничителем пользы и свободы одного человека становится польза и свобода другого. Иными словами, западный утилитаризм в самом себе заключал возможность эволюции в сторону либерализма с его признанием самоценности человеческой личности, юридических гарантий ее неотчуждаемых прав и свобод и культурой компромисса. В государственном утилитаризме Петра таких предпосылок не было.
Неудивительно, что в XIX веке, когда началось углубленное осмысление истории страны и перспектив ее развития, отечественные мыслители столкнулись с неподатливостью российской социокультурной реальности. В мировой контекст она явно не вписывалась. В Европе индивидуалистический утилитаризм уже преодолевался либерализмом, между тем как в русской культуре частная польза и выгода еще не были даже легитимированы. Отечественные западники начали заимствовать современные им либеральные идеи и примерять их к совершенно неподготовленной исторической почве. Появившиеся вскоре почвенники пытались объяснить им, что эти идеи для России не подходят, а еще более поздние революционные социалисты убеждали в том, что либерализм изжит уже и на Западе и превзойден в марксизме.
Европейский утилитаризм был чужд им всем. Первые отвергали его во имя более привлекательного либерализма, вторые – во имя реанимации допетровской культурной архаики, третьи – во имя светлого социалистического будущего, которое выше либерализма, не говоря уже об архаике. В итоге же либеральные западники и антилиберальные почвенники были смыты историческим потоком, выбросившим на политическую поверхность революционных социалистов, чье светлое будущее оказалось на поверку новой версией государственного утилитаризма в большевистском исполнении.
О том, что он после себя оставил, нам предстоит говорить в главе о советской эпохе. Пока же вернемся к его первому изданию. Посмотрим, как решал Петр I поставленные перед собой и страной задачи и в чем заключалась осуществленная им модернизация, которая для своего времени, повторим, была беспрецедентной.
11.2. Экстенсивная модернизация
Государственность, которую строил Петр, была милитаристской. В этом отношении он шел по дороге, уже проторенной его предшественниками. Но, в отличие от них, ему такую государственность удалось построить и доказать ее пригодность победами, о которых прежние московские цари могли только мечтать. Российская военная держава и традиция российской державности начинались с Петра.
Русская милитаристская государственность в ее развитых формах – продукт вестернизации. Но и сама эта вестернизация осуществлялась посредством еще большей милитаризации повседневности, ее подчинения военно-приказному порядку. Все частные интересы принудительно интегрировались в интерес общий, все личные «хочу» подчинялись государственному «надо», но теперь это «надо» требовало от многих людей менять привычки, отказываться от вековых обычаев, а нередко насильственно вырывало их из жизненного уклада.
Воплощение в жизнь авторитарно-утилитарного идеала сопровождалось не только заимствованием чужих средств, но и предельным огосударствлением человека, превращением его самого в механическое средство, которое принудительно обтачивалось и подгонялось для выполнения тех или иных предписанных функций. Это была парадоксальная вестернизация посредством тотального закрепощения, в разной степени и разных формах распространившегося на все слои населения. Но мы не можем судить о ней, руководствуясь нашими сегодняшними критериями. Мы можем судить о ней, с одной стороны, по ее непосредственным результатам, а с другой – на основании того, насколько стратегически Перспективным оказался проложенный ею маршрут отечественной модернизации.
Главным звеном милитаристской государственности Петра стала созданная им постоянная армия. Его предшественники тоже пытались создать войско по европейскому образцу: они увеличивали численность пехоты, выявившей после появления огнестрельного оружия свои преимущества перед конницей, нанимали иностранцев, чтобы те учили русских новейшим приемам ведения боя. Ко времени воцарения Петра полки «нового строя», как их тогда называли, составляли уже половину армии. Их офицерский корпус комплектовался из дворян, а рядовой состав принудительно набирался из крестьян. К такому способу комплектования, который использовался тогда только в Швеции, перешли после неудачных попыток сформировать солдатский корпус из добровольцев. Но громких побед это не принесло. И потому, что многие дворяне считали ниже своего достоинства воевать рядом с бывшими крепостными крестьянами в пешем строю. И потому, что правительств не имело средств на круглогодичное содержание войска, и на зиму распускало его по домам, что отнюдь не способствовало обретению боеспособности. Петр покончил с этой практикой, сделав армию и службу в ней постоянной.
С одной стороны, речь шла о продолжении модернизации на европейский манер, принесшей на сей раз очевидные плоды: войско, непрерывно обучаемое новейшим приемам ведения боя, обеспечило России долгожданные победы и статус сильной военной державы на много десятилетий вперед. С другой стороны, это была самобытная модернизация в духе самобытного государственного утилитаризма Петра. Русская армия комплектовалась принудительно посредством обязательных рекрутских наборов. Человек насильственно вырывался – теперь уже на всю жизнь – из семьи и своего окружения, превращался в инструмент государства. В Европе в ту пору армии комплектовались в основном из добровольцев. Почти столетие спустя в ней, правда, тоже будет введена воинская повинность. Но она не будет там сопровождаться пожизненным огосударствлением человека. О том, как русские рекруты воспринимали свою судьбу, можно судить по указу Петра, повелевавшему делать им на руке специальную татуировку в виде креста, чтобы легче было поймать в случае бегства.
В Швеции, откуда была заимствована рекрутская система, подобного отношения к ней со стороны военнообязанных не наблюдалось. Потому что там ее использование тоже не сопровождалось такой степенью поглощения человеческого существования государством, которое в России стало культивироваться при Петре. Об условиях службы в созданной им армии можно судить уже на о основании того, что большинство солдат погибало в ней не на по боя, а от того, что тягот службы не выдерживало.
Государственный утилитаризм означал наступление на частную жизнь и частные интересы всех групп и слоев населения тогдашней России, поскольку с логикой милитаризации эти интересы не сочетались. Расправа над стрельцами, осуществленная Петром в самом начале его царствования, была продиктована не только идущими от них опасностями. После неудачного стрелецкого восстания 1698 года, произошедшего в отсутствие царя в Москве, многие из них были казнены, а значительная масса брошена в тюрьмы. Петр, однако, счел это недостаточным: вернув стрельцов из тюрем, он устроил новые массовые казни.
Стрелецкое войско, возникшее еще при московских Рюриковичах и состоявшее из людей, которые сочетали службу с частной жизнью, торговлей и промыслами, не вписывалось в петровскую стратегию милитаристского огосударствления. Демонстративная массовая казнь стрельцов с выставлением их мертвых голов на многомесячное всеобщее обозрение была не только устрашением реальных и потенциальных противников нового курса; она символизировала одновременно и его несовместимость с любыми проявлениями приватного начала.
Это начало насильственно вытеснялось из жизни не только «низов», но и «верхов». Служилое дворянство, еще при первых Романовых получившее право наследственного пользования землей (разумеется, с условием обязательной службы), обкладывалось Петром дополнительными повинностями. При прежнем устройстве армии дворяне находились в ней не постоянно – даже в XVII веке, когда началось ее преобразование на европейский лад с соответствующим обучением, на зиму, как мы уже отмечали, она распускалась. После петровской перестройки им предстояло служить все время, пространство их частного существования было сужено до предела. Пожизненная служба начиналась с пятнадцатилетнего возраста, но еще задолго до этого дворянские недоросли должны были проходить периодические смотры, иногда с присутствием царя, где их регистрировали и заранее приписывали к различным воинским частям.
Так формировался офицерский корпус новой армии и созданного Петром российского флота. Но дворяне не просто обязаны были служить государству – эта повинность лежала на них и раньше. Теперь они должны были служить, предварительно освоив основы европейской науки. Учение, как и служба, было принудительным, попытки избежать его наказывались еще большим сужением приватного пространства, о чем можно судить по указу, запрещавшему необученным дворянам жениться. Так что современные историки, выражающие сомнение в том, что о дворянстве петровской эпохи правомерно говорить как о «господствующем классе»35, имеют на то достаточные основания.
Национализация служилого сословия сыграла не последнюю роль в военных победах России, в обретении ею державного статуса. Принудительное обучение дворян в специально созданных для этого учебных заведениях и за границей, куда в царствование Петра было послано для овладения науками около тысячи человек, способствовало формированию европеизированной отечественной элиты, освоению ею достижений второго осевого времени. Однако Россия, заимствуя у Европы необходимые ей средства и делая их достоянием своей элиты, не становилась Европой и в данном отношении.
Петр исходил из того, что «английская вольность здесь (в России. – Авт.) не у места», что «надлежит знать народ, как оным управлять»36. Но такого отношения к элите, какое практиковал Петр, в его время не было не только в Англии, но и в абсолютистской Франции Людовика XIV. Последний не очень-то отличался от русского царя в выборе мер воздействия на политических противников. Но на частную жизнь своей аристократии французский монарх не покушался, насильно служить ее не заставлял, учиться – тоже. Он отстранял высшие классы от самостоятельной роли в осуществлении государственной политики, вытеснял их в приватное пространство, между тем как в петровской России осуществлялось их огосударствление, происходила оккупация государством этого пространства.
Сопоставление абсолютного самодержца Петра I с абсолютным монархом Людовиком XIV позволяет лучше понять коренное отличие русского утилитаризма от европейского. Французский правитель тоже был постоянно озабочен привлечением подданных на государственную службу, пополнением казны для оплаты наемной армии и ведения войн. Но он, в отличие от своего русского современника, утилитарно использовал для этого средства людей, а не людей как средство. Он не заставлял их служить, а продавал им должности и статусы, в том числе дворянские. Это было утилитарное использование частных интересов и принципа личной выгоды
35 Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Л,, 1982. С. 310.
36 Петр Великий: Pro et contra. С. 23.
для государственных нужд, а не подчинение частных интересов государственной пользе, противопоставляемой личной выгоде как заведомо предосудительной.
По сегодняшним меркам, французский утилитаризм XVIII века не кажется привлекательным идеалом государственного устройства. Более того, он выглядел уродливым и в глазах многих французов того времени, ибо создавал благоприятную среду для чиновничьих злоупотреблений. Но от такого утилитаризма историческая дорога к либеральному правовому порядку существовала, жду тем как государственный утилитаризм Петра ее перекрывал. При огосударствлении частных интересов обуздать их силой закона невозможно в принципе. Нельзя, соответственно, и согласовать их с интересом общим, потому что такое огосударствление исключает формирование государственной ответственности. Это не получилось в допетровской Руси, не получилось и у Петра.
Огосударствление частных интересов в пределе как раз и означает тотальную милитаризацию государства – никакого другого способа обуздания их стихии в данном случае не существует. В этом отношении Петр, как мы уже говорили, пошел гораздо дальше своих предшественников. Но именно поэтому, возможно, он лучше их осознал, что страной нельзя управлять так, как управляют армией. Отсюда, в частности, его административная реформа, переносившая в Россию европейский опыт бюрократической рационализации управления. Однако при том понимании общего и частного интересов, которого придерживался реформатор, чужой опыт не мог укорениться. Поэтому заимствование иноземных образцов сопровождалось усилением милитаризации, а усиление милитаризации снова и снова выявляло ограниченность ее ресурсов в организации гражданского управления и экономики. «Вертикаль власти», призванная поглотить частные интересы, оставалась, как и во времена первых Романовых, вертикалью коррумпированных частных интересов.
Административные реформы Петра были призваны подчинить деятельность чиновников, до того регулировавшуюся обычаями, жестким регламентам и инструкциям, привить им чувство государственной ответственности и пресечь злоупотребления. Удача же сопутствовала ему только в регламентации: работа государственного аппарата была подчинена правилам, определяющим функции и полномочия различных должностей, что вело к углублению специализации служащих и профессионализации их труда. Что касайся повышения государственной ответственности чиновников
и пресечения их застарелой предрасположенности ставить личные «прибытки» выше общей пользы, то в данном отношении реформатор разделил участь своих предшественников, пытавшихся искоренить чиновничий произвол и вынужденных перед ним капитулировать.
Коллегии, которые Петр заимствовал у шведов и учредил вместо старомосковских приказов, должны были, по его замыслу, заменить персональное управление ведомствами коллективным. Предполагалось, что это и ответственность за общее дело повысит, и злоупотребления уменьшит, так как чиновники должны были контролировать друг друга. Но, судя по тому, что вскоре Петр поставил все коллегии и их представительства на местах под тайный надзор особого корпуса фискалов, а впоследствии – еще и под открытый контроль прокуроров, реализация замысла натолкнулась на препятствия. Под контроль в лице генерал-прокурора был поставлен даже Сенат – созданное царем высшее правительственное учреждение, состоявшее из наиболее приближенных к нему людей. Однако и это не принесло ожидаемых результатов. Вопреки призывам Петра к государственному служению и несмотря на многоступенчатый бюрократический надзор одних ведомств над другими, а центральных аппаратов этих ведомств – над их впервые созданными местными подразделениями, чиновничество так и не обнаружило «способности отказаться от частной корысти для общего дела, способности отвыкнуть от взгляда на службу государственную как на кормление, на подчиненных как на людей, обязанных кормить, на казну как на общее достояние в том смысле, что всякий, добравшийся до нее, имеет право ею пользоваться»37.
Плохо помогали и другие меры, которые интересны не тем, что были эффективны, а тем, что обнаруживают некоторые существенные особенности государственного утилитаризма. Во-первых, частные интересы, не получившие автономного и независимого статуса, приходилось использовать в репрессивно-полицейской деятельности государства: фискалы, призванные контролировать работу должностных лиц, стимулировались возможностью получить часть имущества тех, чьи злоупотребления им удастся обнаружить. Иными словами, государственный утилитаризм не может обойтись без дозированного допущения утилитаризма индивидуалистического, что лишь выявляет его историческую несамодостаточность
37 Соловьев С.М. Указ. соч. С 563-564.
и стратегическую бесперспективность. А во-вторых, репрессивно-полицейские акции против чиновничьего лихоимства, получившие при Петре небывалый для Руси размах, вписывались в общую логику осуществлявшейся им милитаризации жизни.
Дело не только в том, что Петр ставил должностные злоупотребления в один ряд с государственной изменой38, хотя показательно и это. Дело и в тех контрольно-полицейских функциях, которые возлагались царем на гвардию - созданные им элитные воинские части, непосредственно ему подчинявшиеся. Гвардейские офицеры разбирали доносы фискалов и прокуроров на высокопоставленных должностных лиц. Они присутствовали на заседаниях Сената и «следили за тем, чтобы сенаторы вели дела как следует; увидя же что-нибудь,,противное сему", могли виновного арестовать и отвести в крепость»39. Иностранные наблюдатели с удивлением писали о том, как члены Сената – высшего правительственного учреждения в стране – «вставали со своих мест перед поручиком и относились к нему с подобострастием»40. Наконец, гвардейские офицеры нередко посылались для расследования злоупотреблений на местах и наделялись практически неограниченными полномочиями, включая право содержать губернаторов во время расследования под арестом.
Гвардейцы Петра были так же мало способны обеспечить «беззаветное служение» общему благу, как его фискалы и прокуроры, – в том числе и потому, что сами особым бескорыстием не всегда отличались. Но возложение на них надзорных и полицейских функций – лишнее подтверждение сказанного выше: государственный утилитаризм неизбежно тяготеет к предельной милитаризации жизни.
Петр I осуществил такую милитаризацию и в мобилизационном, и в управленческом смысле. Он подчинил все существование страны и ее жизненный уклад военным задачам и выстроил военно-бюрократическую «вертикаль власти». В обоих направлениях он продвинулся так далеко, как никто до него41. И он был первым,
38 Петр Великий: Pro et contra. С. 26-27.
39 Покровский М.Н. Избранные произведения: В 4 кн. М., 1966. Кн. 1. С. 613.
40 Там же. С. 613.
41 О глубине петровской милитаризации можно судить уже на основании того, что Петр, расквартировав армию по стране, возложил на военных функцию сбора налогов, т.е. одну из важнейших экономических функций государства. «Тем самым командир полка и его подчиненные участвовали во всех этапах работы финансово-податного аппарата» (Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 35).
кто сумел превратить милитаризацию в инструмент форсированной модернизации. Результаты последней слишком очевидны, чтобы ставить их под сомнение. Однако долгосрочные последствия этой модернизации далеко не столь бесспорны и, во всяком случае, далеко не однозначны.
Петр оставил после себя мощную державу, с которой мир должен был считаться, и заложенную им державную традицию. Он оставил после себя страну, имевшую выход к морю и прочные позиции на Балтике. Его преемникам было, на что опереться и что приумножать. Но он оставил им и проблемы, которые остаются проблемами по сей день. Огромная армия, созданная Петром, в сопоставлении с численностью населения «почти втрое превосходила пропорцию, которая считалась в Европе XVIII в. нормой того, что способна содержать страна»42. Россия выдержала столь непомерную нагрузку. Но цена, которую она заплатила за свою военную мощь была много выше выпавших на нее тягот. Принудительная модернизация не открывала источников и не создавала стимулов органического внутреннего саморазвития. Она, наоборот, порождала иллюзию, что без таких источников и стимулов можно обойтись. Наши прошлые и нынешние беды и проблемы – историческая плата и за эту иллюзию.
Петр I был инициатором первой в отечественной и мировой истории экстенсивной модернизации. Эта характеристика может, конечно, вызвать возражения: ведь русский реформатор не только расширял государственную территорию, но и осуществлял радикальные преобразования, успешно изменил жизненный уклад страны, а вместе с ним – и людей. Однако отсюда следует лишь то, что модернизация имела место, и вовсе не следует, что она оставила в прошлом традицию экстенсивного развития.
Экстенсивное развитие – это развитие за счет присвоения чужих ресурсов. Ресурсы могут быть естественными (земля, люди) и культурными (знания, технологии). Но в том и другом случае они присваиваются в готовом виде – об этом мы уже говорили в первой части книги. Экстенсивная модернизация, т.е. присвоение и освоение чужих культурных достижений, отличается от интенсивной тем, что предполагает заимствование результатов инноваций без приобретения способности к самим инновациям, которую заимствовать нельзя.
42 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 162.
Именно такую модернизацию и осуществил Петр I. Освоенных европейских ресурсов хватило примерно на столетие. За это время в Англии произошла промышленная революция. Но Россия обратила на нее внимание лишь тогда, когда она материализовалась в новых технологиях, в том числе и военных. И дело здесь не в индивидуальных качествах преемников Петра, Дело в том, что инициированный им тип модернизации был ориентирован на овладение чужими результатами, а не процессами, предшествовавшими их достижению.
Одна из главных особенностей такой модернизации заключается в том, что единственным ее субъектом выступает государство, принуждающее подданных к переменам. Количество людей, которым предписывается меняться, может быть разным. Во времена Петра оно составляло незначительное меньшинство. Подавляющее большинство населения модернизации не подлежало, а подлежало усилению экстенсивной эксплуатации, что означало дополнительные изъятия у него продуктов его труда без повышения продуктивности последнего. Жесткое налоговое давление Петра на крестьян сопровождалось не ростом эффективности их хозяйственной деятельности, а разорением и массовым бегством на окраины страны. Впрочем, при таком типе модернизации государство, будучи в лице его персонификатора главным и единственным субъектом преобразований, не в состоянии существенно изменить и тех, кого изменить намеревается.
Во-первых, сосредоточение всей полноты бесконтрольной власти в одних руках означает бесконтрольность на всех ее этажах. Один человек за всеми присматривать не в состоянии, а государственный аппарат сам себя контролировать не может, сколько бы фискалов, прокуроров и гвардейских офицеров над ним ни надзирало. А во-вторых, тотальная милитаризация, используемая как инструмент экстенсивной модернизации, может быть относительно эффективной лишь там, где речь идет о непосредственно военных задачах. Заменить частную инициативу в других видах деятельности она не в силах, как не в силах обеспечить законопослушность чиновников в условиях, когда у подданных есть только обязанности без прав, когда им предписано служить «беззаветно».
Показательна в этом отношении промышленная политика Петра. Если рассматривать ее с точки зрения военной целесообразности, то ее эффективность не вызывает сомнений. Количество мануфактур при Петре возросло почти на порядок, и они вполне справлялись с обслуживанием нужд армии. Но военное назначение создававшейся заново промышленности, а также то, что создавалась она не частным капиталом, как на Западе, а милитаристским государством, обусловили ее своеобразие. Проводя первую в отечественной истории форсированную индустриализацию, реформатор не отклонялся от русского «особого пути», а лишь корректировал его в соответствии с требованиями эпохи, превращал в «особый путь» модернизации.
Не рассчитывая на частную инициативу, Петр тем не менее вынужден был признать, что своими силами государство не в состоянии решить стоявшие перед ним задачи. Пришлось передавать казенные предприятия частным лицам и опираться на их интересы. Но последние при этом на свободу не отпускались, а становились дополнительным инструментом в руках преобразователя, который и в данном случае действовал в полном соответствии со стратегией государственного утилитаризма. Мы еще вернемся к этой теме, когда будет говорить о способах мобилизации личностных ресурсов в империи Романовых. Пока же ограничимся лишь несколькими констатациями.
Предприятиям предписывалось не только то, что производить, но нередко и то, как производить, какие использовать методы и технологии. Собственность промышленников не была гарантирована, она в любой момент могла быть отобрана. «Права владельца предприятия, получившего его от государства или построившего на собственные деньги, были, по существу, правами не собственника, а арендатора, главной обязанностью которого было выполнение казенных заказов, преимущественно военного характера»43. Это была не капиталистическая, а именно милитаристская индустриализация, при которой частный интерес использовался как вспомогательное средство. Добавив к сказанному, что в промышленности были заняты в основном крепостные крестьяне, превращавшиеся в крепостных рабочих, и что покупать их можно было только с разрешения властей, мы получим достаточно полное представление об особенностях экстенсивной модернизации вообще и государственной индустриализации, как одного из главных ее элементов, – в частности.
В границах своих целей, повторим, эта индустриализация была результативной. Но источники и стимулы органического
43 Каменский А. Российская империя в XVIII веке: Традиции и модернизация.
саморазвития в ходе ее осуществления не возникали. Современные историки справедливо указывают на то, что практика государственных заказов «делала ненужной конкуренцию» и лишала промышленников стимулов к усовершенствованию производства44, что «в системе крепостнической промышленности условий для развития капитализма (и, следовательно, условий для развития класса буржуазии) не было»45 и что в этой системе изначально были заложены «неразрешимые противоречия и преграды дальнейшего развития»46.
Таким образом, мы лишний раз убеждаемся в том, что экстенсивная модернизация Петра одновременно и сближала Россию с Европой, и отдаляла от нее, прокладывая русло исторической эволюции, существенно отличавшейся от европейской. Но едва ли невыразительнее всего эта двойственность петровских преобразований проявилась в том новом статусе, который получил в ходе их осуществления принцип законности.
11.3. Закон против обычая
В деятельности предшественников Петра, включая первых Романовых, принцип законности был периферийным. Они, как и Петр, опирались на силу, но ее использование легитимировалось не столько законом, сколько религиозной верой, позволявшей сакрализировать московских государей. Правда, когда эта сакрализация стала ослабевать, власть вынуждена была обратиться к законности, пример чему – Соборное уложение 1649 года. Но в данном случае речь шла лишь о том, чтобы сохранить и упрочить уже сложившееся положение вещей: закон привлекался на помощь обычаю, охранительный ресурс которого начинал иссякать. Петр же, наоборот, использовал закон для того, чтобы старые обычаи искоренить и заменить новыми.
На смену религиозной регламентации, которую пытались проводить первые Романовы, пришла регламентация рационально-юридическая, светская. Петра уже не волновали скоморохи, гонения на которых при нем прекратились, а тем более – игры в карты или шахматы. Реформатор был озабочен не защитой московской «старины» от европеизации, а переделкой этой «старины» на европейский
44 Там же. С. 115.
45 Аисимов Е.В. Время петровских реформ. С. 298-299.
46 Каменский А. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. С. 115.
манер. Своими указами он конструировал новую культурную реальность, предписывая подданным иной, чем прежде, образ жизни. Указы определяли, что и как производить в промышленности и сельском хозяйстве, как строить города и дома в них, какую носить одежду и какой иметь внешний вид, чему учиться, как веселиться и лечиться.
Это законодательное наступление на старые традиции и нравы не было бесплодным. Многие перемены, принудительно насаждавшиеся Петром, оказались необратимыми, а привнесенная в русскую жизнь европейская культура пустила в ней корни. Не остались без последствий и усилия по вытеснению обычая, как регулирующего начала, юридическим законом – в этом отношении царь-реформатор тоже приблизил Россию к Европе. Но именно в понимании принципа законности, как мы уже говорили, наиболее рельефно проявился неевропейский характер осуществленной Петром европеизации.
Детальная юридическая регламентация повседневности была характерна в XVIII веке и для западных абсолютных монархий. Законодательство «всех европейских государств того времени ‹…› охватывает жизнь подданных решительно со всех сторон»47. Но в этих странах законность становилась в результате универсальным принципом, способствовавшим консолидации западноевропейских наций на основе рациональных ценностей, между тем как в России она легализовывала тот новый раскол (между элитой и населением, городом и деревней), который наметился в стране еще в XVII столетии. Первые Романовы пытались его завуалировать посредством религиозной унификации. Петр, в отличие от них, не только его не скрывал, но и придал ему юридическую форму.
Принцип законности использовался реформатором для европеизации меньшинства населения, прежде всего дворянства, посредством принудительного образования, к которому народное большинство не допускалось. Даже брить бороды и носить европейское платье предписывалось только высшим классам (за исключением духовенства) и горожанам. Деревня отделялась от них не только крепостным правом, но и внешним видом населявших ее людей. Кроме того, жизнь в деревне по-прежнему была подчинена обычаю и обычному праву. С учетом новой роли закона в городах, все это еще больше отчуждало крестьянское большинство от государства, которое
47 Богуславский М.М. Указ. соч. С. 514.
продолжало уверенно развиваться в первом осевом времени, отказавшись при этом от его религиозного универсализма и осваивая универсальные естественно-научные и юридические принципы второго осевого времени. Между тем крестьянское большинство удерживалось в догосударственном, доосевом состоянии. Но это и означает, что реформы Петра вели Россию как в Европу, так и в сторону от нее. «В то время как в западных странах дистанция между народной и элитной культурой начала сокращаться, в России она неизмеримо увеличилась»48.
Была, однако, и еще одна особенность, отличавшая российскую интерпретацию принципа законности при Петре от европейской. Это отличие не лежит на поверхности, а сглаживается внешней схожестью некоторых действий русского самодержца с действиями западных абсолютных монархов. Речь идет о том, как соотносятся с принципом законности власть самого государя, его полномочия и насколько распространяется этот принцип на его собственную деятельность.
Петр был первым на Руси самодержцем, который придал самодержавию юридический статус: «Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах отчет дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомыслию управлять»49. При таком понимании царских полномочий не оставалось места ни для Боярской думы, которая была распущена, ни для Земских соборов, которые окончательно исчезли из русской политической жизни, ни для сколько-нибудь автономной церкви, во главу которой вместо патриарха был поставлен Синод, организованный по типу коллегий с особым представителем государя в лице обер-прокурора и специальным ведомством фискалов, именовавшихся инквизиторами. Так русское самодержавие, изменив способ своей легитимации, сбросило с себя даже те символические институциональные ограничители, которые существовали в допетровской Руси.
Но возникает все же естественный вопрос: если власть первого лица наделена законом ничем не ограниченными полномочиями, то следует ли отсюда, что сама она из-под действия закона выводится, что принцип законности распространяется на все, кроме нее?
48 Хоскинг Дж. Россия: Народ и империя. Смоленск, 2000. С. 107.49
49 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е, СПб., 1830. Т. 5. № 3006.
Ответ Петра: «Когда государь повинуется закону, то да не дерзнет никто противиться оному»50. Эти слова можно истолковать так: юридические нормы, исходящие от самодержца, т.е. ничем и никем не ограниченного монопольного субъекта законотворчества обязательны и для него самого. Однако даже при таком толковании он оказывается выведенным за пределы юридического поля, причем не только потому, что вправе отменить или заменить любой неудобный для себя закон, но и потому, что законодательно самодержцу не предписывается «повиновение закону», выходящему от его имени. А значит, такое «повиновение» зависит исключительно от доброй воли правителя. Поэтому об универсальности принципа законности в данном случае говорить не приходится. Поэтому и сам Петр какими бы ни были его заявления, не очень-то обременял себя соизмерением своих поступков с юридическими нормами.
Нельзя, однако, сказать, что правосознание европейских абсолютных монархов во времена Петра было принципиально иным. Уже упоминавшийся Людовик XIV тоже считал себя монопольным субъектом законотворчества и тоже не помышлял о том, чтобы накладывать на себя какие-то юридические ограничения. Но он, в отличие от Петра, должен был считаться с вековой правовой традицией, сложившейся в феодальную эпоху, и с институтами, которые ее олицетворяли.
Французский король мог волевым решением ограничить полномочия парламентов – специальных судебных учреждений, наделенных правом регистрировать новые законы и возражать против их введения, но он не решился ликвидировать эти учреждения. Он мог считать себя верховным собственником всей земли, но не в силах был искоренить закрепившееся в сознании людей представление о праве собственности. Он мог полагать себя единственным воплощением общего блага и общего интереса, но был не в состоянии лишить легитимного статуса интересы частные, а потому вынужденно с ними считался. Утверждая свое самовластье, он преодолевал давно сложившуюся правовую традицию, однако победить ее так и не сумел. Петр тоже ломал традицию, но – доправовую, с которой мог позволить себе не считаться, поскольку его самовластью она не препятствовала.
Принцип законности, внедряемый стоявшей над законом самодержавной властью в неправовую среду, не открывал перспектив его универсализации. Если в обществе не пустила корни сама
50 Петр Великий: Pro et contra. С. 29.
идея естественных и неотчуждаемых человеческих прав, то закон в таком обществе может быть только утилитарным средством в руках надзаконной власти, а не универсальным регулятором поведения людей. От французского абсолютизма, как раньше от английского, историческая дорога вела к буржуазной революции и европейскому правовому государству. От петровского самодержавия такой дороги не было. Причина этого – не в Петре. Во всяком случае, не в нем одном. Его европеизация вела в сторону от Европы, потому что и допетровская средневековая Русь развивалась существенно иначе, чем европейские страны.
Тем не менее принцип законности был в отечественную культуру привнесен. Он не преобразовал ее в той степени, в какой на то рассчитывал реформатор. В этом отношении авторитарно-утилитарный идеал, предполагавший не только использование данного принципа как средства для достижения других целей, но и реализацию его самого как цели, оказался на поверку утопичным. Мы попытались показать, что в значительной мере это было обусловлено и природой самого идеала. Но мы пока ничего не говорили о том, почему Петр смог совершить то, что совершил.
Подавляющее большинство населения его реформы не принимало, оно к ним принуждалось. Но в стране не было и меньшинства, которое знало, в чем они должны заключаться и как их проводить. Почему же петровские преобразования стали возможны? И как огромную страну удалось не просто подчинить силе, что не было для Руси внове, но и заставить измениться, стать другой?
11.4. Реформы и реформатор
Завершив строительство милитаристской государственности, Петр стал первым в отечественной истории самодержцем, о котором можно говорить как о состоявшемся моносубъекте-милитаризаторе. До него были претенденты на эту роль (московские Рюриковичи и первые Романовы), после него – имитаторы (Павел I, Николай I) и один последователь и продолжатель (Сталин). Об имитаторах и продолжателе разговор впереди. Пока же попробуем понять, почему Петру удалось то, что его предшественникам было не под силу.
В общем виде ответ ясен: он сумел обеспечить оснащение российской государственности чужими средствами. Но такой ответ вызывает лишь новый вопрос о том, почему удалось их заимствование, для которого, повторим, необходимо было множество людей, готовых и способных заимствованное освоить, для чего в свою очередь, им предстояло измениться, обрести иное, чем прежде культурное качество.
Да, изменяться их принуждал царь-реформатор. Но попробуем представить на месте Петра кого-нибудь из его предшественников. Сумели бы они, оставаясь такими, какими были, осуществить сделанное Петром? Вряд ли – они просто не знали бы, к чему принуждать. Петр знал, потому что прежде чем менять других и изменил самого себя. Авторитарно-утилитарный идеал был и его собственным идеалом, причем не только в авторитарной, но и в утилитарной своей составляющей. Петр стал как бы его персонифицированным воплощением. Но именно поэтому он осознавал себя не просто царем, но царем-вождем, царем-учителем, царем-образцом для своих подданных.
Мы говорили, что государственный утилитаризм Петра означал превращение всего населения страны в средство для осуществления провозглашенных им целей. Но если «царь – помазанник Божий взял в руки рубанок»51, то это означало, что он и себя воспринимал не только как царя, но и как строителя, вместе со всеми остальными служащего всего лишь инструментом для решения поставленных задач. Прежние цари символически и реально отделяли себя от простых смертных; Петр символически и реально сближался с ними. Указывая другим новые перспективы, он возвышал их деятельность собственным участием в ней, придавал ей идеальное измерение. «Видишь, – говорил он одному из своих молодых сподвижников, – я и царь, да у меня на руках мозоли; и все от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству»52.
Таким образом, идеология «беззаветного служения» не отменялась, а несколько видоизменялась, распространяясь теперь не только на подданных, но и на государя. Все должны были служить ему в соответствии с предписаниями исходящих от него законов, причем, как и прежде, безо всяких контрактов («заветов»). Однако речь шла о служении не правителю лично, а олицетворяемому им государству, которому вместе с подданными служил и он сам – тоже без каких-либо «заветов». От остальных царь отличался лишь
51 Давыдов А. Духовной жаждою томим: А.С. Пушкин и становление «серединной культуры» в России. Новосибирск, 2001. С. 65.
52 Петр Великий: Pro et contra. С. 22.
тем, что о государстве и его пользе радел не по чужой, а по собственной воле, но при этом хотел, чтобы его воля стала их собственной («показать вам пример»). Однако он отличался от них и тем, что определял, в чем именно заключается государственная польза и какими средствами нужно овладеть, дабы ее обеспечить.
Такого царя, как Петр, на Руси не было ни до, ни после него. Но и исторических задач, которые он решал, никому решать не приходилось. Ему, повторим, предстояло оснастить государственность чужими средствами в условиях, когда в стране почти не было предрасположенных к их освоению людей. Для того чтобы заимствовать иноземные «хитрости», подданные Петра должны были сначала стать другими. Но чтобы стать другими, надо было начать заимствовать. Для этого мало было пригласить в большом количестве учителей-иностранцев и заставить у них обучаться – нужно было знать, кого именно приглашать, и иметь возможность проверять, то ли они делают, что необходимо. Мало было посылать своих соотечественников учиться за границу; нужно было понимать, чему они там научились и насколько приложимы их знания к конкретным российским обстоятельствам. Иными словами, чтобы сделать страну другой, в ней должен был появиться правитель, который стал другим сам.
Историки до сих пор спорят о том, целесообразна ли была осуществленная Петром форсированная революционная модернизация или можно было то же самое сделать постепенно, продолжая начавшуюся в допетровский период «органическую» европеизацию. Мы не намерены включаться в этот спор. Хотим лишь сказать, что экстенсивная революционная модернизация, проведенная Петром, требовала от правителя соответствующих качеств. Она требовала от него предварительного освоения того, что он хотел перенести из Европы в Россию, требовала компетентности. Только с этой точки зрения и интересует нас личность преобразователя: она в данном случае неотделима от проводившихся им реформ, являясь важнейшей их компонентой. Авторитарно-утилитарный идеал Петра мог принудительно внедряться в русскую жизнь лишь постольку, поскольку был личным идеалом царя, ориентиром его собственной Деятельности.
Если верить летописцам, крестивший Русь князь Владимир не только предварительно сам принял новую веру, но и стал воплощением христианского благочестия, резко контрастировавшего с его прежней языческой распущенностью. В этом отношении Петр I не был последователем киевского князя. Но свою европеизацию страны он тоже начал с того, что сам стал европейцем – в том диапазоне, в каком это было ему доступно и в каком он считал это необходимым для реализации своих целей.
Главная цель изначально была той же, что и у предшественников – ликвидация военно-технологического отставания от Запада. Однако, в отличие от них, Петр понял: чтобы возглавить гонку за Западом, необходимо самому овладеть западными «хитростями». Но целенаправленное овладение ими не могло не сопровождаться более глубоким, чем у предшественников, погружением в европейскую культуру и внутренним освобождением от культуры старомосковской.
Полуторагодичное путешествие Петра по Европе (1697-1698) было событием, для послемонгольской Руси беспрецедентным – до этого московские правители из страны не выезжали вообще. Поездка стала для него «последним актом самообразования»53, начавшегося в Немецкой слободе. Он поехал в Европу ощущая себя учеником, а вернулся в Россию, чувствуя себя по отношению к своим подданным учителем, овладевшим дюжиной профессий – от простых до самых сложных – и способным не только обозначить общее направление реформ, но и лично контролировать их ход в самых разных областях. Последнюю способность он считал для царя обязательной. Если не знаешь дел, которыми заняты подданные, писал он в одном из своих писем сыну Алексею, то «како повелевать оными можешь и как доброму добро воздать и нерадивого наказать, не зная силы их в деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть»54.
Русский самодержец Петр I сделал то, что не удалось прежним царям, потому что в его лице выросшая из русского мира неограниченная самодержавная власть ворвалась в него как бы заново, т.е. совсем в ином, чем прежде, качестве. Она ворвалась в него как представитель другой, европейской культуры, обладавший при этом необходимыми полномочиями для ее принудительного насаждения.
Будучи самодержцем, царь мог послать любого человека, не спрашивая его согласия, учиться за границу, а как представитель европейской культуры мог проверить, чему там посланный научился, что нередко и делал.
53 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 337.
54 Петр Великий: Pro et contra. С. 38.
Будучи самодержцем, он мог предписывать, какие иностранные книги переводить, а как представитель европейской культуры мог со знанием дела отбирать то, что перевода достойно.
Будучи самодержцем, он был вправе издавать указы, ломавшие привычное существование многих людей, а как представитель европейской культуры мог в деталях и подробностях рисовать предписываемый им образ жизни и объяснять его преимущества, чем и занимался на протяжении всего своего царствования.
Иными словами, Петр преуспел именно потому, что действовал, в отличие от прежних царей, без оглядки на московскую старину и вопреки ей, а также потому, что сам стал персонифицированной альтернативой прежнему укладу.
Возникает, однако, естественный вопрос о том, каким образом удалось ему соединить столь радикальную ломку культурной традиции с сохранением легитимности своей власти. Как самодержец, он мог опираться на «отцовскую» матрицу, но она предполагала воспроизведение привычного жизненного уклада, а не его революционное преобразование. Он распространил старомосковскую идеологию «беззаветного служения» на самого себя, но само по себе это ничего не решало. Рубанок в руках царя не мог стать дополнительным легитимирующим фактором, если людям не предъявлялся бы значимый для них результат, ради которого царь решил играть роль плотника.
Петру такой результат предъявить удалось. И он воспринимался настолько существенным, что преемники Петра, даже отступая от его курса, важнейшим источником легитимации своей власти считали позиционирование себя как его учеников и продолжателей его дела.
11.5. Реформы и виктории.
От «Третьего Рима» к первому
Мы уже говорили о том, что этим результатом стали военные победы Петра. Их роль в легитимации власти он осознал уже в первые годы своего царствования, которое началось с попытки отвоевать у Турции крепость Азов (1695). Попытка закончилась неудачей, как и предыдущие походы в Крым при Софье Алексеевне. После этого Петр инициировал форсированное строительство флота, и в следующем году турецкая крепость была взята. Победа под Азовом, ставшая «за долгое время первой военной победой России», развязала царю руки, он получил возможность требовать выделения новых средств на военные нужды, говоря со своими подданными «с позиции победителя»55. О том, сколь большое значение придавал Петр этому успеху, свидетельствует грандиозное празднество в честь русской армии, устроенное им в Москве по возвращении победителей из похода.
Однако победа над турками мало что давала для легитимации европеизации, которую царь начал целенаправленно осуществлять сразу же после своей длительной зарубежной поездки, устроив демонстративное отрезание боярских бород и окорачивание кафтанов. Подобно тому, как князю Владимиру для заимствования греческой веры нужна была военная победа над греками, так и Петру для пересадки на русскую почву европейских обычаев необходима была, пользуясь входившим в моду языком той эпохи, виктория на европейском направлении. Между тем поначалу дела там обстояли не лучше, чем во времена Ивана Грозного, – объявленная Петром война Швеции (1700) обернулась сокрушительным поражением под Нарвой, сделавшим русского царя и его армию предметом унизительных насмешек в других странах.
При таких обстоятельствах принудительная европеизация, сочетавшаяся с резким увеличением налогового бремени и ужесточением служебных повинностей не могла не вызывать отторжения и неприятия во всех слоях населения. Дружба царя с иностранцами и отдаваемое им предпочтение перед русскими, что выражалось в более высокой оплате приглашенных специалистов, выглядели разрушением устоев богоизбранного «Третьего Рима». Сам же Петр многими воспринимался антихристом; ходили даже слухи, что он – сын немца, которым подменили родившуюся у жены Алексея Михайловича дочь. Не обошлось и без открытых народных выступлений: догосударственная казачье-вечевая стихия дала о себе знать в Астрахани (1705), где восставшие казаки действовали совместно со стрельцами, и на Дону (1707), где восстание возглавил казачий атаман Кондратий Булавин. Причем, если в XVII веке стихия народного протеста была направлена против бояр и воевод, то теперь к ним добавились «немцы», от которых восставшие хотели защитить православную веру.
Это были первые низовые выступления против вестернизи-ровавшейся отечественной государственности, первые открытые
55 Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. С. 63.
проявления нового социокультурного раскола, наметившегося еще в начале XVII века, но отчетливые формы обретшего лишь при Петре. Жесткие меры, предпринятые для подавления восстаний и массовые устрашающие казни их участников сделали свое дело – раскол в очередной раз с политической поверхности был устранен. Но расколотый социум замиряли не только репрессиями. Он замирялся и новой государственной идентичностью, возникавшей поверх прежней православной, – идентичностью военно-державной. Ее истоки – в победе над шведами под Полтавой, коренным образом изменившей статус России на международной арене, сделавшей ее одним из влиятельнейших игроков в тогдашней Европе.
Полтава стала для царя Петра примерно тем же, чем Корсунь для князя Владимира. Благодаря громкой военной победе отторгавшаяся до того европеизация получала легитимное измерение: выяснилось, что заимствование чужого не только не ослабляет богоизбранный православный народ, но и делает его сильнее тех, у кого он заимствует. Владимир завоевал чужую веру и начал превращать ее в веру всех населявших Русь племен; Петр чужие средства и обычаи завоевал как бы задним числом, после их предварительного освоения. Но тот факт, что военный успех был достигнут, открывал перспективу продолжения европеизации, не опасаясь сопротивления со стороны ее посрамленных противников. Вот как выглядит эта взаимосвязь побед Петра и его реформ в изложении известного отечественного историка. Надеемся, что присущий ему романтический пафос не помешает современному читателю в восприятии его строгой и точной аналитической мысли: «… Война в описываемое время не имела тесного значения только военной школы для народа: война ‹…› служит для преобразователя могущественным средством вести преобразования, вести эту школу в самых широких размерах без принижения народного духа, которое было так естественно в страдательном положении русских людей относительно чужих образованнейших народов в положении учеников пред учителями. „Царь уверовал в немцев, сложился с ними”, – говорят противники преобразования ‹…› Народ в тяжкой работе, засажен в школу с иностранными учителями, которых преимущества должен признать, следовательно, необходимо принижается пред ними. Что ж даст ему отраду, что заставит его поднять голову и с уважением посмотреть на самого себя? Успехи мирного труда? Но они разбросаны, не видны, далеко не у всех перед глазами, не производят сильного впечатления. ‹…› Не то война, военные успехи: одержана победа – общенародное торжество, все это знают, все поднимают головы, не войско только победило, целый народ победил, вот до чего мы дошли в такое короткое время, благодаря тому, что трудимся, учимся! И ученик, сознавая все яснее и яснее необходимость учения, не принижен пред учителем, он ровен с ним, он выше его, учение становится делом легким, делом силы и свободы; народный дух, народное самоуважение спасены в самое опасное для них время – время народного ученичества у других народов»56.
Насчет «народного ученичества» – это, конечно, преувеличение. Школу европеизации проходило незначительное меньшинство населения, между тем как преобладающая его часть по-прежнему оставалась в архаичном состоянии. Поэтому само по себе ученичество не только не объединяло народ, но, как мы уже неоднократно отмечали, еще больше его раскалывало. Но то, что военные победы консолидировали общество поверх раскола, кажется нам верным.
Верно, на наш взгляд, и то, что они были при Петре не только целью, но и средством, обеспечивавшим легитимизацию технологических и культурных заимствований. Можно сказать, что именно в военных победах авторитарно-утилитарный идеал получал одновременно и свое воплощение, и право оставаться идеалом, ориентирующим на продолжение преобразований. Можно сказать также, что только благодаря таким победам двойная функция Петра – русского самодержца и представителя европейской культуры – могла быть воспринята современниками, а его образ царя-плотника, беззаветно служащего государству и его пользе, мог стать в глазах многих из них привлекательным.
Но новая военно-державная идентичность, начавшая формироваться после Полтавской победы, сглаживала не только узаконенный социокультурный раскол между европеизировавшейся элитой и неевропеизированным большинством населения. Она сглаживала – по крайней мере, была к этому призвана – и доставшийся от XVII века раскол религиозный. Естественно, что такая идентичность складывалась не стихийно, она закреплялась с помощью новой символики и ритуалов, отличных от тех, что имели место в допетровские времена. Появившись еще до Полтавы, после первой же военной победы Петра под Азовом, они символизировали уже не
56 Соловьев С.М. Указ.соч.С.500-501.
святость богоизбранного «Третьего Рима», а наследуемую Россией государственную мощь Рима первого, олицетворявшуюся армией и императорами-полководцами.
Этот революционный поворот, выразившийся в строительстве триумфальных арок и торжественных въездах Петра и его войска в столицу после очередной победы, в уподоблении русского царя римским императорам Августу и Цезарю и римским богам и героям (Марсу, Геркулесу), детально описан и содержательно проанализирован историками культуры; к их трудам мы и отсылаем читателя, желающего иметь более полное представление о петровской эпохе57. Мы же остановимся лишь на некоторых сюжетах, имеющих непосредственное отношение к вопросу о новом способе легитимации власти, привнесенном в русскую политическую жизнь Петром.
Главная проблема, с которой он столкнулся, заключалась в том, что царь должен был осуществлять преобразования, разрушавшие фундаментальные основания его сакральности.и при этом оставаться сакральной фигурой в глазах подданных. Военные победы, особенно Полтавская, открывали возможность ее решения. Они позволяли представить царя как героя-воина, обязанного своими достижениями не традиции и преемственной связи с ней, а особым яичным качествам и достоинствам, ставящим его выше традиции и приверженных ей простых смертных, позволяющим героически порывать с ней и столь же героически начинать историю как бы заново.
Отечественная державность и военно-державная идентичность выросли не из традиции, а именно благодаря разрыву с ней, благодаря замене культа старины культом новизны. В театральных представлениях петровского периода «подчеркивалась разница между прошедшими временами (прежде), когда Россия была в бесчестии, рабстве и темноте, и новыми (ныне), когда она прославлена»58. в данном отношении Максимилиан Волошин прав: «Великий Петр был первый большевик». Нынешние наши православные державники, позиционирующие себя как традиционалисты и консерваторы, не отдают себе, похоже, отчета в том, что военно-державная идентичность вводилась и воспроизводилась на Руси революционно
57 См.: Живов В.М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. III. (XVII – начало XVIII века); Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра I // Художественный язык Средневековья. М., 1982; Уортман Р. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002.
58 Уортман Р. Указ. соч. С. 76.
и что наиболее полно и последовательно она воплощалась в деятельности Петра I и Сталина, у которых с православием и русской церковью отношения были не самыми дружескими. Попытки же соединить православную идентичность с державной в консервативной идеологии (например, Николаем I) нет оснований считать успешными именно с точки зрения сохранения и упрочения державности.
Нельзя сказать, что Петр отбрасывал традиции вообще. Но если он к ним и обращался, то интерпретировал их совсем не так, как его предшественники. Едва ли не самое выразительное тому свидетельство – перенесение в Санкт-Петербург из Владимира останков Александра Невского, объявленного покровителем новой столицы. Первый победитель шведов был канонизирован русской церковью еще в XVI веке, в год воцарения Ивана Грозного. Но теперь он призван был олицетворять не столько православную святость, сколько полководческую доблесть: «военным заслугам князя придавалось большее значение, чем его благочестию»59. И изображаться он отныне должен был не в монашеском, а в княжеском одеянии. Так традиции – в полном соответствии с авторитарно-утилитарным идеалом – превращались в средство, легитимировавшее отказ от них, разрыв с ними.
Мы не знаем, играл ли в этой новой интерпретации образа Александра Невского какую-то роль тот факт, что князь представлял на Руси внешнюю, монгольскую силу и правил от ее имени. Но у историков не вызывает сомнений: сакрализация Петра основывалась именно на том, что царь, одевший иностранное платье и взявший на вооружение римскую языческую символику (а она была заимствована у перенявших ее еще раньше европейских монархов), вместе со своей новой элитой выступал как «воплощение чужеземной силы»60 и в этом смысле – как герой-завоеватель по отношению к собственному народу. Поэтому нам представляется вполне допустимым рассматривать Петра не только на фоне той традиции властвования, которую он разрушал, но и в контексте других, более давних отечественных традиций.
Завоевателями славянских племен были первые Рюриковичи: их легитимность определялась тем, что они воплощали чужую силу, превышавшую силу этих племен. Представителями завоевателей были московские князья: их легитимность тоже была производной
59 Там же. С. 45.
60 Там же. С. 81.
от стоявшей над ними и за ними чужой силы. В отличие от первых, Петр не приходил в страну извне, а в отличие от вторых, никакой внешней силы не представлял и ее ставленником не являлся. Его легитимность – это легитимность своего царя, превратившегося в чужеземца и завоевавшего страну заново. Но с киевскими и московскими Рюриковичами его роднило то, что он был персонификатором чужого начала, продемонстрировавшего в его лице и в лице созданной им новой элиты свои преимущества.
Рубанок, конечно, сближал царя с подданными. Но только том отношении, что они вместе участвовали в деятельности, обусловленной государственной пользой. Как вождь, владевший недоступным им иноземным знанием и умевший воплощать его в победы над иноземцами, Петр отделился от населения еще больше, чем прежние цари. Сакрализация самодержца, поколебленная обрывом старой династии, смутой и церковным расколом, была восстановлена посредством изменения способа сакрализации61.
Петр оставил своим преемникам страну, существенно отличавшуюся от той, которую он принял. Им досталась сильная военная империя, а также титул императоров, которым после него будут именоваться все российские самодержцы. Присвоенное ему звание «отца отечества» он им, однако, передать не мог, потому что оно не просто воспроизводило прежнюю патриархальную модель властвования, передаваемую по наследству, но – в соответствии с древнеримской традицией – являлось наградой за индивидуальные заслуги. Звание это фиксировало роль Петра как отца-основателя новой государственности и одновременно его вклад в ее упрочение и придание ей державного статуса. Но преемникам Петра отныне придется соизмерять себя с ним и его идеалом государственной пользы. Править на старомосковский манер после Петра будет уже невозможно.
Другое дело, что толкование самой государственной пользы им придется подвергнуть со временем существенной коррекции. Для Петра она всецело определялась его миссией моносубъекта-милитаризатора. Но такая миссия, будучи исполненной, не передается преемникам именно потому, что она уже исполнена. Историческая роль
61 А.М. Панченко для фиксации этого способа предложил термин «светская святость» (Панченко А.М. Церковная реформа и культура петровской эпохи // XVIII век. СПб., 1991. Сб. 17. С. 11). Не отрицая его правомерности, хотим еще раз подчеркнуть, что возникновение этого «нового для русской культуры феномена» (Там же) было обусловлено описанными выше процессами.
такого моносубъекта разовая, по своей природе неповторимая Невоспроизводимой была и милитаристская государственность, созданная Петром. Точнее – невоспроизводимой на созданной им основе. Второе (большевистское) издание милитаристской модели будет связано с разрушением этой основы.
Петровская государственность явилась продуктом войны и осуществленной под влиянием ее нужд экстенсивной модернизации. Войны продолжались на всем протяжении царствования Петра. Его преемникам приходилось править в более спокойные времена. И поэтому перед ними с неизбежностью вставал вопрос о том, насколько созданная с таким трудом милитаристская государственность, подчинявшая повседневность армейскому распорядку, совместима с мирной жизнью.
Глава 12 Авторитарно-либеральный идеал
Государственность, созданная Петром, к условиям мира была не приспособлена, и его ближайшие преемники это хорошо понимали. Преобразователь оставил после себя военную державу с высоким международным статусом, который преемники старались сохранить, – в данном отношении их политика была предопределена, сдавать завоеванные позиции они себе позволить не могли. Но им предстояло осуществлять державную политику в разоренной петровскими войнами стране, мобилизационные ресурсы которой были исчерпаны. Речь шла об адаптации милитаристской государственности Петра к совершенно иным, чем при его жизни, обстоятельствам. Но такая адаптация неизбежно должна была сопровождаться демилитаризацией самой государственности.
Манифест о вольности дворянства, изданный Петром III (1762) и освобождавший служилых людей от обязательной государственной службы, некоторые историки считают «своего рода революцией, переворотом во всей системе социальных отношений»62. С этим можно согласиться: Манифест Петра III означал разрыв с многовековой традицией, складывавшейся на Руси на всем протяжении послемонгольского периода. Но отсюда следует лишь то, что его дед Петр I, завершив долгий исторический цикл милитаризации государства и придав ей тотальный характер, одновременно ввел страну в новый длинный цикл, в котором основной вектор движения будет прямо противоположным тому, что имел место в допетровскую и петровскую эпохи.
Создание постоянной армии и одержанные ею победы, сам факт, что военная конкурентоспособность по отношению к Европе была благодаря этому обеспечена, кардинально изменили ситуацию. Теперь государство могло без большого ущерба для своих интересов приступить к раскрепощению дворянского служилого слоя. Более того, оно не могло его не раскрепощать. «Революция»
62 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века: Опыт постного анализа. М. 2001. С. 311.
Петра III была подготовлена почти сорокалетней исторической эволюцией, в ходе которой самодержавная власть постепенно свыкалась с мыслью: без учета интересов дворянства и его стремления ослабить цепи государственных повинностей оно не может служить прочной и надежной опорой трона.
Трансформация милитаристской государственности предопределялась уже тем, что преемники Петра I попали в зависимость от главного ее звена, а именно – от расположенных в столице гвардейских полков, которые формировались в основном из дворян. Почти все российские императоры и императрицы XVIII столетия получали трон или при непосредственной поддержке гвардии, или в результате совершенных ею дворцовых переворотов и отстранения от власти правителя, неугодного ей и поддерживаемым ею околовластным группам. При таких обстоятельствах начавшееся в послепетровский период раскрепощение служилого «сословия» было одновременно проявлением и зависимости самодержцев от гвардии, и желания ослабить эту зависимость, обеспечив более широкую опору в дворянстве в целом.
Уже через несколько лет после смерти Петра I, при Анне Иоанновне, срок обязательной дворянской службы был сокращен с пожизненной до 25 лет, а также учрежден Кадетский корпус, из которого дети дворян выходили офицерами, что избавляло их от предписанной Петром I необходимости начинать службу рядовыми солдатами. Кроме того, дворянским семьям дозволялось одного из сыновей, по выбору отца, на службу не посылать и оставлять в поместье для ведения хозяйства. И это – лишь некоторые из уступок, сделанных дворянам в первые послепетровские десятилетия.
Но послабления им шли не только по линии смягчения служебных повинностей. Их раскрепощение, завершившееся Манифестом Петра III, осуществлялось параллельно с продолжавшимся закрепощением крестьян, фактически превращавшихся в собственность помещиков. Юридически это не фиксировалось, формально крестьяне считались прикрепленными к земле, а не к ее владельцу. Но дополнительные ограничения, накладывавшиеся в послепетровский период на крепостных, в сочетании с дополнительными льготами, которыми наделялись крепостники, постепенно изменяли характер отношений в российской деревне.
В течение нескольких лет после смерти Петра I крестьянам было запрещено заниматься отхожими промыслами без разрешения помещика и добровольно поступать на военную службу, что при Петре являлось законным способом освобождения от крепостной зависимости. Лишены они были и целого ряда других возможностей. И без того размытая грань между прикреплением к земле и прикреплением к помещику – достаточно напомнить о практике продажи крестьян без земли, юридически не санкционированной, но и не запрещенной – размывалась еще больше. Дворяне получили право переселять крепостных с места на место, а при Елизавете Петровне – даже ссылать их в Сибирь (1760). Милитаристская государственность Петра I предполагала государственное закрепощение всех слоев населения, принудительное подчинение их частных интересов интересу общему. Начавшаяся при его преемниках демилитаризация происходила посредством сначала частичной, а потом и полной реабилитации частных интересов дворян за счет еще большего ущемления интересов крестьян.
Это приспосабливание обновленной Петром I государственности к новым условиям и ее трансформация не затрагивали, однако, ее фундаментальных основ. Продолжалась и углублялась вестернизация элиты, оставалось обязательным получение дворянскими детьми образования, а главное, повторим, не подвергалась сомнению приоритетность сохранения военнодержавного статуса России, обретенного при Петре. Поэтому все преемники преобразователя объявляли себя его последователями или, если власть захватывалась незаконно, восстановителями заложенных им традиций – примерно так же, как советские руководители провозглашали себя хранителями или восстановителями «ленинских принципов». Но сохранение державного статуса и державной идентичности уже впервые послепетровские десятилетия стало сложнейшей проблемой, которую никогда и никому еще на Руси решать не приходилось. Послабления помещикам за счет крестьян сами по себе этому способствовать не могли.
Военно-державный статус и военно-державная идентичность оказались в трудноразрешимом конфликте с мирной жизнью, которая после одержанных Россией побед и в отсутствие серьезных внешних угроз стала восприниматься как самоценная. Ломоносов, воспевая «возлюбленную тишину» и императрицу Елизавету как ее воплощение, выразил тем самым и преобладавшее настроение первых послепетровских десятилетий:
Мне полно тех побед, – сказала, – Для коих крови льется ток, Я Россов счастьем услаждаюсь, Я их спокойством не меняюсь На целый запад и восток 63.
Страна не отказывалась от оставленного Петром державного наследства, но хотела использовать его для обустройства мирной повседневности, что было равнозначно ее демилитаризации. Идеалом становилась жизнь в проложенном Петром историческом русле, но без навязывавшейся им закрепостительной воли. Именно этим некоторые историки склонны объяснять долгое, растянувщееся почти на весь XVIII век, доминирование на русском престоле женщин, которые сознательно продвигались к власти опасавшимися повторения петровских крайностей мужчинами. Потому что «только женщины могли выдавать себя за защитниц петровского наследия, не угрожая возвратом к его карающему неистовству»64.
Но этот переход от войны к миру именно потому и был проблемой, что представлял собой переход к мирной державности, требовавшей сохранения созданной Петром огромной дорогостоящей армии и поддержания ее боеспособности. Неудивительно, что данный вопрос являлся едва ли не основным среди волновавших власть вопросов в послепетровские десятилетия. Испытывая нараставшее давление со стороны дворянства и вынужденные идти ему на уступки, правители не могли не считаться и с тем, что главным источником финансирования войска оставались крестьянские подати. А их после разоривших деревню петровских поборов собирать было все труднее. Отсюда и название одного из первых правительственных документов, составленных почти сразу после смерти Петра: «О содержании в нынешнее мирное время армии, и каким образом крестьян в лучшее состояние привесть».
Мы не будем останавливаться на тех мерах, с помощью которых преемники Петра пытались решать эту проблему, балансируя между интересами дворян, крестьян и самой армии. Достаточно отметить, что удовлетворительного решения им найти не удалось и что общий вектор исторической эволюции оставался одним и тем же: государственность поддерживалась за счет раскрепощения
63 Ломоносов М.Б. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1959. Т. 8. С.198.
64 Уортман Р. Указ. соч. С. 124.
дворянства и закрепощения крестьянства. Но это значит, что идеал мирной державности консолидирующим не становился. Поэтому он – в лице властвовавших групп – парадоксальным образом стал искать воплощения в войнах.
Начатая Анной Иоанновной война с Турцией (1735-1739) вполне вписывалась в стратегические интересы России на юге, которые по-прежнему заключались в завоевании Крыма, откуда продолжались татарские набеги, и в выходе к Черному морю. Но помимо этого приближенные императрицы планировали захват Константинополя и ее торжественную коронацию в нем. Идея «Третьего Рима», во времена Петра отодвинутая на идеологическую периферию, возрождалась и становилась политически востребованной. Однако эти амбиции плохо сочетались с реальным соотношением сил в Европе того времени. Несмотря на ряд громких побед русских войск, столкновение с Турцией, сопровождавшееся для них колоссальными потерями, не принесло России сколько-нибудь существенных территориальных приобретений. Но в данном случае вступление в войну диктовалось и иными соображениями: она велась ради поддержания и укрепления восходящего к Петру военного престижа страны в условиях, когда огромная армия не находила себе применения, когда дворяне не получили еще всего, к чему стремились, а крестьяне потеряли кое-что из того немногого, что имели. «Сами современники, близкие к делам, свидетельствуют, что в Петербурге желали легкой войны для того, чтобы армию и всю нацию занять чем-нибудь и доказать, что желают следовать правилам Петра»65.
Вступила в Семилетнюю войну (1756-1763),начавшуюся в Европе, и Елизавета Петровна – надежды на нее Ломоносова и всех тех, чьи настроения он выражал, явно не оправдались. То был новый для России тип войны, диктовавшейся не традиционными для нее заботами о сохранении и расширении территории, а стремлением к подтверждению своего державного статуса. Если какие-то территориальные притязания у России и были, хотя достоверно о них не известно, то мотивацию ее вступления в войну они не определяли. Результатом стало первое в истории вхождение русских войск в Берлин, разрушившее планы Пруссии на гегемонию в Европе, и – очередное внутреннее разорение страны: армии нечем было платить жалованье, пушки приходилось использовать не только по
65 Платное С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 418.
назначению, но и как металл для литья медных монет, а императрица изъявляла даже готовность распродать, если понадобится, свои бриллианты и туалеты.
Петр III, получивший трон после смерти Елизаветы (1761), Россию из этой войны тотчас же вывел, но вскоре был свергнут дворянами-гвардейцами несмотря на дарованную им вольность. Среди причин переворота историки одной из главных называют решение Петра III начать новую войну – на сей раз с Данией66. Показательно, что в Манифесте Екатерины II, изданном после захвата власти, необходимость смещения ее предшественника объяснялась тем, что он вел кровопролитные войны. Фактически это не соответствовало действительности, поскольку военные действия Петр III начать не успел. Но само такое несоответствие весьма существенно для понимания доминировавших в стране настроений.
Указом о дворянской вольности авторитарно-утилитарный идеал Петра I, который его преемники пытались осторожно сочетать с отступлениями от него, и производная от этого идеала тотальная милитаризация повседневности были оставлены в прошлом. Раскрепощенное дворянство переставало быть только средством в руках государства, оно становилось сословием без кавычек, наделенным особыми правами. Новый идеал, получивший оформление в идеологии Екатерины II, обусловливался не только особенностями ее личности, но был и реакцией на новую ситуацию.
12.1. Демилитаризация как историческая проблема
Мы называем идеал Екатерины авторитарно-либеральным, понимая, что и в данном случае можем столкнуться с возражением: неправомерно, мол, использовать термины, возникшие в другое время и в ином культурном контексте, для описания российских реалий XVIII века. Могут сказать также, что при таком терминологическом насилии над ними индивидуальное своеобразие исторического пути России не только не схватывается, но еще больше затемняется. Поэтому сразу же объяснимся.
Строго говоря, индивидуальные феномены на языке науки невозможно описать вообще. Потому что наука имеет дело с классами, совокупностями явлений, а не с отдельными явлениями. Можно попробовать, конечно, изобрести особый язык для описания отечественного «особого пути» (недостатка в призывах к его созданию
66 Покровский М.Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 50.
не наблюдается), но то будет, в лучшем случае, язык метафор, а не понятий. В свою очередь, метафоры эти мало что дадут для решения той самой задачи, ради решения которой они изобретаются: ведь особостъ языка уже сама по себе исключает возможность сравнения фиксируемого им феномена с другими, которые описываются в понятиях западной науки.
Мы отдаем себе отчет в том, что, используя, скажем, термин «самодержавие», за границы этой науки себя выводим. Оставаясь в ее пределах, надо было бы говорить о деспотии, что вписало бы отечественную политическую организацию в широкий класс сходных явлений, и о специфических особенностях данной организации, что позволило бы зафиксировать ее своеобразие. Мы этого не сделали, потому что над нами тоже довлеет культурная традиция. Но мы понимаем, что тем самым вывели себя из понятийного пространства политической науки.
Дело, однако, не только в традиции. Дело и в том, что, оставаясь в этом пространстве, отечественный исторический опыт охарактеризовать не всегда просто, особенно если речь идет о периодах, когда Россия начала осваивать достижения европейской культуры. Если применительно к способу правления Петра I понятие деспотии уместно, то уже государственность Екатерины II слишком разительно от петровской отличается, чтобы называть ее так же. И это относится не только к «деспотии». Можно, к примеру, использовать по отношению к эпохе Петра I термин «абсолютизм», а по отношению к временам Екатерины II термин «просвещенный абсолютизм», что часто и делается. Но при этом за скобки оказывается вынесенным то, что при европейском абсолютизме, просвещенном и не очень, развивались капитализм и буржуазия, а при отечественном этого не происходило. Можно, разумеется, в таких случаях воспользоваться спасительными уточняющими прилагательными («русский абсолютизм»), но это равносильно признанию в исследовательской беспомощности.
Нам кажется, что гибридность отечественного опыта, сочетание в нем разнородных начал могут быть в первом приближении Переданы с помощью терминов западной политической науки, но – терминов-гибридов, которые и выразят сочетание в российской реальности того, что в Европе казалось несочетаемым или слабо сочетаемым. Авторитарно-утилитарный идеал Петра I – это гибрид русской традиции и заимствованного европейского опыта. Авторитарно-либеральный идеал Екатерины II по сути представлял собой то же самое, но формировался в другую эпоху и под воздействием других вызовов. Тот и другой фиксируют особое место России в общеевропейском пространстве; смена одного другим – ее эволюцию времени.
Далеко не все историки склонны признавать за Екатериной роль основоположницы русской либеральной традиции в государственной политике. За ней числятся и доведенное до крайних пределов крепостничество, и ликвидация автономии Украины, и участие в разделах Польши, лишивших последнюю государственности. Но факт и то, что во времена Екатерины в русскую жизнь вошли краеугольные для либерализма понятия о свободе и праве. Поэтому не лишена оснований точка зрения тех исследователей, которые обнаруживают в деятельности императрицы либеральные тенденции67. Дело, однако, в том, что ее шаги в этом направлении, вполне соответствуя личным убеждениям Екатерины, сформировавшимся под воздействием идей европейского Просвещения, были одновременно и вынужденными.
После указа Петра III о вольности дворянства возвращение к прежней практике его закрепощения, в том числе и в смягченных преемниками Петра I формах, было невозможно, даже если бы Екатерина того хотела. Лишение дворян дарованной им свободы означало бы утрату троном его главной социальной опоры. Из этой исторической точки двигаться можно было только вперед. Но такого рода движение наталкивалось на проблемы, беспрецедентные по своей новизне и сложности.
Речь шла о ревизии базовых принципов российской милитаристской государственности, которая на протяжении всего послемонгольского периода развивалась посредством нараставшего закрепощения служилого сословия, достигшего своего пика при Петре I. Речь шла, говоря иначе, о том, чтобы сохранить и укрепить завоеванные реформатором державные позиции России – попятное движение в данном отношении было бы равносильно политическому самоубийству, – одновременно реформируя созданную им милитаристскую государственную систему. Не удивительно, что между указом Петра III и жалованной грамотой дворянству Екатерины II (1785) прошло почти четверть века. Императрица не отменяла этот указ. Но она его долго не подтверждала.
67 См.: Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 468-472; Леонтович В.В. История либерализма в России, 1762-1914. М., 1995. С. 27-51; Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. С. 468-469.
Дарованное дворянам право не служить, дополнявшееся правом свободного выезда за границу и службы другим государствам, в каком-то смысле было возвращением к боярским вольностям домонгольской эпохи. То, что со времен Ивана III именовалось изменой, отныне таковой не считалось, репрессированные частные интересы реабилитировались. С той, впрочем, существенной разницей, что теперь это происходило на основе закона, а не обычая, к было в домонгольские и монгольские времена, причем в условиях, когда благополучие дворян обеспечивалось трудом крепостного крестьянства. Но государство не могло обойтись без их службы. Добровольно же они на нее не рвались, о чем было известно еще со времен Анны Иоанновны: сокращение срока службы до 25 лет привело к массовым отставкам тех, кто его уже отслужил. Реакция на указ Петра III была аналогичной.
Беспрецедентность проблемы, стоявшей перед Екатериной, заключалась в том, что ей впервые на Руси предстояло соединить идею «общего блага» с узаконенной свободой целого сословия или, что то же самое, соединить общий интерес с обретшим легитимность интересом частным. До этого, напомним, частное принудительно подчинялось общему, что идеологически оформлялось как «беззаветное служение» сакральному государю, стоящему над сакральным государством, либо сакральному государству, стоящему над сакральным государем. Авторитарно-либеральный идеал Екатерины был настолько же плодом ее интеллектуальных штудий, насколько и ответом на новый исторический вызов, с которым ей приходилось соизмерять прочитанное в иностранных книгах. О том, как сделать, чтобы русские дворяне, получившие право не служить государству, ему бы все-таки служили, в книгах написано не было.
Ничего не говорилось в них и о том, как подступиться к другой, еще более фундаментальной проблеме, возникшей после указа Петра III. Ведь дворянский вопрос не был в России автономным, он был сплетен с вопросом крестьянским. Крепостное право и обязательная служба помещиков представляли собой две опоры государственности, ее несущие конструкции, неразрывно друг с другом связанные. Поэтому ни одну из них нельзя было устранить, не подрывая тем самым другую. «С освобождением дворянства от государственных повинностей, по логике истории, с крестьян должна была быть снята их частная зависимость, потому что исторически эта зависимость была обусловлена дворянскими повинностями:
крестьянин должен был служить дворянину, чтобы дворянин мог исправно служить государству»68.
Реабилитация частных интересов дворянина при сохранении крестьянина в прежнем состоянии взрывала и без того хрупкий базовый общенациональный консенсус, обнажала остававшийся непреодоленным социокультурный раскол между «верхами» и «низами», переводила его в конфликт интересов или лишала идею «общего блага» социального фундамента. Массовое вырезание дворян Пугачевым спустя десятилетие с небольшим после воцарения Екатерины станет убедительным свидетельством того, что справиться с проблемой ей не удалось. Но одновременно само появление Пугачева и небывалый размах, который приняло возглавлявшееся им восстание, обнажили сложность и новизну самой проблемы.
Решение Петром III дворянского вопроса в обход крестьянского, которое Екатерина вынуждена была признать необратимым и безальтернативным, ставило под сомнение легитимность ее власти. Дело не только в том, что императрица имела меньше прав на престол, чем любой из ее предшественников. К роду Романовых не принадлежала и Екатерина I, но она еще при жизни Петра I была коронована как императрица и представлялась преобразователем как главная его соратница во всех государственных делах. Незаконно воцарилась Елизавета, но она была дочерью Петра. Екатерина II была всего лишь женой свергнутого и умерщвленного императора, что никаких оснований для занятия его места ей не давало. И все же не только это вызвало появление на Руси новых самозванцев, присваивавших себе имя ее мужа: Пугачев в их ряду не был ни первым, ни единственным.
Многие крестьяне хорошо понимали связь между службой помещиков государству и крепостным правом. И они приписывали такое понимание Петру III, который якобы вместе с указом о вольности дворянства издал соответствующий указ об освобождении крестьян, скрытый захватившей власть Екатериной. Народная молва, подрывавшая и без того непрочную легитимность императрицы, была стихийной реакцией на изменившуюся ситуацию, на ревизию сложившихся базовых оснований российской государственности в интересах одного социального слоя без учета интересов другого.
68 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 470.
Тем не менее царствование Екатерины II оказалось одним из самых долгих, продлившись почти три с половиной десятилетия, и самых успешных, если руководствоваться державно-имперскими критериями того времени. Ей удалось осуществить колоссальное расширение территории, присоединить к России Крым, обеспечив контроль за прилегающим к нему огромным степным пространном (бывшим «диким полем»), а также – в результате разделов Польши – почти все западные и юго-западные земли бывшей Киевской Руси. Державный статус страны и ее международный вес поднялись при Екатерине высоко как никогда. Ее сановник имел все снования утверждать, что во время ее царствования ни одна пушка в Европе без дозволения России выстрелить не могла.
Понятно, что к либерализму все это отношения не имеет. Но все это не могло бы произойти при слабой государственности. Последняя же в годы екатерининского правления, несмотря на ревизию некоторых из ее исходных оснований, не только не ослабла, но и упрочилась, причем в значительной степени именно потому, что Екатерина в доступных ей границах пыталась следовать идеалу, который мы назвали авторитарно-либеральным. Речь идет о новой странице в истории России, о новой вехе на ее «особом пути», обозначившей ее ситуативные достижения, которые на несколько десятилетий отодвинут порожденные указом Петра III проблемы. Решить их Екатерине не удастся. Но ей удастся на время приспособить отечественную самодержавную государственность к дозированной свободе, которая не ограничивалась свободой дворян от государственных повинностей.
За полгода своего правления Петр III успел издать еще несколько указов, из которых Екатерина отменила лишь один – о секуляризации церковных земель, их отчуждении в пользу государства. Но через какое-то время она сделает то же самое от своего имени. Идеал «нестяжателей» спустя три столетия частично осуществится, но уже не в религиозном, а в светском государстве и при такой степени подчинения ему церкви, какой в XV веке невозможно даже было представить. Что касается еще двух указов Петра III откровенно либеральной направленности, то его преемница оставила их в силе. Одним из них упразднялась Тайная канцелярия – организация политического сыска, наводившая ужас на несколько поколений людей и создавшая в стране атмосферу всеобщего доносительства; выражение «слово и дело государево», введенное в законодательство Соборным уложением 1649 года, отныне предписывалось изъять из употребления. Другим указом объявлялось о прекращении преследований старообрядцев: тем из них, кто покинул страну, было разрешено вернуться и жить по своим обычаям и старым книгам что явилось существенным шагом в направлении веротерпимости и свободы совести.
Все это соответствовало и убеждениям Екатерины. Но ей предстояло еще соединить непривычные для Руси ростки свободы с привычным для нее самодержавным правлением, отказываться от которого императрица не намеревалась. И самое трудное, повторим, заключалось в том, чтобы соединить частные интересы раскрепощенных дворян и нераскрепощенных крестьян, а интересы тех и других – с интересом общим в условиях, когда государственное принуждение и устрашение перестали быть тотальными. Устои милитаристской государственности были подорваны, ее демилитаризация стала фактом, страна вошла в новый исторический цикл. Но в нем еще предстояло освоиться и закрепиться.
12.2. Самодержавие и свобода
Екатерина отдавала себе отчет в новизне ситуации. Понимала она и то, что ситуация эта требует законодательного урегулирования, а такое урегулирование, в свою очередь, возможно лишь при достижении компромисса между разными группами расколотого социума. После того, как частные интересы дворян были отпущены на свободу, общий интерес не мог быть властью предписан – в том числе и потому, что сама она не представляла себе, что именно и как следует предписывать. Однополюсная самодержавная модель государственности в очередной раз столкнулась с необходимостью реанимации второго, народного полюса, исчезнувшего из политической жизни после отказа от Земских соборов. Созванная Екатериной комиссия для составления нового Уложения (свода законов), в которой были представлены выборные депутаты от всех регионов и групп населения, кроме крепостных крестьян и духовенства, и стала результатом осознания этой необходимости.
Потребность в новом своде законов после осуществленных Петром I преобразований ощущалась и всеми предшественниками Екатерины, включая самого преобразователя. Соборное уложение 1649 года явно устарело, многочисленные указы императоров и императриц, изданные в разное время, нередко не сочетались с этим Уложением, ни между собой, в законодательстве царил хаос. Но сдвинуть дело с мертвой точки так никому и не удалось – в том числе и потому, что все прежние попытки были направлены столько на обновление законодательства, сколько на систематизацию уже существовавших юридических норм. Однако такая систематизация разнородного и сама по себе была делом непростым, не говоря уже о несоответствии старых норм изменившимся обстоятельствам. Ко времени же воцарения Екатерины они изменились настолько, что подталкивали ее к переформулированию самой задачи не систематизировать то, что уже есть, а разработать принципиально новый свод законов. Но каким он должен быть, императрица не знала.
Считая себя последователем Петра I в том, что касалось европеизации России, она, в отличие от него, не могла решать вставшие перед ней задачи посредством механического перенесения на русскую почву конкретных европейских институтов и форм жизни. Во-первых, потому, что в милитаристской государственности Петра таких проблем, как взаимоотношения раскрепощенного дворянства и закрепощенного крестьянства с государством и друг I с другом попросту не существовало. А во-вторых, потому, что решение этих проблем в готовом виде заимствовать было невозможно: в Европе они решались в процессе многовековой эволюции, принципиально отличавшейся от той, что имела место в России.
В этой ситуации Екатерина пошла по пути, который сделает ее основоположницей новой отечественной традиции, а именно – по пути заимствования абстрактных европейских идей, опережавших реальный исторический опыт Европы, и их адаптации к отечественным условиям и обстоятельствам. Показательно, что в екатерининскую эпоху в России переводились и печатались труды французских просветителей, которые в самой Франции были запрещены. Показательно и то, что французские власти не разрешили публиковать и знаменитый «Наказ» Екатерины – послание императрицы депутатам, созванным для составления нового свода законов.
В этом документе и был впервые публично представлен – в виде совокупности общих принципов – ее политический идеал. С одной стороны, он был плодом заимствования у зарубежных авторов, прежде всего у Монтескье, в чем Екатерина признавалась и сама. С другой стороны, заимствование осуществлялось весьма избирательно (скажем, о ключевом для Монтескье принципе разделения властей в «Наказе» даже не упоминалось) и нередко сопровождалось коррекциями, менявшими смысл первоисточника. То был гибридный идеал, сочетавший европейский либерализм с русской авторитарно-самодержавной традицией. Но само такое сочетание, предоставленное от лица царствующей особы, было для России внове.
Авторитарная составляющая идеала Екатерины, представленная в «Наказе», не оставляет сомнений относительно ее приверженности отечественной политической традиции: «Государь есть Самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно с пространством толь великого государства»69. Дело, однако, не только в пространстве, в обширности территории. Дело еще, как полагает императрица, и в удобстве подданных: «Лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим»70. Но в таком объяснении преимуществ данного способа правления улавливается и влияние просветителей. Ведь речь идет у автора «Наказа» о повиновении не самодержцу, а закону, соблюдение которого самодержцем гарантируется, между тем как при другом устройстве власти подданным придется угождать ее многочисленным представителям, что, по самому смыслу этого слова, не исключает с их стороны беззакония.
Возникают, правда, два вопроса. Первый вопрос: кто гарантирует законность действий самого самодержца? На него, скажем сразу, в «Наказе» ответа нет, более того, нет там и самого вопроса. Вместе с тем у Екатерины есть очень важные указания на необходимость разграничения законов постоянных, изменению не подлежащих, и тех, которые могут быть изменены. Это – вполне в духе просветительской философии. Это – первая на Руси официальная декларация, признающая возможность законов, независимых от самодержавной власти и ей не подконтрольных. И уже одно это позволяет говорить о гибридности политического идеала Екатерины, о наличии в нем, наряду с авторитарной составляющей, компоненты либеральной.
Другое дело, что никакого свода законов в ее царствование так и не возникло. Но без проложенного ею нового идеологического русла и созданных ею отдельных прецедентов, о которых нам еще предстоит говорить, вряд ли был бы возможен, скажем, утвержденный почти сразу после ее смерти императором Павлом первый в России закон о престолонаследии (1797), поставивший преемственность
69 Екатерина II. Наказ ее императорского величества Екатерины Второй самодержицы всероссийской данный комиссии о сочинении проекта нового Уложения. СПб., 1893. С. 4.
70 Там же.
верховной власти на твердую юридическую основу. Законодательная норма будет возвышена не только над волей отдельных государей, и их правом передавать трон по своему усмотрению, как было заведено Петром I. В определенном смысле она будет возвышена и над старомосковским, не оторвавшимся еще от вотчинной традиции, «природным» принципом получения власти, предписывая жесткий порядок ее наследования внутри императорской семьи. Впрочем, в царствование Павла обнаружится и другое: при сохранении самодержавной формы правления нет никаких надежных гарантий того, что законы, наделенные статусом постоянных и неотменяемых, не будут подвергнуты ревизии.
Второй вопрос: каковы сами законы? Они могут быть такими, как при Петре I,т.е. обеспечивающими функционирование милитаристской государственности, а могут быть в духе тех демилитаризаторских тенденций, которые обозначились при его преемниках и наиболее полно проявились в указах Петра III. Екатерина, разумеется, ссылается в «Наказе» на Петра-деда, а не на Петра-внука, но имеет в виду лишь общую направленность его политики, т.е. курс на европеизацию, а не его неприятие европейских вольностей, которые в России якобы «не у места». Государственному идеалу Петра I, в котором самодержавие выступает альтернативой свободе, она противопоставляет идеал, в котором самодержавие органично, по ее мнению, со свободой совмещается.
В представлении автора «Наказа» европейские вольности «у места» в России уже потому, что «Россия есть европейская держава»71. Это не значит, что Екатерина не отдавала себе отчет в существенных отличиях возглавляемой ею страны от стран Запада, причину чего она, судя по ее высказываниям, усматривала в монгольской колонизации Руси. Поэтому и задачу свою видела в том, чтобы вернуть Россию в Европу. Но так как это нельзя было сделать, перенеся на русскую почву конкретные формы европейской жизни, то Екатерина и пошла по пути заимствования и ознакомления своих подданных с общими принципами западного жизнеустройства, которые можно было найти только в идеях философов-просветителей, опережавших реальный европейский опыт.
Такой подход означал, что в русскую культуру вводились важнейшие абстракции второго осевого времени, непосредственно касавшиеся не только военно-технологических, как при Петре I,
71 Там же. С. 3.
но и общественных вопросов. Именно с «Наказа» Екатерины начинают осваиваться в России абстракции закона в его сочетании со свободой («вольность есть право все то делать, что законы дозволяют»72. и равенством («равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам»73. Вплотную подводит «Наказ» и к абстракции собственности («не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного»74. В дальнейшем это понятие получит у Екатерины более глубокую разработку и впервые в России найдет место в законодательных актах.
Автор «Наказа» давала понять, что намерена двигаться по исторической дороге европеизации, проложенной Петром I, но не собирается возвращаться к его методам принуждения и устрашения. Вполне в духе своих учителей-философов Екатерина высказала в своем программном документе неприятие жестоких наказаний и пыток; пафос «Наказа» – это пафос гуманности. Но сам факт предъявления депутатам не конкретных законопроектов, а набора абстрактных принципов свидетельствовал о том, что предложить такие проекты императрица была не в состоянии. «Легко положить общие начала, но подробности?» – писала она в одном из писем Вольтеру, обозначая этим вопросительным знаком неподатливость стоявших перед ней проблем.
Реабилитация частных интересов, вытекавшая из признания индивидуальной свободы и права собственности, требовала ответить на совершенно новый для России вопрос о том, как сочетать такие интересы с «общим благом». Екатерина знала, не могла не знать, что даже будучи репрессированными во времена Ивана IV или Петра I, они неудержимо тяготели к нелегальной приватизации государства, и это не могло быть истреблено ни принуждением, ни страхом, ни идеологией «беззаветного служения». Но если частные интересы отпускаются на свободу и легитимируются, если принуждение и страх перестают быть тотальными, а идеология «беззаветного служения» заменяется служением по «завету» (закону, контракту), то где гарантия, что люди вдруг изменятся и станут другими.
Автор «Наказа» отвечала на этот вопрос так же, как ее уверовавшие во всесилие разума европейские учителя: «Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб законы меньше
72 Там же. С. 11.
73 Там же. С. 10.
74 Там же. С. 101.
благодетельствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому осо6ому гражданину. Сделайте, чтоб люди боялись законов и ничего бы, кроме них, не боялись. Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб просвещение распространилось между людьми. Наконец, самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания»75. Но это, как не трудно заметить, опять же «общие начала», а не «подробности». Как воплощать такие «начала», которые еще и для Европы оставались всего лишь идеалом, в русскую жизнь, Екатерина не знала.
В ее власти было провозгласить подданных гражданами и отменить введенное Петром I слово «раб» (вместо прежнего «холоп»), именование которым было обязательным для каждого, кто официально обращался к царствующей особе. В ее власти было продекларировать равенство всех граждан перед законом, но она не могла не понимать, что в условиях, когда узаконенные вольности дворянства сочетаются с крепостной неволей крестьянства, такое «общее начало» никакого отношения к реальности не имело. Более того, при сохранении крепостнических порядков в деревне оно переставало быть и общим началом. Оно могло стать таковым, если бы дворяне были настолько просвещены и воспитаны, чтобы внять голосу разума и согласиться на постепенную ликвидацию крепостничества. Но к этому они были не расположены; влекомые своими частными интересами, они хотели укрепления своей власти над крестьянами, а не ее ослабления. Авторитарно-либеральный идеал Екатерины наталкивался на сопротивление сословия, бывшего главной опорой трона.
То, что ее «Наказ» и декларировавшиеся в нем принципы рассматривались ею и как подступ к этой проблеме, сомнений не вызывает. В том же 1765 году, когда она начала над ним работать, ею было инициировано создание Вольного экономического общества – первой научной и гражданской организации в России. И первый конкурс, который был им объявлен, касался возможности наделения крестьян собственностью и ее влияния на производительность сельскохозяйственного труда. Материалы, присланные на конкурс из разных стран, довольно широко по тем временам обсуждались: императрица рассматривала это как часть своей просветительской программы, как подготовку общественного мнения к восприятию
75 Там же. С. 87.
готовившегося «Наказа». Вопрос о наделении крестьян собственностью был неотделим от вопроса об их освобождении, и Екатерина давала тем самым понять, что он имеет прямое отношение к ее представлению об «общем благе» и потому открыт для публичного обсуждения. Но кроме логики отвлеченных идей и идеалов была еще логика реальной жизни в реальной стране, и эти две логики тянули императрицу в разные стороны. Показательно, что в том же 1765 году был обнародован указ, сделавший ее в глазах большинства историков императрицей, завершившей закрепощение крестьян в России: он предоставлял помещикам право ссылать крестьян на каторгу.
Таким образом, «общие начала», которые, по замыслу Екатерины, должны были обрасти «подробностями» в ходе обсуждения депутатами, в ее собственной деятельности, предшествовавшей созыву законотворческой комиссии, сочетались с «подробностями», эти «начала» попиравшими. Что касается депутатов, то для большинства из них, как выяснилось, абстракции «Наказа» были попросту непонятными и с их жизнью и представлениями о собственных интересах несоотносимыми. Всероссийское законотворческое собрание XVIII века оказалось много дальше от всеобщего согласия, чем Земские соборы XVII столетия.
За полтора года своей деятельности Уложенная комиссия обнаружила полную неспособность к согласованию и примирению частных интересов ради интереса общего. Более того, депутаты продемонстрировали непонимание самой абстракции общего интереса и уже поэтому не могли заняться ее конкретизацией, приложением к повседневной жизни избравших их людей. Некоторые из депутатов откровенно признавались в том, что «по скудоумию своему не могут сделать никаких представлений об общих нуждах»76. Екатерина получила недостававшие ей «подробности» в многочисленных (более 1600) наказах избирателей и в ходе заседаний комиссии. Но эти «подробности» никак не стыковались ни с теми «общими началами», которые были изложены в «Наказе», ни с какими-либо «общими началами» вообще.
Отсюда вовсе не следует, что попытка подключить к однополюсной государственности второй, народный полюс полностью провалилась. Впоследствии Екатерина воспользуется в своей законодательной деятельности материалами и проектами комиссии,
76 См. об этом: Романович-Словатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870. С. 79-80, 175-178.
они убедили ее «в необходимости реформ, и именно каких реформ», некоторые из которых были затем проведены в жизнь77. Но для составления нового свода законов, который учитывал бы изменившуюся после освобождения дворян ситуацию, комиссия мало что дала, и в этом отношении «проводить в жизнь» было попросту нечего. Даже при отсутствии в депутатском собрании представителей крепостных крестьян обнаружилось, что «народный» полюс расколот и что авторитарно-либеральный идеал Екатерины на универсальность претендовать не может.
Царю Алексею Михайловичу удалось в свое время добиться принятия Земским собором законодательного Уложения. Но удалось это ему, во-первых, потому, что Собор был созван сразу после московского восстания 1648 года, от которого повеяло возвращением еще незабытой смуты, а, во-вторых, потому что тогда еще не было сословий, свободных от государственных повинностей. Иными словами, легальное примирение частных интересов (хотя и не всех, учитывая отсутствие на Соборе представителей крестьянства) в середине XVII века было возможно в силу того, что государство находилась в стадии милитаризации, и интересы эти не воспринимались автономными и от него не зависимыми. Екатерина же столкнулась с тем, что его демилитаризация, пусть и в масштабах одного сословия, сделала согласие недостижимым, выявив ахиллесову пяту такого государства. О ней мы в своем месте уже говорили, комментируя известное высказывание Николая Бердяева о русском народе. Передача монопольного права на представительство общего интереса государю-самодержцу при уравнивании всех остальных в бесправии блокирует осознание этого интереса подданными, препятствует формированию у них государственной ответственности.
Частичная демилитаризация милитаристской государственности в пользу одного из сословий сопровождается его стремлением превратить полученную свободу в привилегию при сохранении несвободы или меньшей свободы других – вот что показало созванное Екатериной собрание депутатов. И именно поэтому абстрактные «общие начала» императрицы, столкнувшись с «подробностями» Непримиримых частных интересов, не имели никаких шансов на сохранение статуса универсальных. Поняв это, Екатерина не отказалась, однако, от либеральной составляющей своего идеала, а превратила ее из универсальной в локальную, распространявшуюся лишь
77 ЛюбавскийМ. История царствования Екатерины II. СПб., 2001. С. 85.
на меньшинство ее подданных. В этом смысле она, распустив миссию законодателей, впоследствии действительно проводила в жизнь отдельные депутатские пожелания и проекты. В том числе и потому, что среди них были и такие, которые локально-сословной интерпретации ее идеала вполне соответствовали.
Историческая задача, которую решала императрица, и в данном отношении была для России совершенно новой. Полуторагодичная работа депутатов показала: попытка приспособить милитаристскую державную государственность к условиям мирного времени, реабилитируя частные интересы и допуская дозированные свободы, наталкивается на неготовность к этому не только «низов» но и общественных «верхов». То, что было расколом между догосударственной и государственной культурой в такой государственности, приспособленной для ведения войн, при ее демонтаже обнаружило себя как отсутствие государственной культуры вообще. Ее еще только предстояло создать, чем и занялась Екатерина на втором этапе своего царствования.
12.3. Социальные границы раскрепощения. Дворяне и горожане
После неудачного опыта Уложенной комиссии стратегия Екатерины заключалась в том, чтобы способствовать формированию государственной культуры двух сословий – дворянства и горожан, отложив решение крестьянского вопроса до лучших времен. Само по себе это было для Руси не внове: Алексей Михайлович, как мы помним, действовал в том же направлении. Новизна заключалась не в выборе опорных сословий, а в том, что речь впервые шла о сословиях без кавычек, т.е. относительно свободных группах населения с реабилитированными частными интересами. Коррекция авторитарно-либерального идеала вела Екатерину в Европу, но – не в будущую бессословную Европу просветителей, а в Европу сословную, т.е. уходящую. Самодержавная русская власть пыталась перенести в Россию не отдельные достижения европейской культуры в духе Петра I, а сразу всю европейскую историю, основными субъектами которой были феодалы-землевладельцы и вольные города. Но это избирательное заимствование чужого прошлого, осуществлявшееся при сохранении самодержавия и крепостного права, было, как и при Петре, не европеизацией в строгом смысле слова, а новой, более глубокой коррекцией в европейском духе русского «особого пути».
Культурно чужое интегрировалось в самобытное свое, что в перспективе вело к разрушению последнего. Но стратегически тупиковое нередко бывает ситуативно жизнеспособным, что и показала реформаторская деятельность Екатерины. Начавшаяся до нее демилитаризация отечественной государственности была закреплена при ней в новых формах, соответствовавших изменившемуся характеру этой государственности.
Синтезирование самодержавия с подтвержденной Екатериной свободой дворянства, соединение предоставленной ему возможности не служить с сохранением его в качестве служилого сословия были осуществлены посредством предоставления дворянам еще двух прав – права самоорганизации (в виде дворянских собраний) и сословного самоуправления, предполагавшего учреждение выборных должностей в губернских и уездных органах власти. Эти дополнительные права нисколько не подрывали позиций императорской власти. Во-первых, они не были политическими и ограничивались исключительно местным уровнем. Во-вторых, реальная независимость и самостоятельность местных органов управления была в значительной степени мнимой, ибо «выбранные на те или иные должности дворяне становились попросту правительственными чиновниками, проводившими на местах политику центра»78. Вместе с тем предоставление этих прав уже само по себе позволяло частично решить проблему привлечения дворян на государственную службу, возникшую после издания Петром III указа о дворянской вольности.
Избрание на выборные должности и право голоса в дворянском собрании обусловливались наличием офицерского звания, т.е. предварительной военной службой. Формально к ней дворянин не принуждался, но и полностью избежать ее не мог. Официально позволялось рано уйти в отставку и осесть в поместье, обслуживавшемся крестьянским трудом, однако и этой возможностью пользовались Далеко не все. Гражданская служба была выгодной, принося, как мы сказали бы сегодня, неплохие «теневые» доходы. Иными словами, предписанное «беззаветное служение» заменялось неписанным «заветом» между государством и частным интересом дворянина. Их взаимосвязь – экономическая, моральная, психологическая – обеспечивалась и иерархией официальных статусов (чинов). «Без службы нельзя было получить чина, и дворянин, не имеющий чи-
78 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. С. 430.
на, показался бы чем-то вроде белой вороны. При оформлении любых казенных бумаг (купчих, закладов, актов покупки или продажи, при выписке заграничного паспорта и т. п.) надо было указать не только фамилию, но и чин. Человек, не имеющий чина, должен был подписываться: „недоросль такой-то" ‹…› Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей»79.
Так свобода дворянства, впервые получившего сословную организацию и сословную мотивацию, была вписана в самодержавную государственность. Но тем самым и сама эта государственность впервые обретала организационную форму, соответствовавшую переходу в демилитаризированное состояние. Однако Екатерина неспроста, очевидно, в один и тот же день (21 апреля 1785 года) обнародовала сразу две жалованные грамоты, касавшиеся дворянства и городов. Одновременность их издания символизировала желание императрицы опираться на оба сословия, а тот факт, что это был и день ее рождения, подчеркивал значение, которое она этим документам придавала. Они очерчивали социальные границы, в которых Екатерина считала возможным воплощение своего идеала сочетавшего традиционный отечественный авторитаризм с европейским просветительским либерализмом.
Сословию городских мещан, как и дворянству, были предоставлены права самоорганизации (аналогом дворянских собраний стали градские общества) и самоуправления (через выборные городские думы). Но, как и в случае с дворянством, то были управляемая самоорганизация и управляемое самоуправление. Логика демилитаризации понуждала к созданию народного полюса власти. Логика самодержавия требовала превращения этого полюса в придаток однополюсной властной модели. Однако пространство личных свобод при этом все же расширилось: горожанам была предоставлена возможность нестесненной государством предпринимательской деятельности, а купцы первой и второй гильдии освобождались, подобно дворянам, от телесных наказаний и некоторых повинностей.
Так Екатерина пересаживала на русскую почву многовековой опыт городской Европы, бывший там продуктом не административной, а стихийной низовой активности. Идеалы Екатерины опережали этот опыт. В своей практической политике она вынуждена была с ним считаться, что и заставляло ее заимствовать из него
79 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1997. С. 28-29.
и насаждать в России то, что в Европе себя уже изжило – например, средневековую цеховую организацию ремесленников. Впечатляющих результатов такая политика принести не могла, но она иллюстрирует общую направленность деятельности Екатерины, пытавшейся в локальном социальном пространстве обеспечить синтез самодержавия и свободы.
Однако такой синтез, придавая демилитаризированной государственности необходимые точки опоры, сам по себе не мог обеспечить обретение этой государственностью нового культурного качества. Дозированные свободы и выборность должностных лиц не превращали некомпетентного чиновника в компетентного, а коррумпированного – в некоррумпированного. Перед Екатериной II стояла та же проблема, что и перед Петром I, – проблема изменения людей. Он решал ее принуждением и устрашением, но его опыт показал, что средства эти отнюдь не всесильны: с их помощью можно научить подданных хорошо воевать, осваивая необходимые для войны новые знания, можно заставить брить бороды и сменить костюмы, но нельзя преобразовать культуру и нравы. Екатерина, отказавшись от методов Петра, противопоставила насилию гуманитарное просвещение и воспитание.
От этой идеи, сформулированной в «Наказе» под влиянием европейских мыслителей, она не только не отказалась, но проводила ее в жизнь целеустремленно и последовательно. Ее идеал должен был стать идеалом ее подданных и превратить их в граждан. Не всех, но хотя бы тех, кому императрица даровала вольности и права, необходимые и достаточные, по ее мнению, для восприятия этого идеала.
Подобно Петру, Екатерина пыталась стать живым воплощением и главным пропагандистом своего идеала. Петр ездил за границу и привозил оттуда заимствованные им новые технологические и организационные средства. Екатерина ездила по стране, демонстрируя и распространяя новую гуманитарную культуру своим поведением и стилем общения. Те же цели она преследовала и в издаваемом ею журнале «Всякая всячина». На его страницах она не только выступала в качестве автора, но и могла даже вступить в публичный диалог с известным литератором Николаем Новиковым о том, чем должна заниматься сатира, – разоблачением абстрактных человеческих пороков или обличением их конкретных носителей. Беспрецедентным был и тот простор, который открыла Екатерина для просветительской деятельности. В ее царствование впервые появились частные издательства, а количество изданных книг, в том числе и переводных, многократно превышало число тех, что были изданы при всех других русских правителях XVIII века.
Особая роль в планах изменения людей и их культуры отводилась образованию, которое при Екатерине впервые было распространено не только на дворянскую элиту, но и на широкие слои населения – правда, только городского. В 1780-х годах была создана система двухклассных в уездах и четырехклассных в губерниях народных училищ с единой методикой преподавания и организацией учебного процесса. О том, сколь большое значение им придавалось, можно судить по тому, что одним из авторов написанной специально для училищ книги «О должностях человека и гражданина» была сама императрица.
Все эти и многие другие меры, безусловно, способствовали росту образованности и развитию отечественной светской культуры, закладывали основы ее будущих достижений. Но качество государственности они не меняли. Просвещение, призванное соединить под сенью самодержавной власти свободу с законностью, в этом отношении обнаруживало полное бессилие.
О размахе должностных злоупотреблений в екатерининскую эпоху много написано, и мы не будем на этом останавливаться, ограничившись лишь двумя свидетельствами современников. «Непостижимо, что происходит; все грабят, почти не встретишь честного человека»80, – писал в частном письме внук Екатерины и будущий император Александр I. А вот как выглядели должностные лица в художественной литературе, а значит, и в формировавшемся общественном мнении. В одной из комедий того времени, написанной в год смерти императрицы, чиновники, по воле автора, хором излагают свое жизненное и служебное кредо:
Бери, большой тут нет науки; Бери, что можно только взять. На что ж привешены нам руки, Как не на то, чтоб брать? 81Демилитаризация российской государственности не только не снимала старые проблемы, но и усугубляла их. Это стало очевидным еще до Екатерины, однако рельефнее всего проявилось
80 Цит. по: Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 37.
81 Капнист В.В. Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 1. С.358.
именно при ней. Столетие с лишним спустя стране предстоит войти во второй милитаристский цикл, а на выходе из него столкнуться с тем же, с чем столкнулась императрица в XVIII столетии. Поэтому важно понять, почему культ законности, который Екатерина исповедовала сама и предлагала своим подданным, обернулся практикой беззакония.
12.4. Самодержавие и право
Любая государственная форма выглядит в глазах людей оправданной лишь в том случае, если она способна поддерживать свою устойчивость. В милитаристском цикле, растянувшемся на несколько столетий, устойчивость отечественной государственности обеспечивалась благодаря последовательному закрепощению всех общественных слоев. От обвала в смуту это ее не застраховало, но и выйти из смуты не помешало. Демилитаризация, бывшая неизбежной после завоевания Россией державного статуса, потребовала от власти создания новых опорных точек с учетом быстро укоренявшихся ценностей приватной жизни и осознания различными группами населения своих частных и групповых интересов.
В результате в российскую политическую практику впервые вошли понятия не только свобод, но и прав граждан. Это изменило и роль закона: если раньше он использовался властью исключительно для разверстки обязанностей и принуждения к их исполнению, то теперь он ставился и на защиту прав. То, что уже было сказано о реформаторской деятельности Екатерины II, свидетельствует о ее движении в данном направлении. Делала же она это не только в силу своих идеалов и убеждений, но и потому, что в изменившихся условиях лишь так можно было сохранить устойчивость самодержавной формы правления. Парадокс, однако, заключался в том, что устойчивость, достигавшаяся благодаря превращению прав отдельных сословий в сословные привилегии, могла быть обеспечена только за счет отступления от принципа законности и его официально Декларировавшейся универсальности. Опора на юридически привилегированное меньшинство всегда требует дополнительной платы этому меньшинству в виде государственного попустительства беззаконию.
Как отмечают исследователи, во времена Екатерины «существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение». Так, при ней «несколько раз издавался закон, запрещавший брать взятки, но поскольку закона, разрешавшего брать взятки, никогда не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно знала, что закон этот исполняться не будет. Более того, она смотрела на взяточничество сквозь пальцы»82. Сквозь пальцы смотрела императрица и на то, что, вопреки запрету на продажу помещиками крестьян без земли, торговля шла полным ходом. Столь вольное обращение с законом появилось на Руси отнюдь не при Екатерине. Но именно при ней оно обнаружило себя как способ самосохранения самодержавной государственности, вступавшей в цикл демилитаризации.
Государственность эта оказалась совместимой и с реабилитированными частными интересами меньшинства, даже с его юридически фиксированными правами. Но опираться на привилегированное меньшинство она, повторим, могла лишь постольку, поскольку признавала за ним – в дополнение к легальным правам – неписанное право на отступление от законности. Милитаристская государственность тоже не могла справиться со злоупотреблениями. Но при ней они считались отклонением от нормы, подлежащим устранению, и нередко становились объектом жестких репрессий. Демилитаризированная государственность с ними фактически примирилась, отмежевываясь от них лишь декларативно и сознательно подменяя принцип законности его имитацией.
В какой-то степени такая практика объяснялась ситуативными обстоятельствами, а именно – несовершенством тогдашнего законодательства. Упорядочить его, свести в единый кодекс Екатерине, как мы уже отмечали, не удалось. Отдельные нормы, принятые в разное время, зачастую друг другу противоречили, что открывало неограниченные возможности для их произвольного применения83. Но главное было все же не в этом.
Через несколько десятилетий после смерти императрицы, при ее внуке Николае I, свод законов в России появится, однако злоупотребления не заблокирует. Потому что их глубинный источник находился в самом устройстве российской государственности,
82 Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 44.
83 «В многочисленных судебных инстанциях и в административных местах судья и администратор мог, при отсутствии свода действующих законов, всегда выбрать из массы хранившихся в канцелярских архивах законов, указов и сепаратных распоряжений любое, чтобы опереться на него чисто формально при решении каждого данного дела. Понятно, какой простор злоупотреблениям во всех правительственных местах создавался этим порядком» (Корнилов А.А. Указ. соч. С. 36).
поддерживавшей свою устойчивость посредством превращения юридически гарантированных прав в привилегии отдельных сословий и правовой неотрегулированности их отношений с теми, кто таких прав был лишен. Там, где идея права используется локально и избирательно, не может стать универсальным регулятором и прин-113 законности. Не может там появиться и закрепиться в культуре и развитое правосознание, какие бы ни предпринимались ради этого просветительные и воспитательные усилия84.
Екатерина осуществила первую в истории страны приватизацию, наделив привилегированные сословия неотчуждаемым правом владения собственностью. Но их численность в то время не составляла и десятой части населения. К тому же одно из них (дворянство), получив привилегированную возможность владеть землей и при этом не служить, сохраняло за собой и монопольную возможность владеть крепостными, лишенными каких-либо прав вообще, формально они частной собственностью помещиков не являлись, однако последние могли распоряжаться ими по своему усмотрению именно как «крещеной собственностью». Эта ситуация находилась вне пределов правового поля: отношения между дворянами и крестьянами частично регулировались отдельными императорскими указами, но в целом оставались юридически нефиксированными. Екатерина, воспитанная на трудах европейских просветителей, ненормальность такого положения вещей понимала. Но как подступиться к крестьянскому вопросу, не подрывая дворянскую опору трона, она не знала. Поэтому закрывала глаза и на то, что помещики в отношениях с крепостными не очень-то считались даже с существовавшими законодательными запретами.
Юридическое закрепление права собственности вводило страну во второе осевое время в той области, в которой Россия раньше находилась за его пределами, – в области социально-экономических отношений. Однако сословная локальность, неуниверсальность этого права оставляла тех, кто им не наделялся, в доосевом состоянии. Тем самым социокультурный раскол обретал еще одно, теперь уже правовое измерение. И оно проявится во всей своей
84 «Культурный парадокс сложившейся в России ситуации, – замечает Ю.М. Лотман, – состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали идеал прав человека» (Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 40). К этому можно добавить: условия существования тех, над кем осуществлялась господство, в правовых терминах не формулировались вообще.
остроте, когда в середине XIX века вопрос об отмене крепостного права станет вопросом практической политики.
Освобождение крестьян не могло быть осуществлено без наделения их землей, принадлежавшей помещикам, что подрывало узаконенное при Екатерине их право собственности. Найденное решение – выкуп крестьянами помещичьей земли – проблему не только не снимет, но и станет одной из причин обвала российской государственности и исторического краха российского дворянства. Ситуативная устойчивость самодержавной власти, которую Екатерине удалось обеспечить, была тупиковой стратегически85. Но императрица этого не знала. Она была уверена в том, что ее идеал, включавший универсальные принципы законности и права, может быть воплощен в жизнь поэтапно, распространяясь поначалу лишь на меньшинство населения.
Но екатерининский правовой идеал плохо стыковался не только с крепостничеством. Он плохо сочетался и с самодержавием, которое рассматривалось императрицей как главный политический инструмент, с помощью которого этот идеал только и мог быть реализован в России. Самодержавие не в состоянии исполнить роль гаранта права в силу самой своей природы, предполагающей, что оно, самодержавие, является одновременно и единственным источником права. Последнее в таком случае выступает не как универсальный верховный принцип, которому подчиняется в том числе и верховная власть, а как нечто производное от этой власти и потому от нее зависимое, что твердые юридические гарантии исключает.
Заимствовав либеральную компоненту своего идеала у философов-просветителей, Екатерина вовсе неспроста даже в предельно абстрактном «Наказе» уклонялась от использования таких базовых просветительских абстракций, как «естественное право» и «общественный договор». Ведь «естественность» права означает, что оно дано человеку не правителем, а природой, т.е. от рождения. Соответственно, и понятие «общественного договора» означает, что государственная власть вторична по отношению к человеческому сообществу: именно оно – источник власти и ее полномочий, важнейшим из которых и является защита неотъемлемых
85 О ситуативной и стратегической (краткосрочной и долгосрочной) устойчивости екатерининской государственной системы см.: Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Екатерина II, Самодержавие и Русская Власть // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1. №4.
и отчуждаемых естественных прав граждан. Если же монопольным источником права и законности выступает монарх-самодержец, то тем самым предполагается принципиальная отчуждаемость человеческих прав: дарованное сегодня может быть отобрано завтра, данное одним самодержцем может быть отнято другим.
Нельзя сказать, что Екатерина всего этого не осознавала, на предприняла шаги, призванные примирить авторитарно-самодержавную и либерально-правовую составляющие ее идеала. О данных шагах уже упоминалось: императрица признала, что, наяду с законами, изменение которых допустимо, должны быть и законы постоянные, «непременные», отмене не подлежащие. Более того, в жалованных грамотах дворянству и городам особо оговаривалось, что права тех и других даются им навсегда - «на вечные времена и непоколебимо». Это означало косвенное ограничение самодержавия. Но – только косвенное: прямых законодательных ограничений оно на себя не накладывало, власть самодержца по-прежнему считалась безграничной. И уже сын Екатерины Павел I наглядно и убедительно продемонстрирует, что косвенными ограничениями при желании можно и пренебречь. А после того, как Павла насильственно устранили, одним из самых обсуждаемых стал вопрос о гарантиях от самодержавного произвола. В начале XIX века людей волновало то же самое, что во времена Ивана Грозного. И решение им было найти не легче, чем их далеким предшественникам.
Но если верховная власть сохраняет за собой привилегию неограниченности, если соблюдение самодержцем юридических норм остается в зависимости от его доброй воли, то принцип законности лишается своего универсального значения. Мы уже говорили об этом в разделе о Петре I, как говорили и о том, что при таком положении вещей универсальным становится вольное обращение с законом на всех этажах управленческой иерархии. Когда же самодержавная власть наделяет особыми правами меньшинство населения за счет большинства, то она просто обречена на попустительство меньшинству, поддержка которого становится главным Условием ее самосохранения. После того, как дворянство получило вольность, снисходительное отношение к коррумпированности бюрократии, ядро которой составляли именно дворяне, стало важнейшим условием государственной устойчивости. Альтернативой этому союзу формально неограниченной власти и реально свободной от ее контроля элиты был Пугачев.
Строго говоря, последовательное проведение принципа законности не в состоянии обеспечить никакая власть, претендующая на монополию. Об этом свидетельствует опыт не только России, но и европейских абсолютных монархий – они тоже попустительствовали коррумпированному чиновничеству, бывшему одной из их базовых опор. Но под политической оболочкой европейского абсолютизма сохранялись старые и создавались – вопреки абсолютизму – новые социокультурные предпосылки для перехода к разделению властей и правовому государству. Под оболочкой российского самодержавия таких предпосылок до Екатерины не возникло (поэтому сохранять было нечего), но и обновленная ею государственная система их вызреванию не способствовала.
Эта система могла ассимилировать идею постоянных, стоящих выше монаршей воли законов и сохранять устойчивость при частичной реализации данной идеи в екатерининских жалованных грамотах. Этой системе не было противопоказано и осуществленное императрицей отделение суда от администрации, т.е. специализация властных функций. Но законодательное ограничение самодержавия, а значит – и разделение властей, ей было противопоказано. Иными словами, трансформироваться в правовое государство эта система не могла, такая возможность была в ней заблокирована. Поэтому она не была надежно защищена от пугачевщины – подавленная в XVIII веке, та вторично ворвется в русскую жизнь в начале XX столетия. Но пугачевщина во всех ее отечественных разновидностях отличалась от европейских революций тем, что из нее могла вырасти только новая доправовая государственность.
По свидетельствам современников, Екатерина раздражалась, когда приближенные указывали ей на несоответствие ее намерений существующим законам86. Но дело не только и не столько в личных особенностях императрицы, в ее готовности или неготовности ограничивать себя в политической практике собственными принципами и идеалами. Ее внук Александр I, получив престол после четырехлетнего самодержавного произвола Павла, тоже более чем благосклонно относился к мысли об ограничении самодержавия постоянными (конституционными) законами и почти сразу же пошел дальше своей бабки. В самом начале своего царствования он
86 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе, М., 1998. С. 307; Троицкий С.М. Россия в XVIII веке. М., 1982. С. 190.
предоставил Сенату право высказывать возражения против императорских указов, если они не соответствовали законам, были неясны по своему смыслу или неудобны по тем или иным соображениям. Это была попытка воспроизвести на русской почве практику французских судебных парламентов времен королевского абсолютизма. Но несмотря на то, что французский опыт заимствовался лишь частично и императору не предписывалось считаться с высказанными замечаниями и возражениями, первый же случай вмешательства сенаторов в законотворческую деятельность Александра оказался и последним: дарованное право было дезавуировано87.
Внук Екатерины, как и она, был воспитан на идеях европейского Просвещения и не меньше ее хотел следовать им в своей политике. Но он не хуже ее понимал: сложившаяся в стране государственная система может сохранять устойчивость лишь при условии, что европейский либерально-правовой идеал сохраняет свое подчиненное положение по отношению к идеалу авторитарно-самодержавному. В результате же заимствование у Европы «общих начал», опережавших реальный европейский опыт, уживалось с сохранением «подробностей», которые свидетельствовали о том, что даже этот опыт Россия заимствовать и освоить не в состоянии. Продолжение и углубление европеизации при Екатерине II по-прежнему вели страну одновременно и в Европу, и в сторону от нее.
12.5. Зерна и плевелы либерального самодержавия
Снисходительное отношение Екатерины к несоблюдению законов выглядит, на первый взгляд, сознательным отступлением от ее политического идеала, в котором принцип законности, напомним, был основополагающим, и кажется вынужденной уступкой неподатливой исторической реальности. Аналогичный вывод напрашивается и при рассмотрении ее политики в крестьянском вопросе: ведь крепостному праву в этом идеале тоже не было места. Но такая интерпретация поведения императрицы представляется нам упрощенной. Дело в том, что ее общественный идеал изначально был более сложным и многосоставным, чем мы его представили. Кроме того, прагматические отступления от него в политической практике Екатерины сопровождались и коррекцией самого идеала. Не претендуя на детальный анализ его эволюции, остановимся на тех его составляющих, о которых еще не говорилось.
87 Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001. С. 284.
Екатерина лишь частично отказалась от государственного утилитаризма Петра I. Во имя государственной пользы она тоже готова была превращать в утилитарное средство то, что ее европейские идейные учителя считали такому превращению неподлежащим. Ведь даже предоставление помещикам права ссылать крестьян на каторгу мотивировалось не столько заботой об интересах дворян, сколько общегосударственными соображениями: у военно-морского ведомства не хватало людей для работы на галерах, где и предполагалось использовать дополнительный контингент каторжников88.
Аналогичной была и мотивация закрепощения украинских крестьян: оно позволяло увеличить доходы казны. Но лишение Украины автономии и введение там российских порядков обнаруживают и другое: либерально-просветительские принципы не только сочетались в сознании и поведении Екатерины с государственным утилитаризмом, но и сами могли становиться при этом утилитарным средством, используемым в откровенно нелиберальных целях. В данном случае принцип универсальности закона, призванный в либерально-просветительской доктрине служить защите прав и свобод граждан, оказывался средством уравнивания людей в бесправии и несвободе.
Вместе с тем в идеале Екатерины отчетливо просматривается утилитарная составляющая в том индивидуалистическом ее понимании, которое сложилось в Европе. В отличие от Петра, она культивировала в обществе представление не только о государственной, но и о частной пользе и выгоде. На одной из медалей времен Екатерины была даже высечена надпись: «Путь на пользу»89. Жалованная грамота мещанскому сословию официально именовалась «грамотой на права и выгоды городам Российской Империи». Показателен и отмеченный исследователями интерес императрицы к сочинениям «отца английского утилитаризма» Иеремии Бентама90. Она не просто реабилитировала личные «прибытки», веками считавшиеся на Руси нелегитимными, но и объявила их одной из важнейших ценностей, которой следует руководствоваться в жизни. Однако ценность эта в культуре, как мы уже отмечали, не приживется и будет отторгнута.
88 См.: Каменский А. Российская империя в XVIII веке. С. 245.
89 См.: Брюкнер А. Путешествие Императрицы Екатерины II в полуденные края России в 1787 году // Журнал Министерства народного просвещения. 1872. Т. 162.
90 Биллингтон Дж.Х. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. М., 2001. С. 269.
И произойдет это, не в последнюю очередь, именно потому, что сложившаяся при Екатерине государственная и общественная система укоренению европейского индивидуалистического утилитаризма никак не способствовала, скорее – наоборот.
Идея личной пользы и выгоды не могла стимулировать производительную деятельность крестьянского большинства, принуждавшегося к безвозмездной работе на помещика или на государство. Но она не могла стимулировать и предпринимательскую активность дворянства, имевшего возможность существовать за счет труда крепостных. Наконец, она не могла способствовать росту городской буржуазии и ее хозяйственной инициативы, ибо он был ограничен монополией дворян на владение крепостными и крайним дефицитом свободной рабочей силы. При таких обстоятельствах идея эта неизбежно утрачивала свое европейское содержание и трансформировалась в потребительский, приобретательский утилитаризм91, в котором индивидуальная выгода опосредуется не трудом и предприимчивостью, а статусными привилегиями и степенью интегрированности в коррупционно-бюрократическую систему.
Реакцией на такой утилитаризм и станет со временем отрицание и профанирование утилитаризма как такового. Ему будет противопоставлено бескорыстное служение общему благу и противоборство с тем, что препятствует его достижению. Но и само понимание общего блага будет пониматься уже не так, как понималось оно Екатериной. В новом его толковании не останется места не только для крепостничества, но и для самодержавия. Либерально-просветительская составляющая идеала Екатерины отделится от созданной ею государственной системы и начнет самостоятельную жизнь в культуре. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что «Наказ» разбудит Радищева, от которого историческая дорога поведет к декабристам и всем тем, кого, в свою очередь, разбудят они.
Екатерина осознавала силу абстрактных идей и таящиеся в них интеллектуальные и этические соблазны задолго до Французской революции. Индивидуалистический утилитаризм, который она хотела укоренить в русской жизни, призван был отвлечь умы от «общих начал», касавшихся государственного устройства,
91 «Анализ русского утилитаризма показывает, – пишет Е. Яркова, – что характерной его особенностью было преобладание примитивных форм, ориентирующих человека не на производство, а на приобретательство». См.: Западники иационалисты: возможен ли диалог? М., 2003. С. 472.
нейтрализовать ценности и идеалы, выводившие сознание за преелы существующей социально-политической системы и ставившие ее под сомнение. Он призван был сделать самоценным проживание в приватном пространстве с максимально возможной пользой для себя и своих близких, а представление об «общем благе» ограничить идеей служения тому государству, которое такое проживание гарантирует. «Началом начал служила личная выгода, не высшие устремления»92. Но именно потому, что желание' обеспечить такую выгоду могло у меньшинства проявляться лишь так, как оно проявлялось, а у большинства не могло проявиться вообще, нельзя было заблокировать и выводившие за границы существующей социально-политической реальности «высшие устремления».
Репрессивные меры против Радищева и вполне лояльного к самодержавию Новикова, предпринятые Екатериной после того как «высшие устремления» на родине просветителей материализовались во Французской революции, стали первым проявлением стратегической неустойчивости либерального самодержавия. Завершив освобождение дворянства и сделав его привилегированным сословием, Екатерина сознательно и целенаправленно приобщала его к европейской культуре. Но эта культура в самодержавно-крепостнической системе была инородной и потому антисистемной. Они могли сосуществовать лишь постольку, поскольку им обеим противостояла догосударственная культура «низов», впервые обнаружившая при Екатерине претензии на захват государства и его преобразование в соответствии с собственными канонами и идеалами.
Емельян Пугачев, нарекшись царем Петром III, должен был и действовать, как царь, т.е. как персонификатор государственного, а не локального догосударственного начала. Народная культура, на которую опирался самозванец, предоставляла ему для этого готовую «отцовскую» матрицу властвования, отторгавшую любые промежуточные звенья власти между отцом и остальными домочадцами, равно как и привилегии каких-либо социальных групп. Отторгались ею, как чужие и чуждые, и европейские культурные образцы, которым открыто следовала по воле царей и вместе с ними дворянская элита. Санкционировав физическое уничтожение помещиков и чиновников и выступая в своих манифестах против «чужих законов, взятых в Германии», против «бритья и других
92 Биллингтон Дж.Х. Указ. соч. С. 286-287.
богохульств, противных христианской вере», Пугачев действовал в полном соответствии с архаичным каноном.
Не противоречил этому канону и декларировавшийся «царем» тип государственности. Пугачев предлагал своим «подданым» единоличную власть царя-отца без каких-либо привилегированных промежуточных инстанций: «Жалуем ‹…› всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть верноподданными рабами собственно нашей короны»93. Но это «верноподданническое рабство», заимствованное из официального языка Петра I и его преемников, от которого, напомним, Екатерина II уже отказалась, сочеталось в предлагавшейся самозванцем «государственности» с идеей казачьей вольности, распространяемой на всех. То был идеал всеобщего огосударствления и одновременно всеобщего оказачивания: «Награждаем вольностью и свободою и вечно казаками»94.
Пугачев, похоже, не понимал, что хотел сочетать несочетаемое: тотальное подчинение населения государству с казачьим догосударственным локализмом несовместимо. Примерно через полтора столетия большевики популярно объяснят это потомкам пугачевских повстанцев, вместе с «помещиками и капиталистами» ликвидировав и все казачество. Но кое-что, причем весьма существенное, самозванец все же угадал. Системной альтернативой екатерининскому либеральному самодержавию, при котором социокультурный раскол российского социума получил законченное, в том числе и правовое, оформление, и в самом деле могло быть только всеобщее огосударствление.
Но до этого было еще далеко. Екатерининская система обладала определенным запасом исторической прочности, которого ей хватит на три послеекатерининских царствования. Он окажется Достаточным даже для того, чтобы одолеть сильнейшую в Европе армию Наполеона и обрести в результате международный статус, которым не обладала в то время ни одна страна. Чем же обеспечивалась прочность этой внутренне глубоко расколотой государственной системы?
Во-первых, пугачевщина способствовала консолидации самодержавия и дворянства, осознавших свою взаимозависимость. В то же время крестьянство на самостоятельную антисистемную
93 Цит. по: Покровский М.Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 145.
94 Там же.
роль претендовать не могло, и разгром пугачевских поветстанцев лишний раз его в этом убедил. Оно нуждалось в лидере-субъекте со стороны. Таковым долгое время было казачество, но Екатерине после подавления восстания удалось завершить начавшуюся еще до нее интеграцию казачества в государство, сделав его составной частью российской армии и пожаловав его элите дворянские титулы. Теперь такой лидер-субъект мог прийти в деревню только из города. Но в городе он появится еще очень не скоро.
Во-вторых, прочность системы обеспечивалась созданной Петром I постоянной профессиональной армией. И дело не только в том, что казачье-крестьянские отряды не могли ей всерьез противостоять: они были разгромлены несмотря на то, что восстание Пугачева произошло во время Русско-турецкой войны, в которой участвовали основные войска. Дело и в том, что армия состояла из людей, вырванных из повседневного уклада и пожизненно изолированных от закрепощенного населения. Правда, в конце екатерининского царствования срок солдатской службы был сокращен до 25 лет, но в целом это мало что меняло: армия оставалась надежным защитником системы от внутренних угроз.
В-третьих, не был исчерпан еще экстенсивный тип развития. Более того, именно при Екатерине II – после присоединения Крыма и плодородного степного пространства – он позволил значительно увеличить ресурсы страны. Торговля хлебом стала одним из важнейших источников пополнения казны, и многие историки убеждены в том, что именно колонизация Юга стала важнейшим фактором, обусловившим жизнеспособность екатерининской системы. К этому можно добавить финансовые кредиты европейских стран: Екатерина была первым российским правителем, которому удалось их получить. Результатом, правда, стал и весьма значительный по тем временам внешний долг, но Россия в данном отношении не была исключением.
В-четвертых, присоединение новых территорий, ставшее возможным благодаря военным победам России, позволило существенно упрочить ее державный статус, бывший со времен Петра основным легитимационным ресурсом власти. Обнаружилось, что демилитаризация государственности этому не препятствовала, что дело Петра можно продолжать и после того, как некоторые базовые опоры созданной им системы закрепощения были разрушены. Екатерине удалось совместить в своем лице образ императрицы-победительницы с образом правительницы, воплощавшей в своей деятельности идею мирной державности, что соответствовало настроениям и ожиданиям послепетровской эпохи. Удалось же ей это в том числе и потому, что две войны с Турцией, которые в совокупности растянулись почти на треть долгого екатерининского царствования, Россия начинала как оборонительные.
Преемники Екатерины для поддержания державного статуса страны будут втягивать ее в кровопролитные столкновениям иного типа, продолжая тем самым внешнеполитическую линию, обозначившуюся при Елизавете Петровне (участие России в Семилетней войне в Европе). Но до тех пор, пока этот статус им удастся поддерживать своими победами, созданная Екатериной государственность будет сохранять свою устойчивость и обходиться без существенных трансформаций. Когда же он окажется после поражения в Крымской войне (1853-1856) существенно поколебленным, император Александр II из убежденного охранителя, каким он был до этой войны, превратится в одного из самых известных в отечественной истории царей-реформаторов.
Глава 13 Авторитарно-христианский идеал: возвращение к пройденному
Отмена в 1861 году крепостного права была естественным логическим и историческим завершением начавшихся при Петре III и Екатерине II процессов. Демилитаризация государственности не могла остановиться на полпути. Однако между смертью Екатерины и началом реформ Александра II прошло шесть с половиной десятилетий, а созданная ею система пережила и ее сына Павла I, и двух ее внуков – Александра I и Николая I. Причем система эта, оставаясь неизменной в своих основаниях, продемонстрировала достаточно высокую степень приспособляемости к меняющимся условиям и способность отвечать – до поры до времени – на новые исторические вызовы.
Революционная эпоха, в которую Европа вошла еще при жизни Екатерины, не поколебала устойчивость российской самодержавной государственности. Последняя без особых усилий справилась с покушавшимися на ее устои декабристами (1825) и с восставшими поляками (1830), мечтавшими о восстановлении независимости. Но еще раньше прочность этой государственности проявилась и значительно увеличилась в победоносной войне с порожденным Французской революцией Наполеоном. Европейская революционная волна не только не захлестнула Россию, но и сделала ее главным оплотом европейского консерватизма.
Однако здесь-то и подстерегала ее серьезная угроза. Международные амбиции России, ставшие прямым следствием ее заглавной роли в освобождении континента от Бонапарта, в конечном счете привели к тому, что именно консервативная Европа против нее и объединилась. В Крымской войне страна оказалась без союзников. Даже Австрия, которой Россия несколькими годами ранее помогла подавить венгерскую революцию, поддерживать Петербург отказалась. Но эта война выявила и нечто гораздо более существенное. Она выявила исчерпанность ресурса тех культурных и технологических заимствований, которые были осуществлены Петром I.
Европа к тому времени далеко продвинулась по пути научно-технологических инноваций, новый импульс которым был дан промышленной революцией. Россия же успела отстать на целую эпоху – подобно тому, как она отставала от развитых стран в XVII столетии. И, как и тогда, не потому, что не развивалась вообще – она, наоборот, развивалась достаточно успешно. В двадцатилетие предшествовавшее Крымской войне, происходил быстрый переход от мануфактуры и ручного труда к фабрике, оснащенной машинным оборудованием, существенно возросли объемы промышленного производства и экспорта в ряде отраслей. Но Европа, оставаясь пионером инноваций, опять развивалась намного быстрее, чем заимствовавшая их Россия, что и выявилось во время войны. После этого реформы стали неизбежными. Однако в середине XIX века они не могли быть вторым изданием петровского тотального закрепощения и петровской милитаризации. Они могли быть только завершением раскрепощения и демилитаризации, распространением их на крестьянское большинство.
Этому очередному циклу российских реформ будет посвящен следующий раздел книги. Предварительно же есть смысл хотя бы в общих чертах рассмотреть эволюцию отечественной государственности в послеекатерининские десятилетия. Потому что именно в эти десятилетия выявилась тупиковость попыток даже частично вернуть самодержавное государство в милитаризированное состояние. Причем, как нередко бывает в истории, невозможность реанимировать прошлое (в данном случае петровское) заставила обращаться – в поисках идеологических символов – в прошлое, еще более отдаленное (в данном случае в допетровское).
13.1. Тень Московии над Петербургом
Объединение трех императоров, правивших Россией после Екатерины, в один политический ряд может, конечно, показаться исследовательским насилием над историей. Павел, как известно, последовательно урезал права дворян и горожан, предоставленные этим сословиям жалованными грамотами его матери: ликвидировал губернские дворянские собрания и городские думы, ограничил возможности выборного получения должностей, а сами дворянские выборные процедуры поставил под контроль губернаторов. Он запретил ввоз в Россию иностранных книг и их перевод на русский язык, вернул из-за рубежа обучавшихся там студентов и ввел жесткие ограничения на выезд из страны и въезд в нее иностранцев.
Александр же, получив власть после убийства отца, все эти ограничения и запреты сразу отменил и возвратил Россию к порядкам екатерининского времени. Николай, в свою очередь, вновь вернулся к репрессивной практике Павла, хотя и без его откровенного беззакония и демонстративного наступления на права дворянства. И тем не менее есть нечто общее, что сближает трех послеекатерининских правителей. Все они воплощали в своей деятельности одни и те же тенденции, и Александр отличался от отца и младшего брата лишь тем, что в начале своего царствования пытался этим тенденциям противостоять, но – только в начале.
Государственная система, созданная Екатериной, в силу отмеченных выше особенностей не могла представляться ее преемникам упорядоченной и эффективной. Не воспринималась она ими и как стратегически устойчивая, способная успешно отвечать на исходившие из Европы вызовы новой революционной эпохи. Упорядочивание государственного уклада можно было осуществлять в двух направлениях, соответствовавших двум идеалам русского XVIII века,- екатерининскому либеральному и петровскому утилитарно-государственному. Одно из них предполагало утверждение правовых принципов и универсальности закона, что вело, в конечном счете, к ликвидации крепостничества и установлению юридической ответственности и подконтрольности самодержавной власти. Другое подразумевало укрепление этой власти в ее исторически сложившемся виде и ужесточение государственного контроля над общественной жизнью, что означало возвращение к петровской милитаризации.
Перед этой дилеммой стояли все три послеекатерининских императора, и никому из них решить ее не удалось. Все они так или иначе пытались двигаться в обоих направлениях сразу или чередовать их во времени, сочетая при этом с третьим, о котором нам предстоит говорить ниже. И у всех них тон задавала милитаризаторская тенденция – или в полном соответствии с их политическими убеждениями, как у Павла и Николая, или из-за опасений разрушить унаследованную государственную систему проведением первоначально замышлявшихся либеральных реформ, как у Александра.
Преемники Екатерины, помнившие о пугачевщине и хорошо осведомленные о роли низших классов в европейских революциях, не могли не осознавать важности крестьянского вопроса для России и угроз, проистекавших из-за его нерешенности. Даже Павел, убежденный сторонник крепостничества, счел необходимым издать указ, который запрещал помещикам принуждение крестьян к барщинным работам по воскресеньям, ограничивая их тремя днями в неделю. Правда, последнее было скорее рекомендацией, чем жестким предписанием, а потому не выполнялось. Но сама направленность указа симптоматична.
Что касается Александра и Николая, то крестьянский вопрос воспринимали как один из важнейших и искали способы отмены крепостного права. Другое дело, что результаты многочисленных обсуждений в различных тайных комитетах оказались почти нулевыми. Во второй половине александровского царствования были освобождены – без земли и с согласия местных помещиков – прибалтийские крестьяне, но на остальной территории России к этому вопросу всерьез так и не подступились.
Для его решения необходим был общенациональный консенсус, которого не существовало. Двигаться к его достижению пытались постепенно, небольшими шагами. При Александре был издан закон о «вольных хлебопашцах» (1803), разрешавший помещикам освобождать крепостных по взаимной договоренности, а при Николае – закон об «обязанных крестьянах» (1842), который дозволял такое освобождение при условии, что крестьянин отрабатывал свою волю на помещичьей земле, сам земли не получая. Эти косметические реформы ушли в песок: Россия не превращалась ни в страну вольных хлебопашцев, ни в страну вольно-обязанных крестьян. Но сами попытки преодолеть расколотость екатерининской системы, перекинуть мосты между ее культурно и юридически разнородными частями опять-таки весьма показательны. Не менее показательно и стремление устранить изъяны системы, не трогая ее основ, а именно – монопольной дворянской собственности на землю и самого права помещиков владеть крепостными.
Однако и дворянский вопрос не был окончательно снят с повестки дня дарованными Петром III и закрепленными в законодательстве Екатерины II вольностями и привилегиями. И дело не только в том, что дворяне, находившиеся на службе, сохраняли предрасположенность к приватизации государства. Дело и в том, Что либерально-просветительские идеи, брошенные Екатериной в Русскую почву, еще при ее жизни начали давать всходы, на которые она не рассчитывала. После же открытого наступления Павла на узаконенные сословные права дворянства в его верхнем, наиболее образованном и европеизированном слое стала вызревать потребность в надежных правовых гарантиях от возможного произвола со стороны императорской власти. Но такие гарантии означали бы законодательное ограничение самодержавия и в конечном счете дополнение гражданских прав дворянства правами политическими. Ведь формально дворяне имели даже меньший доступ к власти, чем бояре Московской Руси, – у последних была все же Боярская дума.
При таких внутренних обстоятельствах, сочетавшихся с потенциальными внешними вызовами (кризис монархической идеи революционные потрясения в Европе), склонность послеекатерининских правителей вернуться к милитаризации государственной системы не выглядит удивительной. Однако слишком резкое движение в данном направлении, как показал опыт правления Павла и его насильственное устранение в результате дворянского заговора, наталкивалось на жесткие ограничители внутри самой этой системы. Дворянство нельзя уже было вернуть в то огосударствленное состояние, в котором оно находилось в допетровские, а тем более – в петровские времена. Поэтому ремилитаризация могла быть лишь ритуально-символической, что нагляднее всего проявлялось в пристрастии не только Павла, но и обоих его сыновей к военным парадам. Вымуштрованная армия, чеканящая шаг в парадном марше, стала тем символом силы и порядка, который призван был консолидировать расколотую страну вокруг трона и упрочивать легитимность императоров, представавших перед подданными прежде всего в роли полководцев, наследников петровской традиции.
Но в подобной квазимилитаризации, апеллировавшей к державной идентичности и выступавшей заменителем назревших реформ, не просматривалось никаких перспектив. Если даже петровская милитаристская государственность, обеспечившая России державный статус, к мирному времени оказалась неприспособленной и подверглась трансформации, то имитация этой государственности при отсутствии войн обладала еще меньшим консолидирующим ресурсом. Тем более что у всех на памяти был пример Екатерины, сумевшей сохранить и упрочить державный статус России без такого рода имитаций. Квазимилитаризация требовала легитимационной подпитки, которую наилучшим образом могли обеспечить войны и военные победы.
Ни раньше, ни потом Россия не вела столько статусных войн, как при трех послеекатерининских императорах. И с самого начала то были войны не только в защиту традиционного монархического принципа в Европе против революционной армии Наполеона, но – одновременно – и за российское доминирование на континенте в роли главного гаранта соблюдения этого принципа. Даже оборонительная война 1812 года трансформировалась в итоге в статусную: изгнание Наполеона из Центральной Европы, а потом и из Франции превратит Россию в мощнейшую державу того времени. Этот триумф, который Александр символизировал грандиозным парадом войск-победителей в освобожденной от Бонапарта Франции, открывал перспективу длительного мира. Но мир снова возвращал страну к тем трудноразрешимым внутренним проблемам, которые война позволила законсервировать. Мир стал для Александра вызовом, на который у него не было ответа. Просто потому, что в границах екатерининской системы найти его было невозможно.
В свое время с аналогичным вызовом столкнулся и Павел I. Поначалу он не хотел воевать, а хотел обеспечить своим подданным максимум благополучия – в том виде, в каком сам его представлял, и теми средствами, которые считал правильными. Но, наверное, уверенность в успехе своего замысла у него очень быстро иссякла. Вскоре он пошлет армию Суворова в Италию воевать с Бонапартом, а потом даже вступит в союз с последним против англичан и направит в находившуюся под их контролем Индию многотысячный казачий корпус. Последний, скорее всего, был обречен на уничтожение, ни будь сам Павел уничтожен заговорщиками, а казаки – возвращены домой.
С вызовом миром еще в первый период своего царствования столкнулся и сменивший убитого отца Александр. После долгих и бесплодных дискуссий о либеральных реформах он тоже отправил армию в Европу воевать с Наполеоном. Но этот способ ухода от внутренних проблем посредством втягивания в статусную войну за пределами страны дал осечку: в кампаниях 1805-1807 годов русские войска потерпели несколько тяжелых поражений, и Александр, как в свое время и Павел, вступил с Наполеоном в союзнические отношения. Однако, в отличие от Павла, у которого после побед Суворова такой необходимости не было, Александр был на союз обречен.
Статусная война обернулась не повышением, а падением международного статуса страны. Державная идентичность России и Русских впервые за весь послепетровский период оказалась ущемленной и поколебленной. И впервые же обнаружилась необходимость дополнения ее идеологическими символами допетровской эпохи. Многим в России становилось ясно: если созданная Петром Победоносная армия терпит поражения, если тотальная милитаризация по петровскому образцу уже невозможна, а ритуально-парадная ремилитаризация к победам не ведет, то ставка должна быть сделана не только на армию, но и на народ.
Александр не сразу уловил и осознал эту смену настроений. Оказавшись после заключенного им непопулярного союза с Наполеоном в политическом вакууме и стремясь укрепить свою пошатнувшуюся легитимность (судьба убитого отца понуждала беспокоиться и о собственной безопасности), он решил вернуться к либерально-конституционным идеям, которыми вдохновлялся, но которые не осуществил в начале своего царствования. Михаил Сперанский, привлеченный для их разработки, предложил два варианта: имитационный, при котором квазиконституционные законы и учреждения вписывались в самодержавную систему, и радикальный, при котором происходило реальное ограничение полномочий самодержца и переход к разделению властей95. Александр от имитации отказался и поручил проработать второй вариант. Однако из радикального реформаторского проекта Сперанского император решился воплотить в жизнь не то, что ограничивало самодержавие, а лишь то, что позволяло провести более четкие разграничительные линии между функциями различных структур власти, не затрагивая самодержавных полномочий императора.
Законодательные функции были переданы специально учрежденному для их осуществления Государственному совету. Исполнительной властью стали уже созданные к тому времени Александром министерства, заменившие петровские коллегии и выстроенные, в отличие от них, на основе принципа единоначалия и жесткой должностной иерархии. Статус высшей судебной инстанции сохранялся за Сенатом, который лишался при этом прежних административных прерогатив, отошедших к министерствам. Но то были не самостоятельные ветви власти, а уполномоченные институты при власти: все они формировались императором и без его согласия ни одно ответственное государственное решение принять не могли, между тем как он от них фактически не зависел. Тем самым радикальный проект был превращен Александром в имитационный. Замышлявшаяся Сперанским реформа государственной системы стала очередной перестройкой этой системы. Более глубокая, чем раньше, специализация функций и введение экзаменов для чиновников высших классов призваны были повысить
95 Об этих вариантах см.: Корнилов Л.Л. Указ. соч. С. 85-86.
ее эффективность. Но если уровень образованности и компетентности бюрократии со временем действительно повысился, то на эффективности системы в целом предпринятая перестройка сколько-нибудь заметно не сказалась.
Что касается конституционно-реформаторских идей проекта, направленных на ограничение самодержавия и предполагавших, в частности, учреждение института народного представительства (Государственной думы),то к ним вернутся лишь столетие спустя в ответ на революционное давление снизу. В начале же XIX века Сперанский стал восприниматься дворянской элитой как главный виновник ненавистного союза с Наполеоном и проводник революционных французских идей. Ущемленная державная идентичность нуждалась в фигуре высокопоставленного изменника, и увольнение и ссылка Сперанского стали ответом на этот запрос.
Элита искала способ общенародной мобилизационной консолидации без возвращения к петровской милитаристской системе. В европейском просветительском либерализме она его не находила, либеральные идеи стали казаться ей разрушительными. Державная идентичность нуждалась в новой идеологии, опорную историческую точку для которой она нашла в патриотическом воодушевлении Смутного времени. Полузабытые фигуры Минина и Пожарского после унизительных поражений от Наполеона стали главными персонажами многочисленных прозаических и поэтических произведений. Иными словами, державная идентичность обратилась за идеологической поддержкой к эпохе, в которую никакой державности еще не было. Петровский образ вождя-полководца обнаружил ограниченность и несамодостаточность своего легитимирующего и мобилизационного ресурса. Альтернативой ему становился образ вождя народного.
Александр, как до него и Павел, воспринимал себя наследником «полководческой» традиции, шедшей от Петра I. Но когда началась новая война с Бонапартом, на этот раз – на территории России, он вынужден был, по настоянию советников, отказаться от своего первоначального намерения быть с армией и поехал в Москву, что должно было символизировать единение царя и народа.
Идеал всеобщего согласия, вторично востребованный ровно через два столетия после похода ополченцев Минина и Пожарского на занятую поляками Москву, и на этот раз продемонстрировал свою патриотически-мобилизующую силу в освободительной войне. Но в результате в повестке дня снова оказывался вопрос о судьбе такого идеала после того, как победа над внешним врагом одержана. В начале XIX века он стоял еще острее, чем в начале XVII, уже потому, что раскол российского социума за два столетия стал несоизмеримо шире и глубже.
13.2. Бремя послепобедного мира
Из этой исторической точки опять-таки можно было двигаться в двух направлениях. Огромный легитимационный ресурс, обретенный Александром в результате победоносных наполеоновских войн и укрепления державного статуса России (на политическом языке XX века он может быть назван сверхдержавным),позволял вернуться к довоенным либерально-реформаторским проектам. Вместе с тем тот же самый статус мог казаться самодостаточным консолидирующим фактором, позволявшим надежно законсервировать сложившуюся государственную систему, ничего в ней существенно не меняя. Александр пытался двигаться в обоих направлениях одновременно.
С одной стороны, он, наряду с уже упоминавшейся отменой крепостного права в прибалтийских землях, предоставил право на конституционное правление присоединенным при нем к России Финляндии и Царству Польскому и объявил о своем намерении в будущем предоставить такое же право всей стране. С другой стороны, он попытался максимально использовать обретенный Россией сверхдержавный статус и утвердить ее в роли главного гаранта европейской безопасности, под которой понималось сохранение традиционных монархических режимов, их совместная защита от революционных угроз. Инициированное Александром создание Священного союза России, Австрии и Пруссии призвано было не только гарантировать «вечный мир» в Европе; оно предполагало и вмешательство этих стран во внутренние дела друг друга в случаях, если в них возникнет опасность для монархий. О том, сколь большое значение придавал русский император этому союзу и заглавной роли в нем России сточки зрения ее внутренней консолидации, можно судить хотя бы на основании того, что он нарушил договоренность монархов о неразглашении акта о создании Священного союза, не только обнародовав его, но и повелев прочитать во всех церквях.
В конечном счете именно данное направление в политике Александра и возобладало. Идея державности, получив максимальное, можно сказать – предельное воплощение, стала самоцелью и заблокировала реформы. Но тем самым стабильность и ее поддержание оказались главной преградой для развития, а отсутствие развития подтачивало устои державности. От великой победы 1812 года до катастрофы в Крымской войне Россию отделяло чуть больше четырех десятилетий. Примерно такой же срок был отведен историей и советской сверхдержаве после ее триумфа в 1945 году. Главный парадокс российского типа державности в том-то и заключается, что ее успехи в войнах, снимавшие на время внешние угрозы, выявляли ее полную неприспособленность к условиям мира. Тем более, если мир объявляется «вечным», каковым он был объявлен времена Александра I от имени Священного союза.
По логике вещей, при такой политической установке милитаризация повседневности становилась бессмысленной, и главной ценностью должно было стать народное благосостояние, что предполагало в том числе решение крестьянского вопроса. Однако логика державной самодостаточности, призванной консолидировать расколотую страну, влекла Александра совсем в другую сторону. Он попытался соединить идею благосостояния не только с крепостным правом и имитационно-парадной милитаризацией, но и с углублением милитаризации реальной. В некоторых отношениях он шел здесь по стопам своего отца: один из ближайших сотрудников последнего генерал Аракчееву ведение которого Александр передал государственное управление, насаждал казарменно-бюрократический стиль Павла. Но в чем-то Александр пошел дальше не только Павла, но и самого Петра I.
Император понимал: гарантией сохранения Священного союза и «вечного мира» могла быть только мощь русской армии. И Александр прямо заявлял своим приближенным, что ее численность должна превышать совокупную численность войск двух других союзников, т.е. Австрии и Пруссии. Этот план был не только выполнен, но и перевыполнен: к концу александровского царствования вооруженные силы России насчитывали около миллиона человек, увеличившись, по сравнению с началом царствования, почти втрое и став соизмеримыми в количественном отношении с военным потенциалом всех стран Европы, вместе взятых. Для достижения столь амбициозной цели требовались, однако, огромные средства. Ответом на эту новую ситуацию и стали военные поселения, Доводившие милитаризацию до логического предела, т.е. до милитаризации повседневного быта. Если в допетровскую и петровскую эпохи военно-служилым классом было дворянство, к которому со временем добавились пожизненные солдаты из крестьян, то теперь солдатами, наряду с отрывавшимися от земли рекрутами, становились по совместительству многие крестьяне-землепашцы, благодаря чему значительная часть армии была переведена на самообеспечение. Но примиряться с жизнью в военных поселениях и подчинением армейскому начальству крестьяне обнаружили еще меньше готовности, чем с самыми обременительными повинностями предшествовавших столетий.
Внешне это не выглядело наступлением на их жизненные интересы. Для жителей поселений специально строили новые дома, предоставляли им скот, лошадей, различные ссуды и льготы. Однако приближенные Александра не без оснований предупреждали его, что соединение военной службы с невоенной хозяйственной деятельностью может обернуться повторением старомосковского опыта со стрельцами, считавшегося в России неудачным. Император отмахнулся: он знал лишь то, что ему нужна большая армия, содержать которую было не на что. Возможно, в его глазах военные поселения ассоциировались не со стрелецким, а с казацким войском. Если так, то он не принял во внимание существенную разницу между военно-хозяйственным бытом казаков, являвшимся результатом их свободной самоорганизации, и бытом военных поселенцев, принудительно навязывавшимся государством. Крестьяне, которым предписывалось одновременно быть и земледельцами, и военнослужащими, подчиненными казарменной регламентации, не демонстрировали успехов ни в том, ни в другом. Они чувствовали себя подневольными и терпели такое положение вещей лишь под страхом лишения хозяйства или выселения. «Население, несмотря на значительные материальные выгоды, относилось к этой системе с ненавистью, так как это была неволя – хуже крепостного права»96.
Государственность, созданная Петром I в войне и для войны и приспособленная его преемниками к мирному времени, начинала обнаруживать свою слабость именно после того, как в победоносном столкновении с Наполеоном достигла пика своего могущества. Испытания «вечным миром» державная идентичность не выдерживала, ее консолидирующего потенциала для преодоления или хотя бы консервации многообразных общественных расколов явно не хватало. Потому что мир, как выяснялось, от одних требовал дополнительной платы в виде смены всего жизненного уклада, а другим не
96 Там же. С. 107.
давал ничего из того, на что они рассчитывали. При этом локальные либерализации на окраинах империи – уже в силу самой своей локальности – не столько снимали, сколько усугубляли недовольство.
Попытки Александра синтезировать либерализм и милитаризацию оборачивались, с одной стороны, формированием оппозиции тайных обществ, объединявших европеизированную часть дворянства (оно хотело конституционных прав и было недовольно тем, что права эти предоставлялись полякам и финнам и не предоставлялись русским), а с другой – волнениями в военных поселениях, которые приходилось подавлять силой. Вместе с тем в Европе за пределами Священного союза продолжали вспыхивать очаги революций (в Испании, Италии), что в конце концов заставило Александра отказаться от реализации либерального идеала вообще. Но такой отказ не мог не сопровождаться консервативной идеологической переориентацией, выводившей за пределы петровско-екатерининской эпохи. И в этом отношении у Александра на русском троне был лишь один предшественник – его отец Павел.
Екатерининскую государственность нельзя было ни законсервировать, ни преобразовать, реанимируя милитаристский утилитарный идеал Петра I. Если его пришлось корректировать даже для ведения войны, обращаясь ради этого к идеалам допетровской эпохи, то тем более не подходил он к ситуации, когда война победоносно завершилась, и возобладала политическая ориентация на «вечный мир». Новая государственная идеология завершенную форму обретет лишь при Николае I. Но ее поиск шел и раньше; начавшись при Павле, он продолжался в течение всего послевоенного периода александровского царствования. И чтобы увидеть его общую направленность и уловить переходность, промежуточность дониколаевских идеологических проектов и практик, есть смысл за точку отсчета взять именно николаевский вариант, которым этот поиск был увенчан.
13.3. Державная и религиозная идентичность
Знаменитая формула министра народного просвещения графа Сергея Уварова «православие, самодержавие, народность» представляла собой попытку перекинуть идеологический мост из послепетровской Петербургской России в допетровскую Московскую Русь. В этом отношении Николай I, принявший формулу Уварова, шел по пути, уже проложенному в период подготовки и в ходе войны с Наполеоном. Тогда символическое возвышение народа тоже соединялось с возвышением веры, с апелляцией к исходной православной идентичности, призванной стать опорой идентичности державной которая обнаружила свою несамодостаточность. Лозунг «За Веру, Царя и Отечество!», родившийся в александровскую эпоху, возвращал петровско-екатерининскую Россию к московской «старине», на противостоянии которой и утвердилась в свое время петровская государственность: выдвижение веры на первое место и замена императора на царя говорили сами за себя. Уваровская триада – перефраз этого лозунга97. И вместе с тем его существенная коррекция.
«За Веру, Царя и Отечество!» был лозунгом войны, а идеология, лежавшая в его основе, была военно-мобилизационной. «Эффективная на период военных действий, она не предлагала для мирного времени ничего, кроме сохранения на неопределенное время мобилизационного режима со всеми присущими ему эксцессами»98. Реально такой режим означал возвращение к идеологии «Третьего Рима», к изоляции страны от ведущей к революционным потрясениям европейской умственной «заразы», вплоть до изгнания из употребления французского языка99. Уваровская же триада не предполагала ни возведения «железного занавеса» между Россией и Европой, ни выкорчевывания из жизни русского образованного сословия успевшей укорениться в нем европейской культуры.
Это была формула, нацеленная на утверждение отечественной религиозно-культурной самобытности внутри Европы, а не вне ее. Под самодержавием подразумевалась та его разновидность, которая начала складываться при Петре (Николай I считал себя продолжателем его дела), а не та, что существовала при московских царях. Соединение самодержавия с православием должно было обеспечить дозированность и безопасность культурных заимствований, отбор из плодов европейского просвещения лишь таких, которые могли бы способствовать органическому эволюционному развитию, и отсеивание тех, которые в самой Европе стали и продолжали оставаться источником революционных катастроф. Наконец, включение в триаду народности было первой попыткой хотя бы на идеологическом уровне преодолеть расколотое состояние страны, ввести народное большинство, отчужденное от государства, в государственное тело.
97 Шевченко М.М. Сергей Семенович Уваров. М., 1997. С. 105.
98 Зорин А.Л. Кормя двухглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. С. 367.
99 Там же.
Это было радикальное новшество – поставить народ в один ряд с властью и государственной религией. Но оно было вынужденным – формула Уварова стала идеологическим официозом после очередной волны европейских революций 1830 года, отозвавшейся антирусским восстанием в Польше.
Согласно небезосновательному предположению Б. А. Успенского, уваровская триада была не только аналогом лозунга «За Веру, Царя и Отечество!», адаптированного к мирным условиям, но и критическим переосмыслением лозунга Французской революции «Свобода, равенство, братство». Во Франции это был лозунг суверенной нации, отвергавшей любые сословные перегородки и привилегии и претендовавшей на то, чтобы самой стать главным источником государственной власти. Тем самым предполагалось, что подданные (монарха) превращаются в граждан. Уваровская «народность» и явилась ответом на этот новый вызов. То была русская идеологическая альтернатива идее гражданской нации.
Такую альтернативу искали не только в России. Еще раньше ее начали искать в других монархических государствах Европы. Пионерами здесь были немцы. Универсальным принципам свободы и равенства они противопоставили культ локальной традиции, национально-культурный «особый путь» (Sonderweg). Уваровская «народность», взятая на вооружение Николаем, была русским аналогом немецкой идеи. Ее пафос заключался в сближении монархической власти и народа, сокращении символической дистанции между ними, что проявилось и в новом поведенческом стиле монархов, демонстрировавших скромность в быту и приверженность семейным ценностям.
В том же направлении пытался двигаться и Николай I, представавший перед подданными добропорядочным семьянином и набожным христианином, каким, собственно, он и был. Смена вех подчеркивалась и внешним видом императора – на его лице впервые в послепетровскую эпоху появилась небольшая борода, а у ближайших преемников ее размер значительно увеличится. Однако в России, где со времен Петра I верховная власть легитимировала себя как представительницу чужой, заимствованной культуры, сок-Ращение символической дистанции между правителем и народом не Могло не сопровождаться одновременно подчеркиванием ее значительности и даже стремлением ее увеличить. Николай демонстрировал не скромность и умеренность, а богатство и пышность. Его «народность» предполагала укрепление единения царя и подданных посредством культивирования добровольного и сознательнее подчинения последних возвышающейся над ними самодержавной власти, которая должна была выглядеть в их глазах культурно «своей», оставаясь культурно чужой. Уваровская формула, придавая «народности» относительно самостоятельный идеологический статус, была лишь новой редакцией – в ответ на вызовы времени – идеологии «беззаветного служения».
Эта новая редакция позволяла, скажем, сделать главным персонажем оперы крестьянина Ивана Сусанина и тем самым возвести его в ранг национального героя. Но она не позволяла наделять его субъектностью. Поэтому имя героя из названия оперы Глинки было изъято, и она стала называться «Жизнь за царя». Фактически уваровская формула предполагала безоговорочное добровольное подчинение православного народа православному самодержавию, но – при сохранении его, самодержавия, европеизированного петровского образа, лишь слегка подретушированного под «народный».
Показательно, что на посту министра народного просвещения Уваров поддерживал тех историков, которые интерпретировали призвание на Русь варягов как добровольное и сознательное подчинение славянских племен более высокому иноземному государственному началу. Культивировавшееся и официально поощрявшееся в николаевскую эпоху обращение к национальной истории – московской и домосковской – призвано было идеологически укрепить самодержавие демонстрацией его глубокой укорененности в самобытной отечественной традиции. Но при этом имелось в виду то петровско-екатерининское европеизированное самодержавие, которое возникло и утвердилось в свое время на отрицании традиции и возвышении над ней.
Исторические результаты, ставшие воплощением государственных идеалов Петра I и Екатерины II, не отбрасывались, но как бы ассимилировались возрожденным авторитарно-православным идеалом старомосковским, претендовавшим на роль идеала всеобщего согласия. Светская государственность снова облачалась в религиозные одежды, и именно в этом отношении Павла и Александра, хотя последнего и с существенными оговорками, можно рассматривать как предшественников Николая, двигавшихся в том же направлении.
Павел был первым российским императором, который попытался соединить светскую державную идентичность с религиозной и противопоставить их синтез европейскому либерально просветительскому вольнодумству, чреватому революциями. Он официально провозгласил себя главой церкви, на что не решился даже его прадед Петр I, объявил о своем намерении отправлять религиозные службы, поднял статус священнослужителей и даже вопреки канону и несмотря на их сопротивление – заставлял принимать от него государственные ордена. Вместе с тем Павел видел себя не только первосвященником, но и полководцем100, олицетворявшим петровский идеал армейской упорядоченности и персонифицирующим державную мощь России. Но такое соединение двух идентичностей выталкивало Павла за пределы православия, влекло к растворению его в христианстве в целом. Учитывая, что впоследствии та же тенденция проявится и у Александра, ее вряд ли правомерно объяснять лишь индивидуальными особенностями своевольного и взбалмошного правителя.
Державная идея, воодушевлявшая Павла, в революционную эпоху не могла не трансформироваться в идею российского доминирования в Европе, призванного гарантировать ее, а значит и Россию, от революций. Но оно заведомо не могло быть принято европейскими народами как доминирование православия; оно могло быть осуществлено только на основе духовно-религиозной общности. Принятие Павлом поста гроссмейстера мальтийского католического рыцарского ордена, который был предложен ему членами ордена после захвата Мальты наполеоновскими войсками, символизировал претензию на общехристианскую роль России и ее правителя: в письме к римскому папе император квалифицировал свой шаг как «выдающуюся услугу Вселенной». Так державная идентичность в лице русского царя вступала в открытый конфликт с идентичностью православной, причем последняя не отодвигалась в сторону на петровский манер, а растворялась в другой, более широкой идентичности, которая русской идентичностью не была и стать ею не могла.
Намереваясь вернуть религии государственную роль, утраченную после церковного раскола и петровских реформ, Павел оказывался не от европеизма как такового, а от либерального европейского идеала своей матери во имя утверждения идеала средневекового. Будущее Европы и России он искал в прошлом. Рыцарская традиция насаждалась им в стране, которая этой традиции никогда не знала, ради духовно-нравственного подчинения дворянства,
100 См.: Уортман Р.С. Указ. соч. С. 239.
успевшего за предыдущее царствование почувствовать вкус свободы и свободомыслия. Рыцарские понятия о чести, преданности благородстве, иерархической субординации и дисциплине должны были сплотить дворян вокруг трона и заставить их служить ему не по принуждению, а по внутреннему побуждению. И если из всей этой затеи ничего не вышло, то не только потому, что средневековая Европа стала к тому времени невозвратным прошлым.
Дело еще и в том, что насаждавшееся Павлом европейское средневековье не было европейским. Во-первых, к рыцарству ему приходилось дворян принуждать. Во-вторых, рыцарская честь ничего общего не имела с «беззаветным служением», к которому император хотел вернуть русских дворян, получивших право не служить. Ведь рыцарская преданность господину (сюзерену) предполагала службу именно «по завету», основываясь на взаимных правовых обязательствах сторон. Поэтому заведомо нереализуемый проект Павла, стоивший ему жизни, интересен не сам по себе, а лишь как первый (но не последний) в России опыт соединения двух идентичностей – державной и религиозной, сопровождавшегося размыванием последней.
В этом отношении Александр, начавший с резкого отталкивания от идеологии и политики отца, во второй половине своего царствования мало чем от него отличался. Какое-то время, правда, в его мировоззрении и деятельности присутствовала и либеральная компонента, но в последние годы от нее уже почти ничего не осталось. Державная идея, воплотившись после победы над Наполеоном в реальное доминирование в Европе, неудержимо влекла русского императора к приданию этой идее религиозного смысла и пафоса. Его эволюция показательна уже потому, что воспитан он был на французских антиклерикальных текстах и глубокой набожностью, в отличие от Павла и Николая, в первый период своего правления не отличался. Но еще более показательна она тем, что тенденция к растворению православной идентичности в общехристианской, наметившаяся у Павла, у Александра получила законченное выражение.
Доминирующее положение России на европейском континенте, ее роль главного гаранта «вечного мира» и незыблемости монархического правления победитель Наполеона хотел закрепить идеологически. Иного способа, кроме средневекового подчинения политики религиозным христианским принципам, в его распоряжении не было. Но для этого о конфессиональном размежевании внутри христианства следовало забыть. Поэтому в договор о Священном союзе Речь шла о «едином народе христианском» и подчинении межгосударственных отношений «высоким истинктам, внушаемым вечным законом Бога Спасителя»101. Однако такое размывание религиозной идентичности ради защиты монархического принципа заставило Александра идти гораздо дальше, чем он первоначально намеревался.
Восстание греков против турок (1821) поставит его перед выбором: поддержать восставших православных единоверцев, объявив войну Турции, или остаться в стороне и тем самым косвенно солидаризироваться с иноверцами-мусульманами. Александр – вопреки, как он сам говорил, «мнению моей страны» – предпочел не вмешиваться. Потому что восставшие против султана греки воплощали ненавистный ему революционный дух, угрожавший монархическому порядку, гарантом которого он себя считал и в сохранении которого усматривал мессианское предназначение России, глобальное значение обретенного ею сверхдержавного статуса. Эта невольная солидаризация с мусульманской империей не сопровождалась, однако, ревизией религиозно-христианской идеологии Священного союза – до конца жизни Александр пытался последовательно и целенаправленно проводить ее как внутри страны, так и за рубежом. То была идеологическая уступка во имя тех политических целей, ради которых Священный союз создавался и по отношению к которым идеология играла подчиненную, вспомогательную роль.
Победитель Наполеона позволял себе пренебречь православной идентичностью своих подданных не только потому, что рассчитывал на самодостаточность идентичности державной. Дело еще и в том, что православие после петровских реформ и европеизации элиты воспринималось главным образом как народная религия, к государственной жизни прямого отношения не имеющая. Между тем в поисках религиозного обоснования государственной идеологии Александр, как до него и Павел, в понятии «народности» еще никакой потребности не ощущал. Более того, он испытывал Дискомфорт, когда ему, в силу обстоятельств военного времени, приходилось играть роль народного вождя: в этом ему виделось Проявление зависимости от подданных, которая в отечественную Политическую культуру никак не вписывалась. И еще более того: сам поворот императора к религии и религиозной мистике диктовался, скорее всего, и его желанием избежать такой зависимости
101 Цит. по: Зорин А.Л. Указ. соч. С. 312.
после победы в народной войне. «В течение первых месяцев после изгнания французской армии официальные заявления и панегирики перенесли заслугу победы с „народа" на Промысел Божий, превращая национальный триумф в религиозное чудо, сотворенное с помощью русской армии»102. Но каковы бы ни были мотивы такого поворота, он состоялся. Это и позволяет рассматривать Александра как последователя Павла и предшественника Николая.
Отступления Павла и Александра от православия к надконфессиональному христианству были первыми попытками найти идеологическую альтернативу просветительскому либерализму, придав державным притязаниям России на доминирование в Европе религиозное обоснование. Русские консерваторы как бы предлагали европейским консолидирующую духовную платформу и общий язык. Однако новые революции заставляли европейских консерваторов, в том числе и в странах Священного союза, искать идеологическое противоядие против идеи бессословной гражданской нации, превращая их постепенно в националистов. Это означало, что революционные угрозы, способствовавшие сохранению монархической солидарности на общехристианской основе, одновременно и подтачивали ее устои.
При таких обстоятельствах возвращение России от христианского универсализма к православной идентификации было закономерным, как закономерным был и поиск ею своей собственной альтернативы идее гражданской нации. Естественным логическим и историческим завершением этого процесса и стала уваровская триада, окончательно соединившая в государственной идеологии державную идентичность с православной. Однако исторические результаты такого соединения окажутся удручающими.
13.4. Прусская дисциплина против французского вольнодумства
Александровская политика неподдержки революционных выступлений православных народов против покорившей их Турции вовсе не означала отказа от такой поддержки вообще. И при Николае первое же военное столкновение с Османской империей (1828-1829),оказавшееся для России успешным, завершилось достижением договоренностей, согласно которым Россия «получила право вмешательства во внутренние дела Турции как заступница и покровительниц
102 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 295.
одноплеменных и единоверных ей подданных султана»103. Это само по себе не могло не стимулировать религиозную самоидентификацию государства, которая, получив еще один импульс от восставшей католической Польши, и обретет конкретное воплощение в уваровской формуле. Но такая самоидентификация, в свою очередь, наполняла новым содержанием и идентичность державную, которая предполагала теперь защиту веры и единоверцев за пределами страны.
Результатом избранной Николаем стратегической ориентации и станет со временем втягивание России в войну, получившую звание Крымской: первоначальным поводом для нее были некоторые преимущества, которые турецкий султан предоставил католическому духовенству в ущерб греко-православному в святых местах в Палестине. Разумеется, у этой войны, как и у любой другой, были и вполне прагматические экономические причины. Россию беспокоило становившееся все более явным перенасыщение мирового зернового рынка, и она рассчитывала, что победа над Османской империей позволит ей взять под контроль южно-европейские торговые пути и обеспечить преимущества для своего хлебного экспорта. Но и религиозный повод к столкновению не был малосущественным: он имел не только ситуативное, ной стратегическое измерение. Потому что требование Николая восстановить права православной церкви в Иерусалиме предъявлялось Турции в увязке с другим – подтвердить право православных подданных султана апеллировать к русскому государю в случаях обид со стороны турецких властей. И если первое требование османский правитель удовлетворил, то с ответом на второе, фактически предполагавшее появление у православных народов Османской империи второго государя, медлил, надеясь выиграть время104. Николай ждать не стал и начал войну.
Политика державного доминирования в Европе в силу присущей такой политике внутренней логики вела к попыткам расширить сферу доминирования, причем в том регионе, где оно в максимальной степени соответствовало и новой российской религиозно-идеологической доктрине, и старой ориентации на освобождение Константинополя и всех православных единоверцев от турок. Однако в разгроме ослабленной к тому времени Османской империи и, соответственно, еще большем усилении России никто
103 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. С. 548.
104 Подробнее см.: Геллер М. История Российской империи: В 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 287-288.
в Европе не был заинтересован. Поэтому Петербург сразу после начала войны оказался в международной изоляции, а все ведущие европейские страны оказались на стороне Турции – Англия и Франция послали на помощь ей войска, а Австрия и Пруссия объявили о нейтралитете, который в любой момент мог смениться вступлением в антироссийскую коалицию.
Поражение в Крымской войне было тем более чувствительным, что впервые в послепетровской России случилось на ее собственной территории. Оно выявило стратегическую тупиковость той державно-религиозной идеологической установки, которая формировалась в стране со времен Павла I и при которой альтернативой назревшим внутренним реформам и революционным угрозам выступало стремление повысить международный статус России посредством наращивания и демонстрации ее военной мощи. Потому что сама эта мощь именно благодаря такой установке и оказалась подорванной.
Преемникам Екатерины II удалось сохранить созданную ею государственную систему: волна европейских революций, вызывавшая у них наибольшее беспокойство, до России не докатилась. Законсервированный патриархально-замкнутый жизненный уклад большинства населения блокировал возникновение в народной культуре каких-либо альтернатив самодержавной («отцовской») модели властвования. Это, в свою очередь, позволяло отсекать такие альтернативы, формировавшиеся в среде европеизированного дворянства: декабристы, бывшие носителями иной, нетрадиционной для страны политической культуры и либеральных представлений о государстве, и в самом деле находились очень далеко от народа.
О том, что получалось при попытках соединения двух культур, хорошо видно на примере Александра I: начав свое царствование с поддержки либеральных проектов и развития системы европейского образования, он закончил его полным отказом от этих проектов, разгонами профессуры университетов и подчинением светского образования религиозному. В этом отношении реформатор Александр стал последователем консерватора Павла и предшественником консерватора Николая, которым либеральный идеал был чужд изначально. Когда вызовы революционной эпохи показались ему актуальными и опасными, он начал отвечать на них так же, как до него его отец, а после него – младший брат. Он отвечал на них свертыванием интеллектуальных свобод. Или, пользуясь выражением графа Уварова, возведением «умственных плотин».
Наступление на европейские либерально-просветительские идеи, хлынувшие в Россию в екатерининскую эпоху и превратившие культурный раскол в культурную пропасть, осуществлялось, как мы уже отмечали, посредством реанимации наследия допетровской и петровской эпохи. Из первой заимствовалась традиция религиозного освящения государственности, из второй – пафос милитаризации. То и другое призвано было идеологически и символически переоснастить екатерининскую государственность, способствовать сакрализации самодержавия и укрепить «вертикаль власти»- Однако после реформ Екатерины, узаконивших права дворянства и открывших ему широкий доступ к европейской культуре, выстроить жизнь по монастырскому уставу было еще сложнее, чем во времена Алексея Михайловича, а по уставу военному – много сложнее, чем при Петре I.
На протяжении шести послеекатерининских десятилетий в России воспроизводилась интеллектуальная оппозиция самодержавию или его конкретным формам со стороны европеизированной дворянской элиты. Она не исчезла даже после казни одних и ссылки других декабристов – ответом на это стало оформление отщепившейся от государства русской интеллигенции. В конце же николаевского царствования, когда власти отреагировали на европейские революции 1848 года репрессивной унификацией всей общественной жизни, в оппозицию оказались вытолкнутыми даже те, кто долгое время николаевский режим поддерживал. А последовавшие через несколько лет поражения в Крымской войне выявили со всей очевидностью: попытки опереться на религиозную и державную идентичность в ущерб интеллектуальной свободе делают в конечном счете уязвимой и саму державность.
Стабильность, выстроенная на религиозно-державном фундаменте, заблокировала развитие страны. Российский парусный флот не мог противостоять кораблям с паровыми двигателями. Офицерский корпус, воспитанный в атмосфере парадомании, формальной исполнительности и умственной несвободы, обнаруживал Нередко полную неготовность к принятию самостоятельных решений105. Екатерининские вольности даже в военном отношении были результативнее.
Таким образом, к середине XIX века Россия оказалась в глубоком системном кризисе. От угрозы революции, шедшей из Евро-
105 См.: Корнилов А.А. Указ. соч. С. 189.
пы, она попыталась отгородиться обновлением идеологии наращиванием державной мощи до такой степени, которая позволяла бы блокировать революционные тенденции в самой Европе. Это, в свою очередь, не могло не сопровождаться претензиями на европейскую гегемонию, которые у других стран, их правительств и народов не могли вызывать сочувствия. Противостоять же им всем Россия была не в состоянии.
Единственный ресурс, которым она располагала ресурс самодержавной государственной организации,- для этого оказался недостаточным. В результате послепетровской демилитаризации исчезла возможность его принудительной милитаристской мобилизации на петровский манер, а послеекатерининские ремилитаризации были нежизнеспособными уже потому, что были заимствованными и искусственными. Они были не русскими, а прусскими Формула «православие, самодержавие, народность» не передавала полностью официальный дух и пафос эпохи, ибо не включала в себя ту идею государственной военной дисциплины, которая насаждалась Николаем в аппарате управления.
В отличие от прежних милитаризации – допетровских и петровской – это была попытка совместить военно-приказные порядки с дарованными Екатериной свободами. Образцом такого совмещения и служила императору военно-бюрократическая Пруссия, где идея государственной дисциплины вошла в культуру и стала добровольно принимавшимся императивом поведения. Однако превратить Россию в Пруссию Николаю не удалось. В том, что касалось армейской муштры и демонстрации ее результатов на парадах, он преуспел. В том, что имело отношение к внешней регламентации управления и других сфер деятельности, – тоже. Но в итоге ему было суждено подвести страну к той черте, за которой бесперспективность стратегии повторной милитаризации стала очевидной даже для ее бывших сторонников.
Этой стратегии в той или иной степени следовали все три послеекатерининских правителя. Восхищавшийся прусской армией и прусской государственной системой Павел выступил ее инициатором. Ей, однако, ничего не смог противопоставить и Александр, который поклонником прусских порядков не являлся, как не был предрасположен, в отличие от отца и брата, и к замыканию на себя военно-бюрократической властной вертикали. Но, не будучи склонным к текущему управлению и тяготясь им, он передал это управление не кому-нибудь, а именно Аракчееву, одному из самых последовательных сторонников военно-бюрократического начала. Аракчееву же было поручено и устройство военных поселений, саму идею которых Александр позаимствовал из немецких источников, но реализовал их с несвойственным немцам русским размахом. При общей стратегической ставке на державное доминирование в Европе различия между либералом Александром и консерваторами Павлом и Николаем отступали на второй план.
Тем не менее именно при Николае прусская милитаристско-бюрократическая ориентация реализовалась наиболее полно и всесторонне. И дело не только в том, что в период его тридцатилетнего правления максимальных масштабов достигло и до того значительное присутствие на высших государственных должностях, с одной стороны, немцев, а с другой – военных (половина членов Государственного совета, министров и губернаторов были генералами). Дело и в том, что Николай, озабоченный выступлением декабристов, осуществил переориентацию государства с дворянства на чиновничество посредством обюрокрачивания самого дворянства с сопутствовавшим понижением сословного и повышением должностного статуса его представителей. В результате возникло такое положение вещей, когда «дворянин на службе (в том числе и в дворянских собраниях. – Авт.) был сначала чиновником, а потом дворянином»106. А официальный статус дворян, на службе не состоявших, определялся не происхождением, а чином. Место Пушкина в этой системе было местом камер-юнкера.
Но ремилитаризация управления, адаптированная к демилитаризированному жизненному укладу дворянства, тоже оставалась ритуально-символической. Культивирование сознательной и внутренне мотивированной прусской дисциплины как альтернативы французскому вольнодумству укрепило русскую дисциплину начальствопочитания, органично сочетавшуюся с коррупционной свободой.
Николай допустил и даже одобрил постановку на сцене гоголевского «Ревизора». Наверное, в описанных писателем чиновничьих
106 Миронов В.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ вв.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 148. Выступление декабристов показало, что «дворянство ‹… › переставало быть надежной и удобной опорой власти, потому что в значительной степени ушло в оппозицию ‹… › Став независимо от заподозренной дворянской среды, правительство пыталось создать себе опору бюрократии и желало ограничить исключительность дворянских привилегий» (Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 531).
нравах он усматривал дополнительное оправдание своего «прусского» курса на выстраивание рациональной административной системы. Но ее создание не мешало жизненным прототипам гоголевких персонажей служить так, как они привыкли, рассматривая возможность кормиться за счет населения как вознаграждение за лояльность. Свои успехи в деле нравственного очищения бюрократии Николай охарактеризовал в известной констатации: «Я думаю, во всей России только я один не беру взяток». Наверное (и даже наверняка), это – преувеличение. Но беспричинно такие оценки не появляются. Выстраиваемые «вертикали власти» как были, так и оставались в России вертикалями коррумпированных частных интересов. Потому что сохранялись системные причины этого явления, о которых мы неоднократно говорили выше.
Не помогло и осуществленное упорядочивание законодательства. При Николае был наконец-то составлен полный свод законов, и сам император декларировал готовность подчиняться установленным юридическим нормам. Он, например, ставил себе в заслугу, что до восстания 1830 года, будучи убежденным противником конституционного правления, сохранял его в Польше107. На этом основании в прошлом и настоящем предпринимались и предпринимаются попытки представить Николая русским персо-нификатором европейского идеала просвещенного абсолютизма. Но его просвещенные современники таковым его не считали, потому что правовая щепетильность сочеталась у императора с неприятием прав и свобод подданных, включая свободу интеллектуальную, и охранительно-утилитарным отношением к самому просвещению.
Николаевская эпоха и завершившая ее военная катастрофа выявили, повторим еще раз, тупиковость политики, при которой внутренние проблемы замораживаются посредством реализации державных претензий на международное доминирование. В результате даже консервативные политические мыслители начали на исходе этой эпохи склоняться к выводу, что внешнеполитические цели России противоречат целям национальным108. К моменту воцарения Александра II общественная атмосфера для проведения реформ в стране уже в значительной мере сформировалась.
107 См.: Кюстин А. де. Москва в 1839 году // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 489.
108 См., например: Погодин М.Л. Сочинения: В 5 т. М., 1876. Т. 4. С. 245-271.
Глава 14 Авторитарно-демократический идеал
В последние десятилетия некоторые исследователи обратили внимание на оригинальную цикличность отечественной истории, проявлявшуюся в чередовании в ней авторитарных и относительно либеральных периодов, реформаторских начинаний и попятных движений (реформ и контрреформ)109.Такие маятниковые колебания можно обнаружить уже в допетровской Руси, но тогда они проявлялись не столь отчетливо и последовательно, как в послепетровской России. Иной была и их социально-экономическая природа: в большом милитаристском историческом цикле от Ивана III до Петра I речь могла идти лишь о разной степени милитаризации, о чередовании жестких и сравнительно мягких ее вариантов, а не о смене общего милитаристского вектора.
После Петра III и Екатерины II, легитимировавших частные интересы отдельных сословий, прежде всего дворянства, ситуация принципиально изменилась. В процессе эволюции екатерининской государственной системы мы наблюдаем чередования не жесткой и мягкой милитаризации, а демилитаризаторской и ремилитаризаторской тенденций. При этом речь, строго говоря, не идет о циклической смене реформ и контрреформ: если под последними понимать попятное движение, т.е. возвращение к доекатерининской государственной системе, то они имели место только при Павле. Кроме того, нереализованные либеральные проекты Александра I не дают достаточных оснований для его оценки как реформатора в противоположность контрреформатору Николаю. Наконец, политическая эволюция Александра свидетельствует о том, что колебания исторического маятника могли происходить не только при смене царствовавших персон, но и при одном и том же правителе. А это значит, что и причину таких колебаний следует искать не в исторических личностях, а в природе самой екатерининской системы.
109 См.: Янов А. Тень Грозного царя. М., 1997 С. 122-160.
Ее базовыми элементами были неограниченная самодержавная власть, наделенное сословными привилегиями дворянство и закрепощенное крестьянство. Эти элементы друг с другом не стыковались – ни на уровне интересов, ни на уровне ценностей. Самодержавная власть, опиравшаяся на «отцовскую» культурную матрицу, не имела никакой возможности согласовать ее с наличием привилегированного сословия, находившегося между властью и народным большинством. С другой стороны, и само это привилегированное сословие, которому был открыт доступ к европейской культуре, начинало отщепляться от самодержавия тяготиться его неограниченностью. При таких обстоятельствах власть просто обречена была на колебания между уступками дворянству, как главной опоре трона, и давлением на него после того как уступки неизбежно оборачивались возраставшей зависимостью от дворянской элиты и кризисом управляемости. И иного способа, кроме частичной ремилитаризации системы, у самодержавия не было.
Однако именно потому, что ремилитаризация была лишь частичной и в значительной степени имитационной, она требовала нового идеологического оснащения. После Екатерины II дорога к практике Петра I была перекрыта. Соединить екатерининскую государственную систему с петровской можно было только символически, возвращая государственности ее религиозную и «народную» составляющую. Другой путь предполагал не символическое, а реальное включение народного большинства в государственную жизнь, что означало бы демонтаж екатерининской системы, выход за ее исторические границы. После того как крымские военные поражения выявили ее исчерпанность, такой поворот стал неизбежным.
Реформы Александра II означали новую коррекцию отечественного авторитарного идеала: в него, наряду с либеральной, впервые вводилась демократическая компонента. Эти реформы не прервут цикличность российского исторического маршрута: политические оттепели в нем по-прежнему будут чередоваться с заморозками. Однако социальная природа тех и других существенно изменится. Иным станет и их качество: после подключения народного большинства к государству оттепели, или, что то же самое, либерализации политического режима, начнут сопровождаться более глубокими, чем раньше, системными реформами, а заморозки – частичными контрреформами. Те и другие будут представлять собой попытки соединить авторитарный идеал с демократическим, превратить их неорганичное сочетание в жизнеспособный политический гибрид, поочередно опираясь на разные его составляющие.
14.1. Разгосударствление общества
Значительные перемены происходят в истории лишь постольку, поскольку они подготовлены самой историей. Или, говоря иначе, лишь, постольку, поскольку они находят опору в интересах и ценностях влиятельных элитных групп и населения в целом. Это, правда, не относится к принудительным реформам типа петровских, но они осуществлялись, во-первых, в условиях войн, а во-вторых, при крайней ослабленности прежней боярской и церковной элиты, лишенной воли к сопротивлению, и неоформленности элиты новой, дворянской. В любом другом случае подобные резкие движения невозможны. Тем более, если речь идет не о тотальном закрепощении, а о раскрепощении, затрагивающем интересы элитных групп.
Екатерина II, которой идея отмены крепостного права была отнюдь не чужда, столкнувшись с всеобщим неприятием этой идеи дворянством, вынуждена была от нее отказаться. Однако ко времени воцарения Александра II дворяне значительно изменились. Европейские культура и образованность, несмотря на все «умственные плотины» послеекатерининских десятилетий, успели пустить в дворянской среде – не только столичной, но отчасти и провинциальной – глубокие корни и способствовали развитию представлений о надсословном общем интересе, которые во времена Екатерины еще только зарождались. Этому содействовали как неудачи в Крымской войне, поколебавшие уверенность в военно-державной неуязвимости России и обострившие у элиты чувство государственной ответственности, так и продолжавшиеся на всем протяжении послеекатерининского периода локальные крестьянские выступления против помещиков, которые властям приходилось нередко подавлять военной силой110. Поэтому, когда Александр II в начале своего царствования призвал дворян не дожидаться, пока крестьяне освободят себя снизу, и освободить
110 Только за время царствования Николая I историки фиксируют не менее 556 крестьянских волнений. В новую пугачевщину они – в силу отмеченных выше причин – не переросли, но нередко охватывали целые деревни, а порой и волости. (см.: Корнилов А.Л. Указ. соч. С.162).
их сверху, это прозвучало для многих неожиданно, но шока не вызвало. Можно сказать, что к осознанию общего интереса, возвышающегося над интересами частными и групповыми, дворянская элита подталкивалась не только осваиваемой ею европейской культурой, но и частными (и сословными) интереса дворян.
Речь идет не только о том, что обнаружившиеся слабости государственной системы вызывали у представителей этого сословия ощущение негарантированности их привилегированного положения. Речь идет и о том, что повседневный хозяйственный опыт помещиков постепенно убеждал их в исчерпанности крепостного права. Крестьянский вопрос превращался в глазах многих из них в вопрос общий, потому что начинал восприниматься как имеющий прямое отношение к их собственному проживанию.
После наполеоновских войн в России происходил довольно быстрый рост численности населения. В результате в густонаселенных центральных регионах страны, особенно черноземных, число крепостных крестьян увеличивалось. Обеспечить их земельными наделами помещики уже не могли. Это подрывало всю систему крепостного хозяйствования – если крестьяне не получали возможность обеспечивать свое существование собственным трудом, то их нельзя было использовать и для безвозмездных сельскохозяйственных работ на помещиков. Последние не нашли ничего лучшего, как переводить «лишних» крестьян в свою личную обслугу. В результате размеры помещичьих дворен стремительно возрастали, а вместе с ними – и помещичьи расходы на их прокормление111.
Ситуация усугублялась и тем, что наполеоновские войны, познакомившие дворян – в ходе заграничных походов русской армии – с европейской жизнью и ее стандартами, вызвали в их среде непреодолимое желание этим стандартом следовать. Увеличение расходов, не сопровождавшееся ростом хозяйственной эффективности, вело к тому, что помещики брали деньги в кредитных учреждениях под залог своих крепостных, и уже к середине XIX века большинство этих крепостных фактически им не принадлежало112. Все это, вместе взятое, и подготавливало дворянство к мысли о том, что крепостное право себя изжило.
111 См.: Там же. С. 104, 161.
112 См.: Там же. С. 162.
Поэтому Александр II, приступая к реформам, столкнулся не с оппозицией самой идее раскрепощения, а с желанием многих помещиков осуществить его на максимально выгодных для себя условиях. Помещики черноземных губерний хотели сохранить за собой всю принадлежавшую им землю, что оставляло бы освобожденных крестьян в полной экономической зависимости. Помещики губерний нечерноземных изъявляли готовность поделиться своей малоплодородной землей с крестьянами лишь при компенсации их стороны оброчных платежей, которые поступали не столько от сельскохозяйственной, сколько от промышленно-промысловой деятельности крестьян и которые в нечерноземной зоне были основным источником помещичьих доходов. Император и его министры понимали, что освобождение на таких условиях чревато социальным взрывом. Поэтому они пошли по пути долгих переговоров с представителями дворянства и столь же долгих поисков компромисса между его сословным интересом и интересом общим – воцарение Александра и его Манифест об освобождении крестьян разделяли шесть лет.
Достижение такого компромисса свидетельствовало о том, что представление об общем надсословном интересе, ранее дворянству чуждое, у него к этому времени успело сложиться. Однако характер компромисса свидетельствовал о том, что сословно-эгоистическое начало в сознании большинства помещиков оставалось доминирующим. На их стороне было дарованное им Екатериной и юридически зафиксированное право земельной собственности, втом числе и на крестьянские наделы. И они сумели его отстоять. Уступка заключалась лишь в том, что они согласились эти наделы уступить своим бывшим крепостным за деньги, т.е. продать, причем размер выкупа включал в себя и потери помещиков от утраты ими оброчных платежей.
Учитывая, что необходимых для выкупа денег у большинства крепостных не было, а земельные участки, которые они могли получить без выкупа, были весьма незначительными, им приходилось арендовывать землю у своих бывших господ, за что тоже приходилось платить – трудом или деньгами. Кроме того, оставались в силе и государственные повинности, причем более двадцати лет после освобождения просуществует и самая обременительная из Них подушная подать – введенный еще Петром I налог, которым облагались не земля и не доходы, а само физическое существование человека, т.е. его жизнь. В совокупности все это и предопределит дальнейшее развитие страны и предстоявшие ей в недалеком будущем великие потрясения.
Крестьянский вопрос в своем прежнем виде был снят, крепостное право отменено. Тем самым была продолжена начавшаяся при Петре III и Екатерине II демилитаризация российской государственности. Но после этого последняя лишалась еще одной из прежних своих опор. Самодержавная власть превращалась в рудиментарную форму, которой предстояло наполнить саму себя новым содержанием, подвести под себя новый фундамент. В ее распоряжении оставалась лишь «отцовская» культурная матрица, которой предстояло едва ли не самое серьезное за всю отечественную историю испытание – испытание народной свободой, с данной матрицей несовместимой.
С отменой крепостного права возникали, по меньшей мере, две управленческие проблемы, которых екатерининская государственная система не знала. Легитимация частных интересов крестьян и наделение их определенными правами выдвигали в повестку дня вопрос об институтах, которые могли бы обеспечить учет этих интересов и защиту этих прав. С другой стороны, ликвидация крепостной зависимости крестьян от помещика лишало государство ключевого управленческого звена в деревне, где именно помещик представлял административную власть и обеспечивал реализацию одной из главных ее функций – сбор податей. При таких обстоятельствах сохранение «вертикали власти» могло быть обеспечено только значительным увеличением армии чиновников, которых у самодержавия и без того не хватало. Поэтому ему ничего другого не оставалось, как пойти на демонтаж однополюсной модели властвования и вводить в него второй, народный (без кавычек) полюс, сделав его относительно самостоятельным. Появление такого полюса на местных уровнях стало естественным следствием крестьянской реформы. В данном случае мы имеем в виду не новую роль сельской общины, которой были переданы функции помещика и к которой мы еще вернемся, а земское самоуправление.
Элементы местного самоуправления существовали в Московской Руси издавна, и Иван Грозный, вознамерившийся заменить «кормленщиков» избранными населением людьми, опирался на уже существовавшую традицию. Можно даже сказать, что в данном отношении вся послемонгольская история страны представляла собой колебательное движение между бюрократическим и выборно-самоуправленческим началом. Однако последнее никогда не было автономным, а было придатком властно-бюрократической вертикали, ее подсобным инструментом. Это относится и к введенному при Екатерине II сословно-дворянскому самоуправлению в губерниях и уездах, о чем выше уже говорилось, а учрежденное ею же всесословное выборное самоуправление в городах в большинстве из них и вовсе осталось лишь на бумаге. Самоуправление без финансовой самостоятельности или, говоря иначе, без права самообложения, т.е. учреждения и сбора местных налогов, самоуправлением не является. Такого права России раньше никогда не было. Поэтому и история отечественного самоуправления началась, строго говоря, лишь после земской реформы Александра 11.
Земские выборные учреждения в губерниях и уездах стали всесословными и получили право самообложения. Аналогичные учреждения были введены и в городах. Тем самым авторитарный идеал впервые ограничил себя в пользу идеала демократического. Конечно, ограничение это было незначительным: самодержавие поступалось частью административной власти на местах, сохраняя властную монополию в центре и оставаясь единственным в стране политическим субъектом. Кроме того, всесословность земств вовсе не означала, что сословия получали в них равное представительство: незначительное дворянское меньшинство имело в земских учреждениях столько же депутатов, сколько по отдельности жители городов и крестьянское большинство. Если учесть, что во главе земств находились местные предводители дворянства, а также культурное превосходство последнего, то демократическое содержание реформы не покажется очень глубоким, а ее критика некоторыми современниками – неоправданной. Однако отсюда следует лишь то, что народный полюс власти был слабым, и вовсе не следует, что он не появился вообще. То был реальный и принципиально новый для России шаг в демократическом направлении, который открывал перспективу разгосударствления общества и формирования в нем гражданского начала.
Другим таким шагом стала судебная реформа. Освобождение крестьян и распространение на них идеи права (до того они имели только обязанности) ставило в повестку дня вопрос о замене сословного суда всесословным и его независимости от администрации, что, в свою очередь, требовало введения несменяемости судей, значительного повышения оплаты их труда, а также обеспечения состязательности сторон в сочетании с гласностью и открытостью судебного разбирательства. Раньше ничего этого в России не было: судили под покровом канцелярской тайны, без прений сторон и адвокатов, судьи очень часто не имели специального, а порой и вообще какого бы то ни было образования, жалованье получали мизерное, а любое их решение могло быть отменено административной властью в лице губернатора и возвращено для пересмотра.
Историки до сих пор спорят о том, насколько способствовало все это произволу и коррупции и насколько широк был размах судейских злоупотреблений до реформ Александра II. Но если он решился на отказ от сложившихся в стране традиций судопроизводства и его радикальную перестройку в соответствии с европейскими правовыми принципами, уже одно это свидетельствует: современникам положение дел представлялось гораздо менее благополучным, чем выглядит оно в глазах некоторых нынешних историков.
Как и в случае с земским самоуправлением, судебная реформа Александра II была не до конца последовательной в проведении принципа всесословности. Более того, на крестьянское большинство она распространялась в весьма незначительной степени. В деревне еще долго будет доминировать обычное право, основанное на традиции, а не на законе; такое положение вещей во многом сохранится вплоть до 1917 года. Правовая обособленность крестьян обусловливалась как опасениями властей, пытавшихся изолировать деревню от влияния города, так и архаичной культурой самих крестьян. Они предпочитали разбирать большинство конфликтов в общине, руководствуясь понятными им обычаями, потому что правовые абстракции их сознанием не были освоены, а юридически-судебные процедуры, на этих абстракциях основанные, казались чуждыми и доверия не вызывали.
Последствия такого раскола между государственно-правовой и догосударственной культурами окажутся для страны трагическими, о чем нам еще предстоит говорить более обстоятельно. Но позднейший обрыв наметившейся при Александре II новой тенденции не должен заслонять саму тенденцию. Движение к независимости суда, проявившееся в установлении несменяемости судей, существенном повышении их должностных окладов, открытой и гласность разбирательства, возникновение адвокатуры и института присяжных заседателей – все это впервые вошло в жизнь и, наряду с земствами, способствовало разгосударствлению и общества, обретению им определенной самостоятельности по отношению к государству.
Наконец, после проведенной при Александре II военной реформы всесословной стала и российская армия. Отныне она – тоже на европейский манер – комплектовалась на основе всеобщей воинской повинности, т.е. не только из крестьян, но и из других слоев населения, причем срок службы в ней был значительно сокращен и, в зависимости от уровня образования, составлял от шести месяцев до шести лет. Тем самым из милитаристской государственной системы, созданной Петром I, был изъят последний базовый элемент. Армия переставала быть изолированным от населения институтом, что тоже вполне соответствовало общей тенденции разгосударствления общества.
Однако эта тенденция во всех своих проявлениях ставила под вопрос само существование самодержавной формы правления, ибо лишала ее исторически сложившихся системных опор. Принцип всесословности призван был вывести страну из глубочайшего социокультурного раскола. Вместе с тем, само наличие такого раскола обусловливало непоследовательность в реализации данного принципа, а такая непоследовательность парадоксальным образом вела не столько к смягчению, сколько к обострению раскола.
14.2. Из девятого века в девятнадцатый: прыжок через тысячелетие
Реформы Александра II были в ту эпоху самыми радикальными в мире. Их общий вектор был направлен во второе осевое время, основной особенностью которого – в отличие от первого осевого времени – является не религиозный, а светский универсализм, распространяющийся не только на область знания (наука), но и на государственное и общественное устройство (всеобщность законодательного регулирования и гражданских прав). Однако такой Универсализм предполагает культурную однородность населения, его элитных верхов и народных низов. В культурно расколотой России этой важнейшей предпосылки не было. Как заметил один из современников александровских реформ, «русская жизнь сложила лишь два пласта людей – привилегированный и непривилегированный, отличающиеся между собой в сущности не столько привилегией, как тем коренным отличием, что они выражают, каждое, различную эпоху истории: высшее сословие – XIX в., низшее – IX в. н. э.»113. В такой ситуации переход к универсальным принципам законности и права, который не завершился к тому времени и в Европе, для России был равнозначен прыжку через тысячелетие.
Правда, в определенном смысле принцип законности утвердился в стране еще в дореформенную эпоху – верховная власть, оставаясь в законотворчестве самодержавной и неограниченной, тем не менее поставила себя под контроль создаваемых ею юридических норм и откровенного произвола после Павла I себе уже не позволяла. Однако принцип этот не был универсальным – крестьяне продолжали жить по обычаю, а не по закону114. Что касается гражданских прав, то они были локализованы в узких сословных группах. Поэтому, как мы уже отмечали, подавляющее большинство населения, замкнутое в локальных сельских мирах и лишенное необходимого опыта и знаний, не могло быть восприимчивым к самой идее права, освоение которой предполагает достаточно развитую способность к оперированию абстракциями. Иными словами, вхождение во второе осевое время России предстояло осуществить в условиях, когда основная масса населения находилась в промежуточном культурном пространстве между первым осевым временем (чувство православной общности было ему свойственно) и доосевым, догосударственным состоянием.
Не удивительно поэтому, что реформы Александра II, как и преобразования его предшественников Петра I и Екатерины II, одновременно и сближали Россию с Европой, и уводили в сторону от нее. Страна волей власти-моносубъекта пыталась измениться, не сходя со своего «особого пути». Но изменения, устранявшие базовые опоры исторически сложившейся государственности, поставят
113 Фадеев Р.А. Русское общество в настоящем и будущем. (Чем нам быть?) // Русский исторический журнал. 1999. Т. II. №4. С. 22.
114 При Николае I (в 1838-1843 годах) был а, правда, проведена реформа целью которой был перевод жизненного уклада государственных крестьян, составлявших почти половину (49%) крестьянского населения страны, на законодательное регулирование. Однако к сколько-нибудь заметным изменениям в правовой культуре за короткий период до освобождения крестьян это не привело, а после освобождения бывшие государственные крестьяне с точки зрения законодательного регулирования их жизни перестали отличаться от бывших помещичьих (об этой реформе ее результатах см.: Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 449-450).
государственность перед проблемами, с которыми она никогда раньше не сталкивалась и которые в конечном счете окажутся для нее непосильными.
Освобождение крестьян не только не решило крестьянский вопрос, но и обострило его. Предоставленное крестьянам право представительства в органах местного самоуправления само по себе не могло обеспечить интеграцию догосударственных сельских миров в государство, потому что непосредственного отношения к повседневной жизни деревни эти органы не имели. Вместе с тем ликвидация промежуточного звена между государством и крестьянами в лице помещика создавала управленческий вакуум, который нужно было чем-то заполнить. Заполнили же его таким образом, что позиции догосударственной культуры не только не ослабевали, но и упрочивались, получив более определенное, чем раньше, институциональное оформление.
Фискальные, полицейские и другие функции помещика и его представителей были переданы сельским общинам, переименованным в сельские общества. На них была возложена коллективная ответственность за обеспечение податных платежей, для чего узаконивалась круговая порука, предполагавшая и право общины удерживать в ней желавших из нее выйти. В результате догосударственный вечевой институт сельского схода оказался вмонтированным в государственное тело, в котором был культурно чужеродным. Но это означало государственную институционализацию потенциальной смуты, которая, в отличие от революции, есть ни что иное, как разрушительная стихия, движимая архаичным вечевым идеалом, т.е. осознанным или неосознанным стремлением перестроить государство по культурно-ценностным лекалам догосударственных локальных общностей. Нельзя сказать, что против такого повышения роли общины не было возражений. Они имели место115, но не были приняты во внимание. Власть хотела проводить модернизацию государственности, опираясь на традицию, на складывавшийся веками народный жизненный уклад. Но модернизация, опирающаяся на архаику, рано или поздно заводит в исторический тупик. России суждено было стать первой, ноне последней страной, которой это пришлось испытать. Взрыв произойдет не сразу, но через несколько десятилетий законсервированная община обрушит государство и станет моделью
115 См. об этом: Христофоров И.Л. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. М., 2002.
для новой его разновидности, какой мировая история до того не знала. Во времена же Александра II власть столкнулась не со смутой, а с ее первыми идеологическими и политическими симптомам. Она столкнулась с очередным вызовом со стороны европеизированной культуры, приступившей к целенаправленному поиску контактов с культурой крестьянского большинства и распавшейся по ходу такого поиска на множество направлений и оттенков.
Начавшаяся реализация авторитарно-демократического идеала создавала в образованном и полуобразованном обществе духовную атмосферу, отторгавшую авторитарную составляющую этого идеала. Слово «народ» становилось сакральным символом эпохи, выражая одновременно и высший идеал, к которому надлежит стремиться, и главную проблему, которую предстоит решить. Этому способствовали как проводимые реформы, которые впервые вводили народное большинство в жизнь государства, так и их последствия: раскрепощение крестьян, повторим, не столько решало крестьянский вопрос, сколько трансформировало его в новый вопрос о земле, усугублявшийся к тому же демографическими факторами – быстрый рост численности населения продолжался и в пореформенный период. Сам народ еще безмолвствовал, но народничество европеизированной культуры становилось повсеместным и всепоглощающим, проявляясь в широчайшем диапазоне от одноименного движения интеллигенции до новых веяний в искусстве (художники-передвижники, композиторы «Могучей кучки»),
Не все в этом почти всеобщем народопоклонстве было оппозиционным по отношению к самодержавной государственности и не все оппозиционное – радикальным. Многие дворяне с воодушевлением принялись за работу в земствах, рассматривая ее как служение народному делу, сближающее разные сословия, способствующее преодолению их культурной расколотости. Эти люди наглядно демонстрировали, что осознание всесословного общего интереса у наиболее просвещенной и деятельной части дворянства к тому времени успело вытеснить внутрисословный эгоизм. Они были приверженцами дальнейшей европеизации, ее распространения на все группы населения, хотя и по-разному ее понимали.
Одни полагали, что деятельность в земствах ради обустройства народного быта вполне совместима с самодержавием как наиболее органичной для России формой правления. Другие рассматривали такую деятельность как необходимую подготовительную стадию на историческом пути к конституционному правлению.
Третьи призывали императора не ждать и «увенчать здание» местного земского представительства представительством всероссийским в виде Земского собора или парламентского учреждения западного типа, ибо, по их мнению, собственными силами с новыми задачами самодержавию было не справиться116.
Однако делиться политической властью не входило в намерения Александра, не без оснований полагавшего, что с самодержавием это не совместимо. В свою очередь, его неприятие конституционных проектов создавало благоприятную почву для возникновения радикальных антисистемных настроений в разночинной и даже дворянской среде, получавших все более широкое распространение, и появления соответствовавших им радикальных идеологий.
Из учебников истории читатель знает и о революционном демократизме Чернышевского, и о «нигилизме» Писарева, и о революционных прокламациях той эпохи, и о «хождении в народ», и о многочисленных покушениях на царя-освободителя, завершившихся его гибелью. Осведомлен он, наверное, и о тогдашней общественной атмосфере, в которой суды присяжных оправдывали террористов, а Достоевский сделал выразительное признание: узнай он о готовящемся покушении на царя, властям – дабы не прослыть доносчиком – об этом не сообщил бы. Нам же, исходя из нашей задачи, важно подчеркнуть: революционные альтернативы самодержавию, формировавшиеся в лоне европеизированной русской культуры, основывались, как правило, на представлении об особой роли сельской общины в новом государственном и общественном устройстве.
Речь шла о государственной альтернативе, основанной на догосударственной народной культуре. Или, говоря иначе, о зарождавшейся идеологии русской смуты и нового «особого пути». Такое отторжение авторитарно-демократического идеала ради идеала последовательно демократического открывало дорогу не европейской демократии, а видоизмененному авторитаризму, опиравшему-
116 Показательно в данном отношении заявление тверского дворянства, принятое в 1862 году. Осуществление реформ, говорилось в этом документе, «невозможно путем правительственных мер, которыми до сих пор двигалась общественная жизнь. Предполагая даже полную готовность правительства провести реформы, дворянство глубоко проникнуто тем убеждением, что правительство не в состоянии их совершить. Свободные учреждения, к которым ведут эти реформы, могут выйти только из самого народа, а иначе будут одною только мертвою буквою и поставят общество в еще более натянутое положение». Выход, по мнению авторов, только один – «собрание выборных от всего народа без различия сословий» (цит. по: Корнилов А.А. Указ. соч. С. 241-242).
ся на модернизированную вечевую традицию. Понятно, что радикалы того времени подобного исхода не предвидели, а большинство из них его и не желало. Но идеи живут своей собственной жизнью и подчиняются собственной логике. Екатерина II, открыв шлюзы для европейской культуры, тоже не подозревала, что одним из результатов ее деятельности станет появление Радищева, а потом и декабристов.
Синтезирование европейской культуры с отечественным традиционализмом вело к появлению нового человеческого типа, в сознании которого идеализм «беззаветного служения» царю сменился идеализмом «беззаветного служения» народу, не оставив места ни для европейского индивидуалистического утилитаризма, ни для европейского либерализма. Идеологическим же продуктом такого синтезирования стал русский революционный социализм, из которого вырастет со временем второе издание петровского государственного утилитаризма в исполнении большевиков. Их доктрина отвергнет упование на крестьянскую общину, которая выглядела в их глазах рудиментом средневековья, обреченным на исчезновение. Большевистский идеал «социалистической демократии» – это идеал радикального разрыва с архаикой. Но его культурные корни были именно в архаике, которая – в идеологически обновленном виде – и обусловила специфические особенности его модернистского содержания.
Возвращаясь же во времена Александра II, отметим, что проявившиеся вскоре после начала реформ их идеологические и политические последствия в значительной степени предопределили сложный, зигзагообразный маршрут пореформенного развития. Реакцией на них стали частичные контрреформы, реанимировавшие и модифицировавшие применительно к новым условиям опыт николаевского царствования. В первую очередь они ассоциируются с именем Александра III, сменившего на троне своего убитого террористами отца. Но начались они еще при царе-освободителе.
14.3. Военные победы и невоенные поражения
Самодержавная власть – в том виде, в каком она сложилась в России, – могла инициировать раскрепощение населения и создание независимых общественных институтов. Она не могла, однако, довести эту историческую работу до завершения по той простой при чине, что раскрепощение было несовместимо с ее политической природой, а потому неизбежно сопровождалось ее ослаблением. Вместе с тем в обществе не сложилась и альтернатива самодержавию, появление которой блокировалось им на протяжении столетий. Неограниченная власть царей и императоров была политическим цементом, скреплявшим культурно расколотую страну. Под влиянием новых вызовов власть эта вынуждена была отдать часть полномочий созданным ею же другим институтам, не отказываясь, однако, от своей неограниченности. В подобных исторических ситуациях возникает обычно ощущение неопределенности перспектив, которое компенсируется радикальными абстрактными идеалами и иррациональными акциями против власти.
Выстрел Каракозова в Александра II (1866) был первым наглядным проявлением умственной смуты, надвигавшейся на страну и первым предвестником смуты социальной и политической, репрессивная культура, насаждавшаяся самодержавием на всем протяжении его существования, обернулась возникновением репрессивно-террористической контркультуры. К этому новому вызову, идущему не из гвардейских казарм, а с улицы, самодержавие оказалось совершенно неподготовленным. Государственные институты не смогли ни предупредить многочисленные покушения на императора, ни обеспечить его защиту от них, не говоря уже о защите его высокопоставленных чиновников. Но новизна вызова заключалась не только в угрозах безопасности самодержца и других должностных лиц.
Небывалая и немыслимая прежде охота террористов на императора означала, что под сомнение поставлена легитимность самого самодержавного принципа. В этом отношении предшественниками Перовской и Желябова были Рылеев и Пестель. Но у декабристов не хватило решимости поднять руку на царя. Возможно, в том числе и потому, что в их время еще не произошел поворот от сакрализации правителя к сакрализации народа. Последний выглядел в глазах декабристов пассивным и инертным объектом, освободить который была призвана просвещенная европеизированная элита. Революционеры времен Александра II ставили перед собой принципиально новую задачу – возвысить крестьянские низы до уровня, при котором они под руководством революционных вожаков освободят себя сами в большей степени, чем сделал это царь-освободитель. «Хождение в Народ» показало, что такие идеи самому народу были культурно чужды, что «отцовская» самодержавная матрица укоренена в его сознании гораздо глубже, чем многим казалось. Террористическая война против императора была, помимо прочего, и попыткой разрушить эту матрицу: сам факт умерщвления сакрального правителя должен был способствовать десакрализации самодержавного принципа властвования. Убийство Александра II продемонстрировало ошибочность замысла: насильственная ликвидация конкретного царя не могла преодолеть неизжитую народным сознанием идею царской власти, сохранявшую свой культурный аналог в патриархальном бытовом укладе.
Факт, однако, и то, что дарованная самодержавием дозированная демократия ставила государственность перед новыми, доселе неведомыми проблемами. Они обозначились почти сразу после отмены крепостного права в виде петербургских пожаров, приписывавшихся революционерам и создававших нервозную атмосферу в столице, первых антицарских прокламаций и публицистики радикальных изданий, оказывавшей все большее влияние на умы. Приостановка выхода журналов «Современник» и «Русское слово», арест их ведущих сотрудников Чернышевского и Писарева стали первым ответом власти на новые вызовы. Это не означало сворачивания задуманных реформ – они продолжались на протяжении почти полутора десятилетий после отмены крепостного права. Это означало, что в России начался долгий, непрекращавшийся вплоть до 1917 года поиск сочетания реформ и стабильности при сохранении самодержавной формы правления. И уже во времена Александра II стало ясно, что одними репрессиями стабилизацию обеспечить невозможно, что сами по себе они не в состоянии гарантировать консолидацию страны и устойчивую легитимность власти в изменившейся ситуации.
Консолидация или, что то же самое, базовый общенациональный консенсус – феномен не только политический, но и ценностно-культурный. Точнее – он лишь постольку политический, поскольку ценностно-культурный. Радикализм русской интеллигенции, пытавшейся соединить заимствованные европейские идеи с догосударственной крестьянской архаикой, был естественным и закономерным следствием расколотости отечественного социума. Интеллигенция искала способы преодоления этой расколотости в обход самодержавия и вопреки ему. Самодержавие, в свою очередь, искало способы культурной ассимиляции отщепившейся от него интеллигенции. В его распоряжении были многовековая традиция российской государственности и две формы идентичности, обеспечивавшие политическое сосуществование разных культурных миров, – православная и державно-имперская. Консолидирующие ресурсы той и другой Александру II удалось мобилизовать дважды, причем не порознь, а вместе. Сделать же это ему удалось потому, что ресурсы эти в его время были еще весьма значительными. Будучи задействованными, они сплачивали широкие слои элиты населения под патриотическими лозунгами и позволяли маргинализировать радикалов. Но – отметим сразу же – только временно.
Первая такая мобилизация произошла после того, как в Варшаве нападением на находившийся там русский гарнизон и его истреблением началось польское восстание (1863). Патриотическое возбуждение, охватившее Россию и подогревавшееся угрозами поддержки поляков со стороны европейских держав, было почти всеобщим. Идея свободы, воодушевлявшая отечественных либералов, «большинства из них не выдержала столкновения с идеей империи и безоговорочно капитулировала. Жестокое подавление восстания иноверцев сделало Александра триумфатором в глазах подданных, вернуло ему, а в его лице и самодержавию, всю полноту прежней легитимности и лишило радикалов общественного сочувствия. За год тираж издававшегося в Лондоне и распространявшегося в России «Колокола» Герцена, который поддержал поляков, упал в пять раз, что стало едва ли не самым выразительным проявлением смены настроений в российском обществе. Православно-державно-имперская идентичность, ущемленная поражениями в Крымской войне, наглядно продемонстрировала свою культурную укорененность, позволявшую удерживать завоеванное государством пространство, а вместе с ним – и саму традиционную государственность.
Все дело, однако, в том, что консолидирующий потенциал такой идентичности обнаруживает себя лишь в чрезвычайных обстоятельствах, когда она сталкивается с явными угрозами. В обыденных условиях она не в состоянии компенсировать ни ощущения необустроенности жизни и неопределенности перспектив, ни вызываемого им брожения умов. Через три года после подавления польского восстания прозвучал выстрел Каракозова, ставший первым звеном в длинной цепи последующих покушений. И вектор общественных настроений начал снова поворачиваться в сторону радикалов.
Второй раз эта идентичность убедительно проявила себя накануне и во время Русско-турецкой войны (1877-1878), в которой Россия выступала защитницей православных балканских народов от угрожавшей им массовой резни со стороны турок, в Болгарии уже ставшей реальностью. Александр опасался начинать с ними войну: он не был уверен в боеспособности только что реформированной армии, боялся подорвать финансовое положение страны, едва начавшее обретать устойчивость, и не успел забыть о том, что при его отце столкновение с турками в Крыму обернулось конфликтом со всей Европой. Военное поражение в атмосфере умственной смуты, грозившей смутой социальной, могло обернуться самыми катастрофическими последствиями. Однако в случае победы смута эта была бы снова погашена, угрозы отодвинуты, радикалы изолированы.
Александр не мог не выбрать войну, потому что к ней его подталкивали широкие круги политической, военной и интеллектуальной элиты, озабоченной восстановлением державного статуса страны, ее былой роли на международной арене и видевшей в этом важнейших залог ее внутренней стабильности. Он не мог не выб рать войну и потому, что на нее было настроено население, движимое религиозным чувством к славянам-единоверцам и готовое жертвовать своими скудными средствами для оказания им военной поддержки. Российская идентичность, сформировавшаяся благодаря многовековым усилиям самодержавия, сама диктовала ему теперь линию поведения.
Россия выиграла эту статусную войну на Балканах. С огромным трудом, но – выиграла. О том, сколь важна была для Александра победа в ней, свидетельствует уже одно то, что он счел необходимым свое личное присутствие на месте боевых действий. Однако консолидирующий эффект победы оказался на сей раз еще более кратковременным, чем после подавления польского восстания. Побежденная Турция согласилась на существенное ослабление своих позиций на Балканах в пользу православных народов полуострова. Но такого ослабления Турции и, соответственно, усиления России не хотела Европа. Александр, как и его отец, оказался лицом к лицу с ее совокупной силой. Помня о крымской катастрофе, он не стал искушать судьбу, согласился на созыв Конгресса европейских держав в Берлине и примирился с его решениями, в значительной степени возвращавшими Турции ее права на Балканах. Российская идентичность – и православная, и державная – отреагировала на это так, как только и могла отреагировать. Всеобщее воодушевление сменилось всеобщим недовольством. Общественная атмосфера вновь становилась благоприятной для радикалов, чем они не преминули воспользоваться. Именно с этого времени охота на царя и его чиновников стала целенаправленной и фанатичной.
Реформы Александра II, вводившие в российскую государственность демократическую компоненту, ослабляли компоненту авторитарную. Впервые обнаружилось, что это ослабление нельзя компенсировать ни военными победами и укреплением державного статуса страны (плоды побед отнимались, статусный рост блокировался), ни успехами в сохранении и даже расширении имперского пространства. Годы правления царя-реформатора отмечены огромными территориальными приобретениями: Россия продвинулась на Дальний Восток, завершила покорение Кавказа, завоевала почти всю Среднюю Азию. Однако приращение территории не могло притупить остроту новых внутренних проблем, обозначившихся в входе реформ. Зона государственного контроля расширялась, но само государство расшатывалось, легитимность власти подтачивалась. Соединение авторитаризма и демократии в одном политическом идеале наталкивалось в реальности на такие трудности, с которыми при осуществлении других идеалов-гибридов Россия еще не сталкивалась.
14.4. Между дозированной демократией и авторитарной традицией: колебания в поисках устойчивости
В подобных исторических обстоятельствах любой реформатор оказывается перед нелегким выбором. Он может искать или создавать заново дополнительные опоры в обществе, что предполагает увеличение прав последнего, т.е. углубление демократизации. А может, наоборот, пытаться восстановить утраченную устойчивость усилением бюрократического и репрессивного начал государственности. Царствование Александра II интересно тем, что в его деятельности, как в свое время в деятельности Александра I, отчетливо просматриваются оба направления – и реформаторское, и консервативное: они чередовались, а нередко и накладывались друг на друга, причудливо переплетаясь. Трудно припомнить такое российское правительство, в котором сосуществовали бы, имея почти полную свободу Действий, последовательные прогрессисты и убежденные охранители, как бывало временами в правительствах царя-освободителя.
В конечном счете это было обусловлено изначальной парадоксальностью стоявшей перед ним исторической задачи. Чтобы обеспечить конкурентоспособность страны, ему предстояло ввести ее, вслед за ушедшей вперед Европой, во второе осевое время с его универсализмом научного знания в области мысли и юридически-правового принципа в государственной и общественной жизни. Но такой универсализм не совместим не только с дописьменной культурной архаикой замкнутых локальных миро, в которых проживало большинство населения России. Он не совместим и с интеллектуальной и гражданской несвободой, а интеллектуальная и гражданская свобода, в свою очередь, не сочетается с неограниченным самодержавным правлением и имперским универсализмом, характерным для первого осевого времени. Реформы Александра II – это попытка сочетать несочетаемое. Они привнесли в русскую жизнь то, чего в ней никогда не было, включая доступ крестьян к образованию в специально создававшихся для этого на родных училищах. Но они же вызвали к жизни то состояние умов и сопутствовавшие ему действия, о которых говорилось выше.
Царь не мог остановить начавшиеся с освобождения крестьян реформы и вынужден был распространять их на другие сферы – управленческую, судебную, военную, образовательную. Вместе с тем, он не в состоянии был ответить на ожидания тех, кого дозированная демократия под сенью самодержавия не устраивала и кто хотел бы самодержавие ограничить. Идеологический радикализм и революционный терроризм, ставшие прямым следствием разбуженных, но не удовлетворенных ожиданий, и обусловили превращение царя-реформатора одновременно и в царя-консерватора. Но консервировать самодержавную форму правления ему, в отличие от Николая I, приходилось в условиях, когда даже символическая реставрация милитаристской государственности была невозможна: отмена крепостного права лишила ее последней несущей конструкции. В распоряжении Александра II оставались только полицейские и административные инструменты, и он целенаправленно пользовался ими, корректируя уже запущенные реформы в консервативно-охранительном духе.
Эти инструменты задействовались для восстановления поколебленной реформами «вертикали власти», интеграции в нее выходивших из-под контроля земств и судов, возведения «умственных плотин», призванных вернуть интеллектуальную жизнь в управляемое русло, и превентивного блокирования возраставшего самосознания национальных меньшинств – неизбежного исторического спутника любой демократизации в империях. Пока народ безмолвствует, такого рода коррекции реформ по ходу их осуществления могут быть относительно результативными, возвращая расшатанной государственной системе краткосрочную или даже среднесрочную (но не долгосрочную) устойчивость. Они не помогли уберечь царя от насильственной смерти, но помогли продлить исторический срок самодержавия.
Земства, сразу же проявившие предрасположенность к самостоятельным и независимым от правительства и губернаторов действиям, возвращались в «вертикаль власти» посредством законодательного расширения полномочий председателей земских собраний (они же предводители дворянства) и повышения их ответственности перед правительством за деятельность институтов местного самоуправления. Кроме того, была ограничена гласность земских собраний, а публикация их отчетов и докладов поставлена под контроль губернаторской цензуры. Тем самым публичная критика земствами действий центральной и местной государственной власти полностью блокировалась.
Суды, освобожденные от административного контроля и обнаружившие склонность выносить неприемлемые для властей решения, частично реинтегрировались в «вертикаль власти» благодаря изданному царем высочайшему повелению, фактически отменявшему ранее узаконенную несменяемость судебных следователей. Оно допускало возможность назначать на их место исполняющих их обязанности чиновников, на которых принцип несменяемости не распространялся. Люди могли занимать эти должности годы и даже десятилетия, что делало их зависимыми от властей и в определенной степени позволяло последним восстановить контроль над ходом расследований117. Но даже при таком контроле дела о государственных преступлениях со временем были переданы от судебных следователей к жандармским, а потом и вовсе изъяты из общего судопроизводства и отданы в ведение военных судов. Это стало принципиальным новшеством, чрезвычайно важным для понимания эволюции российской государственности в условиях революционных угроз, и ниже мы к нему еще вернемся.
Что касается интеллектуальной свободы, то ее значительное расширение в ходе реформ, проявившееся в том числе и в отмене предварительной цензуры, впоследствии тоже подверглось существенным корректировкам. Так, после каракозовского покушения было узаконено право правительства лишать издание возможностей розничной продажи за вредное направление, что для многих газет означало неизбежный финансовый крах, поскольку подписывались
117 Там же. С. 324-325.
на них в то время немногие. Кроме того, министр внутренних дел получил разрешение налагать запрет на обсуждение в печати любого вопроса внутренней и внешней политики, когда такое обсуждение сочтет неуместным. Если учесть, что и до того правительство было вправе приостанавливать выход журнала или газеты на срок от двух до восьми месяцев, то степень управляемости интеллектуальной свободой в эпоху реформ, как и управляемости дозированной демократией в целом, придется признать достаточно высокой.
Перечень «умственных плотин», возводившихся в ту эпоху. был бы, однако, неполным без упоминания о мерах, направленных на притупление самого вкуса к интеллектуальной свободе. Речь идет о новой системе образования, введенной при Александре П. Ее суть и пафос: передача ученикам «точного» знания, дисциплинирующего ум и не оставляющего простора для праздных умствований и безответственного нигилистического легкомыслия. Реально это означало, что в программах классических гимназий, готовивших к поступлению в университеты, основной акцент делался на изучении древних языков (во всех грамматических тонкостях) и математики, в то время как общеобразовательные дисциплины и новые европейские языки объявлялись предметами второстепенными. Вышколенность интеллекта рассматривалась как одна из предпосылок вышколенности политической и противоядие от вредных идеологических веяний, шедших из Европы. Теми же соображениями руководствовались власти и при составлении программы для специализированных реальных училищ, в которых отсутствие умственной муштры с помощью латинской и греческой грамматики компенсировалось огромной дозой черчения. При этом сокращалось преподавание не только гуманитарных дисциплин, но и естествознания, а в рекомендациях к программе указывалось, что оно должно преподаваться не научно, а «технологически»118.
Так маршрут движения страны во второе осевое время корректировался в соответствии с нуждами традиционной отечественной государственности, интересами ее самосохранения. Поиск профилактических средств от революции, который Россия вела на протяжении трех предыдущих царствований, продолжался и в новых, пореформенных условиях, когда революционеры уже действовали на улицах и площадях российских городов.
118 Подробнее об осуществленной при Александре II реформе системы образования см.: Там же. С. 304-305.
Наконец, после польского восстания были предприняты и особые меры для сохранения и укрепления империи. В Польше школьное обучение, вплоть до преподавания Закона Божия, принудительно переводилось на русский язык. Волна русификаторства прокатилась и по Украине – возобновились начавшиеся еще при Николае I преследования украинского языка, запрещалось издание на нем литературных произведений, его использование в спектаклях и концертах. Дозированная демократизация при сохранении имперской государственности превращала само это сохранение в проблему. Ее пытались решать ужесточением имперско-русификаторской политики, которая, в свою очередь, подкладывала под имперское здание мину замедленного действия.
Таким образом, второй полюс власти, образовавшийся в ходе реформ, не отменялся, а частично поглощался самодержавно-бюрократическим государством, которое возвращало себе монополию на представительство общего интереса и стремилось приспособить к ней не только новые демократические учреждения, но и умы. Однако проблемы, которые власть пыталась решить таким способом, в результате лишь усугублялись. Это стало очевидным после Балканской войны, которая едва ли не впервые обнаружила исчерпанность консолидирующего ресурса сохранявшейся державной идентичности даже в случае военной победы, если ее плоды без всякой войны могут быть отняты. Именно послевоенные годы были отмечены небывалой активностью террористов. И именно тогда начало выплескиваться на поверхность недовольство умеренных общественных кругов: они претендовали на расширение своего участия в обслуживании общего интереса, возвращение к однополюсной модели государственности их не устраивало. И когда после очередного покушения на императора правительство обратилось к обществу за поддержкой, последнее ему в ней отказало. Точнее – выдвинуло условия, на которых такая поддержка может быть оказана.
Образованный слой, приверженный ценностям европейской либеральной культуры, готов был сотрудничать с самодержавной властью, опиравшейся на иную, нелиберальную культуру, но – не в качестве пассивного и послушного инструмента в руках этой власти, а в качестве самостоятельного субъекта, равноправного Участника диалога. Речь шла не просто о политических амбициях Русского либерализма, и его притязаниях на конституционное ограничение самодержавия посредством созыва народного представительства – хотя бы законосовещательного. Речь шла о том, что при сохранении существовавшего положения вещей никакой помощи правительству общество оказать не могло, даже если бы и хотело. «Борьба с разрушительными идеями была бы возможна лишь в том' случае, – говорил в черниговском земстве один из ораторов, – когда бы общество располагало соответствующими орудиями. Эти орудия: слово, печать, свобода мнений и свободная наука»119. Если же такими средствами общество не располагает, то оно бессильно оказать власти запрашиваемое содействие120.
Однако к выслушиванию подобных речей правительство было не готово и поспешило их запретить, выталкивая тем самым либеральных земцев в подполье, вынуждая их обсуждать запрещенные для обсуждения вопросы на конспиративных съездах и обрекая себя на репрессии по отношению к людям, на которых хотело бы опереться. Понятно, что такой конфликт либеральной и самодержавно-патерналистской культур был на руку тем, кто противостоял им обеим. Он создавал атмосферу, в которой столь необходимая правительству общественная изоляция революционеров им явно не грозила.
Поворот царя в сторону либерально настроенных земских кругов наметился лишь в последний год его жизни – после того, как террористы устроили взрыв в самом Зимнем дворце, и лишь случайность спасла Александра и всю его семью от гибели. В этот короткий период два направления его деятельности – реформаторско-демократическое и авторитарно-бюрократическое, которые чередовались или сосуществовали в ней раньше, получили отчетливую функциональную окраску. Бывшему харьковскому губернатору, герою Русско-турецкой войны генералу Лорис-Меликову, назначенному министром внутренних дел, были предоставлены чрезвычайные полномочия для искоренения революционного радикализма. Его называли диктатором, и – не без оснований. Но он именно потому и был выбран на эту роль, что еще в пору своего харьковского губернаторства сочетал жесткость полицейских мер с заботой об охране гражданских прав и свобод. Такую политику, получившую название «диктатуры сердца», он пытался проводить и на посту министра. То была политика, рассчитанная на изоляцию революционеров от общества не только посредством призывов к поддержке правительства, но и благодаря вниманию к идущим из общества запросам.
119 Там же. С. 365.
120 Там же.
В этот последний год александровского царствования существенно ослабло давление на печать, которой было дозволено обсуждать политические вопросы и критиковать правительственные решения. Об общем направлении новой политики свидетельствовали и также замены консервативного руководства ряда министерств (в том числе и министерства народного просвещения, инициировавшего упомянутую выше реформу) и официально провозглашенное намерение вернуться к первоначальным реформаторским замыслам относительно земств и судебной системы, устранить образовавшиеся на них бюрократические наросты. Наконец, Лорис-Меликов, не будучи приверженцем конституционных идей, предложил Александру компромиссный вариант: для разработки законопроектов созвать специальные комиссии из представителей государственного аппарата и общества, а для обсуждения этих законопроектов предусмотреть – на следующем этапе – созыв общей всероссийской комиссии с включением в нее также и представителей с мест, избираемых земствами.
Утром 1 марта 1881 года император одобрил план своего министра, а через несколько часов был убит. Вступивший на престол Александр III после некоторых колебаний от этого плана отказался. Сам факт цареубийства был истолкован как достаточное основание для нового подмораживания страны ради укрепления самодержавного начала государственности, ослабленного в ходе реформ. Из двух конфликтовавших составляющих авторитарно-демократического идеала новый император отдал безоговорочное предпочтение первой, которая в его царствование почти полностью поглотила вторую.
14.5. Феномен консервативной стабилизации
Император Александр III в глазах современных отечественных почвенников выглядит едва ли ни самым ярким персонификатором российской государственной традиции, а его деятельность – самым надежным ориентиром для нынешних и будущих руководителей страны. Такие представления не беспричинны. Относительно короткое, занявшее всего тринадцать лет царствование Александра III было отмечено стабилизацией расшатанной реформами государственности и результативной хозяйственно-технологической модернизацией, осуществленной не по петровскому милитаристско-кре-постническому образцу, а в условиях, когда элиты и население были уже раскрепощены. Поэтому сегодня фигура Александра III кажется более современной, чем образ его деда Николая I, на которого внук во многом ориентировался. К тому же «государственническая» репутация Николая подмочена крымской катастрофой, между тем как Александр никаких войн не проигрывал по той простой причине, что целенаправленно их избегал. Короче говоря, нынешняя актуализация его политического опыта вовсе не случайна, а потому актуально и осмысление этого опыта, его исторического содержания.
В данном разделе мы не будем касаться сюжетов, имеющих отношение к проводившейся при Александре III индустриальной модернизации. Она явилась исходным пунктом модернизационного цикла, продолжившегося и в следующее царствование, и у нас будет возможность охарактеризовать ее, рассматривая этот цикл в целом. Здесь же мы остановимся лишь на том, что имеет прямое отношение к деятельности Александра как стабилизатора авторитарно-самодержавной государственности, ослабленной после ее демилитаризации и дозированной демократизации и оказавшейся перед принципиально новым культурным вызовом: в сознании образованного слоя образ сакрального государя столкнулся с конкурентом в образе сакрализируемого народа. Учитывая, что культурная революция сопровождалась революционно-террористическими акциями на улицах и даже в царском дворце, учитывая, далее, что император сразу же отказался искать опору в обществе посредством дальнейшей либерализации и демократизации страны и сделал основную ставку на укрепление самодержавной власти, принципиально новым должен был быть и ответ на этот вызов. Проблемы, которые приходилось решать Александру III, его предшественникам решать не доводилось. Точнее, довелось его отцу, но сама насильственная смерть последнего свидетельствовала о том, что он оставлял их в наследство сыну.
Завершившаяся демилитаризация петровской государственности означала, что самодержавие не могло больше опираться на заложенные Петром традиции. Возникшая при нем державно-имперская идентичность сохранялась, но она, как мы видели, была уже не в состоянии исполнять прежнюю консолидирующую роль. Чтобы играть ее, она нуждалась в периодической подпитке в виде победных войн, в том числе и статусных, которые вели бы к расширению имперского пространства и повышению международного престижа страны. Но во времена Александра III расширяться было уже некуда, а повышение державного статуса в статусных войнах был заблокировано Европой, готовой объединяться в противостояли международным амбициям России. Поэтому Александр и избегал военных столкновений: их эффект в сложившихся обстоятельствах мог быть только отрицательным.
Это, однако, вело к тому, что утрачивал свой легитимирующий и консолидирующий ресурс и образ царя-полководца. Равным образом, иссякал соответствующий ресурс инокультурности по отношению к народному большинству российской власти: ведь она только потому и могла быть воплощением чужой, европейской культуры, что со времен Петра культура эта преподносилась и воспринималась как необходимое условие военной конкурентоспособности. Теперь самодержавию свой привычный образ предстояло изменить. Тем более что европейская культура, проникая в Россию и трансформируясь в ней, не только не укрепляла, но и подрывала сложившуюся в стране форму правления.
При таком положении вещей у самодержавия не было иного выхода, кроме как продолжить начавшееся в послеекатерининские времена возвратное идеологическое движение от петровской России к допетровской Руси, причем еще более последовательно, чем прежде. Речь шла не об отказе от плодов петровских и последующих преобразований. Речь шла о том, чтобы символически пересадить эти плоды в реанимируемые старомосковские культурные формы, т.е. придать им национально-русскую окраску. Не соединить одно с другим, как было при Николае I, а именно пересадить. Разумеется, заглавная роль отводилась при этом православной идентичности, которая отодвигала на второй план идентичность державную. Однако перестановкой идеологических акцентов дело не ограничивалось.
Московский период был единственным в российской истории, когда единоличная власть правителя сосуществовала с незакрепощенной правящей элитой и относительно свободным населением. Так, по крайней мере, было до опричнины. Поэтому раскрепощенная Россия, доставшаяся Александру III, напоминала только до-опричную Русь – других аналогов в отечественной истории пореформенная ситуация не имела. И подобно тому, как главной управленческой опорой московских правителей было боярство, такой опорой верховной власти при Александре III стало дворянство. Эту роль оно исполняло и при крепостном праве. Но теперь речь шла о другом – о реставрации управленческой монополии дворянского сословия после того, как оно утратило прежнюю власть над крестьянами, а вместе с ней – и свою главную сословную привилегию. Только в этом смысле оправдана аналогия с московским боярством: оно тоже было монопольным управленцем и тоже управляло незакрепощенными людьми.
Уже в одной из первых публичных речей новый император повелел крестьянам и их выборным представителям во всем подчиняться «своим» предводителям дворянства121. Это был язык времен крепостного права, при котором помещика тоже предписывалось считать «своим». Основанием для таких речей стали сведения о том, что в деревнях распространяются слухи о близком «черном переделе» помещичьей земли в пользу крестьян. Это был первый симптом зарождавшейся в крестьянской среде смуты – тем более тревожный, что с отменой крепостного права власть лишилась своего главного уполномоченного в этой среде в лице помещика. Деревня, подключенная к государству и выполнению обязанностей перед ним через механизм коллективной ответственности сельских обществ, в своей повседневной жизни не только культурно, но и институционально оказалась как бы вне государства и его властной вертикали. Таков был исторический контекст, в котором прозвучал императорский призыв к послушанию.
Однако одними призывами дело не ограничилось. Они получили продолжение в институциональных преобразованиях, в значительной степени возвращавших дворянству власть над крестьянами. Учрежденная при Александре III должность земского начальника, назначаемого губернатором и ему подотчетного, была должностью дворянской. Земские начальники, ставшие представителями власти в деревне, наделялись значительными полномочиями в отношении как отдельных крестьян, так и всей общины, включая право вмешиваться в деятельность сельских сходов и корректировать их решения. Кроме того, они наделялись и судебными функциями. Тем самым осуществлялась ревизия демократического содержания реформ Александра II в пользу сословного принципа и уже преодоленной, казалось бы, нерасчлененности административной и судебной властей.
Перед нами – тот нередкий в истории случай, когда решение текущих проблем не только не способствует решению проблем среднесрочных и долгосрочных, но и усугубляет их. Восстанавливая «вертикаль власти» и упрочивая дворянскую опору самодержавия на местах, Александр III пытался реанимировать подчинение
121 Там же. С. 406.
догосударственных локальных миров государственному началу. Но в государство они культурно не интегрировались, оставались отношению к нему инокультурными и именно в таком качестве «сервировались. Это блокировало создание механизмов, которые могли бы способствовать разрешению социальных конфликтов, постепенно вызревавших в пореформенной русской деревне в условиях переживавшегося крестьянами земельного голода и обремененности выкупными платежами. Поэтому и земские начальники воспринимались ими как представители помещиков и чужого, противостоящего вечевым институтам дворянского государства. Они стали дополнительным социокультурным раздражителем, провоцировавшим взрыв протестной догосударственно-вечевой стихии. Александру III не доведется стать его свидетелем. Но осуществлявшаяся императором политика консервативной стабилизации сыграет в подготовке такого взрыва не самую последнюю роль.
Заблокировала эта политика и трансформацию догосударственной культуры в государственную через всесословные земства. Последние были преобразованы таким образом, что большинство в них получили опять-таки представители дворянства. При этом крестьяне лишались даже права непосредственного выбора депутатов (гласных); теперь они могли выбирать лишь кандидатов на эту роль, а кто из последних ее достоин, решал губернатор. С точки зрения удобства, надежности и предсказуемости управления, все это было достаточно эффективно. С точки зрения государственной консолидации культурно расколотого общества, выстроенная Александром III самодержавно-дворянская «вертикаль власти» вела в исторический тупик.
Политическая стабильность при отсутствии механизмов согласования интересов может быть не менее взрывоопасной, чем Нестабильность. По крайней мере если речь идет о раскрепощенном, демилитаризованном обществе. Можно ли создать и заставить работать такие механизмы в культурно расколотой стране, каковой была Россия Александра III, другой вопрос, ответ на который задним числом, каким бы он ни был, вряд ли сможет быть для всех одинаково убедительным. Мы лишь констатируем, что в описываемый период такие механизмы не создавались, а те, что уже были созданы, разрушались.
Ориентируясь на дворянство, Александр не считал себя, однако, дворянским царем в духе Екатерины II. Он пытался следовать старомосковской политической традиции, в которой правит правитель, опиравшийся в управлении на боярство, не был боярским, Александр воспринимал себя, по его собственным признаниям, «царем крестьян» и всех низших классов122, а форму своего правления – как «народное самодержавие»123. Эта новая формула завершала идеологические поиски, начавшиеся и продолжавшиеся в послеекатерининские царствования. Народ теперь ставился уже не просто рядом с самодержавием, как у графа Уварова и Николая I, а сливался с самодержавием, определяя смысл его существования и деятельности. Это был идеологический ответ и тем, кто склон был народ сакрализировать, десакрализируя одновременно цап и тем, кто стремился к конституционному правлению на европейский манер. Власть отказывалась идентифицировать себя с чужой заемной культурой, как поступала со времен Петра. Отныне она стремилась обеспечивать свою легитимность, апеллируя не к своей европейскости, а к своей «русскости». В этом отношении она шла дальше старомосковских правителей, которые склонны были искать дополнительные источники своей легитимации в преемственной родовой связи с римскими цезарями, не говоря уже об апелляциях к византийской традиции.
Дело, однако, не ограничивалось одной лишь идеологией. Ей соответствовала и проводившаяся Александром III социальная политика. Отстраняя низшие классы от управления и ставя их под дворянско-чиновничий контроль, он пытался одновременно откликаться на их нужды. В его царствование была, наконец, отменена подушная подать, за счет государства были сокращены крестьянские выкупные платежи. «Народное самодержавие» оправдывало свое самоназвание и впервые принятыми в России законами, ограничивавшими продолжительность рабочего дня женщин и детей и ставившими под контроль властей условия труда на предприятиях через специально учрежденные фабричные инспекции. Тем самым самодержавие демонстрировало, что всю ответственность за благосостояние и благополучие подданных берет на себя, что претендует быть единственным представителем как общего интереса,
122 Подробнее см.: Власть и реформы: От самодержавной к советской России / Под ред. Б.В. Ананьича. СПб., 1996. С. 372; Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте и идеологические искания «охранителей» в 1881-1883 гг. // Исследования по социально-политической истории России: Сб. статей памяти Б.А. Романова. Л., 1971. С. 300-301; Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 152-153.
123 См.: Рудкевич Н.Г. Великий царь-миротворец Александр III. СПб., 1900. С.
так и интересов различных групп населения, ни в каких других посредниках и защитниках этих интересов не нуждаясь.
Дальнейший ход событий покажет, что такая претензия была несостоятельной. В условиях, когда государство демилитаризировано, а частные и групповые интересы легитимированы, лишалась почвы идеология «беззаветного служения», без которой старомосковскую модель властвования можно было имитировать, но нельзя и было реализовать. Попытка власти монопольно представлять интересы всех социальных групп вместе и по отдельности, лишая их собственного представительства, ведет в конечном счете к всеобщему недовольству монополистом. Через несколько лет после смерти Александра III это станет очевидным: в оппозиции «народному самодержавию» окажутся и крестьяне, вытесненные из земств и поставленные под надзор земских начальников, и рабочие, не получившие права создавать свои ассоциации, и либеральная интеллигенция, у которой предельно жесткими цензурными ограничениями при Александре III была отнята свобода печатного слова.
«Отцовская» культурная матрица и православная идентичность, на основе которых он выстраивал свою идеологию и политику, в раскрепощенной стране не могли уже играть ту роль, которую играли прежде. Охота революционеров на православного царя-самодержца и его убийство сомнений на сей счет не оставляли. Тем не менее только на эту матрицу и эту идентичность мог опираться император в попытках изолировать революционеров. Поэтому он пытался, насколько мог, воспрепятствовать распаду традиционного жизненного уклада: при нем принимались законы, которые затрудняли, с одной стороны, и без того трудный выход крестьян из общины и начавшееся разделение больших крестьянских семей (их дробление подрывало власть семейного самодержца-«6ольшака»), а с другой – доступ детей из низших классов к гимназическому образованию (знаменитый циркуляр о «кухаркиных детях» лишал их такой возможности).
«Народное самодержавие» – это формула власти, ищущей поддержки в консервативном большинстве против радикально-экстремистского и либерально-реформаторского меньшинства. Однако сама по себе она не работала. Дополнением к ней стали чрезвычайные меры, которые открывали новую страницу в истории самодержавия и которым суждено будет в несколько обновленной форме его пережить. Суть этих мер состояла в возвращении к милитаристской государственности, но – не в смысле выстраивания по военному образцу всего жизненного уклада или бюрократическо-управленческой вертикали, хотя последнее полностью не исключалось, а в смысле милитаризации взаимоотношений государства и демилитаризированного общества для защиты от исходящих из общества угроз. Инструментом, посредством которого был осуществлен такой поворот, стала наделенная особыми полномочиями тайная полиция.
Разумеется, она появилась в России не при Александре III, а гораздо раньше. Еще в допетровское время была создана уже упоминавшаяся Тайная канцелярия, дополненная при Петре Преображенским приказом, а после ликвидации этих учреждений на смену им в эпоху Екатерины II пришла Тайная экспедиция при Сенате Однако все перечисленные структуры создавались не для охраны самодержавного строя, на который не покушался даже Пугачев, а для предупреждения смуты и обеспечения неприкосновенности самодержцев с добавлением в петровскую эпоху такой функции, как борьба с противниками реформаторских преобразований. То не был еще аппарат тайной полиции в профессиональном смысле слова – численность сотрудников оставалась крайне незначительной, а главным источником информации для них служили, как правило, поощрявшиеся властью доносы, которые под пытками «проверялись». Однако после выступления декабристов, бросивших вызов не конкретному самодержцу, а самодержавной форме правления, ситуация существенно изменилась. Созданное Николаем I знаменитое Третье отделение Собственной Его Величества канцелярии во главе с графом Бенкендорфом управляло уже военным жандармским корпусом и оплачиваемыми соглядатаями и стало первым в России профессионализированным учреждением тайной полиции.
При Николае же были приняты и специальные законы, касавшиеся государственных преступлений. По своему духу они мало чем отличались от упоминавшихся выше статей Соборного уложения Алексея Михайловича – в том смысле, что не только «дело», но и любое «слово» против государя объявлялось преступлением, четкая юридическая граница между поступком и умыслом по-прежнему не проводилась, а само понятие умысла трактовалось достаточно широко и недостаточно определенно. Вместе с тем в новом законодательстве классификация государственных преступлений была все же более конкретной и учитывала новые вызовы – в нем предусматривались санкции не только за действия и мысли, угрожавшие государю, но и за аналогичные действия и мысли, направленные против государственного строя, «образа правления». Эти конкретизации и коррекции, как и учреждение Третьего отделения, тоже были реакцией на выступление декабристов. По ходу следствия над ними обнаружилось, что существовавшее на тот момент законодательство не позволяет квалифицировать их слова и дела однозначно как преступления; строго говоря, они были осуждены без достаточных юридических оснований.
Однако последующая законотворческая деятельность Николая не позволяет утверждать, что уже в его царствование произошла та милитаризация взаимоотношений между государством и обществом, о которой говорилось выше. Реально она началась лишь при Александре II,а завершилась при его сыне. Эта новая разновидность милитаризации стала ответом на те последствия осуществленных властью реформ, с которыми она не могла справиться.
С передачей обычным судам дел о государственных преступлениях, которые раньше были прерогативой сената и императора, довольно быстро обнаружилась политическая ангажированность многих судей и присяжных: общая антибюрократическая атмосфера пореформенной эпохи нередко побуждала их даже к оправданию террористов. Можно согласиться с современными западными историками, особенно чуткими к правовой стороне дела, что «такая „политизация" правосудия радикалами и их доброхотами явилась для России большой трагедией»124. Однако сама «политизация» была не первопричиной, а следствием несочетаемости самодержавной власти с правовым государством, к которому она вознамерилась двигаться, и правовой культурой, которая под сенью самодержавия не могла сформироваться. Оборотная сторона самодержавия – правовой нигилизм, и справиться с ним оно не в состоянии. В этом, на наш взгляд, и заключается главная трагедия страны, продолжающаяся по сей день. В пореформенной же России она проявилась в попятном контрреформаторском движении, которое и привело к превращению тайной полиции в инструмент милитаризации отношений между государством и обществом.
Мы уже упоминали о том, что в конце царствования Александра II часть дел о государственных преступлениях, а именно – те из них, которые касались вооруженного нападения на должностных лиц, были переданы военным судам, выносившим приговоры по нормам военного времени. Кроме того, жандармам дозволялось
124 Пайпс Р. Указ. соч. С. 386.
задерживать и в административном порядке отправлять в ссылку любого человека, подозреваемого, но не уличенного в политических преступлениях – для этого не требовалось даже санкции прокурора. В крупнейших городах страны были введены должности временных генерал-губернаторов с особыми, в том числе судебными полномочиями. На эти должности, как правило, назначались военные. Окончательный демонтаж петровской милитаристской государственности, осуществленной царем-освободителем, его попытки перестроить ее на новых, более демократических основаниях обернулись вызовами, на которые власть ответила переходом от гражданского порядка (точнее – беспорядка) к военному. Особенность же этого порядка определялась тем, что на сей раз он вводился не ради защиты от внешних угроз, достижения имперско-экспансионистских целей или повышения эффективности государственного управления, а для обороны от внутренних противников.
Консервативная стабилизация Александра III явилась продолжением и завершением начавшегося при его отце исторического движения. Почти сразу по восшествии на престол он узаконил право властей вводить военное положение, ставя – в зависимости от степени угроз – страну или ее отдельные регионы под «Усиленную Охрану» либо «Чрезвычайную Охрану». В первом случае предусматривалось дозволение на внесудебный административный запрет публичных и частных собраний, заключение любого человека в тюрьму на срок до трех месяцев, наложение крупных штрафов и ряд других репрессивных мер. Во втором к ним добавлялось право смещать с должностей выборных земских представителей и даже прекращать деятельность земств, останавливать выход периодических изданий, закрывать на определенный срок учебные заведения. Если «Чрезвычайная Охрана» до 1905 года в России не вводилась, то режим «Усиленной Охраны» при Александре III сразу же был объявлен в десяти губерниях, включая Санкт-Петербург и Москву.
Но даже в обычных условиях, когда усиленные или чрезвычайные меры не объявлялись, страна фактически находилась под контролем политической полиции. Она была уполномочена ставить любого человека под гласный надзор, что влекло за собой существенное сокращение его гражданских прав, и выдавать справки о благонадежности, не получив которую нельзя бы поступить в университет или занять должность, считавшуюся «ответственной». Полицейское разрешение требовалось и для многих видов деятельности, его наличие было необходимо и для свободного передвижения по стране. После очередного опыта европеизации, выразившейся на этот раз в заимствовании и адаптации к российским условиям некоторых европейских институтов, Россия снова возвращалась на свой самобытный «особый путь». Теперь ее самобытность выражалась «во всемогуществе тайной полиции» (Петр Струве). Или, говоря иначе, в организации и упорядочивании мирной жизни посредством введения военного положения. Оно могло объявляться официально, называясь «Усиленной Охраной» либо «Чрезвычайной Охраной», но реально оно существовало и не будучи объявленным.
Многие меры, предпринятые Александром III для защиты государства от шедших из общества угроз, поначалу принимались как временные. Но после того как срок их действия кончался, они продлевались, и так продолжалось до 1917 года. Отсюда, в свою очередь, следует, что консервативная стабилизация была не столько стабилизацией, сколько способом удержания страны в нестабильном состоянии. Пройдет чуть больше десяти лет после смерти Александра III, и это выяснится со всей очевидностью. Его сыну Николаю II придется не просто вернуться к первоначальному авторитарно-демократическому идеалу своего деда Александра II, но и пойти гораздо дальше его замыслов и планов, ограничив самодержавие конституционными законами. Потому что ему, в отличие от отца и деда, придется иметь дело не только с революционной интеллигенцией, но и с вышедшим из исторического безмолвия народом. Консервативная стабилизация, сжавшая страну жестким военно-полицейскими старомосковским идеологическим обручем, оказалась на поверку подготовкой горючего материала для новой российской смуты.
14.6. Модернизация и смута. Реанимация вечевой традиции
Царствование Николая II, сменившего на троне Александра III(1894), отмечено невиданными для России реформаторскими преобразованиями и невиданными историческими обвалами. При нем появился Первый российский парламент, юридически ограничивавший законодательные полномочия царя. При нем крестьянам был разрешен выход из общины, что снимало главную преграду на пути к массовому индивидуально-предпринимательскому хозяйствованию в деревне. При нем, наконец, успешно продолжалась начавшаяся предыдущее царствование индустриальная модернизация: темпы промышленного роста в годы его правления бывали самыми высокими в Европе. И вместе с тем царствование Николая II – это две проигранные войны и два революционных потрясения, второе из которых привело к крушению самодержавия и в конечном счете к государственной катастрофе.
Столь причудливое переплетение взлетов и падений реформаторских начинаний и обвалов в смуту обусловливалось тем, что сами обвалы были следствиями взлетов, а беспрецедентно глубокие реформы – вынужденной реакцией властей на эти обвалы, удовлетворявшей некоторые группы населения, но не воспринимавшейся, а порой и отторгавшейся его большинством. И все это в значительной степени было предопределено политикой Александра III.
Одна из главных задач проводившейся им консервативной стабилизации заключалась в создании политических условий для индустриализации. Незапланированным результатом осуществления последней стал резко обострившийся конфликт интересов, о котором нам предстоит говорить ниже и который, наложившись на неоднократно упоминавшийся культурно-ценностный раскол страны, и проложил дорогу от стабильности к смуте. Либерально-демократические реформы Николая II, сочетавшиеся с предельно жесткими военно-полицейскими мерами, смогли, как выяснилось, лишь на время приостановить ее. Потому что главным источником смуты была та же самая форсированная промышленная модернизация, которую государство вынуждено было проводить под влиянием внешних вызовов.
Эта вторая отечественная модернизация отличалась от первой (петровской) уже тем, что осуществлялась в демилитаризированном обществе. После двух столетий европеизации заимствование заграничных достижений не наталкивалось на столь высокие, как раньше, культурные барьеры, а потому легитимация заимствований не требовала теперь военных побед над европейцами. Но если бы даже такое требование оставалось в силе, следовать ему страна уже не могла: военные столкновения с Европой побед ей не сулили, и с этим три последних императора вынуждены были считаться. Когда же Россия вступила все-таки в Первую мировую войну- причем не со всей Европой, а при наличии таких сильных союзников, как Франция и Англия, – ее государственность обвалилась.
Однако участие России в этой войне диктовалось отнюдь не потребностью в легитимации технологических и культурных заимствований, как при Петре I или киевском князе Владимире. Оно было обусловлено не задачами модернизации, а трудностями консолидации страны, расшатанной уже проводившейся и в значительной степени проведенной форсированной индустриальной модернизацией. Точнее – ее последствиями в демилитаризированном обществе, лишившемся прежних милитаристских блокираторов культурного раскола и искавшего – в лице власти и элиты – символический капитал и в петровской европеизированной державности, и в идеологическом наследии Московской Руси, которое призвано было придать этой державности самобытную национальную окраску.
Модернизация, начавшаяся при Александре III, не относилась – в отличие от предшествовавшей ей петровской и более поздней сталинской – к разряду репрессивно-принудительных. Но по своему характеру она тоже во многом была экстенсивной, осуществлявшейся за счет большинства населения, которое модернизацией оставалось незатронутым. Резкий рывок в создании российской тяжелой промышленности обеспечивался государством при отсутствии органического развития внутреннего рынка благодаря многократно увеличившемуся вывозу за рубеж русского зерна и широкому привлечению иностранного капитала125. Это был принципиально иной, чем в Европе, тип модернизации, который в наши дни получил название догоняющего. Россия начинала сразу с того, что на Западе возникало в ходе длительной эволюции126.
Рост хлебного вывоза стал возможным благодаря невиданным темпам железнодорожного строительства, осуществлявшегося еще со времен царя-освободителя: начав практически с нуля, Россия по протяженности железных дорог стала к началу XX века второй после США страной в мире. А европейский капитал притекал в нее не в последнюю очередь потому, что правительство взвинтило ввозные пошлины, защищая тем самым от иностранных конкурентов не только отечественных, но и зарубежных промышленников, инвестировавших деньги в Россию.
125 Объем зернового экспорта к началу XX века превысил дореформенные показатели почти в восемь раз (см.: Карелин А.Л., Россия сельская на рубеже ХIХ-ХХ вв. // Россия в начале XX столетия М., 2002. С. 229). О роли иностранного капитала в Российской индустриализации можно судить на основании того, что перед Первой мировой войной иностранцам принадлежала вся нефтяная промышленность России, девять десятых угольной, половина химической, 40% металлургической и 28% текстильной (см.: Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2004. С. 20).
126 Об особенностях отечественной индустриальной модернизации см.: Лапкин В., Пантин В. Драма российской индустриализации // Знание – сила. 1993. №5.
Но эта политика вывоза зерна и ввоза капитала, способствуя быстрому промышленному развитию, больно била по земледельческому населению страны. Форсированная индустриализация, бывшая ответом на внешние вызовы и осуществлявшаяся правительством в соответствии с принципом «недоедим, а вывезем», явилась одновременно мощнейшим стимулятором внутренней напряженности и, как следствие, новой русской смуты, перед которой механизмы консервативной стабилизации оказались, в конечном счете, бессильными.
Возросший вывоз зерна стал возможен не потому, что существенно интенсифицировался сельскохозяйственный труд и заметно увеличивалась урожайность (этого как раз не происходило), а по тому, что крестьяне принуждались к уплате податей сразу после сбора урожая, когда зерна было много и цены на него, соответственно, были низкие. Чтобы расплатиться с казной, хлеба приходилось продавать намного больше, чем диктовалось экономической целесообразностью. Поэтому к весне его нередко не оставалось не только для пропитания, но и для предстоящего нового сева. Поэтому зерно приходилось покупать, но уже по более высоким ценам. В результате крестьянство постепенно разорялось, а отсутствие хлебных запасов делало его беззащитным перед частыми в те времена неурожаями: один только голод и сопутствовавшие ему эпидемии 1891 года унесли около миллиона жизней.
Если добавить, что высокие ввозные пошлины вели к росту цен на промышленные товары, блокировавшему развитие и без того крайне узкого внутреннего рынка, то негативные экономические и социальные последствия избранного способа индустриальной модернизации станут очевидными. Это была модернизация, которая, подобно петровской, не только не распространялась на традиционный жизненный уклад большинства населения, но и разрушала его. Это была модернизация, чреватая всеобщей смутой, которая и не заставила себя долго ждать. Протестная народная стихия, воодушевлявшаяся архаичными догосударственными идеалами, обрушилась на государство, прорвав возведенные им военно-полицейские плотины.
Конечно, в истории, особенно в истории общественных потрясений, причинно-следственные связи не проявляются прямо и непосредственно. Они опосредуются множеством промежуточных событий-причин, которые сами, в свою очередь, являются следствием других человеческих действий. Будь иначе, невозможно было бы объяснить, почему Смута XVII века, предпосылки которой были заложены опричниной, не началась не только при Иване Грозном, но и при его сыне Федоре, а разразилась лишь через несколько лет после смерти последнего. Будь иначе, загадкой осталось бы и то, почему разрушительные социальные последствия индустриальной модернизации при Александре III можно было заблокировать, а при его сыне, лишь продолжившем дело отца, они обернулись революционными потрясениями, хотя созданные Александром механизмы консервативной стабилизации сохранялись и в годы правления Николая. Как минимум, придется признать, что причины и следствия в истории отстоят друг от друга во времени. Но эта плоская сентенция ничего не дает для объяснения конкретных событий.
Действия, обусловливающие движение к смуте, не могут привести к самой смуте, если предварительно не произошло падение или резкое ослабление легитимности государственной власти. В нашем случае – власти самодержца. Так было при Борисе Годунове, так было и при Николае II. В первом случае удар по легитимности царя был нанесен обрывом династии и заменой «природного» правителя выборным. Во втором – сокрушительными поражениями в двух войнах подряд.
Александр III неспроста избегал военных столкновений: техническое переоснащение армии, ради которого и была, не в последнюю очередь, предпринята ускоренная индустриальная модернизация, требовало времени. Николай II тоже пытался следовать этому внешнеполитическому курсу. Он не только опасался ввязываться в вооруженные конфликты, но и выступил в конце XIX века с инициативой всеобщего сокращения вооружений, которая, однако, заинтересованного отклика в тогдашнем мире не нашла. Тем не менее, Россия уже в начале XX столетия вынуждена была, вопреки желанию царя, воевать с Японией. Но вынужденной к этому она оказалась именно потому, что проводившуюся при двух последних императорах индустриальную модернизацию совместить с поддержанием длительного мира было непросто. Несовместимым с ним было уже само сохранявшееся стремление повышать державно-имперский статус страны, который по-прежнему воспринимался как главный ресурс внутренней политической устойчивости и легитимности самодержавной власти. Просто потому, что никаких других, альтернативных ресурсов к тому времени не возникло. Но и способов наращивать державный статус без статусных войн не возникло тоже.
Русско-японская война (1904-1905) стала прямым следствием промышленной модернизации, осуществлявшейся при крайне узком и продолжавшем сужаться внутреннем рынке. Продукция быстро растущей отечественной промышленности не могла поглощаться лишь казенными заказами, пусть и весьма значительными. Оставался только один путь – расширение рынков внешних. Но расширять их в конкурентной экономической борьбе с развитыми странами российская промышленность в силу недостаточной коикурентоспособности ее продукции была не в состоянии. Логика экстенсивности толкала страну к тому, чтобы продолжать движение к привычном направлении, что на сей раз означало «экстенсивно развитие рынка»127, которое, в свою очередь, означало силовой захват территорий для промышленного сбыта. После завоевания Средней Азии единственным перспективным направлением торговой экспансии становился Дальний Восток. Отсюда – начавшееся еще при Александре III строительство Сибирской железной дороги. Отсюда же – и попытки его сына увеличить присутствие России в регионе, превратить его в зону своего влияния.
Посредством новых территориальных приобретений за счет слабевшего Китая сделать это, однако, было невозможно. На китайском направлении стратегические интересы России сталкивались с интересами не только быстро развивавшейся Японии, но и США, а также крупнейших европейских держав. России предстояло решать привычную для нее задачу экстенсивного развития и укрепления державно-имперских позиций непривычными методами, т.е. не вступая в вооруженные конфликты. Но без войны обойтись не получилось, а война обернулась сокрушительными и унизительными поражениями на суше и на море от противника, которого до того никто всерьез не воспринимал.
У нас нет необходимости детально описывать ход событий, приведших к открытому конфликту. Достаточно напомнить, что попытки России обеспечить контроль над китайской Маньчжурией и отошедшей от Китая – после его военного поражения от Японии – независимой Кореей проявились в том числе и в нежелании выводить русскую армию из Маньчжурии. Армия эта осталась там после участия вместе с вооруженными силами других стран в подавлении антиимпериалистического восстания в Китае, известного как восстание «боксеров». Стремление, воспользовавшись случаем,
127 Пименов Р.И. Происхождение современной власти, М, 1996. С. 298
обеспечить свое постоянное военное присутствие в Маньчжурии привело к международной изоляции России и обеспечило международную поддержку Японии, когда она в ультимативной форме потребовала вывода русских войск и, не получив ответа, напала на российскую эскадру в Порт-Артуре. Так, по справедливому замечанию современного историка, «России была навязана война, которой она не хотела, но которая явилась логическим следствием имперской политики»128.
Военные неудачи, включая беспрецедентный для страны разгром ее флота, и стали тем историческим звеном, которое способствовало перерастанию очаговых социальных конфликтов, вызванных последствиями индустриальной модернизации, во всеобщую смуту. Легитимность верховной власти была поколеблена. Державно-имперская идентичность, на которую эта власть опиралась, в том числе и в своей дальневосточной политике, в очередной раз была ущемлена и, тем самым, лишена своего консолидирующего потенциала. Но, повторим, военные неудачи стали лишь толчком для внутренних потрясений, симптомы которых проявлялись и раньше. Более того, влиятельные придворные крути подталкивали царя к столкновению с Японией, которого он хотел избежать, именно ради того, чтобы притупить нараставшую остроту внутренних проблем. С помощью «маленькой победоносной войны», по выражению министра внутренних дел Плеве, предполагалось сделать то, что мирная державная политика сделать не позволяла.
Министр был прав в том отношении, что военная победа и сопутствовавшее ей патриотическое воодушевление в определенной степени могли восстановить консолидирующий ресурс державной идентичности. Но он был не прав в том, что переоценивал возможность такой победы и недооценивал последствия поражения. Оно стало мощным ускорителем социальной дезорганизации и кризиса государственности, на которую еще за несколько лет до войны началось наступление с разных сторон, из различных культурных анклавов.
На рубеже веков две культуры – либерально-европейская и общинно-вечевая, до того противостоявшие российскому государству разновременно и порознь, начали сливаться в общий поток антисистемного протеста, оставаясь принципиально несовместимы-
128 Боханов А.Н. Россия на мировой арене // Россия в начале XX века. М., 2002. С. 335.
ми по своей идеологической и политической направленности. Очередной неурожай и голод (1901), от которых в той или иной степени пострадали миллионы людей, стимулировали резкий рост крестьянских выступлений. А европейский финансово-экономический кризис, разразившийся в то же время, резко снизил приток иностранного капитала в зависимую от него российскую экономику и привел к банкротству нескольких тысяч предприятий, катализировав забастовочную волну среди городских рабочих, и без того находившихся в стесненном экономическом положении и страдавших от тяжелых условий труда. В свою очередь, выход народа из исторического безмолвия активизировал революционеров-террористов, сметенных было с исторической сцены консервативной стабилизацией. Начала создавать нелегальные организации и искать способы пропаганды своих конституционных идей в самых разных общественных слоях и либеральная интеллигенция. Эти протестные потоки, исходившие и из народных низов, и из интеллектуальной элиты, накладывались друг на друга, нередко даже соединялись в единое целое. Но то было не органическое, а механическое, и потому временное и непрочное соединение разнокачественных культур.
Скажем, в петиции царю, с которой петербургские рабочие шли к Зимнему дворцу 9 января 1905 года, наряду с прошениями о повышении зарплаты и сокращении рабочего дня выдвигались и ходатайства о свободе слова, собраний, рабочих союзов, созыве Учредительного собрания, что и послужило главным основанием для расстрела мирных манифестантов. С аналогичными либерально-демократическими требованиями рабочие нередко выступали и до, и после этого трагического дня. И даже крестьяне, казалось бы, обнаружили способность преодолеть локально-общинный горизонт, создав в том же 1905 году Всероссийский крестьянский союз и выдвинув те же демократические требования, которые выдвигала либеральная интеллигенция. Но общий политический язык лишь временно затушевывал глубокий культурный раскол, что и обнаружится после февраля 1917 года. Однако уже в самом начале столетия и особенно в годы гражданской смуты 1905-1907 годов, известной нам как первая русская революция, стало выясняться: под общей словесной формой, объединявшей либерально-элитный и низовой демократический протест против существующей государственности, скрывалось совершенно разное историческое содержание.
Эта форма была общей для всех только в том, что касалось политических требований демократизации. Однако последние, вписанные в исходившие от народных низов документы интеллигенцией, в сознании самих низов не были ни главными, ни решающими. Главным и решающим было совсем другое. Так, в документах, исходивших в 1905-1907 годах непосредственно от крестьян и выражавших их социальные идеалы, в первую очередь декларировалась целевая установка на уравнительный передел помещичьих земель и ликвидацию частной собственности на землю как таковой. Потяно, что с либерально-модернистскими культурными ценностями такие установки были несовместимы. Но это говорит лишь том, что культура подавляющего большинства населения в начале XX века органического синтеза с либеральной идеологией образовать не могла. И это объясняет, почему в среде европеизированной интеллигенции продолжали возникать многочисленные течения русского социализма и почему одному из них удалось со временем овладеть страной.
Социализм, как и либерализм, тоже был заимствован из Европы. Но в России, в отличие от Европы, он нашел для себя благоприятную массовую почву, в соответствии с которой и был откорректирован. Это не значит, что русские крестьяне хотели того, что сделает с ними впоследствии Сталин, насильно загнавший их в колхозы. Но то, чего они не хотели и что отторгали (частную собственность), одно только и могло быть исторической альтернативой вторичному сталинскому закрепощению.
Идея частной собственности и права на нее – идея универсально-абстрактная, выводящая за пределы локального опыта отдельных людей и групп населения. Архаичному сознанию – а именно таким оно оставалось в России к началу столетия – она чужда, как чужда ему и столь же универсально-абстрактная идея права в широком смысле слова. Это сознание руководствуется представлением о том, что земля никому конкретно не принадлежит, она – Божья, и пользоваться ею на равных с другими условиях может лишь тот, кто ее непосредственно обрабатывает. Отсюда – мысль о ликвидации помещичьего землевладения и «черного», уравнительного земельного передела. Однако реальной альтернативой частной собственности может быть только ее национализация, т.е. превращение в собственность государственную. Чем это для них обернется, крестьяне, повторим, предвидеть не могли. Государство воспринималось ими такой же нежизненной абстракцией, как собственность, закон и право, и отторгалось как заведомое и безусловное зло. Но тотальное коммунистическое «государство нового типа» только потому и сумело утвердиться, что опиралось на дого-сударственную культуру крестьянского большинства населения и присущие ей ценности и идеалы.
Общая языковая форма не столько объединяла либеральную и народную демократию, сколько свидетельствовала о том, что у последней еще отсутствовал собственный политический язык. Однако именно в интересующий нас период, наряду с социальной, начала оформляться и политическая альтернатива либерализму, причем не только в головах социалистических идеологов, искавших в народной смуте опору для своих идей и проектов, но и в ходе стихийной самоорганизации самой смуты. Солидаризируясь с либеральными политическими лозунгами, она бессознательно искала и свой собственный государственный идеал, который одновременно и противостоял бы государству существующему, и совмещался с догосударственной культурой народного большинства. Таковым мог стать только идеал общинно-вечевой, переносивший на государство модель сельского схода или казачьего круга.
Самодержавная власть, завершив демилитаризацию жизненного уклада страны, в поисках новых консолидирующих механизмов вынуждена была продолжать освоение и использование идеологического опыта допетровской Руси, реанимированного в послеекатерининский период. Начинавший отпадать от этой власти народ, сам того не подозревая, возрождал традицию еще более давнюю – домосковскую, домонгольскую, киевскую. Он возвращал в политическую жизнь огромной страны, прошедшей многовековой путь государственного строительства, древний вечевой институт, который даже в старину не был самодостаточным, нуждался в дополнявшей его фигуре князя и мог функционировать только в локальном пространстве.
Конечно, вечевой принцип властвования, противопоставляемый государственному, воспроизводился не буквально и не везде одинаково. Он мог реализовываться в решениях «мира», общинного схода, о разграблении помещичьего хозяйства и дележе награбленного, об отказе платить налоги и поставлять солдат в армию. Он мог воплощаться в виде «крестьянских республик» 1905-1907 годов, в которых власть полностью принадлежала общине и избранному ею «президенту» (по казачьей модели «круг – атаман»)129. Но про-
388 См.: Петров Ю.Л. 1905 год: пролог Гражданской войны // Россия в начале XX века. С. 367.
лодожить дорогу в будущее суждено было все же не сельским, а городским вечевым институтам, нареченным советами рабочих депутатов. Ленин недаром называл их прообразами нового типа государства. Впервые возникнув в Иваново-Вознесенске (май 1905 г.), они сразу же сделали заявку на осуществление властных функций, в том числе и по поддержанию общественного порядка в городе. Советы, разумеется, отличались от древнерусского веча и даже от его сохранявшихся на протяжении веков аналогов – они принимали свои решения не на улицах и площадях. Уже одно то, что новый институт включал в себя не все население города, а выбираемых на предприятиях депутатов, свидетельствует об использовании при его формировании процедур представительной демократии. Но он тем не менее оставался все же институтом вечевого типа, приспособленным к условиям большого индустриального города и большого общества.
Советы, как и вече, устраняли промежуточные звенья – в виде бюрократически-полицейского аппарата и привилегированных сословий – между населением и властью, отторгавшиеся догосударственным народным сознанием. Власть и государство в таком сознании никогда не совпадали, воспринимались им как разнородные и противостоящие друг другу сущности130. Поэтому, кстати, впоследствии словосочетание «советская власть» укоренится в нем значительно глубже, чем словосочетание «советское государство». Но в этом обновленном вечевом институте не было места не только для бюрократии и полиции. В нем не было места ни для закона, ограничивающего власть, ни для универсального принципа права, ни для идеи разделения властей на независимые друг от друга ветви. Если учесть, что такого рода народовластие в большом обществе заведомо нежизнеспособного последующая трансформация советов в машину для единодушного голосования, легитимирующего ничем не ограниченный произвол нового «отца народов» и нового («народного») полицейско-бюрократического аппарата, не покажется ни неожиданной, ни случайной.
130 На несовпадение в сознании русских крестьян образов власти (ассоциируемой с царем) и государства (отождествляемого с барами и чиновниками) обратил внимание еще В.Г. Короленко (см.: Короленко В.Г. Земли! Земли! // Новый мир. 1990. № 1) Об этом см. также: Вольф Э. Крестьянские восстания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992. С. 302-303; Булдаков В. Красная смута. М., 1997. С. 22-23.
Этот зигзаг отечественной истории мог произойти только потому, что в жизненном укладе страны вплоть до XX века воспроизводилась древняя вечевая традиция. Да, к тому времени, о котором у нас идет речь, она воспроизводилась только в казачьих станицах и в деревне. Но городские советы, в которых историки не без оснований усматривают модификацию сельского схода131, стали возможны именно потому, что одним из результатов форсированной индустриальной модернизации стал массовый приток крестьян в города132. Революционная смута 1905-1907 годов и специфические способы ее самоорганизации в значительной степени обусловлены именно этим процессом. Пугачевщина была попыткой насильственного захвата деревней городских центров при отсутствии в них массовой базы поддержки. Новая же ситуация была чревата «не столько походом „деревни" на „город" в духе пугачевщины», сколько «бунтом замаскированной архаики в центрах урбанизации»133.
Первый низовой напор государству удалось остановить и подавить. Но он оставил после себя не только подорванную легитимность конкретного самодержца, но и поколебленную легитимность самого самодержавного принципа. Лозунг «Долой самодержавие!» не стал еще повсеместным, сохранявшаяся «отцовская» культурная матрица массового сознания не нашла этому принципу замены. Но слова уже были проговорены, и десятилетие спустя им суждено будет отозваться в гораздо более широких слоях населения. Кроме того, подавленная смута оставила после себя многочисленных образованных сторонников «замаскированной архаики» в виде различных интеллигентских групп, что во времена Пугачева невозможно было даже вообразить. Эти группы усматривали в смуте двигатель прогресса и хотели ее оседлать, навязать ей свои программы, приспосабливающие архаичные идеалы смуты к ценностям большого общества и, в свою очередь, были готовы к ее идеалам адаптироваться сами.
Власть осознавала сложность и новизну стоявших перед ней проблем. Поэтому она не ограничилась очередной репрессивно-консервативной стабилизацией, а попыталась лишить смуту социально-экономической и политической почвы. Попытка была бес-
131 Хоскинг Дж. Указ. соч. С. 426.
132 С 1897 по 1911 год численность населения российских городов возросла – прежде всего за счет крестьянства – в полтора-два раза (см.: Иванова Н.А. Города России // Россия в начале XX века. С. 118).
133 Булдаков В. Указ. соч. С. 21.
прецедентной. Предпринятые реформы впервые затронули то, что раньше считалось неприкосновенным, – идею самодержавной власти и крестьянскую общину.
14.7. Авторитаризм и парламентаризм
Как и любое другое историческое явление, гражданская смута не остается чем-то неизменным: ее идеалы всегда архаичны, но конкретные формы всегда современны. В России начала XX века, затронутой технологической модернизацией, смута проявилась прежде всего в параличе хозяйственной жизни и коммуникаций. К октябрю 1905 года в стране перестали работать железные дороги, почта и телеграф, остановилось большинство промышленных предприятий. Это был не столько хаос открытой гражданской войны (вооруженные столкновения начнутся чуть позже), сколько хаос всеобщей дезорганизации, вызванный мирным организованным противоборством городских рабочих с предпринимателями и властями.
В этой ситуации Николай II мог выбирать между двумя вариантами поведения, которые тогда обсуждались. Он мог воспользоваться своей неограниченной властью и ввести в стране военное положение и военную диктатуру – юридические процедуры для осуществления такого сценария были заложены, как мы помним, в законах Александра III. Другой вариант заключался в том, чтобы разделить политическую ответственность с протестующим обществом, поделившись с ним, соответственно, и властными полномочиями. В первом случае речь шла об объявлении войны значительной части собственного народа, требования которого разделялись большинством образованного класса и формулировались при его прямом участии. Во втором – об ограничении самодержавия конституционными законами, что отец и дед Николая считали дорогой в пропасть, началом конца отечественной государственности. Не найдя в своем окружении убежденных сторонников силового решения, император согласился на уступки.
Царский Манифест, обнародованный 17 октября 1905 года, означал разрыв с российской политической традицией, выход за ее исторические границы. Этот документ соединял авторитарный идеал и с либеральным, и с демократическим. В полном соответствии с идеологическими канонами либерализма населению обещалась вся совокупность гражданских прав и свобод: в Манифесте декларировались неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, союзов. Кроме того, самодержавная власть изъявляла готовность поступиться до того незыблемой монополией на представительство общего интереса: император гарантировал учреждение демократического института (Государственной думы), избираемого всеми слоями населения и наделяемого законодательными полномочиями. То был реальный шаг к конституционному правлению или, что то же самое, к принципиально новому статусу закона в государственной жизни.
Верховенство закона декларировалось в России со времен Петра I. Но оно всегда сочеталось с неограниченной императорской властью, что тоже фиксировалось юридически. К XIX веку, после насильственной смерти наказанного за произвол Павла I, русские самодержцы стали считаться с буквой закона и старались его не нарушать. Но формально и фактически они от него не зависели, потому что были вправе любой закон изменить. Октябрьский Манифест Николая II и принятые вскоре после его обнародования Основные законы кардинально меняли ситуацию: отныне ни одна законодательная норма не могла вступить в силу без одобрения Государственной думы. Это повлекло за собой изменение и юридического статуса императора: в Основных законах его власть по-прежнему квалифицировалась как самодержавная, однако уже не квалифицировалась как неограниченная. Но ограниченное самодержавие – это, строго говоря, уже не самодержавие.
Михаил Федорович Романов – первый представитель новой царствующей династии – получил власть после Смуты в результате демократического волеизъявления представителей населения на Земском соборе. Тогда же Русь впервые вдохновилась авторитарно-демократическим государственным идеалом и двухполюсным принципом властвования: царь правил вместе с Собором, опираясь на его поддержку и легитимируя от его имени важнейшие политические решения. Последний Романов, отвечая на вызовы второй русской смуты, тоже вынужден был подключить к авторитарной модели народный полюс, отброшенный за ненадобностью еще в середине XVII столетия. Но теперь этот полюс выглядел существенно иначе. Дело не только в том, что в Государственной думе, в отличие от Земского собора, было представлено раскрепощенное крестьянское большинство. И даже не в том, что взаимоотношения царя и Собора законодательно не регулировались, а взаимоотношения императора и Думы определялись юридическими нормами. Дело и в том, что различными были политические функции этих представительных учреждений, отделенных друг от прута почти двумя столетиями.
Земский собор воспринимался не как ограничитель традиционной власти царя, а как средство ее укрепления. Поэтому авторитарно-демократический идеал времен Михаила Федоровича мог стать на определенный период идеалом всеобщего согласия. Народное представительство, учрежденное Николаем II, полномочия императора урезало: в этом, собственно, и заключался смысл создания первого в России института парламентского типа. Вопрос теперь заключался в том, способна ли новая версия авторитарно-демократического идеала обеспечить консенсус в понимании общего интереса и вывести страну из смуты.
Жизнь покажет, что и на этом пути Россию поджидали трудноразрешимые проблемы. К моменту обнародования царского Манифеста энергия смуты еще не иссякла и погашена им не была: сам по себе он не устранял явления, вызвавшие массовое недовольство. Вынужденные уступки власти – такое в истории бывает нередко – истолковывались как слабость, которой следует воспользоваться. Именно после издания Манифеста смута переросла из мирной в вооруженную, причем значительная часть интеллигентской оппозиции, в том числе и либеральной, выступила на ее стороне, а многие интеллигенты-радикалы исполняли роли ее вождей. В этом столкновении самодержавие, которое радикалы и сочувствовавшие им либералы пытались окончательно опрокинуть, устояло. Задействованные законодательные механизмы «Чрезвычайной Охраны»,предусмотрительно созданные Александром III, которые были дополнены другими жесткими мерами, прежде всего военно-полевыми судами, позволили стабилизировать ситуацию. Но силовая стабилизация была не в состоянии устранить консервировавшийся на протяжении веков культурно-ценностный раскол российского социума.
Раньше его проявления блокировались самодержавной властью, действовавшей в режиме политического монолога поверх раскола: глубоко укорененная «отцовская» матрица властвования это позволяла. Революционные потрясения начала XX века выявили историческую исчерпанность такой политической модели и при-рели к юридическому самоограничению самодержавия, которое из фактически надзаконного превратилось в подзаконное. Оставалось, однако, неясным, совместимо ли такое ограничение с «отцовской» матрицей. Неясным представлялось и то, как соотносится с ней переход от политического монолога к диалогу в представительном учреждении, избираемом в ходе народного голосования. Было, наконец, неясно, согласуемы ли в таком учреждении интересы отдельных элитных и массовых групп, проживавших в качественно разнородных культурных пространствах.
Речь шла, говоря иначе, о возможности сосуществования авторитарно-самодержавного принципа с принципом демократическим в его парламентском воплощении, равно как и о консолидирующих возможностях парламентаризма в культурно расколотой стране. Десятилетний опыт отечественного думского самодержавия не дает достаточных оснований для оптимистических на сей счет умозаключений. Подключение к самодержавию института парламентского типа подрывало принцип самодержавного правления. В свою очередь, сохранение самодержавия не позволяло проявиться преимуществам парламентаризма. В результате же легитимность самодержавного принципа в его традиционном царском воплощении падала, но и легитимность парламентского принципа при этом не возрастала.
Октябрьский Манифест и последовавшие за ним законодательные акты, которые ограничивали полномочия императора, а также выборы в Государственную думу и начало ее работы означали резкий рывок России во второе осевое время. Закон, действие которого впервые распространялось на верховную власть, приобретал универсальное измерение. Гражданские права впервые распространялись на политическую сферу, открывая доступ населению к участию в государственной жизни на общенациональном уровне. Они не были универсальными, потому что не были равными: допускавшееся избирательным законом представительство низших классов в Государственной думе не было пропорционально их численности. Но такие ограничения, в пору становления парламентаризма имевшие место и в Европе, не ставят под сомнение общий вектор проводившейся реформы: она была существенным шагом к универсализации принципов законности и права.
Тем не менее продуктивный диалог и выработку на его основе общественного согласия обеспечить в ту пору не удалось. Демократические процедуры в культурно расколотом социуме не ведут к формированию базового ценностного консенсуса, а лишь выявляют его отсутствие. Поэтому при всей колоссальности культурных сдвигов, происшедших в стране со времен Уложенной комиссии Екатерины II, компромисс между противостоявшими друг другу частными интересами оказывался столь же недостижимым, как и полтора столетия назад. Вовлечение в легальную политическую жизнь крестьянского большинства обнаружило, что абстракция общего интереса в народном сознании не укоренилась. При монополии самодержавной власти на представительство этого интереса укорениться она и не могла. Ситуация еще больше усугублялась тем, что и частные интересы осознавались разными слоями общества в принципиально несовместимых системах ценностных координат.
В результате социокультурный раскол с улиц и площадей переместился в Таврический дворец, отведенный для заседаний Государственной думы. Люди разных исторических эпох, отдаленных друг от друга тысячелетием, собрались теперь в одном зале, чтобы согласовать свои представления о должном и правильном. Но представления эти были изначально не согласуемы. Непреодолимость раскола стала очевидной сразу же после того, как депутаты приступили к обсуждению аграрной реформы, проведение которой под влиянием трагического опыта смуты считалось властями приоритетным. Выяснилось, что с крестьянством в лице его политических представителей нельзя было договориться по коренному вопросу – о праве частной собственности на землю.
Петр Столыпин, назначенный царем министром внутренних дел, а вскоре и главой правительства, сделал ставку на демонтаж крестьянской общины посредством разрешения на выход из нее даже при отсутствии на то ее согласия. Это была линия на создание в деревне класса мелких и средних земельных собственников, которые должны были стать социальной опорой власти и одновременно буфером между помещиками и теми крестьянами, которые предпочитали оставаться в общине. Речь шла об еще одном резком разрыве с многовековой традицией – до этого самодержавие всегда опиралось именно на общину, где культивировало регулярные переделы земли в пользу малоземельных крестьян, дабы они могли платить подати, в ущерб крепким хозяевам. Столыпин открыто провозгласил ориентацию не на слабых, а на сильных, намереваясь устранить «закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека и человеческого труда»134. Но в основе такой ориентации лежал принцип незыблемости частной собственности, в том числе и помещичьей собственности на землю. И вот с этим-то крестьянские депутаты Думы согласиться не могли. Не только потому, что были ориентированы на раздел помещичьих владений, но и потому, что идея частной собственности на землю отторгалась крестьянской культурой.
134 Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. М., 1991. С. 52.
Такого рода ценностные расколы не преодолеваются компромиссом. Они могут быть отодвинуты с поверхности только с победой одной из сторон, которая в представительном демократическом учреждении предполагает количественное превосходство. Однако у Столыпина и у поддерживавшего его в то время Николая II такого превосходства не было. Не потому, что крестьянские депутаты составляли в Думе большинство – они его не составляли. Но за ними было подавляющее народное большинство за стенами Думы. Поэтому к их требованиям примкнула либеральная партия кадетов, имевшая самую большую фракцию. Конечно, с существенными оговорками и поправками. Конечно, при сохранении верности либерально-правовым принципам – кадеты выступали не за принудительный передел помещичьих земель, а за отчуждение в пользу государства с последующей передачей крестьянам лишь части этих земель, причем не безвозмездно, а «с вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не рыночной) оценке»135. Но принцип неприкосновенности частной собственности и недопустимости ее принудительного отчуждения они, тем не менее, готовы были принести в жертву. Столыпин и Николай II к такой жертве предрасположены не были. Так самодержавие сразу же столкнулось с тем, что демократическая составляющая его нового идеала поглощала авторитарную, не оставляла ей пространства для реализации. Или, говоря иначе, оно столкнулось с тем, что лишается права именоваться самодержавием.
Казалось бы, юридические нормы, на основании которых распределялись властные полномочия между императором и представительным институтом, надежно страховали царя от такого рода неожиданностей. Без него ни один закон, принятый Думой, не мог вступить в силу. Кроме того, закон, вышедший из Думы, должен был пройти через Государственный совет – этот прежний законосовещательный орган, созданный еще при Александре I по проекту Сперанского и состоявший из назначавшихся царем сановников, был преобразован Николаем II в своего рода верхнюю палату парламента, половина состава которой избиралась, но другая половина все так же назначалась, что делало Госсовет вполне подконтрольным. Влиять на формирование правительства Дума не могла – оно тоже назначалось императором и было ответственно только перед ним.
135 Программа конституционно-демократической партии // Программы политических партий России: Конец XIX – начало XX вв. М., 1995. С. 331.
Наконец, самодержец имел право роспуска Думы без каких-либо обоснований и управлять с помощью указов до ее переизбрания. И тем не менее всего этого оказалось недостаточно.
Описанный выше конфликт в юридическом поле был неразрешим. Самодержавие, поставившее закон выше самого себя, столкнулось с жесткой дилеммой: либо добровольно отказаться от своего статуса, согласившись с заведомо неприемлемым для себя решением, либо пойти на прямое нарушение закона. Предпочтение было отдано статусу.
Но после роспуска первой Думы и новых выборов количественное соотношение сил в Таврическом дворце существенно не изменилось и столыпинский проект большинством депутатов по-прежнему отвергался. Стало ясно, что при существующем избирательном законе ничего другого ждать не приходилось. Однако закон этот без согласия Думы изменить было нельзя, как невозможно было рассчитывать и на ее согласие. Поэтому 3 июня 1907 года по инициативе Столыпина избирательный закон был незаконно изменен царским указом, объявившим одновременно о роспуске Думы и новых выборах – третьих менее чем за полтора года. По новому закону представительство низших классов в ней еще больше уменьшалось, а высших – увеличивалось136. Только после этого, ценой «третьеиюньского переворота» Столыпину удалось придать своему проекту юридическую силу.
Речь идет не о частностях, не о мелких издержках прогрессивного по своей общей направленности исторического процесса. Речь идет о фундаментальном конфликте старого самодержавного и нового демократически-правового начал российской государственности после того, как она приступила к своему самореформированию. Системная социально-политическая модернизация, впервые затронувшая базовые основания этой государственности, столкнулась с антимодернистской, архаичной культурой крестьянского большинства. Вовлечь ее в продуктивный диалог о путях и способах модер-
136 Доля выборщиков (выборы не были прямыми) от крестьянства уменьшалась по этому закону с 42 до 22,5%, а от землевладельцев увеличена с 31 до 50,5%. Представительство других групп населения существенно не менялось (см.: Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 160). Реально это означало, что Дума становилась дворянской: представители высшего сословия составляли 40,3% депутатов (при удельном весе дворянства в общей массе населения 1,5%), между тем как депутаты от крестьян-земледельцев, составлявших около 80% населения, имели в Думе всего 15% мест (см.: Карелин А.Л. К стабильности через реформы? // Россия в начале XX века. С. 489).
низации было невозможно, а пренебречь ею в ходе реформ можно было, только превратив народное большинство в заведомое меньшинство в институте народного представительства. Но это, в свою очередь, неизбежно деформировало саму модернизацию, заставляло власть отказываться от ею же провозглашенных принципов, в данном случае – от принципа законности, и ставить под угрозу свою легитимность в тех общественных слоях, которые такого рода принципы исповедовали. Однако и легитимность верховной власти в народной среде в результате подрывалась тоже. И потому, что самоограничение самодержавия не сочеталось с «отцовской» матрицей. И потому,что аграрная реформа, осуществлявшаяся от имени самоограничившегося самодержавия, не только не ослабляла, но и усиливала позиции частной земельной собственности в деревне.
Исследователи до сих пор спорят о том, мог ли воплотиться в жизнь и заблокировать большевизацию России проект Столыпина, отведи ему история те два десятилетия, которые он считал необходимыми и достаточными для реформирования страны. Таким спорам о нереализованном прошлом не дано разрешиться. Никто и никогда не докажет, что было бы, не случись убийства реформатора или так некстати начавшейся мировой войны. Невоплощенные замыслы оставляют потомкам лишь одну возможность – попробовать понять, почему они не реализовались и почему альтернативные замыслы оказались более конкурентоспособными.
14.8. Системные трансформации, не спасшие от катастрофы
Годы премьерства Столыпина во многих отношениях были для России весьма успешными. Продолжалась индустриальная модернизация, возобновился, причем высокими темпами, прерванный экономическим кризисом и революционной встряской промышленный рост. При всем неприятии крестьянами частной земельной собственности, в ряде регионов страны нашлось немало людей, которые выходили из общин и становились индивидуальными хозяевами-предпринимателями, что открывало перспективу преодоления разрыва между новейшей индустрией и архаичным сельским хозяйством. Благоволила к реформатору и природа: 1909-й и последующие годы были небывало урожайными, что позволило значительно увеличить вывоз зерна и, соответственно, приток средств для развития индустрии. В целом это была достаточно эффективная модернизаторская политика, затронувшая самые разные сферы – от системы образования до армии и флота, в которых после неудач в Русско-японской войне и в ответ на форсированную милитаризацию Германии началось техническое переоснащение. Но именно потому, что политика эта была модернизаторской, она постепенно лишалась поддержки. И в низах, и в верхах.
Ставка Столыпина на крепкого крестьянина-собственника натолкнулась на неприятие тех, кто к крепким не принадлежал и общину покидать не собирался. Между тем именно они продолжали оставаться в большинстве: до Первой мировой войны из общины вышло чуть более пятой части крестьянских дворов, причем динамика таких выходов со временем затухала, а в центральных регионах страны они вообще не получили сколько-нибудь широкого распространения. Кроме того, демонтаж архаичного сельского мира сопровождался сплочением остававшейся в нем части населения и ее агрессивной активизацией. Еще до начала аграрной реформы становилось очевидным, что конфликт между крестьянами и помещиками по своей остроте начинает уступать конфликту внутрикрестьянскому: в период революционной смуты помещики гораздо реже подвергались насилию (убийства, поджоги имений), чем те немногие крестьяне, которые к тому времени полностью выкупили бывшую помещичью землю и хозяйствовали на ней единолично137. Относительно массовые выходы из общины в ходе столыпинской реформы происходили, как правило, вопреки мнению «мира» и сопровождались еще большим всплеском насильственных акций со стороны традиционалистского сельского большинства против индивидуальных сельских хозяев, которых стали называть «столыпинскими помещиками»138. Реформы, призванные преодолеть социокультурный раскол «верхов» и «низов», оборачивались взрывоопасным расколом «низов».
К 1917 году формирование нового жизненного уклада в деревне не дошло до той точки, после которой преобразования могли стать необратимыми. С приходом к власти большевиков община восстановила утраченные позиции, снова втянув в себя тех, кто успел ее покинуть. Возможно, при наличии большего времени этого реванша архаики удалось бы избежать. Но время реформ не в по-
137 Подробнее см.: Гольц Г.А. Культура и экономика: поиск взаимосвязей // Общественные науки и современность. 2000. № 1.
138 После 1910 года на каждый поджог крестьянами помещичьих усадеб в среднем приходилось четыре поджога ими друг друга (Першин П.Н. Аграрная революция в России: В 2 кн. М., 1966. Кн. 1.С. 273-274).
следнюю очередь определяется их текущими последствиями и потенциалом сопротивления их проведению. В России начала XX века такой потенциал был весьма значительным, причем повторим, не только в народе, но и в элите.
Будучи убежденным приверженцем самодержавной формы правления, Столыпин не мог вызывать симпатий революционных социалистов и других радикалов, резко активизировавших в годы его правления террористическую войну с властями139. Не мог он рассчитывать и на поддержку тех либеральных кругов, которые мечтали о замене самодержавия европейским парламентаризмом и которые не могли простить главе правительства инициированный им противозаконный «третьеиюньский переворот» и «столыпинские галстуки» (массовые казни революционеров). Но в Государственной думе и в обществе против реформатора постепенно складывалась и оппозиция консервативно-дворянская.
Логика аграрной реформы, предполагавшей формирование класса независимых крестьян-собственников, требовала уменьшения дворянского присутствия в местном управлении, которое сохраняло отчетливо выраженную сословную окраску. Поэтому Столыпин пытался, в частности, заменить уездных предводителей дворянства, концентрировавших в своих руках основные властные полномочия, и земских начальников, как правило, тоже рекрутируемых из дворян, назначаемыми правительством чиновниками. Бюрократически-сословному принципу управления, который насаждался в России со времен Николая I и неоднократно корректировался его преемниками, он противопоставил принцип бюрократически-бессословный, надеясь тем самым создать управленческую вертикаль для проведения реформы.
Речь не шла об установлении диктата центральной исполнительной власти: об этом свидетельствует хотя бы то, что Столыпин вовсе не намеревался сохранять за чиновниками, призванными заменить земских начальников, судебные функции. Реформатор исходил из того, что остатки сословных дворянских привилегий, уходивших своими истоками в екатерининскую эпоху, стали анахронизмом. Однако дворянство сумело убедить императора в том, что столыпинские планы подрывают главную и самую надежную
139 С января 1908 по май 1910 года было зафиксировано 19 957 террористических актов и революционных грабежей (Гейфман А. Революционный террор в России, 1894-1917. М., 1997. С. 33). Для сравнения: за четыре последних десятилетия XIX века в России жертвами террора стали не более 100 человек (Там же. С. 32).
опору самодержавия. Так реформатор оказался в политическом вакууме. Осведомленные современники Столыпина не сомневались в том, что его отставка была предрешена140.
Сказанное означает, что авторитарно-демократический идеал, предполагавший модернизацию политической системы и социальных отношений, не становился в ходе реализации идеалом консолидирующим. Солидарного понимания необходимости преобразований и их целей, без которого подобные модернизации невозможны, в стране не обнаруживалось. Зато обнаружилось, что новый идеал расколол российскую элиту. Одна ее часть (монархисты) не принимала его демократическую компоненту вообще, другая (большинство либералов и социалисты) – отвергала компоненту авторитарную, требуя ликвидации самодержавия, третья (меньшинство монархистов и либералов) готова была двигаться в намеченном октябрьским Манифестом компромиссном направлении. Получив возможность объединения в легальные партии и борьбы за голоса избирателей, все эти группы пытались найти общий язык с народным большинством, в котором продолжал задавать тон и даже укреплял свои позиции идеал общинно-вечевой. Отсюда – закономерное возрастание интереса к вопросам, касавшимся национальной и государственной идентичности.
Вопросы эти мало занимали тех, кто ориентировался на полный демонтаж традиционной самодержавной государственности в соответствии с либерально-европейским или социалистическим идеалом. Народ интересовал их главным образом с точки зрения его способности и готовности содействовать реализации их политических целей, которые воспринимались не как специфические и самобытные, а как универсальные. Неудивительно, что в представлениях некоторых из них национальная и государственная идентичность без остатка растворялась в классовом «интернационализме», что не помешало им, однако, захватив власть, организовать ее вполне самобытно. Беспокоили же такого рода вопросы прежде всего консерваторов, т.е. тех, кто самодержавие в том или ином виде хотел сохранить. Беспокоили они, разумеется, и самого самодержца.
Как и его отец, Николай II пытался править, руководствуясь формулой «народного самодержавия», актуализировавшей идеологический опыт Московской Руси. Эта формула предполагала акцент на религиозной идентичности, на единении православного царя
140 Подробнее см.: Карелин А.Л. К стабильности через реформы? С. 511.
и православного народа. Но одновременно Николай стремился сохранять и поддерживать и идентичность державно-имперскую, искал символический синтез допетровской Руси и послепетровской России. Серия общенациональных торжеств в ознаменование памятных дат отечественной истории (двухсотлетие Петербурга, двухсотлетие Полтавской битвы и столетие Бородинского сражения, трехсотлетие Дома Романовых) призваны были символизировать единство и преемственность этой истории, что требовало и определенной корректировки исторических образов в соответствии с формулой «народного самодержавия». Например, Петра I теперь предпочитали изображать на картинах не как полководца, а как «царя-плотника» или «царя-кузнеца»141.
Однако пристрастие к подобным юбилейным торжествам свидетельствует обычно о кризисе идентичности, а не об ее устойчивости и незыблемости. Так обстояло дело и в России начала XX века. Православная форма идентичности давно уже размывалась се-кулярной европейской культурой, определявшей мироощущение образованных классов. Идентичность державно-имперская подрывалась исчерпанностью возможностей для территориального расширения страны и логикой модернизации, требовавшей длительного мира и полной сосредоточенности на внутренних проблемах. Неудачи в Русско-японской войне демонстрировали это наглядно и убедительно. Но и долговременная мирная модернизация в духе Столыпина выхода из кризиса идентичности не сулила и потому казалась лишенной исторической перспективы – тем более что согласия относительно целей и методов преобразований в расколовшейся элите не было. Поэтому та ее часть, которая ориентировалась на сохранение самодержавной государственности, искала способы коррекции традиционных идентичностей, их приспособления к новым историческим условиям.
Эти поиски начались еще при царе-освободителе. Демилитаризация жизненного уклада страны сопровождалась фрагментацией империи по национальным и социальным линиям и появлением революционных угроз. Ответом на новые вызовы стали русский национализм и панславизм, вводившие в государственную идентичность этническое и общеславянское начала. Именно такой идеологический язык предлагался властям для предотвращения распада и смуты, для
141 См.: Ульянова Г.Н. Национальные торжества (1903-1913 гг.) // Россия в начале XX века. С. 544.
сплочения народа вокруг трона. Все три последних самодержца оказались к нему восприимчивы, свидетельство чему – принудительная русификация Польши, Украины, Финляндии, ущемление прав евреев при Александре III, а также Балканская война Александра II, проходившая не только под религиозно-православными, но и под панславистскими лозунгами. Но этнизация политики в имперской стране влекла за собой еще большую радикализацию национальных меньшинств, которую посредством такой этнизации надеялись погасить. Не удастся, как выяснится, с помощью апелляций к этнической идентичности сплотить против революции и русское население: еврейские погромы массового сочувствия в России не вызвали, да и власть не могла позволить себе открыто их поощрять.
Что касается панславизма, то он не в состоянии был ни идеологически приковать к России католиков-поляков, ни сплотить вокруг нее всех православных славян – ведь даже освобожденная Александром II Болгария предпочла вскоре переориентироваться на Австро-Венгрию. Тем не менее именно панславистская идеология, наложившаяся на державно-имперскую идентичность, вовлекла страну в роковую для нее Первую мировую войну. При отсутствии согласия относительно стратегии мирной модернизации и без признания ее приоритетности по отношению к вопросам внешнего престижа любой вызов этой идентичности извне воспринимался как покушение на нее, требовавшее державного ответа. Недостатка же в таких вызовах в начале XX века не было – пользуясь ослаблением Турции, Австро-Венгрия при поддержке Германии вела активную экспансионистскую политику на славянских Балканах.
Николай II, как его отец и дед, старался избегать войн, понимая их опасность для страны. Но боязнь окончательно утратить общественную поддержку в случае несоответствия его политики державной традиции и державному статусу России перевесили, в конце концов, прагматические соображения. Тем более что в этом отношении к консервативной элите примыкала и элита либеральная: по-разному отвечая на вопрос о том, какой быть российской государственности, самодержавной или демократической, они были едины в своих представлениях о роли и месте России в мире142. Иными словами, за отсутствием согласия относительно характера
142 Об умонастроениях различных групп российской элиты в предвоенный период см.: Янов А.Л. Россия против России: Очерки истории русского национализма, 1825-1921. Новосибирск, 1999.
модернизации скрывалось неафишируемое согласие о неприоритетности самой модернизации и отсутствия у нее какой-либо перспективы. Но утрата элитой перспективы реформаторского развития может быть компенсирована только упованием либо на революцию, либо на войну, либо на то и другое вместе, т.е. на войну, ведущую к революции.
Николай II дважды устоял перед напором панславистов. Его пугали тем, что уклонение от «поддержки братьев-славян» в ходе войн Австро-Венгрии и Турции на Балканах (в 1908-1909 и 1912-1913 годах) не будет понято в России, покоробит державное самоощущение и может стать причиной новой революционной вспышки. Революции в результате не произошло, но подобные предупреждения, подталкивавшие царя к войне, свидетельствовали о том, что российские элиты мыслили не столько в логике модернизации, сколько в логике войны и революции, как альтернатив модернизации. Эту логику и обслуживала идеология панславизма143. В третий раз Николай II перед ней капитулирует: когда Австро-Венгрия в ответ на убийство в сербском Сараево наследника австрийской короны ввела в Сербию свои войска, Россия объявила военную мобилизацию, после чего шансов на сохранение мира уже не оставалось. Последняя статусная война Романовых, призванная дать расколотому обществу отсутствовавшую у него общую цель, не только не заблокировала революцию, но и стала ее катализатором. Началось все с патриотического воодушевления, объединившего общество вокруг царя, а закончилось – после серии военных поражений, распада коммуникаций, сбоев с поставками продовольствия в столицу и массовых протестных выступлений – первым в отечественной истории самоотречением самодержца от престола.
Не останавливаясь на том, почему и как война переросла в смуту144, ограничимся общим замечанием о том, что демилитаризированная Россия для обретения конкурентоспособности, в том
143 Как и любая идеология, она обслуживала конкретные экономически интересы. Российская внешняя торговля испытывала значительные трудности в результате того, что Турция держала под контролем проливы между Черным и Средиземным морями (Босфор и Дарданеллы). Но такого рода проблемы не могут мобилизовать население на войну, представить ее в его глазах необходимой. Для этого требуется идеологическое обоснование, апеллирующее не к экономическим интересам, а к культурным идентичностям.
144 Об этом обстоятельно повествуется в уже упоминавшейся книге В. Булдакова «Красная смута» (М., 1997), многие концептуальные подходы которого нам близки.
числе и военной, нуждалась в завершении своей модернизации, причем не только технологической, но и социально-политической. Вопрос о том, была ли она на это способна, остается открытым. Фактом остается лишь то, что стране предстояло пережить еще одно новое начало своей истории и новый цикл тотальной милитаризации.
Вторая революционная смута XX века смела со сцены не только самодержавную государственность и поддерживавшие ее консервативные элиты, но и элиты либеральные, делавшие ставку на политическую европеизацию страны. Многолетнее противостояние власти не обеспечило легитимность их притязаний на роль ее преемника. Выборы в Учредительное собрание, впоследствии разогнанного, принесли подавляющее большинство голосов социалистическим партиям – эсерам и большевикам145. Именно их программы и лозунги оказались наиболее созвучными архаичному общинно-вечевому идеалу, которым по-прежнему воодушевлялось народное большинство: после февраля 1917 года оно вновь выплеснулось на улицы и противопоставило государственным институтам, на этот раз почти полностью парализованным обвалом самодержавия, самоорганизацию вечевого типа.
Спонтанно возникавшие на местах властные органы именовали себя по-разному: советами, союзами, комитетами народной власти146. Но все они руководствовались в своей деятельности канонами эмоционально-локальной культуры, в которой не было места абстракции частной собственности и каким-либо абстракциям вообще. Документы той поры позволяют составить представление о том, как общинно-вечевой идеал воплощался в жизнь: «Мелкий хуторянин, средний землевладелец, крупный помещик одинаково испытывали тяжелые, иногда непоправимые удары волостных комитетов… Все земледельцы, как крупные, так и мелкие, в большинстве случаев подавлены»147.
Временное правительство пыталось вернуть ситуацию в правовое поле, но в этом не преуспело. Чтобы обуздать смуту, нужно было говорить с ней на языке ее архаичных идеалов и ценностей.
145 Депутатами Учредительного собрания были избраны 23,7% большевиков и 45% эсеров. Однако последних, с учетом украинских эсеров (10,2%), в целом было еще больше (см.: Протасов Л.Г. «Кто был кто» во Всероссийском Учредительном собрании//Крайности истории и крайности историков. М., 1997. С. 85).
146 См.: Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и Гражданской войне М., 2001. С. 15.
147 Цит. по: Там же. С. 16.
Среди партий, боровшихся за влияние в советах, которые возникали повсеместно – в городе, деревне и даже в армии, лучше всех к этому оказались подготовлены большевики. Именно в их лице смута получила политиков, способных придать ее догосударственным идеалам государственное звучание и соединить ее сельские потоки с городскими. Не обременяя себя думами о национальной идентичности, они сумели войти в контакт с ней, потому что ликвидация частной собственности была их программной установкой. Близок им был и доправовой пафос смуты – «буржуазную законность» они тоже отвергали и тоже в силу доктринально-программных установок. Единственное, чего им не хватало и о чем они при захвате власти даже не думали, – идеологического обоснования самодержавной альтернативы самодержавию.
Лозунг «диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства» фиксировал социальную опору большевиков в городе и деревне при лидерстве города, где они, судя по результатам выборов в Учредительное собрание, имели преимущество перед всеми другими партиями148. Этот лозунг фиксировал и их готовность строить новую государственность неправовыми, насильственными методами. Но сам по себе он не обладал достаточным символическим капиталом и не обеспечивал прочную политическую связь с доминировавшей в народном большинстве архаичной культурой.
Государственную власть в России можно было удержать, лишь опираясь на традиционную модель властвования. Безразличие населения к отречению Николая II и падение самодержавия не означали, что «отцовская» культурная матрица себя изжила. Она исчерпала себя по отношению к самодержавию в его привычном воплощении, которое было делегитимировано и ограничением царской власти в пользу Думы, и поражениями в двух войнах, и самим фактом отречения царя от престола. Но она не исчерпала себя по отношению к самодержавному принципу правления как таковому. К тому же однополюсная общинно-вечевая модель властвования, будучи в большом обществе заведомо нежизнеспособной, нуждалась во втором, авторитарном полюсе, способствующем огосударствлению вечевой стихии. Нуждалась не в том смысле, что сознательно стремилась этот полюс обрести, а в том смысле, что сама по себе государствообразующим потенциалом не обладала. Наоборот, она
148 В Петербурге большевики получили 45% голосов, в Москве – 48,1 %. Другие партии от них заметно отстали (см.: Протасов Л.Г. Указ. соч. С. 85).
выступала как противогосударственная сила, что в годы Гражданской войны (1918-1920) проявилось в массовом движении «зеленых», отвергавших как прежнее государство «белых», так и новое государство «красных» и противопоставлявших тому и другому – в форме анархических идей и лозунгов – догосударственный идеал жизнеустройства.
Большевики, мыслившие в марксистской традиции классового анализа, в такой логике, разумеется, не рассуждали. Но задача огосударствления вечевой стихии перед ними стояла, они вынуждены были ее решать, и в разделе о советском периоде мы к данному вопросу еще вернемся. Кроме того, им предстояло найти свои собственные способы мобилизации личностных ресурсов во всех сферахгосударственной и хозяйственной жизни. Это тоже была новая проблема – хотя бы потому, что решать ее приходилось в обществе без частной собственности и порождаемых ею мотиваций жизненной активности. В подходах к данной проблеме Советская Россия сознательно или бессознательно наследовала не столько петербургской империи, сколько Московской Руси с ее идеологией «беззаветного служения».
Династия Романовых не оставила большевикам таких подходов по той простой причине, что успела осуществить демилитаризацию жизненного уклада и отойти от идеологии «беззаветного служения», при которой мобилизация личностных ресурсов не соотносится ни с законом, ни с легитимацией частных интересов. Поэтому прежде чем перейти к рассмотрению советской эпохи, есть смысл хотя бы вкратце охарактеризовать эволюцию России Романовых и в этом отношении. Не менее важно рассмотреть и осуществлявшиеся на протяжении их трехсотлетнего правления коррекции цивилизационного выбора страны. Тогда будет лучше видно, что большевики унаследовали от старой России, от чего отказались и что сумели привнести своего.
Глава 15 От принуждения к свободе: незавершенная эволюция
Династия Романовых, принявшая страну после потрясений первой смуты и вынужденная искать ответы на вызовы Запада, не могла удовлетвориться теми способами мобилизации личностных ресурсов, которые сложились при Рюриковичах. Идеология «беззаветного служения», лишавшая легитимности частные интересы и не страховавшая подданных от произвола правителей, обеспечивала воспроизводство сложившегося жизненного уклада, но не способствовала освоению новшеств в требуемых масштабах. Ко времени воцарения новой династии успело себя изжить и местничество, при котором должности распределялись не столько по талантам и заслугам, сколько по происхождению. Еще почти семь десятилетий этот институт продолжал сохраняться и при Романовых, но былой роли уже не играл. Остался в прошлом и самодержавный произвол по отношению к боярам – даже Петр I, упразднивший боярство как таковое, не позволял себе обращаться с отдельными его представителями на манер Ивана Грозного во времена опричного террора.
В свою очередь, и сами бояре после потрясений Смутного времени видели в царе своего главного защитника от возможных проявлений сохранявшейся народной неприязни и политических амбиций не обнаруживали. Тем более что узаконенное Соборным уложением 1649 года окончательное закрепощение крестьян в какой-то степени легитимировало боярские и дворянские частные интересы и частично трансформировало «беззаветное служение» в служение по «завету» – если и не прямо, то косвенно. Однако все это не обеспечивало приток необходимых стране личностных ресурсов: власть, осознавшая новые исторические задачи, испытывала, говоря современным языком, острейший кадровый голод.
Речь шла не просто о нехватке людей для исполнения привычных функций. И не только о том, что инерция местнической традиции не позволяла в полной мере заменить родовой принцип наследования должностей принципом личной заслуги – сам факт, что местничество в конце концов пришлось отменить официально, свидетельствовал о его несоответствии стоявшим перед страной проблемам. Но главное все-таки было не в этом. Главное заключалось в отсутствии на Руси человеческого потенциала для выполнения новых, нетрадиционных функций, которые плохо сочетались с культурным кодом элиты и населения. Чтобы мобилизовать личностные ресурсы, предварительно нужно было создать то, что подлежало мобилизации. Нужно было, говоря иначе, обучить людей тому, что они не знали и не умели. Для этого, во-первых, требовались учителя, которых не было тоже. Для этого, во-вторых, требовалась готовность учеников становиться учениками, отказываясь от веками складывавшихся ценностей и привычек и осваивая новые способы государственного управления, хозяйствования, ведения военных действий. Для этого, наконец, требовалось, чтобы проникновение в страну чужой, западной культуры не обрушило традиционный государственный уклад, возведенный на принципиально ином культурном основании.
Таковы были исходные условия, в которых династии Романовых приходилось решать проблему «человеческого фактора». За триста лет Романовы очень далеко продвинулись в ее решении. Но системные ограничители, с которыми они столкнулись, оказались в конечном счете непреодолимыми. Европейская культура и соответствовавший ей тип личности рано или поздно должны были оказаться в неразрешимом конфликте с природой самодержавной государственности. Последняя, оставаясь самой собой, не могла позволить развиться и реализоваться этому человеческому типу во всей полноте его потенциала даже в элите, не говоря уже об общественных низах, где доминировала совершенно иная, доличностная культура. Но едва ли не самое существенное заключалось в том, что сохранение самодержавия и его расколотой социокультурной опоры в европеизированном дворянстве и архаичном крестьянстве исключало становление сильного и независимого буржуазно-предпринимательского класса, способного в перспективе стать влиятельным социальным субъектом, носителем европейской политической альтернативы самодержавию – как в традиционалистском, так и в традиционалистско-модернистском (большевистском) его воплощении.
Все это позволяет говорить о сохраняющейся актуальности трехсотлетнего опыта Романовых, их успехов и неудач в том, что касалось мобилизации личностных ресурсов и трансформации их исходного качества. Потому что проблема, которую они решали и не решили, остается острой и по сей день, затрагивая все основные сферы практической деятельности – и государственную, и предпринимательскую, и сферу народного труда в широком смысле слова. С учетом этих ее составляющих мы и продолжим рассмотрение данной проблемы, начатое в разделах о Киевской и Московской Руси. В России Романовых, повторим, она и ставилась, и решалась иначе, чем раньше, причем на каждом историческом этапе по-разному.
15.1. Ресурсы дворянской элиты
В первые десятилетия после смуты различия между боярством и дворянством постепенно размывалось, поскольку стирались границы между вотчинным (наследственным) и поместным (пожалованным) земельным владением. До тех пор, пока удерживала свои позиции система местничества и существовала Боярская дума, эти различия еще сохранялись как статусные, но – не как землевладельческие: поместья постепенно превращались, подобно вотчинам, в наследственные, однако владение теми и другими обусловливалось государевой службой. Впоследствии Петр I подвел окончательную черту под прежним разделением элиты, превратив ее в служилое поместное дворянство (шляхетство). Но Петр лишь завершил и законодательно оформил то, что происходило при его предшественниках. Его реформаторский радикализм по отношению к элите проявился в другом, а именно – в мобилизации ее личностных ресурсов посредством предельной милитаризации ее жизненного уклада, обеспечения доступа в нее – в зависимости от личных заслуг перед государством – представителей низших классов, а также качественного обновления этих ресурсов с помощью широкого привлечения в страну иностранцев, введения для дворянских детей обязательного образования и принудительной отсылки молодой дворянской поросли на учебу за рубеж.
Первые Романовы, двигавшиеся в том же направлении, заходить так далеко позволить себе не могли. Они пытались соединить заимствовавшиеся ими фрагменты европейской культуры с ревностной приверженностью православному благочестию, издавна легитимировавшему власть московских правителей. Результатом стало качественное изменение узкого придворного слоя элиты, энергия которого концентрировалась на овладении европейскими знаниями, получении европейского образования, возможности для чего значительно расширились после присоединения Украины (1654). Последняя, находясь в составе Речи Посполитой, успела уйти в этом отношении далеко вперед и потому стала естественным каналом, по которому европейская культура перетекала в Московию. Появились в ней и учителя из других стран – ученые, промышленники, военные. Однако активизации национального «человеческого фактора» – в той мере, которая диктовалась нуждами развития страны, – при этом не происходило.
Дозированная европеизация, накладываясь на тщательно оберегавшийся культурный код (вспомним об изоляции Немецкой слободы), не могла дать ожидавшегося от нее эффекта. Русские дворяне нередко тяготились необходимостью подчиняться заграничным офицерам – иноверцам и не изъявляли готовности у них учиться. В результате главный вопрос, касавшийся военной конкурентоспособности страны, так и не был решен – в конце XVII века, в годы правления Софьи, русская армия дважды обнаружила неспособность одолеть даже крымских татар, чья военная организация значительно отставала от европейской. Личностные ресурсы служилой элиты не удавалось мобилизовать на ее самоизменение. В то же время курс на европеизацию привел к вспышке личностной энергии у приверженцев старомосковской религиозной традиции, направивших эту энергию против государства и церкви. Жертвенный героизм старообрядцев еще больше оттенил важность именно человеческого измерения европеизации и недостаточность тех способов мобилизации личностных ресурсов, которые могли использовать первые Романовы.
Петр I, в отличие от них, осуществил целенаправленное огосударствление элиты, предельно ужесточив прежние условия службы и добавив к ним условия дополнительные в виде обязательного обучения в стране или за рубежом. Опорой царя в этом невиданном форсированном преобразовании человеческого материала стали иностранцы, которые впервые начали привлекаться не только на роли офицеров и учителей, но и в качестве государственных чиновников. Такой опорой стало и ближайшее окружение Петра, рекрутированное из незнатных слоев и способное содействовать в его преобразованиях, – Александр Меншиков был самым известным, но не единственным «выдвиженцем». Однако главной опорой реформатора являлся он сам – как уже говорилось выше, Петр только потому и мог принуждать меняться других, что сначала изменил себя.
Никакая, даже самая неограниченная власть не в состоянии одолеть историческую и культурную инерцию в обществе, если не преодолела ее внутри себя, а тем более – если рассматривает ее как главный источник своей устойчивости. При наличии достаточного исторического времени преобразование «человеческого фактора» возможно и при таком варианте развития, имеющем перед вариантом Петра неоспоримые преимущества органичности, основательности и гуманности. Но вопрос о том, располагала ли страна таким временем, тоже принадлежит к числу тех, которым суждено навсегда остаться открытыми. Дискуссии на сей счет продолжаются, но общепризнанные истины в подобных спорах не рождаются.
Принуждение и устрашение, использовавшиеся Петром для мобилизации личностных ресурсов на государственную службу, воспроизводили старомосковскую практику «беззаветного служения». Но – с существенными идеологическими коррективами. После смуты царь в значительной степени уже утратил функцию религиозного спасения подданных, позволявшую приравнивать служение земному правителю к служению Богу. Кроме того, в сознании элиты и более широких общественных слоев постепенно закреплялась абстрактная идея государства как сущности более высокого порядка, чем сам государь. При Петре I эта идея, которую в рационально оформленном виде привнесли в страну приглашавшиеся на русскую службу прибалтийские немцы, стала декларироваться официально. Но служение светскому государству не могло оставаться «беззаветным служением» в прежнем его воплощении; оно предполагало наличие регламентирующих службу законодательных правил. Учрежденная Петром «Табель о рангах» и явилась первым шагом в этом направлении: вводя строгую иерархию чинов (рангов), регламентируя продвижение по служебной лестнице и фиксируя предоставлявшиеся на разных ступенях этой лестницы статусные и сопутствовавшие им материальные преимущества, она оформляла взаимоотношения между государством и его служителями в виде своего рода контракта, учитывавшего интересы обеих сторон.
Тем самым «Табель о рангах» призвана была способствовать как мобилизации наличного «человеческого фактора» дворянской элиты, так и его качественному преобразованию. Кроме того, узаконивался и приток в элиту представителей низших классов – талант, индивидуальная энергия и заслуги открывали перед ними перспективу карьерного продвижения по лестнице чинов и, при достижении определенных рангов, получения личного или потомственного дворянства. Правда, при жизни Петра такая перспектива из-за непомерной тяжести службы соблазняла немногих – дабы уклониться от нее, дворяне порой сами готовы были превратиться в крестьян и даже в холопов, что, впрочем, тоже наказывалось.
Но впоследствии приток в высшее сословие из других слоев населения постоянно возрастал, и к концу правления Романовых выходцы из этих слоев составляли в дворянстве большинство.
Разумеется, о контрактных отношениях между государством и элитой применительно к временам Петра можно говорить лишь условно. Контракт предполагает двухстороннее согласование условий, когда каждая из сторон выступает в роли самостоятельного и независимого правового субъекта. В данном же случае речь шла о контракте, в котором условия службы и ее необходимость одной из сторон предписывались принудительно – уклонение было чревато последствиями, среди которых лишение поместья было отнюдь не самым неприятным. Частные интересы дворян учитывались в законодательстве Петра лишь в той мере, в какой они могли стимулировать выполнение государственных обязанностей, в других проявлениях оставаясь нелегитимными. И, тем не менее, то не было уже простым воспроизведением идеологии и практики «беззаветного служения». Потому что «беззаветное служение», при котором персональные заслуги не только не лишаются статуса подлинности, полностью растворяясь в монаршей воле и выступая лишь ее орудием, но и стимулируются законодательными актами, – это уже не совсем «беззаветное служение».
Немаловажно и то, что внесенная Петром в русскую жизнь идея верховенства государственной пользы («общего блага») потенциально содержала в себе идею свободы. Прежде всего – свободы самого самодержца от традиции, от религиозно освященной «старины». Ведь трактовка государственной пользы, которая должна одновременно и воплощаться в деятельности царя, и подчинять ее себе, не была изначально заданной; такая трактовка становилась осуществлением свободного выбора. Но в самодержавном государстве, где культурные образцы исходят именно от самодержца, самоосвобождение царя от исторического канона не могло рано или поздно не сказаться и на его подданных.
Начиная с Петра, сама фигура самодержца приобретала не только «природное», но и индивидуальное измерение: служение «общему благу», поставленному выше царя, требовало от последнего соответствующих личных качеств и достоинств. Отсюда – невиданная до того острота вопроса о престолонаследии: трагическая судьба сына Петра царевича Алексея свидетельствовала о том, что «природное» право на трон могло теперь быть поставлено под сомнение по причине несоответствия наследника должности. Отсюда же демонстративное подчеркивание и одические воспевания личных достоинств преемников Петра: достоинства эти стали выглядеть достаточным основанием для незаконного или не совсем законного воцарения. Личным добродетелям придавалось государственное звучание, они представлялись как своего рода проекция «общего блага» в индивидуальности правителя.
Разумеется, при неограниченном самодержавном правлении монопольное право на интерпретацию «общего блага» оставалось за самодержцем. Но уже одно то, что такая интерпретация не предопределялась традицией, готовило умы дворянской элиты для восприятия идеи индивидуальной свободы. А это, в свою очередь, означает, что Петр, принудительно переделывая элиту и мобилизуя ее на реализацию своих реформаторских проектов, не только решал текущую проблему, но и переводил ее, того не подозревая, в стратегическую плоскость.
Уже через пять лет после смерти преобразователя (1730) представители высшей дворянской знати, вошедшие в историю под именем «верховников»149, пригласили занять освободившийся после смерти Петра II трон будущую императрицу Анну Иоанновну на условиях, соблюдение которых трансформировало российское самодержавие в аристократическую республику шведского образца, где монарх играл символическую роль. Это было прямое покушение на монополию самодержца в толковании «общего блага». Государственную пользу «верховники» понимали как собственное освобождение от самодержавного принуждения. Так далеко, как они, элита не заходила в своих политических притязаниях даже в доопричные времена, когда самодержавие еще только складывалось, а боярство сохраняло остатки былой силы. И если «верховники» проиграли, то лишь потому, что их представления об «общем благе» и свободе не совпали с понятиями на сей счет основной массы дворянства. Оно хотело не освободиться от самодержавия, а с помощью последнего избавиться от государственных повинностей, от непомерных тягот государственной службы, что им и было Анной Иоанновной обещано и впоследствии частично выполнено.
Чтобы сохранить дворянство в качестве главной опоры неограниченной власти, последняя вынуждена была в конце концов
149 Это имя они получили, будучи членами Верховного тайного совета – высшего совещательного государственного учреждения, появившегося при Екатерине I (1726).
полностью его раскрепостить, предоставив право самому решать, служить или не служить. Но и обойтись без его кадровых ресурсов при формировании государственного аппарата власть не могла – других таких ресурсов в стране попросту не существовало. Для привлечения же дворянства к службе на добровольной основе требовалось найти замену механизмам «беззаветного служения», от которого теперь предстояло отказаться полностью и окончательно – в том числе и от его рационализированной петровской версии. После Указа Петра III о вольности дворянства из данной версии могла быть сохранена разве что «Табель о рангах». Но она, упорядочивая и стимулируя карьерное продвижение по службе, предполагала принудительность самой службы и в этом смысле ее «беззаветность». Отказ от принуждения означал, что отныне ставка может делаться только на легитимированные частные интересы дворянского сословия, т.е. на партнерские с ним отношения. Именно на этом принципе и была выстроена екатерининская государственная система дворянского самодержавия.
В определенных границах, достаточных для самосохранения государственности,такое партнерство удалось обеспечить. При экономической несамодостаточности большинства помещичьих крепостных хозяйств и, соответственно, бедности основной массы помещиков, карьерное продвижение оказывалось достаточно сильным стимулом для многих из них. При Екатерине II был осуществлен перевод чиновничества, значительную часть которого составляли дворяне, на государственное жалованье, что лишало легитимности прежнюю практику кормления бюрократии за счет населения, но не мешало последней продолжать торговлю своими услугами. Расширилось и поприще для дворянской карьеры – губернская реформа Екатерины (1775) не только в два с лишним раза увеличила количество самих губерний, но и санкционировала создание в них, а также в уездах, дворянских собраний, получивших право выдвигать своих членов на оплачиваемые выборные должности. Помня о том, что возможность такой карьеры зависела от наличия офицерского чина, мы получим относительно полное представление о характере контрактных отношений между властью и раскрепощенным дворянством.
Получив право не служить, дворянство продолжало оставаться главным кадровым ресурсом государства, который не просто воспроизводился, но и качественно обогащался: образование элиты, бывшее поначалу принудительным, постепенно стало добровольным и сознательным. Гражданское или военное образование было и важнейшим условием карьеры, и сословной привилегией, оттенявшей все другие привилегии, придававшей им культурное измерение. Но именно оно, образование, и предопределило, в конечном счете, стратегическую ненадежность контракта между властью и дворянством.
Контракт этот вполне устраивал большинство провинциальных мелких помещиков, живших повседневными частными интересами, пользовавшихся возможностью не служить и благодарных самодержавию за дарованное им право владения крепостными крестьянами. Они не могли претендовать на выборные должности и даже не участвовали, как правило, в дворянских собраниях150. Это были помещики, описанные Гоголем в «Мертвых душах», – университетов не кончавшие, а если когда-то чему-то и учившиеся, то успевшие полученные знания изрядно подзабыть.
Контракт этот устраивал и ту часть провинциального дворянства, которое занимало чиновничьи должности в губерниях и уездах. В своих представлениях об общегосударственном интересе оно и в послеекатерининские десятилетия не продвинулось в массе своей дальше того, что Екатерина могла наблюдать во время работы созванной ею Уложенной комиссии и о чем мы в своем месте уже говорили. Дворяне этой группы рассматривали службу как способ решения своих личных проблем и соблюдением законодательных норм себя не всегда обременяли. Конечно, бюрократия состояла не только из дворян: они занимали почти все ответственные должности в центре и на местах, однако их доля в совокупной массе чиновничества никогда не превышала трети. Но ведь именно высшее сословие в решающей степени определяло характер и системное качество российской государственности. Находясь на службе, его представители участвовали в создании связанных круговой порукой корпоративных чиновничьих сетей, внутри которых регламентировалось – в соответствии с чином и должностью – распределение «теневых» доходов. Верховная власть, как правило, закрывала на это глаза. И не только потому, что не в состоянии была проконтролировать деятельность всей бюрократии. При сохранявшихся огромных военных расходах оплата основной массы государственных служащих не могла быть высокой. Терпимость правительства
150 В конце XIX века в дворянских собраниях принимали участие около 21 % тех, кто на это имел право (см.: Миронов Б. Н. Указ. соч. Т. 1.С.516). Невысока был а и избирательная активность дворянства после учреждения земств: в 1870-1880-е годы в земских выборах участвовало лишь 19% землевладельцев (Там же. Т. 2. С. 151).
к должностным злоупотреблениям – не только на местах, но и в центре – позволяла обеспечивать как лояльность чиновничества, так и контроль над ним: чиновник знал, что он в любой момент может быть привлечен к уголовной ответственности151.
Наконец, этот контракт устраивал консервативные слои петербургской и московской знати. Многим ее представителям идея государственного служения была отнюдь не чужда. Было у них, соответственно, и свое представление об общем интересе и его отличиях от интересов частных и групповых. Но интерес этот и свое служение ему они видели единственно в том, чтобы поддерживать сложившийся порядок и избегать новшеств и перемен, чреватых ослаблением устоев самодержавной государственности. Они могли обладать значительными личностными ресурсами, но то были ресурсы стабильности, блокировавшей развитие, наращивание страной ее конкурентоспособности. В этом отношении данная группа мало чем отличалась от тех групп дворянства, у которых личностно-субъектное начало либо не проявлялось изначально, либо было вытравлено бюрократической рутиной и утилитаризмом чиновничьего мздоимства, требовавшим отказа от индивидуальности и собственных представлений об «общем благе» в пользу «теневой» корпоративной солидарности.
Это не был утилитаризм европейского типа, который пыталась насадить в России Екатерина II. Он апеллировал к личной пользе и выгоде, но не стимулировал проявление личной инициативы и энергии, а, наоборот, нивелировал их. Петровский принцип индивидуальной заслуги в стране не прижился и был вытеснен принципом выслуги, при котором карьерное продвижение зависит от срока пребывания на должности – по его истечении повышение осуществляется автоматически. И произошло это именно при Екатерине II. Государственная система, которую она создавала, была ориентирована на историческую динамику и потому предполагала «потребность в сознательной инициативе»152. Но интересы сохранения самодержавной власти в роли главного и единственного инициатора перемен предопределяли одновременно такое положение вещей, при котором государство «нуждалось в исполнителях, а не в инициаторах и ценило исполнительность выше, чем инициативу»153.
151 См.: Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 165.
152 Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 255.153.
153 Там же. С. 254.
В годы правления Екатерины конфликт этих двух установок еще не проявился в полной мере, а потому не препятствовал появлению вокруг императрицы крупных индивидуальностей. После раскрепощения в дворянстве не осталось групп и слоев, представления которых об «общем благе» и индивидуальной свободе напоминали бы идеи «верховников» и не сочетались бы с признанием безусловного приоритета неограниченной самодержавной воли. Это объясняет, почему екатерининское царствование было отмечено выдвижением таких масштабных фигур, как Суворов или Потемкин, в деятельности которых инициатива и исполнительность выглядели вполне совместимыми. Но уже появление книги Радищева и объявление его «бунтовщиком хуже Пугачева» сигнализировали о зарождении в России человеческого типа, которому в границах екатерининской системы было тесно, и ужиться с которым она не могла. Система попытается устранить этот тип при Павле, попробует использовать его личностные ресурсы в начале царствования Александра I и маргинализировать в конце, а при Николае I – устрашить репрессиями и нивелировать его антисистемную инициативу культивированием тотальной бюрократической исполнительности. Результатом же станет отток личностных ресурсов и поражение в Крымской войне. Однако и после того, как под воздействием ее уроков власть начнет эти ресурсы возвращать, выкорчевать корни антисистемной дворянской оппозиции ей так и не удастся.
Понятно, что такая оппозиция формировалась в том слое дворянской элиты, который оказался наиболее восприимчивым к европейским либеральным ценностям индивидуальной свободы и субъектной гражданской активности. Понятно и то, почему в данной среде был отторгнут не только утилитаризм бюрократической адаптации к системе, но и какой-либо утилитаризм вообще – ведь в любой своей разновидности он не может быть антисистемным по определению. И уж тем более понятно то неприятие, которое вызывали попытки реанимировать идеологию и практику «беззаветного служения», трансформировав его в сознательную, внутренне мотивированную дисциплину прусского образца.
Условия контракта между властью и дворянством рано или поздно не могли не стать обременительными для той части европеизированной дворянской элиты, которая ориентировалась на западные политические и правовые образцы. Поэтому она сполна пользовалась правом покидать государственную службу, уходя в частную жизнь, в «лишние люди» или в революционное движение.
Богатейшим личностным ресурсам этой части дворянства, хотя и не только ей, Россия обязана своим культурным взлетом, но в практической государственной деятельности они почти не были востребованы. Показательно, что даже разработку проекта отмены крепостного права Александр I поручил Аракчееву, которого сама мысль о такой отмене не вдохновляла.
Европеизированной элите, в отличие от служилых и неслуживых провинциальных помещиков, к которым она относилась весьма критически, идеи «общего блага» и государственного служения не только не были чужды, но и составляли сердцевину ее мироощущения. Однако идеи эти выводили «русских европейцев» за пределы существующей государственности, что было неприемлемо не только для власти и далеких от европейских веяний дворян-провинциалов (хотя и в их среде постепенно формировалась европейски образованные группы), но и для той части просвещенного дворянства, которая придерживалась охранительных позиций. В итоге же, когда пришло время неизбежных системных реформ, выявилось отсутствие у дворянской элиты консолидирующей ее реформаторской идеологии. В пору премьерства Столыпина это обнаружилось с предельной очевидностью: его курс атаковался представителями всех политических течений, на которые распалось к тому времени и российское дворянство, но ни одно из них не в состоянии было предложить внятную и ответственную нереволюционную альтернативу правительственной стратегии, не говоря уже об альтернативе консолидирующей.
Между тем само появление фигуры Столыпина красноречиво свидетельствовало о том, что личностные ресурсы для инициативной государственной деятельности в дворянской элите существовали. Более того, нередко они использовались для решения тех или иных реформаторских задач не только либеральными Екатериной II, Александром I и Александром II, но и консервативными Николаем I, привлекшим в правительство близкого когда-то к декабристам Павла Киселева, и Александром III, которому был обязан своей карьерой Сергей Витте. Однако инициативный человеческий тип самодержавной системе был все же противопоказан. Поэтому сколько-нибудь широкий слой деятельной и ответственной элиты, ориентированной на развитие, создать она так и не смогла. Как только открывался хотя бы минимальный простор для реализации уже накопленного элитного потенциала, довольно быстро выяснялось, что он входит в конфликт с системными устоями. В результате, инициативного Сперанского сменял добросовестный исполнитель
Аракчеев, умерялась активность едва созданных земских институтов и приходилось незаконно отменять только что принятый избирательный закон о выборах в Государственную думу.
Сформированная за триста лет правления Романовых дворянская элита не сумела помочь самодержавию в осуществлении предпринятых им реформ, направленных на преодоление глубочайшего социокультурного раскола, историческим продуктом которого была и сама элита. В условиях такого раскола ее европеизация отщепляла ее от самодержавия, не способствуя сближению с инокультурным большинством населения. Поэтому дворянство оказалось неподготовленным ни для того, чтобы содействовать самодержавию в преодолении раскола (это требовало, помимо прочего, и сознательного отказа от сохранявшейся привилегированной роли в государственном управлении), ни для того, чтобы реализовать европейскую альтернативу самодержавию, когда его историческая жизнь подошла к завершению. К тому времени большинство дворян, будучи не в состоянии хозяйствовать без крепостных и продав свои поместья, перешло на государственную службу, в чем власть им всячески благоприятствовала, а они, в свою очередь, во что бы то ни стало стремились удержать за собой приоритетное право на занятие должностей. Сословие, которое начинало свою историческую биографию с обязательной службы в обмен на возможность пользоваться землей и крестьянским трудом, завершало свой век попытками превратить свою былую обременительную обязанность в привилегированное право службы не за землю, а за деньги. Но это лишь блокировало реформаторские преобразования и консервировало общественный порядок, законсервировать который было уже невозможно.
Как выяснится, для выдвижения и утверждения альтернативы самодержавию не обладала необходимым потенциалом и элита буржуазно-предпринимательская: она, как и дворянство, будет похоронена под обломками обрушившейся системы, к роли социального лидера тоже оказавшись неподготовленной. И потому, что ее к такой роли никто не готовил, и потому, что она не готовила себя к ней сама.
15.2. Ресурсы бизнес-сословия
Самодержавная власть, нуждаясь в деньгах и развитии технически конкурентоспособного военного производства, была заинтересована в частной предпринимательской инициативе, в мобилизации предпринимательской энергии. Поэтому даже при Иване Грозном она вынуждена была считаться с индивидуальными интересами купцов, их стремлением к личным «прибыткам». А после того, как при первых Романовых в страну стали приглашаться промышленники-иностранцы, началась постепенная легитимация этого стремления, дошедшая до официального утилитаризма Екатерины II с его культом индивидуальной пользы и выгоды. Государство и при Романовых долго не отказывалось от своей торговой монополии на рынке, распространявшейся на наиболее ходовые и доходные товары, но принуждение купцов к «беззаветному служению», т.е. к безвозмездному исполнению государственных обязанностей, уходило в прошлое, степень их свободы возрастала. Повышался и их социальный статус: освобождение купцов первой и второй гильдий от телесных наказаний и рекрутской повинности (тоже при Екатерине II), приравнивая их в определенном отношении к дворянству, завершало длительный процесс, в ходе которого происходило становление и развитие российского купеческого сословия.
Однако никакой субъектной самостоятельности и независимости от власти купечество при этом не приобретало, реально влиять на развитие страны не могло, да и потребности такой не испытывало. Собственного представления об общегосударственных интересах в его среде не складывалось, культуры, альтернативной патриархально-самодержавной, не формировалось, а европейские либеральные веяния вместе с европейской образованностью стали проникать в нее лишь во второй половине XIX века. Но ничего похожего на дворянскую и разночинско-интеллигентскую оппозицию в торгово-промышленных кругах не возникало вплоть до революционных событий 1905 года, когда самодержавие вынуждено было само себя ограничить.
В нашу задачу не входит даже беглый обзор истории отечественного предпринимательства за триста лет правления Романовых. Тем более что в последнее время появились обобщающие исследования и лекционные курсы, в которых она представлена достаточно полно и обстоятельно154. Нас интересуют лишь два вопроса. Первый – насколько власти удалось мобилизовать личностные ресурсы людей, способных к предпринимательской деятельности,
154 См.: История предпринимательства в России: В 2 кн. М.,2000; Бессолицын А., Кузьмичев А. Экономическая история России: Очерки развития предпринимательства. Волгоград, 2001; Радаев В.В. Два корня российского предпринимательства: фрагменты истории // Мир России. 1995. № 1; Сметанин С.И. История предпринимательства в России. М., 2002.
для обслуживания нужд государства и удовлетворения потребностей населения? Второй – почему отечественная буржуазия не состоялась в качестве социального лидера и не смогла, в отличие от буржуазии европейской, выдвинуть и реализовать собственный политический проект и была – вместе с дворянством – надолго сметена с исторической сцены?
На первый вопрос трудно ответить однозначно. С одной стороны, частное предпринимательство даже при крепостном праве обеспечивало высокие темпы хозяйственного развития, достаточные для удовлетворения возраставших потребностей страны155. С другой стороны, это развитие сдерживалось тем, что специализация предпринимательской деятельности осуществлялась, как правило, не снизу, не в самой торгово-промышленной среде под воздействием рыночных сигналов, а спускалась сверху, диктовалась государством. Своими заказами оно поощряло частную инициативу лишь в отраслях, необходимых для поддержания военно-технологической конкурентоспособности. Собственными силами государство справиться с этой задачей не могло.
Тотальная милитаризация, осуществленная Петром I, распространялась поначалу и на хозяйственную сферу, в значительной степени тоже огосударствленную. Это позволило провести индустриальную модернизацию, т.е. создать новые хозяйственные отрасли. Но эффективность принудительно созданных казенных предприятий была крайне низкой, а государственный контроль над ними на манер большевистского затруднялся отсутствием в ту эпоху необходимых для его обеспечения транспорта и средств связи. Поэтому уже в царствование Петра мануфактуры стали передаваться частным лицам – в отсутствие гарантий прав собственности и при
155 В XVIII веке (с 1725 по 1800 год) черная металлургия увеличила производство в 12 раз, производство орудий и снарядов в течение столетия возросло в 7 раз, пороха – в 3 раза. Успешно развивались и другие отрасли (см.: Сметанин С.И. Указ. соч. С. 61-88). Экономический рост продолжался и в первой половине XIX столетия (Там же. С, 89-121). Вместе с тем в этот период в некоторых отраслях темпы роста замедлились и стало увеличиваться отставание России от развитых стран. Так, производство чугуна с 1800 по 1860 год возросло в стране на 80%. Но при таких темпах отечественная металлургия с первого места, которое она занимала в мире в конце XVIII столетия, переместилась на восьмое, выплавляя металла в 13 раз меньше, чем Англия. Причины отставания – доминирование в отрасли крепостного труда и государственное покровительство в виде высоких таможенных пошлин, защищавших от иностранных конкурентов, и щедрых субсидий, компенсировавших низкую рентабельность (Там же. С. 93-94).
максимально возможной административной регламентации их деятельности, о чем мы уже говорили в разделе о петровских реформах. Государственными оставались лишь некоторые отрасли и, прежде всего, военная промышленность – в эту сферу частный капитал стал допускаться только в последний период правления Романовых, да и то весьма ограниченно.
Послепетровская демилитаризация сопровождалась постепенным упрочением позиций частного предпринимательства и его правовой защищенности, что особенно заметно проявилось в екатерининскую эпоху. Воспитанная на просветительских идеях императрица была озабочена созданием в стране «третьего сословия» по европейским образцам и предприняла в этом направлении ряд практических шагов – в своем месте мы упоминали и о них. Но и в екатерининской дворянско-крепостнической системе бизнес оставался всецело зависимым от государства. Оно могло принудительно (хотя и за выкуп) превращать частные предприятия в казенные, что порой и делало. Оно могло держать цены на те или иные товары под административным контролем, что делало тоже. Оно могло ограничивать и даже запрещать продажу товаров на рынке, если их производилось недостаточно для удовлетворения государственных нужд – так, в конце XVIII – начале XIX века действовал запрет на свободную торговлю сукном. Все это было возможно в том числе и потому, что значительная часть российских частных предприятий находилась в условном владении (так называемое посессионное право), когда юридически они принадлежали государству, диктовавшему объем продукции, количество работников и размер их заработков. При таких обстоятельствах торгово-промышленное сословие обрекалось на роль подсобного инструмента в руках власти: личностные ресурсы этого сословия были востребованы лишь в той мере, в какой государство в них нуждалось.
В екатерининской государственной системе, просуществовавшей до 1861 года, частные предпринимательские интересы идеологически не третировались и не профанировались, как в Московской Руси и петровской России. Контрактные принципы вытесняли «беззаветное служение» не только в отношениях власти и дворянства, но и в отношениях власти и частного бизнеса. Однако условия контракта в данном случае предполагали значительно меньшее равенство сторон, чем в случае с дворянством. Последнее было социальной опорой государственной системы; торгово-промышленное сословие – ее вспомогательным средством. Поэтому власть наделяла дворян и привилегиями в предпринимательской деятельности: они получали монопольное право на торговлю рядом товаров, в том числе зерном, и налоговые льготы, не говоря уже о монопольной возможности использовать на их фабриках труд крепостных, владение и право покупки которых было их незыблемой сословной привилегией; кроме дворян, использовать крепостных могли лишь государственные предприятия. Все эти льготы мало способствовали превращению русских помещиков в русских капиталистов – искусственное устранение конкуренции сопровождалось не подъемом, а постепенной деградацией дворянского предпринимательства и падением его роли в экономике. Но такого рода льготы, наряду с другими стеснениями рыночной свободы, не способствовали мобилизации личностных ресурсов и в недворянской предпринимательской деятельности.
Более того, со временем у российских купцов появились конкуренты в лице крестьян и кустарей. При первых Романовых купцам была гарантирована монополия на городскую торговлю: налоги, которыми она облагалась, составляли один из важнейших источников пополнения казны, а собирать их было проще и надежнее с немногих крупных торговцев, чьи доходы, а значит и платежеспособность, обеспечивались благодаря административному устранению конкурентов. Однако в конце XVIII столетия крестьянам и кустарям было разрешено открывать городские торговые точки, что на деле давало еще одно конкурентное преимущество дворянству: ведь торговая деятельность крепостных, отпускавшихся помещиками в отхожие промыслы, увеличивала суммы оброка. При слабой платежеспособности и низком потребительском спросе населения конкуренция со стороны кустарей и крестьян еще больше усугубляла и без того стесненное положение торгово-промышленного сословия, ослабляло его позиции на рынке, что, в свою очередь, увеличивало его зависимость от государственных заказов, а в итоге – блокировало его становление как самостоятельной и влиятельной общественной силы.
Показательно, что ни одна из известных купеческих династий XVIII века не сохранила своего положения до начала XX столетия: одни разорялись и превращались в простых мещан, другие добивались получения государственных чинов и дворянства, после чего их дети или внуки занятия своих предков предпочитали не наследовать. В дворянство могли пробиться лишь единицы, но само стремление к этому свидетельствовало об экономической и культурной несамодостаточности предпринимательского сословия. Побочным продуктом допущенной властями низовой экономической активности стало не органическое формирование капиталистической буржуазии, при крепостном праве немыслимое, а обновление состава отечественных предпринимателей. Наиболее энергичные крестьяне сколачивали капитал, выкупались из крепостничества и становились родоначальниками известнейших предпринимательских фамилий – Гучковых, Морозовых, Прохоровых, Рябушинских. Но обновление торгово-промышленного сословия не означало изменения его роли и места в государственной системе.
Такое сословие, в отличие от «третьего сословия» в Европе, не могло претендовать на социальное лидерство, а тем более – на выдвижение собственного социально-политического проекта, альтернативного сложившемуся в России общественному и государственному порядку. Не могло оно стать и субъектом технологических и структурных инноваций, ибо на своих предприятиях производило лишь то, на что существовал гарантированный спрос, в значительной степени определявшийся государством. Однако и последнее было не в состоянии исполнять эту роль до тех пор, пока технологическое отставание страны не ставило под вопрос ее военную конкурентоспособность.
Форсированная догоняющая модернизация Петра I в свое время такое отставание ликвидировала и заложила новую, индустриальную основу для дальнейшего экономического роста. Но к середине XIX столетия, когда в Европе произошла промышленная революция, основа эта успела устареть, а внутренних предпосылок для ее изменения за сто с лишним лет в России не возникло. Поражение в Крымской войне продемонстрировало уязвимость социально-экономической системы, в которой отсутствуют источники и стимулы инноваций. Разумеется, плоды промышленной революции замечались в России и раньше, а отдельные технические достижения, например ткацкий станок, она переняла еще при крепостном праве. Более того, она начала переходить от строительства парусных судов к строительству кораблей, приводимых в движение паровыми двигателями. Но такого рода заимствования чужих нововведений всегда запаздывают, времени на их постепенное освоение обычно не хватает, а форсированные изменения блокируются инерционностью системы, для трансформации которой требуется сильная мобилизующая встряска. Поэтому к началу Крымской войны российский военный флот состоял в основном из парусных судов и был обречен на уничтожение, а нарезных винтовок, во многом предопределивших исход сухопутных сражений, у русских солдат не оказалось вообще.
Крымская катастрофа стала тем импульсом для модернизации, которого России не доставало. Но запоздалые ускоренные модернизации, диктуемые внешними вызовами, всегда наталкиваются на дефицит экономических и личностных ресурсов. Представители отечественного торгово-промышленного капитала, сформировавшегося под жесткой и обременительной чиновничьей опекой, остерегались вкладывать деньги в новые отрасли, создание которых инициировалось сверху и контролировалось бюрократией. Уклонялись они и от участия в акционерных обществах, получивших широкое распространение в пореформенную эпоху: жизнь приучила их не доверять никому, кроме самих себя, и потому они предпочитали держаться за старые формы организации бизнеса. В свою очередь, и государственная власть, поощряя развитие предпринимательства, меньше всего стремилась к тому, чтобы русская буржуазия стала аналогом европейской и оттеснила на вторые роли дворянство и высшую, тоже дворянскую, бюрократию, которые по-прежнему воспринимались самодержавием как главные и самые надежные его опоры. Результатом же стало вовлечение в предпринимательскую деятельность новых финансовых и человеческих ресурсов и формирование нескольких бизнес-групп с разными интересами и установками, что практически исключало их консолидацию.
Во-первых, крупнейшим предпринимателем оставалось само государствоведении которого находился значительный нерыночный сектор экономики. Наряду с военной промышленностью, государству принадлежало две трети железных дорог и огромный земельный фонд, включавший более половины лесных угодий. Кроме того, через государственный банк оно фактически контролировало всю хозяйственную систему страны. Во-вторых, акционерные общества открыли широкие возможности для предпринимательства дворян: те редко использовали деньги, полученные после отмены крепостного права в виде выкупных платежей (а у многих к этому добавлялись и средства, вырученные от продажи имений) для открытия собственного дела, но охотно вкладывали их в ценные бумаги. В-третьих, бизнесменами становились представители высшей бюрократии, состоявшие в правлениях крупнейших компаний и коммерческих банков. В-четвертых, своих многочисленных представителей в России имел и иностранный капитал, привлекавшийся в огромных масштабах. Вместе с традиционными торгово-промышленными кругами все эти группы и составляли социально неоднородный отечественный бизнес пореформенной эпохи.
Их сближали друг с другом аполитичность и приверженность самодержавию – неудобства существующих порядков компенсировались в их глазах не только тем, что при узости внутреннего рынка власть поддерживала их своими заказами и защищала высокими таможенными барьерами от иностранных конкурентов, но и тем, что самодержавие воспринималось как единственно возможный и безальтернативный гарант государственной устойчивости. Однако общие предпринимательские интересы и, соответственно, потребность в их защите не осознавались вплоть до 1905 года, когда казавшийся незыблемым общественный порядок зашатался. Не обнаруживалось у бизнеса и стремления к самоорганизации и созданию собственных ассоциаций – даже после того, как они были разрешены. Торгово-промышленные съезды, которые стали созываться в пореформенное время, больше привлекали интеллигенцию, чем самих торговцев и промышленников. Предприниматели были погружены в свои частные интересы и тяготились публичностью. Они избегали ее не только потому, что экономические решения правительства принимались без их участия: предпринимательским организациям дозволялось только «ходатайствовать» перед властями или выступать в роли экономических экспертов156. Бизнесмены не желали открыто участвовать в общественной жизни и потому, что ощущали себя культурно неукорененными, маргинальными, отторгавшимися как европеизированной антисистемной культурой дворянской и разночинной интеллигенции, так и традиционной культурой крестьянских низов: в последнюю не вписывалась торговля и любая другая предпринимательская деятельность, приносящая доходы, не опосредованные личным земледельческим или ремесленным трудом.
В последние десятилетия правления Романовых российские предприниматели недворянского происхождения пытались вырваться из культурной изоляции, посылая детей учиться в отечественные и заграничные университеты, – раньше любые знания, не имевшие прямого отношения к их делу, считались лишними и даже вредными. Именно эти десятилетия были отмечены и всплеском предпринимательской благотворительности и меценатства: бизнес
156 История предпринимательства в России. Кн. 2. С. 228-231.
искал приложения своим финансовым и человеческим ресурсам на общественном поприще, но открытого отстаивания своих интересов по-прежнему избегал. Тем не менее власть с его статусными притязаниями предпочитала считаться: купцы первой гильдии были еще больше приближены к дворянству, им открыли доступ ко двору и разрешили носить шпагу. Однако престиж предпринимательской деятельности продолжал оставаться низким. Потому что буржуазные ценности – личная деловая инициатива, индивидуальная достижительность, богатство – распространения в обществе не получали. Ни в деревне, ни в городе.
Показательны в этом отношении биографические материалы о выдающихся отечественных и зарубежных деятелях, регулярно публиковавшиеся в пореформенный период в популярном журнале «Нива». Дело не только в том, что из почти восьми тысяч биографий жизнеописания предпринимателей составляли незначительное меньшинство – чуть больше одного процента157. Дело и в том, что реальные экономические мотивы и индивидуалистические ценности предпринимательской деятельности в этих текстах вуалировались. На передний план, с учетом культурных установок читателей, выдвигались патриотические и гражданские мотивы общественного служения. Более того, «в большинстве случаев авторы биографий даже скрывали, что их герои – предприниматели»158. Не менее показательны и результаты опроса, проведенного в начале XX столетия среди гимназистов, учащихся коммерческих училищ и сельских школ. Отвечая на вопрос о наиболее привлекательных образцах жизни и профессиональной деятельности, из пяти тысяч респондентов предпринимателей не назвал никто159.
В такой атмосфере российский бизнес не мог претендовать не только на социальное, а уж тем более политическое лидерство, но и на какую-либо самостоятельную роль вообще. Хозяйственные достижения, богатство, право носить шпагу, благотворительность и меценатство, европейское образование не сопровождались реальным повышением статуса предпринимателей. Для этого у представителей недворянского бизнеса оставался только один давно проложенный путь – добиваться чинов в бюрократической иерархии и дворянского звания. Так они и поступали, хотя успех, как и раньше, мог
157 Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 317.
158 Там же. С. 318.
159 Там же. С. 324.
сопутствовать немногим. Но устойчивое тяготение к дворянству лишь оттеняло несамодостаточность российского предпринимательства – не только социальную и политическую, но и культурную. Европейское образование, приобретаемое бизнесменами, в данном отношении ничего не меняло. Оно культурно сближало бизнес-элиту с дворянством, но не с его либеральным, а с его консервативно-славянофильским, панславистским крылом160. Не будучи носителем самостоятельного общественного проекта и, в отличие от либеральной и социалистической интеллигенции, будучи всецело зависимой от своего бизнеса, отечественная буржуазия могла ориентироваться только на сохранение самодержавной государственности и традиционные формы идентичности – православную и державно-имперскую.
Образованной предпринимательской элите суждено было стать едва ли не самым выразительным персонификатором социокультурного раскола, который на протяжении столетий воспроизводился в России. Потому что это был раскол ее собственного сознания. Она оказалась между двумя нестыковавшимися частями расщепленной культуры – европейско-модернистской и традиционной, которые ей приходилось сочетать. Вырваться же из этого межкультурного пространства можно было только на основе ценностей, которые ни в одном из сегментов отечественной культуры не были укоренены вообще, – достижительности и индивидуального предпринимательского успеха. Реально именно этими ценностями представители российского делового сообщества в своей деятельности и руководствовались – никаких других в бизнесе просто не существует. Но если обществом они отторгаются, то их приверженцы обрекаются на изоляцию, что, в свою очередь, и предопределило крайнюю осторожность и общественную пассивность российской буржуазии до революционных потрясений 1905 года и обнародования Октябрьского Манифеста, впервые в русской истории легализовавшего политические свободы и права граждан.
В период думского самодержавия Николая II многослойный предпринимательский класс пытался найти свое место в обновлявшейся России и оказать влияние на ее развитие. Это проявлялось и в давлении на власть посредством индивидуальных и коллективных заявлений о пагубности чиновничьего диктата над экономикой, и в попытках некоторых предпринимательских групп
160 История предпринимательства в России. Кн. 2 С. 234.
обосновать претензии буржуазии на вытеснение с исторической сцены дворянства, и в стремлении перехватить у либеральной и социалистической интеллигенции роль социального и политического лидера масс. Во время политических стачек 1905 года промышленники сумели даже договориться о том,чтобы выплачивать бастующим рабочим зарплату – они готовы были поддерживать конституционные лозунги либералов еще до Октябрьского Манифеста. Но буржуазия искала контакт с населением на основе буржуазных ценностей, прежде всего незыблемости права собственности, которые в стране не успели получить распространения и укорениться. И это проявилось уже на первых выборах в Государственную думу: созданные в спешном порядке партии промышленников в совокупности получили лишь несколько депутатских мандатов.
Впоследствии, правда, часть торгово-промышленного класса нашла выразителя своих интересов в партии октябристов во главе с Александром Гучковым, которой после столыпинского «третье-июньского переворота» и изменения избирательного закона в пользу помещиков удалось получить значительное представительство в Думе. Но и доминировали в этой партии дворянские деловые крути, надеявшиеся на соединение конституционного образа правления с самодержавным при сохранении остатков дворянских привилегий. Попытки же отдельных предпринимательских групп, наиболее известным представителем которых был Павел Рябушинский, двигаться в более либеральном направлении успехом не увенчались. Им не удалось найти политическую нишу между октябристами и кадетами, осуществление программного требования которых о введении восьмичасового рабочего дня сделало бы отечественную буржуазию беспомощной перед иностранными конкурентами. Потому деятельность Павла Рябушинского и его единомышленников не получила широкого отклика не только в рабочей, но и в самой предпринимательской среде.
Ход событий возвращал основную массу отечественного предпринимательства к прежнему представлению о том, что другого защитника, кроме самодержавия, у нее нет. Когда же самодержавие рухнуло, ее представители, впервые попав в правительство, направить Россию по европейскому буржуазному пути не смогли. И не только потому, что исторически не были к этому подготовлены, но и в силу непредрасположенности большинства населения: его личностных ресурсов, мобилизованных столыпинскими реформами, для буржуазно-капиталистического поворота оказалось недостаточно.
Доличностная архаика, консервировавшаяся столетиями в качестве массовой опоры государственности, смела со сцены и саму государственность, и противостоявшее архаике образованное меньшинство.
15.3. Ресурсы низших слоев
Российский капитализм, быстро развивавшийся со второй половины XIX века, не состоялся прежде всего потому, что ему не удалось создать себе прочную социальную опору в деревне. Столыпинские реформы, апеллировавшие к индивидуальной инициативе крестьян и призванные мобилизовать их личностные производительные ресурсы, натолкнулись на неприятие сельского большинства, сохранившего приверженность общинным порядкам. Эту неудачу многие до сих пор склонны объяснять специфическими особенностями отечественной народной культуры – ее недостижительностью, нестяжательностью, приоритетом в ней духовных ценностей над материальными, коллективизма над индивидуализмом. Нельзя сказать, что такого рода объяснения беспочвенны, но нельзя согласиться и с тем, что они точны и исчерпывающи.
Во-первых, если почти каждый четвертый крестьянин воспользовался правом выхода из общины, чтобы хозяйствовать индивидуально, то это значит, что ценность коллективизма была в культуре, по меньшей мере, не единственной. Во-вторых, трудно понять, почему «столыпинских помещиков» или, скажем, инициативных крестьян, которые еще при крепостном праве воспользовались предоставленной возможностью торговой и промышленной деятельности, следует считать уступавшими по части духовности тем, кто никакой хозяйственной инициативы не проявлял. В-третьих, культура недостижительности и нестяжательности получила в стране распространение не столько потому, что отвечала каким-то природным особенностям русского и других населявших Россию народов, сколько потому, что на протяжении веков навязывалась населению государством. В том виде, в каком это государство исторически сложилось, в достижительной культуре низших классов оно не нуждалось. Такая культура не укрепляла, а подтачивала его устои. Поэтому по мере своего появления и проявления она целенаправленно искоренялась.
Последствия этого начали осознаваться задолго до столыпинских реформ, еще при Екатерине II, которая первой среди российских самодержцев начала всерьез размышлять о крестьянском труде и повышении его производительности. Видный екатерининский вельможа князь Голицын, констатируя отсутствие у русских крестьян любви к труду, отдавал себе полный отчет и в причинах такого отсутствия. «Я хорошо знаю, – писал он, – что леность неразлучна с рабским состоянием и есть его результат; продолжительное рабство, в котором коснеют наши крестьяне, образовало их истинный характер и в настоящее время очень немногие из них сознательно стремятся к тому роду труда или промышленности, который может их обогатить»161.
Имея в виду крепостное право, Голицын меньше всего думал о том, чтобы обосновать необходимость его ликвидации. Наоборот, он предупреждал об опасных последствиях, к которым могло бы привести освобождение крестьян, к свободному труду не приученных. Екатерина, судя по всему, это мнение полностью разделяла. Но дело не только в том, что она, понимая пагубность крепостничества, не решилась его отменить. Дело и в том, что императрица распространила крепостное право и на регионы, где раньше его не было. Следовательно, мобилизация личностных ресурсов земледельцев приоритетной задачей для Екатерины не стала. Более того, их индивидуальная энергия при ней подавлялась, их предприимчивость вытравлялась дополнительными стеснениями хозяйственной свободы, которые отнюдь не ограничивались распространением вширь помещичьего крепостного права.
Помещичьи крестьяне не составляли в России большинства: их численность была меньше совокупной численности различных крестьянских групп, принадлежавших государству или непосредственно короне. И именно в екатерининскую эпоху всем им стали навязываться уравнительные переделы земли, которые до того проводились, в основном, лишь в помещичьих хозяйствах. Это был сознательный выбор в пользу одной из двух экономических стратегий, предлагавшихся Екатерине тогдашними аграрными авторитетами. Первая заключалась в ставке на сильных земледельцев, что означало сохранение существовавших в то время прав на покупку и продажу земли и поощрение наметившейся дифференциации крестьянства. Речь шла, говоря иначе, о движении в сторону частной крестьянской собственности на землю – ведь фактически государственные крестьяне и пользовались своими участками как собственники, хотя юридически таковыми не считались. Вторая
161 Цит. по: Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888. Т. 1. С. 27.
стратегия предполагала, наоборот, ориентацию на слабых и их поддержку: ее суть как раз и состояла в предписывании от имени государства обязательных земельных переделов, которые ставили бы заслон на пути дифференциации и выравнивали возможности разных групп земледельцев. Императрице предстоял выбор между экономической эффективностью и уравнительной справедливостью. Екатерина предпочла справедливость, которая в глазах тех, кто должен был в ходе переделов передавать свои унавоженные и ухоженные участки нерачительным односельчанам, выглядела верхом несправедливости. И такая политика продолжалась и впоследствии: преемники императрицы пытались довести до конца начатое ею административное насаждение общинно-передельных отношений вплоть до начала столыпинских реформ162.
Недостижительность и нестяжательность русских крестьян, равно как и их затянувшееся до XX века неприятие частной собственности, составляли своеобразие их культуры лишь потому, что эти качества формировались принудительно предписанным жизненным укладом. Они укоренялись под влиянием крепостного права и передельной общины, порядки которой постепенно переносились из помещичьих хозяйств на все категории крестьянства.
Сами по себе земельные переделы не были изобретением помещиков и властей. Они стали инициироваться и проводиться самими крестьянскими общинами после того, как рост численности населения начал сопровождаться земельным голодом. При Рюриковичах переделов не наблюдалось, они начались лишь в эпоху Романовых, а укоренились только после окончательного закрепощения крестьян под нажимом помещиков. Но помещики, а затем и государство стали культивировать переделы вовсе не из желания следовать едва зарождавшейся народной традиции и лежавшему в ее основе представлению о справедливости. И не потому, что были озабочены сбережением каких-то других культурных особенностей подвластного им населения. Причина была более прозаичной – удобство и надежность сбора податей.
Уравнительное землепользование позволяло обеспечивать налоговую платежеспособность не только сильных, но и слабых земледельцев, что стало особенно важно после введения Петром I
162 Об административном насаждении общинно-передельных отношений Екатериной II и ее преемниками см.: Чернышев И.Б. Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет: Крестьяне об общине накануне 9 ноября 1906 года. М., 1997.
подушной подати: платить ее должны были все без исключения, а ответственными за ее сбор перед государством выступали помещики. Распространение же уравнительности на государственных крестьян диктовалось, помимо фискальных соображений, и стремлением защитить экономические интересы помещиков от конкуренции со стороны энергичных и предприимчивых крестьян, неизбежной при сохранении тех экономических прав и свобод, которыми они располагали и которые позволяли им двигаться в направлении фермерского типа хозяйствования. Освободив дворян от обязательной службы, власть была заинтересована в их хозяйственной жизнеспособности, необходимой для поддержания их роли и влияния в стране, их желания служить опорой трону, даже не служа ему непосредственно.
О том, что культурные и этические соображения в данном случае не доминировали, свидетельствует начавшееся при Екатерине наступление на однодворцев – окрестьянившихся потомков дворян, хозяйствовавших индивидуально, нередко с использованием наемного труда. Вопреки их отчаянному сопротивлению, они тоже загонялись в передельные общины – при том что раньше ни в каких общинах не состояли вообще163. Екатерина отдавала себе отчет в том, что уровень отечественного земледелия оставлял желать лучшего. Но для его повышения она предпочитала приглашать на пустовавшие земли Поволжья, Урала и Юга немецких колонистов, предоставляя им льготные условия. Личностные ресурсы самих россиян востребованы и мобилизованы не были. Более того, осуществлялась их целенаправленная демобилизация.
Государство, опиравшееся на крепостное помещичье хозяйство, не питало иллюзий относительно предпринимательских талантов и энергии землевладельцев-дворян. Но оно не могло допустить развития в деревне альтернативного, фермерского уклада, который подрывал бы их экономические позиции. Российская государственность во времена Екатерины была достаточно устойчивой, способной отвечать на внешние и внутренние вызовы именно потому, что была самодержавно-дворянском. А от добра, как известно, добра не ищут.
С прагматической точки зрения политика Екатерины и ее преемников имела свои безусловные резоны. Но с точки зрения стратегической деятельность эта, гасившая инициативу наиболее
163 Подробнее см.: Там же С. 86-92.
предприимчивых слоев российской деревни, создавала дополнительные социокультурные предпосылки для будущего утверждения в стране большевистского социализма, сделавшего ставку на деревенскую бедноту. Власть «не была обеспокоена тем, что, лишая государственных крестьян права на частное землевладение, она этим действием вызывает всеобщее неприятие частной собственности на землю вообще»164.
Русская недостижительность, возведенная консервативными отечественными идеологами в высокий духовный ранг нестяжательности, не была изначально задана уникально-самобытными особенностями культуры. Такого рода человеческие качества – неотъемлемое свойство любых архаичных общностей, проживающих в режиме физического выживания. В России же эти качества искусственно консервировались и насаждались государством посредством административного воспроизводства уравнительной передельной общины в сочетании с крепостным правом. Потому что тип государственности, который в России сложился, только таким способом мог обеспечить свое собственное выживание.
Исторической платой за замораживание личностных ресурсов земледельцев стала не только антисобственническая психология народного большинства, проявившаяся со временем и в городах, которые в ходе пореформенной индустриализации быстро заселялись выходцами из деревни. Платой за это стало и безнадежное отставание отечественного сельского хозяйства – почти на всем протяжении правления Романовых оно не преодолевалось, а усугублялось. В «житницу Европы» Россия превратилась не благодаря росту урожайности, а исключительно за счет расширения посевных площадей на присоединявшихся новых и осваивавшихся старых территориях. В середине XIX века русские крестьяне собирали с каждого гектара почти на треть меньше ржи и пшеницы, чем английские фермеры в XIII столетии165. За полтысячелетия урожайность увеличилась в Англии в три раза, между тем как в России за это время она не изменилась166.
Экстенсивное хозяйствование не помешало стране наращивать державное могущество и расширять имперское пространство,
164 Кудинов П.А. Предисловие к изданию 1997 года // Чернышев И.В. Указ. соч. С. 17.
165 Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 400.
166 Там же.
ресурсов для этого до поры до времени хватало. Но верно и обратное – державное могущество и постоянное расширение пространства позволяли воспроизводить экстенсивное хозяйствование на приобретавшихся территориях посредством стихийного и принудительного переселения на эти территории русских земледельцев, вместе с которыми распространялся вширь и общинно-уравнительный жизненный уклад. Военно-технологическая конкурентоспособность страны не только подтверждалась успехами имперской экспансии, но и сама себя поддерживала: экспансия позволяла государству приобретать дополнительные природные ресурсы, компенсируя тем самым невовлеченность в хозяйственную жизнь ресурсов личностных, заживо погребенных в передельной общине.
Именно эта община воспроизводила тот массовый человеческий тип, который поставлял обширный жизненный материал не только для романтизации нестяжательности, но и для критики русского работника и его ментальных особенностей. Одни и те же качества разные люди, в зависимости от их собственных ценностей, трактовали либо как проявление повышенной духовности, либо как показатели лености, безынициативности, готовности трудиться только из-под палки. Однако и возвышенная, и обличительная риторика, которые в ходу и сегодня, не столько проясняют, сколько вуалируют природу явления. Важно не то, как оценивать русского работника, а то, какими обстоятельствами были обусловлены его воспеваемые или же хулимые особенности и как сказывались они на развитии экономики страны.
Известно, например, что барщинные помещичьи крестьяне работали на земле лучше и качественнее, чем помещичьи оброчные и государственные. Объясняется это не в последнюю очередь тем, что в барщинных хозяйствах степень использования принудительно-насильственных мер и физических наказаний была в десятки раз выше, чем в других167. Однако на росте урожайности такого рода человекозатратная интенсификация почти не сказывалась; то была интенсификация в границах экстенсивной экономики. Не способствовала она и превращению русских помещиков в предпринимателей: нестяжателями их, правда, не называли, но и достижительная психология – при возможности использовать даровой крепостной труд и физическое насилие над работником – в их среде не формировалась тоже.
167 Там же. С. 405.
Все эти особенности отечественного «человеческого фактора» можно, конечно, объявить производными от определенной культуры. Подобные интерпретации вполне корректны уже потому, что вне культурной обусловленности в мире людей ничего устойчивого, как, впрочем, и неустойчивого, не существует вообще. Но культура, как и все остальное в этом мире, подвержена трансформациям, которые в нашем случае искусственно блокировались государством, пытавшимся строить большое развивающееся общество при сохранении несовместимых с ним общностей локальных, замкнутых, догосударственных.
Государственная политика, будучи зависимой от культуры, полностью ею не определяется. Тем более если культура эта не однородна, а многослойна. Многослойна же она, если речь идет о большом обществе, всегда и везде – по крайней мере, потенциально. Поэтому и государственная политика в нем определяется во многом природой самого государства, ее особенностями. Она диктует ему, на интересы каких групп и слоев населения и, соответственно, на какую культуру, ему следует опираться, чтобы поддерживать свою устойчивость, а интересы каких – маргинализировать, ибо они его устойчивости угрожают. В этом смысле государственная политика настолько же определяется культурой, насколько и определяет вектор ее развития.
Культурологический детерминизм в объяснении политических решений не более продуктивен, чем экономический, социологический и любой другой. Культура крестьянского большинства в России была примерно одинаковой при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, Петре I и Екатерине II, Николае I и Александре П. Не претерпела она существенных изменений и к началу реформаторской деятельности Столыпина. Тем не менее их политика в отношении крестьянского вопроса была разной. Если же российское государство так долго отвергало культуру предпринимательской достижительности, то делало это не потому, что такой культуры в стране не существовало, а потому, что не было в состоянии ни адаптироваться к ней, ни в соответствии с ней себя преобразовать.
О многослойности и многомерности русской культуры свидетельствует не только готовность многих крестьян выделиться из общины, выявившаяся в ходе столыпинских реформ. Об этом свидетельствует также торговая и промыслово-промышленная деятельность оброчных крестьян с конца XVIII столетия: едва для нее появились легальные возможности, как сразу же обнаружились и люди, к ней предрасположенные. О них нельзя сказать, что они были недостижителями и нестяжателями. Но их нельзя было упрекнуть и в лености.
Показательна в данном отношении и артельная организация труда, при которой несколько человек добровольно объединялись в группы для различных работ – строительных, погрузочно-разгрузочных в портах, бурлацкого перегона барж и т.п. Она возникла на стыке общинного коллективистского принципа и чуждого общине принципа вольного найма по контракту, стимулировавшего добросовестную и качественную деятельность. В глазах интеллигенции тяжелый труд бурлаков стал символом эксплуатации, но искать в нем воплощение нестяжательности или лености в голову никому не приходило. Тем более не могла служить иллюстрацией такого рода качеств жизнь вышедших из крестьян русских купцов. В драматургии Островского они представлены не в самом привлекательном виде, интеллигенция усмотрела в их быте и нравах «темное царство» семейного самодержавия, что не было лишено оснований, но нестяжателями или недостижителями они уж точно никем не воспринимались. И «обломовщина» была открыта литературой и публицистикой тоже не в купеческой среде.
Да, городское торгово-промышленное предпринимательство отечественной культурой отторгалось, как отторгалось ею и более позднее предпринимательство сельское в лице «столыпинских помещиков». Но, во-первых, речь идет не о всей культуре, а лишь о культуре большинства. А, во-вторых, инерционность этой культуры в значительной степени была обусловлена тем, что воспроизводивший ее общинно-уравнительный жизненный уклад был насажден государством и поддерживался им вплоть до XX века. Изначально русская культура не обладала никакими особыми свойствами, делавшими ее фатально несовместимой с ценностями индивидуального успеха.
Едва ли не самым весомым доказательством этого может служить тот факт, что наиболее известные купеческие фамилии России вышли из среды старообрядцев. Последние же вряд ли могут быть заподозрены в культурном ренегатстве. В отличие от европейских протестантов, они были не религиозными реформаторами, а, наоборот, православными ортодоксами и противниками реформ. Но в своем практическом поведении – в частности в своем трудовом усердии – последователи Аввакума походили на последователей Лютера и Кальвина. Для этого им, однако, не понадобилось, подобно европейским протестантам, повышать ценностный статус труда и объявлять его земным служением Богу. В полном соответствии с Библией, они толковали его как Божье наказание за грехи, как тяжкую повинность, а не как высокую духовную ценность. И их трудовое подвижничество мотивировалось прежде всего тем, что церковные реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича воспринимались ими как конец «Третьего Рима», единственного на земле богоугодного царства, и предвестие близкого Страшного суда, перед которым следует со всей серьезностью и ответственностью принять предписанное Богом наказание, дабы через страдание максимально очиститься от греха. Впоследствии этот первичный духовный импульс в старообрядческой трудовой традиции кристаллизовался и трансформировался в этику предпринимательского успеха. Но самое важное и показательное заключается все же в том, что старообрядцы были не ниспровергателями национальной культуры, а ее самыми ревностными апологетами. Равно как и в том, что их уклад жизни складывался параллельно государственному и в противостоянии ему. Государство могло их притеснять, могло облагать их двойным налогом, что и делало, но оно не в силах было навязать им то, что навязывало остальным.
Насаждение общинно-уравнительных отношений осуществлялось государством не только при крепостном праве, но и после его отмены. Потому что еще в начале XIX века в пользу такой политики появились дополнительные политические аргументы, казавшиеся весомыми и в пореформенную эпоху. Передельная община стала восприниматься властями как главный оплот против революционных потрясений, обрушившихся на Европу.
Обезземеливание и пролетаризация значительных слоев населения (так называемая «язва пролетариатства»),которыми на Западе сопровождалось развитие капиталистических отношений, не могли не вызывать беспокойства в России. Именно массовая пролетаризация и сопутствовавший ей поначалу рост нищеты рассматривались российскими властителями как главная причина революций и основной источник социализма и коммунизма – новых идей, получивших в Европе широкое распространение и грозивших разрушением ее культурных и цивилизационных основ. Передельная община, обеспечивавшая крестьян земельными участками и, соответственно, гарантированными средствами существования, пролетаризацию исключала. Поэтому, как казалось, она должна исключить и революцию168. Тем более что уровень жизни населения в относительно стабильной России был выше, чем в переживавших капиталистическую трансформацию – со всеми ее социальными издержками – европейских странах169.
Однако после отмены крепостного права и начала индустриальной модернизации с общиной стали возникать проблемы. Развитие капитализма в городе не сочеталось с архаичными формами жизни и труда в деревне. Увеличение зернового экспорта сопровождалось уменьшением крестьянских хлебных запасов и при неурожаях оборачивалось массовым голодом. К тому же численность сельских жителей продолжала быстро расти, земли не хватало, аграрное перенаселение при отсутствии права выхода из общины без ее согласия превращало деревню в котел с горючей смесью, который рано или поздно не мог не взорваться170. Тем не менее самодержавие продолжало держаться за передельную общину, по инерции рассматривая ее как самое надежное противоядие от революции и социалистическо-коммунистических соблазнов. При Александре III (1893) была даже отменена принятая при освобождении крестьян законодательная норма, согласно которой тем, кто полностью выплатил выкупные платежи, дозволялся выход из общины без ее согласия. От этой политики отказались лишь тогда, когда революция, которую с ее помощью надеялись предупредить, стала фактом и когда стало ясно: передельная община не только не выступила заслоном на пути революции, но оказалась встроенным в государство институциональным механизмом, именно ее и обслуживавшим.
Европа, переболев болезнями капитализации, стремительно уходила вперед, превращаясь из сельской в городскую171. Россия,
168 О политико-идеологических причинах в пользу сохранения и укрепления общины см.: Чернышев И.В. Указ. соч. С. 129-133.
169 Кудинов П.А. Указ. соч. С. 24.
170 К 1914 году избыток рабочей силы в российской деревне достиг 32 млн. человек, что составляло 56% от всего наличного числа сельских работников (Миронов Б.Н. Указ, соч. Т. 1.С.412).
171 В 1890 году доля городского населения составляла в России около 13%, между тем как в Великобритании – 72%, в Германии – 47%, в Австрии, Франции и США -33-38% (Миронов Б.Н. Указ. соч. Т 2. С. 378). В последующие полтора десятилетия картина существенно не изменилась – перед Первой мировой войной горожане составляли в России чуть более 15% от общей численности населения (Там же. Т. 1.С.317).
пытаясь предупредить эти болезни, замораживала личностные ресурсы миллионов людей, искусственно удерживая их в перенаселенной деревне. В результате вместо болезни роста с сопутствовавшими ей буржуазными революциями страна оказалась пораженной неизлечимым недугом распада, ставшим прямым следствием удерживания большинства населения в архаичном состоянии, а страны в целом – в состоянии социокультурного раскола. Поэтому и революция в России получилась в конечном счете не буржуазная, а социалистическая. Точнее – не революция, а всеобщая смута, завершившаяся большевистским переворотом.
Столыпинские реформы начались слишком поздно, чтобы развернуть страну в ином направлении. Потому что слишком велика была накопленная к началу XX века сила исторической и культурной инерции. Можно ли было начать преобразования много раньше, т.е. до социального взрыва, мы обсуждать не беремся, воздерживаясь, как и в других случаях, от поиска в прошлом нереализованных альтернатив реальному ходу событий. Что касается реформ Столыпина, то они интересны не только своей экономической и социальной направленностью. И не только тем, что явились запоздалой попыткой мобилизовать личностные производительные ресурсы деревни, до того почти невостребованные. Они означали, помимо прочего, и признание тупиковости тех притязаний на мессианскую цивилизационную роль, которые стали задавать тон в российской политике под влиянием революционных потрясений в европейских странах, воспринятых в России как начало конца Европы. Сама же Россия стала восприниматься при этом как «центр особой славянской цивилизации, основой которой являются общинные устои»172. От такой цивилизационной альтернативы и отказывался Столыпин.
Это был отказ от деревенской экономической и культурной архаики в пользу продемонстрировавшего свои неоспоримые преимущества европейского пути. Технологическое отставание отечественного сельского хозяйства, втиснутого в передельно-общинные формы, к началу XX века выглядело удручающим. У большинства крестьян не было ни денег, чтобы покупать дорогостоящую сельскохозяйственную технику, ввозимую, как правило, в Россию из-за границы, ни желания осваивать ее: традиционная культура отторгала любые новшества, а иностранные – тем
172 Кудинов П.А. Указ. соч. С. 24.
более173. Столыпину предстояло решать ту же задачу преобразования «человеческого фактора», которую в свое время решал Петр I. Правда, с существенной разницей: теперь дело касалось не элитного меньшинства, а подавляющего большинства населения. Петровскими методами, посредством новой милитаризации после завершения длинного цикла демилитаризации проблема не решалась – государство не располагало для этого достаточными властными ресурсами. Оно могло рассчитывать только на постепенное органическое преобразование, для которого, однако, история не предоставила реформатору необходимого времени. Через два десятилетия после гибели Столыпина Сталин приступит к решению той же задачи, реанимируя милитаризаторскую политику Петра. Но он будет делать это, предварительно устранив все «помехи» в лице помещиков, капиталистов (в том числе и сельских) и заменив старый государственный аппарат новым, «рабоче-крестьянским».
Удручающим в начале XX века было и отставание России в области народного образования: несмотря на заметные сдвиги, которые наметились в этом отношении в пореформенный период174, страна вошла в новое столетие с уровнем грамотности западноевропейских стран XVII века175. И одной из причин такого положения дел были все те же претензии на особый цивилизационный статус: власти опасались, что вместе с образованием в деревню проникнет и городская культура, способная поколебать традиционные общинные устои.
173 «Несмотря на некоторый рост количества усовершенствованного сельскохозяйственного инвентаря, в 1910г., поданным специальной переписи, из орудий вспашки более 2/3 составляли деревянные сохи, косули, плуги, имевшие лишь железный наконечник; из орудий рыхления – деревянные бороны составляли 97%» (Карелин А.Л. К стабильности через реформы? // Россия в начале XX века. С. 500).Перепись 1917 года показала, что 52% крестьян главных земледельческих губерний Европейской России не имели усовершенствованного инвентаря. Его закупали главным образом помещики и крепкие крестьяне, выделившиеся из общины (см.: Там же. С. 231). Этим в значительной степени объясняется и то, что основная масса товарного хлеба производились в России помещичьими и кулацкими хозяйствами, между тем как на долю подавляющего большинства крестьян приходилась лишь четверть зерновой продукции страны (Сметанин С.И. Указ. соч. С. 166).
174 Если в 1850 году грамотность среди мужчин старше девяти лет составляла в России 19%, то к 1913 году эта цифра возросла до 54%. Среди женщин соответствующие показатели составляли 10 и 26% (Миронов Б.Н. Указ соч. Т. 2. С. 294). В Австрии, Великобритании, Германии, США, Франции и Японии в 1913 году грамотность среди мужчин была не ниже 81 %, а среди женщин – не ниже 75% (Там же. С. 383).
175 Миронов Б.Н. Указ соч. Т. 2. С. 294.
Идея альтернативной цивилизации сочетала в себе притязания на мировое лидерство с замораживанием личностных ресурсов народного большинства и консервированием их неразвитости во всех отношениях, включая изоляцию этого большинства от книжно-письменной культуры. Во времена Столыпина (1908) постепенный, рассчитанный на десять лет переход ко всеобщему обязательному начальному образованию был все же узаконен, но раскол между образованным и необразованным классами за отпущенное добольшевистской России историческое время преодолеть так и не удалось.
Последующие события покажут, что реформы Столыпина не привели и к изживанию притязаний на создание альтернативной цивилизации. Потому что такие притязания появились не в XIX веке, а гораздо раньше и успели глубоко укорениться в государственном сознании. Поиски самобытной цивилизационной идентичности сопровождали весь период правления Романовых и до европейских революций никакого отношения к сельской передельной общине не имели. Остановимся на этих поисках подробнее.
Глава 16 Цивилизационные стратегии Романовых
Смута начала XVII века выявила историческую исчерпанность ци-вилизационного синтеза надзаконной силы и православной веры, дополненной правдой, на котором базировалась московская государственность Рюриковичей. Дефицит силы, обнаружившийся еще в ходе проигранной Иваном Грозным Ливонской войны, стал очевидным – у государства не хватало ресурсов не только для ведения войн, но и для упорядочивания внутренней жизни. И, как стало ясно уже Борису Годунову, устранить этот дефицит без заимствования европейских знаний и технологий было невозможно.
Тем более бесспорной была необходимость таких заимствований для воцарившихся после Смуты Романовых. Именно им предстояло осуществить коррекцию цивилизационного выбора страны посредством ее вестернизации, которую они осуществляли последовательно, углубляя на всем протяжении своего трехсотлетнего царствования. Поэтому мы и рассматриваем весь период их правления как нечто целостное и одновекторное. Есть достаточно оснований для того, чтобы отделять Петра I от первых Романовых. Но с цивилизационной точки зрения они были не столько последователями Рюриковичей, сколько предтечами Петра.
Наращивание силы с помощью заимствования и освоения чужой культуры грозило, однако, серьезным конфликтом с верой. Такой конфликт был не просто нежелателен; он был недопустим. И потому, что препятствовал обретению новой династией – выборной, а не «природной» – сакральности династии прежней. И потому, что вера во времена Смуты оказалась одним из главных источников народной силы, которая помогла восстановить обвалившуюся государственность. Отсюда – новизна цивилизационной стратегии первых Романовых и ее разнонаправленность.
Чтобы восполнить дефицит силы, они должны были открыть дорогу в страну не только европейским знаниям и технологиям, но и новому для Руси толкованию принципа законности, поставив власть под его защиту в Соборном уложении Алексея Михайловича.
С другой стороны, ради достижения той же цели им приходилось искать опору в вере и повышать статус церкви: возведение ее руководителей в ранг вторых государей, имевшее место при первых двух Романовых, в Московии Рюриковичей было немыслимо. Заимствование культурно чужого при возведении дополнительных бастионов для защиты от него, включая административное насаждение православного благочестия, – такова была эта новая цивилизационная стратегия, заглавная роль в которой отводилась вере. Именно она призвана была нейтрализовать последствия начавшейся вестернизации, угрожавшей национально-государственной идентичности Руси.
Однако вера, даже будучи соединенной с законом, не могла вернуть восстановленному самодержавию его прежнюю силу и, соответственно, полноту власти над подданными. Потому что сама ее былая полнота обусловливалась и тем, что Русь, освободившись при Рюриковичах от монголов, обрела в глазах элиты и населения религиозно освященный универсальный статус, соответствовавший представлению об истинности московской православной веры в противовес ложности других вероисповеданий. Идея «Третьего Рима» как единственного земного царства, предназначенного к спасению, – это идея универсального, воплотившегося в локальном пространстве Московской Руси. Именно данным обстоятельством объяснялась во многом сила ее князей и царей, власть которых не могла быть поколеблена даже ужасами и опустошительными последствиями опричнины и Ливонской войны. Но уже само ввязывание Ивана Грозного в эту войну, равно как и предшествовавшие ей походы на Казань и Астрахань, свидетельствовали о том, что претензия на религиозную универсальность и избранность требовала подтверждения военными победами над иноверцами, а неограниченная власть государя внутри страны – дополнительной легитимации его успехами на внешней арене.
Понятно, что новая династия нуждалась в таких подтверждениях еще больше. И не только потому, что ее сила не шла первоначально ни в какое сравнение с силой Рюриковичей. Главная трудность в выстраивании цивилизационной стратегии заключалась именно в том, что Романовым, в отличие от Рюриковичей, для укрепления материальных устоев «Третьего Рима» приходилось подтачивать его духовные устои инокультурными нововведениями. Последние ставили под вопрос и цивилизационную самодостаточность Руси, и ее богоизбранность, а значит – и ее притязания на универсальный статус.
Путь, по которому двинулись Романовы, – это путь принципиально иной, чем прежде, универсализации веры посредством расширения локально-московского цивилизационного пространства до общеправославного с центром не в Москве, а в Константинополе. Такая переориентация потребовала приведения богослужения и церковных книг в соответствие с исходным греческим каноном, что было воспринято многими как вероотступничество и привело в конечном счете к религиозному расколу. Но это смещение цивилизационной оси от Москвы к Константинополю, предполагавшее воцарение в нем со временем русского правителя – Алексей Михайлович не исключал, что уже ему удастся изгнать турок из Византии и занять трон бывших императоров, – не было случайным.
Начиная вестернизацию, Москва не ощущала способности собственными силами противостоять духовному влиянию католической и протестантской Европы. Чтобы противостоять, нужны были знания, которых на Руси не было; ее богословская культура находилась в зачаточном состоянии. Особенно заметным это отставание стало после присоединения Украины: в вопросах веры Москва не только не могла претендовать на лидерство по отношению к Киеву, но и вынуждена была пойти к нему в ученичество.
Православной Украине, находившейся в составе Речи Посполитой, ради сохранения своей религиозной идентичности пришлось вступить в жесткую конкуренцию с католицизмом. На ее территории действовал орден иезуитов, строивший школы с бесплатным образованием, устраивавший диспуты, на которых его представители демонстрировали свое превосходство в знаниях, аргументации, полемической изощренности. Украинская православная церковь ответила развитием собственного академического образования и ко времени присоединения к Московской Руси успела сформировать высокообразованную духовную элиту. Приглашение ее представителей в Москву в качестве учителей и сыграло роль культурного моста между Русью и Византией.
Такая опосредованная – через украинскую духовную элиту – связь с греками не могла остановить движение к религиозному и церковному расколу: украинцев, как и греков, в Московии подозревали в подверженности католическому влиянию. Но это не заставило отказаться и от выбранного цивилизационного вектора, ориентированного на Византию, – в этом направлении продолжали двигаться и после того, как раскол стал фактом. Соответственно, главным звеном цивилизационной стратегии на всем протяжении XVII столетия оставалась вера.
Эта стратегия – в различных формах и с временными отступлениями от нее – будет сопутствовать всему трехсотлетнему правлению династии Романовых. С нее она начинала, ею и закончит свой исторический век, так и не сумев реализовать ее. Отказаться от нее Романовы не смогут, что свидетельствовало о цивилизационной несамодостаточности России, дефиците у нее собственного символического капитала. Но и осуществить эту стратегию не смогут тоже – для осуществления не хватит силовых ресурсов. Даже после того, как Петр I, сместив акценты с веры на силу, совершит в данном отношении радикальный прорыв, России суждено будет остаться страной нереализованных цивилизационных проектов.
Петр отказался от византийской или, что то же самое, антитурецкой ориентации своих предшественников, хотя и не сразу. Начал он с азовских походов – историческая и культурная инерция давала о себе знать. Но возможностей в одиночку воевать с Турцией у страны еще не было, а союзников в Европе Петру приобрести не удалось. Вместе с тем длительная поездка за границу убедила царя в бесперспективности цивилизационной стратегии его предшественницы Софьи, суть которой заключалась в европеизации через Украину и Польшу, в заимствовании у первой способов противостояния католическому влиянию, а у второй – ее светской культуры. В условиях религиозного раскола и при ослабленной им церкви такая ориентация не вела ни к восстановлению духовной консолидации, ни к легитимации культурных и технологических заимствований. Говоря иначе, она не способствовала наращиванию государственной силы и военной конкурентоспособности, что было главной целью предшественников Петра, правивших страной после смуты. Это и предопределило осуществленную им радикальную ревизию цивилизационного выбора.
Главную ставку Петр сделал на протестантский север Европы. Не в смысле духовного подчинения ему и даже не в смысле поиска места в нем России, а ради форсированного перенесения на русскую почву и военного использования его достижений. Это мотивировалось тем, что протестантский мир стал к тому времени лидером модернизации, а протестантизм не вызывал на Руси такого неприятия и отторжения, как католическое «латинство». Но религиозная мотивация не была в выборе царя определяющей. В петровской России сила отделилась от веры и стала наращиваться помимо нее и даже вопреки ей, что нашло свое институциональное воплощение в ликвидации должности патриарха и превращении церкви в один из государственных департаментов.
Следуя западным образцам, Петр преобразовал религиозное государство в светское, сместив функции упорядочивания в нем от веры к закону. Это соответствовало начавшемуся в Европе движению из первого осевого времени во второе и сопутствовавшим такому движению цивилизационным сдвигам. Именно закон стал в руках реформатора тем инструментом, с помощью которого он осуществил вестернизацию жизненного уклада элиты, принуждая ее к освоению европейских знаний и европейской культуры. Петр пытался придать этому инструменту универсальное значение, декларируя обязательность законопослушания для всех, включая самого себя; при нем даже власть самодержавного царя впервые стала легитимироваться не от имени Бога, а от имени закона. Однако реально она оставалась надзаконной силой, легитимность которой была обеспечена главным образом военными победами Петра. Последние же стали возможны благодаря тотальной милитаризации страны и созданию необходимых для этого институтов: постоянной армии, гвардии, службы тайной полиции. Отсюда, в свою очередь, следует, что Петр, строго говоря, никакого нового цивилтационного качества после себя не оставил: он создал государство, приспособленное для войны, между тем как цивилизационное своеобразие обнаруживает себя лишь в условиях мирной повседневности.
Принцип законности, введенный реформатором в русскую государственную жизнь, не интегрировал Россию в европейское цивилизационное пространство в том числе и потому, что в интерпретации Петра принцип этот не только исключал идею гражданских прав, но предполагал узаконенное всеобщее бесправие. Преемники Петра довольно быстро осознали, что на таком милитаристском фундаменте долговременно устойчивая государственность существовать не может, и приступили к ее демилитаризации. С цивилизационной точки зрения это означало, что через прорубленное реформатором «окно» они двинулись в Европу – не столько ради новых завоеваний, сколько ради освоения и перенесения в Россию базовых оснований ее жизнеустройства. Такое движение в России Романовых продолжалось – с учетом происходивших в самой Европе изменений – в течение всего послепетровского периода. Не без временных откатов, но продолжалось.
Европеизация отечественной государственности осуществлялась в двух основных направлениях.
С одной стороны, универсальность принципа законности из декларативной постепенно – и тоже не без отступлений и исторических зигзагов – превращалась в реальную, распространявшуюся в том числе и на самого самодержца. Сохранившаяся за ним законодательная монополия не отменяла того факта, что в ее границах происходили существенные изменения, которые были отмечены нами в предыдущих разделах. К тому же и сама эта монополия Октябрьским Манифестом 1905 года была отменена, что являлось одновременно и уступкой власти, столкнувшейся с мощным напором снизу, и завершением ее долгой эволюции в направлении законности.
С другой стороны, европеизация российской государственности проявлялась в движении от тотального бесправия к узакониванию прав: сначала в локально-сословном, дворянском, а начиная с 1861 года – ив общенациональном масштабе. Постепенное придание им статуса всеобщности, наряду с универсализацией законности, позволяет говорить о том, что послепетровская Россия вслед за Европой осваивала цивилизационные принципы второго осевого времени. Однако частью европейской цивилизации она так и не стала, как не стала и цивилизацией особой и самодостаточной. Культурно расколотая страна, постоянно углубляющая раскол новыми инокультурными заимствованиями, не может обрести собственную цивилизационную идентичность. Она обречена на то, чтобы искать эту идентичность вовне. И Россия продолжала искать ее вплоть до большевистского переворота. Магистральное же направление поиска оставалось тем же, что и во времена Алексея Михайловича. Направление оставалось византийским. Без освобождения от турок Константинополя и установления контроля над ним особый цивилизационный статус России не воспринимался ни достигнутым, ни обеспеченным.
Резкий поворот Петра в сторону протестантского Запада и успешное освоение его достижений, превратившее страну в сильную и влиятельную военную державу, сами по себе не предопределяли место православной России в католическо-протестантском европейском цивилизационном пространстве. Потому что трансформация религиозной государственности в светскую не устраняет религиозную компоненту цивилизационной идентичности. Она сохраняется и будет сохраняться и в цивилизации второго осевого времени – До тех пор, пока цивилизация эта не станет всемирной, и если ей суждено когда-либо стать таковой. Тем более интересно, что религиозно нейтральные проекты в России все же выдвигались. Интересны же они не тем, что не реализовались и реализоваться не могли, а тем, что появлялись и проводились в жизнь в царствование Екатерины II, отмеченное самым целенаправленным поиском места России внутри европейского цивилизационного пространства.
Первый проект, осуществлявшийся в начале екатерининского царствования и получивший название «северной системы», предполагал обретение Россией места в европейской цивилизации при абстрагировании от своей православной идентичности, но с учетом религиозных различий в Европе. Это было продолжением внешнеполитического курса Петра I: идея «северной системы» заключалась в создании союза с протестантскими странами (Англией и Пруссией с подключением Дании), противостоящего европейскому католическому миру (Франции, Австрии и Испании). Однако к обретению цивилизационной идентичности такая стратегия не вела и не привела: найти свое место в Европе России не удалось.
С ее державной силой европейцы не могли не считаться, в спорах и конфликтах между собой они готовы были искать и искали ее поддержки. Но достаточных культурных предпосылок для выстраивания единой цивилизационной стратегии с Россией не было ни у католических, ни у протестантских государств. При таком положении вещей решающее значение приобретала политическая прагматика, понуждавшая в то время Петербург к сближению не с Лондоном и Берлином, а с Веной: Австрия граничила с Польшей и Турцией – ближайшими соседями России, отношения и конфликты с которыми в значительной степени определяли направление ее внешней политики. Поэтому «северная система» рухнула, не успев сложиться. Цивилизационный проект, продолжавший линию Петра, оказался несостоятельным.
Однако поиск цивилизационной идентичности на этом не только не завершился, но стал еще более энергичным и целеустремленным. Неудачи на севере возвращали российскую политическую элиту на южное направление, к допетровским планам относительно Византии. С той, правда, существенной разницей, что теперь эти планы утратили религиозную окраску: Екатерина пыталась выстроить цивияизационную стратегию светского государства, созданного Петром.
Данная стратегия, вошедшая в историю под именем «греческого проекта», оформилась под влиянием военной победы России над турками, а последовавшее затем присоединение Крыма стало фактическим началом ее реализации. Не вдаваясь в детали этого проекта и идеологические тонкости его обоснования, отметим лишь то, что он не подразумевал уже присоединения Константинополя к России, а тем более – переноса туда ее столицы. Речь шла о том, что императорский престол в освобожденной от османов Греции должен был занять, став родоначальником правящей династии, внук императрицы царевич Константин, которому и имя было дано с учетом его будущей миссии. Тем самым предполагалось не просто обеспечить союз Греции и России при верховенстве последней. Тем самым предполагалось, что Россия, будучи наследницей православной Византии, станет и наследницей ее предшественницы, т.е. Древней Греции и ее цивилизации. Станет, говоря иначе, преемницей не только Константинополя, но и Афин – неспроста последние тоже рассматривались как претенденты на роль столицы возрожденной Греции.
При осуществлении «греческого проекта» вопрос о месте России в Европе снимался сам собой: в этом случае она получала возможность прочно обосноваться не только в европейском пространстве, но и в европейском времени. Более того, государство, находившееся в преемственной связи с Древними Афинами, оказывалось укорененным в этом времени глубже, чем государства западноевропейские, ибо те считались и считали себя сами преемниками более позднего – по отношению к Афинам – Рима. Современный исследователь не без оснований отмечает, что «такая позиция очевидным образом приводила к мысли о культурном приоритете России в Европе и позволяла ставить вопрос о приоритетах политических»176. Верно, однако, и обратное: достигнутое к тому времени державное могущество и выраставшие из него притязания на доминирование в Европе нуждались в культурно-символическом капитале, который позволял бы обосновывать их не только военно-силовой, но и цивилизационной «первичностью».
Политическая прагматика гораздо лучше соотносилась с «греческим проектом», чем с «северной системой». Если роль преемницы Афин Екатерина отводила России, то преемницей Рима в ее стратегии выступала Австрия, правители которой сохраняли титул императоров Священной Римской империи. Религиозные различия между странами отодвигались при этом на второй план: в эпоху
176 Зорин А.П. Указ. соч. С. 37.
утверждения светских государств истинность веры не воспринималась уже как определяющий критерий, на основании которого можно судить об оправданности их международных амбиций. Показательно, что именно в период увлечения «греческим проектом» Екатерина сочиняет пьесу о временах Киевской Руси, главный герой которой – не князь Владимир, принявший от греков христианство, а язычник Олег, празднующий в Византии военную победу над греками. Показательно и то, что в этой поверженной по воле автора Византии нет ни христианства, ни его служителей; в ней царит дух античности.
Союз, заключенный с Австрией, и ее готовность участвовать в разделе Османской империи не означали, однако, что «греческий проект» имел шансы на осуществление. Его реализация привела бы к резкому изменению баланса сил в Европе, что не могло получить поддержки у других держав, противостоять которым Россия и Австрия были не в состоянии. «Греческий проект» Екатерины – это впечатляющая утопия, после смерти императрицы почти сразу и навсегда забытая и оставившая после себя разве что греческие названия крымских городов, данные им вместо прежних татарских. Но именно его заведомая утопичность, не замеченная чуждой прожектерства Екатериной, позволяет лучше понять, насколько острым и актуальным воспринимался в России после обретения ею державного статуса вопрос цивилизационной идентичности. Поэтому разработка новых цивилизационных стратегий продолжилась и в послеекатерининские времена.
Суть этих стратегий, при всех их различиях, сводилась, однако, к одному и тому же, а именно – к возвращению веры, отодвинутой Петром I на периферию государственной жизни, при сохранении и упрочении петровского синтеза силы и законности. То были ответы на вызовы, шедшие из революционной Европы и понуждавшие к коррекции внутренней и внешней политики и ее идеологических обоснований.
Россия располагала достаточной силой, чтобы претендовать на восстановление в Европе монархической законности, поколебленной французской революцией и последовавшей за ней экспансией Наполеона в соседние и не только соседние страны. Унаследованная от Петра I и его преемников державная мощь позволяла, как казалось, оставить в прошлом послепетровские поиски своего места в европейской цивилизации и выступить в роли ее спасителя, обеспечив тем самым доминирование в ней. Единственное, чего для этого не хватало, – духовно-культурной составляющей, без которой любые цивилизационные проекты, предполагающие консолидацию разных стран, заведомо несостоятельны.
Православие на такую консолидирующую роль претендовать не могло – навязать его католическо-протестантской Европе было невозможно. Поэтому при императоре Павле начала оформляться новая цивилизационная стратегия, которая обрела законченный вид при Александре I в учрежденном по его инициативе Священном союзе. Об этом мы в своем месте уже говорили. Здесь же достаточно повторить, что речь шла о возвращении в государственную идеологию религиозной веры, в которой конфессиональное своеобразие православия отодвигалось на второй план ради утверждения общехристианской цивилизационной общности при заглавной роли в ней России.
Уязвимость новой стратегии заключалась в том, что она основывалась на превосходстве в силе и потому вовлеченными в ее осуществление Австрией и Пруссией воспринималась не как добровольный стратегический выбор, а как вынужденная временная необходимость. Уязвимость ее заключалась и в том, что она не имела глубоких культурных корней и в самой России. Опираясь на державную идентичность, актуализированную войной с Наполеоном и победой над ним, стратегия эта не соотносилась с идентичностью православной и, соответственно, с большинством населения страны.
Между тем разгром Наполеона, его изгнание из Франции и восстановление там монархии не подвели историческую черту под революционной эпохой: революции вспыхивали в разных концах Европы снова и снова. Россия, до которой они еще не докатились, стала искать способы их предупреждения. Это привело к очередной коррекции ее цивилизационной стратегии.
Учитывая, что Европу сотрясали массовые движения вырывавшихся из-под правительственного контроля народных низов, новая стратегия была ориентирована именно на народ и его идентичность. Надконфессиональный христианский универсализм Священного союза с ней не сочетался. Не соотносилось с этой идентичностью и возвращение к светской государственности Петра, синтезировавшей силу и закон при маргинализации веры. Ответом на шедшие из Европы вызовы стала частичная реанимация идеоло-гических основ государственности допетровской, т.е. религиозно-православной. Формула графа Уварова «православие, самодержавие, народность», переодевавшая Петербургскую Россию в идеологическое платье Московской Руси, возрождала государственный статус веры и ее заглавную роль в обеспечении духовного единения власти и народа. Но одновременно эта формула была и заявкой на новый цивилизационный проект, альтернативный цивилизации европейской, которая в пору обрушившихся на нее революционных потрясений многим в России стала казаться лишенной будущего. Это был проект самобытной российской цивилизации, призванной и способной предотвращать революции.
Неосознававшаяся парадоксальность такой стратегии заключалась в том, что цивилизационное здание предполагалось возвести на фундаменте культуры, цивилизацией не затронутой. Его предполагалось возвести на почве архаичной культуры крестьянского большинства, законсервированного в догосударственном состоянии. После всего сказанного в предыдущих разделах на этом нет необходимости останавливаться подробно. Достаточно повторить, что замораживание передельно-общинного жизненного уклада блокировало универсализацию принципа законности, а тем самым – укоренение народного большинства в цивилизации первого осевого времени, не говоря уже о втором. Славянофильская апология совести, как более высокой, чем закон, инстанции, реально представляла собой романтизацию локального и неформализованного обычного права, по которому продолжала жить российская деревня. Если учесть, что в некрестьянских слоях населения со времен Петра I принцип законности постепенно приживался и даже доводился до узаконивания сословных прав, то суть очередного цивилизационного проекта Романовых станет очевидной.
Это был проект сохранения статус-кво, переводивший культурный раскол в раскол цивилизационный. Но расколотая цивилизация не может считаться цивилизацией по определению.
Революцию, ради предотвращения которой был выдвинут и осуществлялся данный проект, с его помощью предотвратить не удалось. Поэтому его пришлось признать несостоятельным. Но и заменить его оказалось нечем. Вынужденная универсализация принципа законности, распространение его на до того неприкосновенное самодержавие, которое после 1905 года впервые было ограничено юридически, было равнозначно констатации цивилизационной несамодостаточности России Романовых: ограничение самодержавия лишало ее единственного субъекта самобытного цивилизационного проектирования. Об этой несамодостаточности свидетельствовало и столь же вынужденное законодательное расширение гражданских прав, доведенное до права свободного выхода из общины. То было движение в сторону другой, европейской цивилизации, входившей во второе осевое время. Но в условиях, когда народное большинство прочно не обосновалось еще и в первом, европеизация страны натолкнулась на препятствия, оказавшиеся непреодолимыми.
Когда сегодня говорят об «уникальной российской цивилизации», хочется все-таки понять, о чем именно идет речь. Ведь в поисках цивилизационного своеобразия Россия на протяжении своей истории использовала различные комбинации силы, веры и закона, ни одна из которых не стала окончательной и каждая из которых в значительной степени подвергала ревизии, порой радикальной, комбинацию предыдущую.
Можно ли, например, считать, что православно-византийская стратегия Алексея Михайловича и религиозно-нейтральный «греческий проект» Екатерины II лежат в одной цивилизационной плоскости? Что у них общего – кроме того, разумеется, что оба они выдвигались самодержавной властью?
Можно ли, далее, утверждать, что своеобразие российской цивилизации включает в себя ту комбинацию силы и узаконенного всеобщего бесправия, которая была характерна для милитаристской государственности Петра, или то сочетание силы, узаконенных прав и чрезвычайных законов, защищавших государство от общества, которое сложилось после реформ Александра II?
Имеют ли, наконец, какое-то отношение к уникальности российской цивилизации те юридические ограничения самодержавия, которыми было отмечено последнее десятилетие Романовых, и те законы, которые демонтировали сельскую общину? Это подтверждение уникальности или отступление от нее (если да, то в каком направлении)?
И последнее: как оценить тот факт, что именно настаивание на цивилизационной особости и исключительности обернулось для России катастрофой 1917 года?
Отечественная элита продолжала придерживаться самобытной цивилизационной стратегии на протяжении всех пореформенных десятилетий, пытаясь синтезировать ее православную компоненту с панславистской. Верхи российского общества не могли примириться с тем, что русская государственность, начиная с Крымской войны, обнаружила упадок своей былой силы – не только в отношениях с другими странами, но и внутри собственной страны. Этот дефицит силы элита надеялась, как и во времена Алексея Михайловича, восполнить посредством укрепления веры. И, как и при Алексее Михайловиче, укрепить веру она рассчитывала посредством завоевания Константинополя и овладения символическим капиталом Византии. Изгнание из нее турок открывало, как казалось, историческую дорогу к объединению православного славянского мира под эгидой России, а тем самым – и дорогу к альтернативной по отношению к Европе цивилизации.
Конечным результатом такой ориентации оказалось, как известно, втягивание России в Первую мировую войну, поражение в которой и вынесет окончательный приговор православно-панславистской цивилизационной стратегии. То была инерционная попытка пролонгации религиозного универсализма первого осевого времени в условиях, когда и сама Россия успела уже далеко продвинуться в освоении принципов второго, подтверждая тем самым основательность притязаний этих принципов на универсальноость, альтернативную религиозной. Так что же все-таки имеется в виду, когда говорится об «уникальной российской цивилизации»? Жизненная реальность или невоплощенные проекты?
Впрочем, то, что не удалось Романовым, а потом и унаследовавшему мечту о Константинополе Временному правительству, через три десятилетия после отречения от престола их последнего представителя России все же удастся частично осуществить. Константинополь ей, правда, так и не достанется, но почти весь славянский мир окажется под ее контролем. Это будет сделано в ходе реализации другого цивилизационного проекта, вошедшего в историю под именем коммунистического. Однако его жизнь окажется по историческим меркам совсем недолгой, а вопрос о цивилизационном выборе и для посткоммунистической России остается открытым.
Краткое резюме Исторические результаты третьего периода
Династии Романовых, принявшей страну после Смуты, предстояло восстановить и укрепить поколебленную государственность, обеспечить внутреннюю стабильность и военно-технологическую конкурентоспособность на внешней арене. Решая эти задачи, Романовым с самого начала приходилось осуществлять преобразования, которые задали вектор развития России на столетия вперед, предопределив как ее последующие достижения, так и трудности, с которыми она столкнется и которые, в конечном счете, окажутся неодолимыми. Следуя принятому нами способу изложения, попробуем на основании всего вышесказанного суммировать те и другие. Начнем, как и раньше, с того, какие из выдвигавшихся на протяжении трех столетий исторические цели Романовым удалось воплотить в жизнь.
1. В течение первой трети отпущенного ей историей срока новая династия осуществила результативные заимствования западных военно-технологических и организационных достижений, что позволило России обрести статус сильной и влиятельной европейской державы. Постепенное и осмотрительное движение в данном направлении, начавшееся при первых Романовых, было завершено радикальным реформаторским прорывом Петра I. Этот прорыв не означал превращения России в европейскую страну. Из Европы избирательно перенимались некоторые плоды ее исторического развития, но методы их пересадки в тогдашнем европейском мире аналогов не имели, как не имела таких аналогов и созданная Петром Государственная система.
Проведенная им принудительная модернизация посредством тотальной милитаризации жизненного уклада была по тем временам беспрецедентной. Милитаризация повседневности не была личным изобретением Петра. Он выступал наследником традиции, сложившейся в монгольской Руси и получившей развитие в послемонгольский период: на нее опирались и московские Рюриковичи, и первые Романовы. Но в превращении милитаризации в инструмент модернизации включавшей форсированное создание индустриального сектора экономики, принудительное преобразование культурного кода элиты и столь же принудительное комплектование постоянной профессиональной армии, у русского реформатора не было предшественников ни за рубежом, ни на родине.
Модернизационный импульс, заданный Петром, позволил России на протяжении долгого времени сохранять и наращивать державный статус, расширять контролируемое пространство, присоединив в ХVIII-ХIХ столетиях почти все западные и юго-западные земли бывшей Киевской Руси, входившие в состав Польши, а также Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Дальний Восток и некоторые другие регионы, и обеспечивать внутреннюю стабильность даже после того, как преемники Петра довольно далеко продвинулись по пути демилитаризации его государственной системы. С серьезными стратегическими вызовами Романовы стали сталкиваться лишь в середине XIX века, когда промышленная революция в Европе выявила нежизнеспособность в новых условиях этой системы и ее обновленных послепетровских моделей. Но она же, продемонстрировав способность к самореформированию, позволила инициировать в конце XIX века вторую в истории страны индустриальную модернизацию и вновь приблизиться по уровню промышленного развития к наиболее развитым странам. Это стало возможным в том числе и потому, что после Петра старый больной вопрос о легитимации заимствованных у иноверной Европы знаний и технологий, а потом и привлеченных иностранных капиталов свою былую остроту утратит для России навсегда.
2. Легитимация культурно чужого, недостижимость которой обернулась при первых Романовых церковно-религиознымрасколом, была обеспечена во многом благодаря тому, что поверхправославной идентичности в петровской России начала укореняться идентичность державно-имперская, ставшая прямым следствием военных успехов Петра. Победы, одержанные над европейцами с помощью заимствованных у них знаний и технологий, оправдывали такого рода заимствования в глазах многих людей, примиряя православное чувство с чужеземными и иноверными «хитростями». Но одновременно эти победы примиряли православное чувство и со светской государственностью, сменившей религиозную государственность Рюриковичей и первых Романовых, попытки которых приспособить ее к новым вызовам стали одной из основных причин церковного раскола.
Укоренившаяся державно-имперская идентичность, которая долгое время подпитывалась новыми военными победами и расширением страны, стала главным источником легитимации самодержавной власти в изменившихся условиях. Этот источник не был единственным. Однополюсная модель властвования могла воспроизводиться лишь потому, что в жизненном укладе населения по-прежнему доминировала «отцовская» культурная матрица. Кроме того, новая династия, утвердившись на престоле как выборная, постепенно стала восприниматься как «природная». Но без опоры на державно-имперскую идентичность устойчивая легитимность самодержавия, а тем более – возвращение ему поколебленного смутой сакрального статуса были бы проблематичны. Об этом свидетельствуют последние десятилетия царствования Романовых: военные поражения и исчерпание возможностей для территориальной экспансии постепенно подрывали и, в конце концов, окончательно подорвали легитимность монархически-самодержавного принципа правления. Однако падение династии не должно заслонять те непреходящие исторические результаты, которые были при ней достигнуты.
Легитимировав европейскую науку и европейскую образованность, Романовы частично продвинули Россию во второе осевое время – при всем том, что большая часть ее населения еще не успела закрепиться и в первом. Освобождение научной истины от религиозного контроля и признание ее универсального статуса вывели страну, а точнее – ее элиту, из средневекового состояния. С опозданием, по сравнению с Европой, на полтысячелетия в России возникли университеты, а также начала складываться система школьного образования. Всеобщей, охватывающей все население страны, система эта при Романовых так и не стала. Но до них ее в России не было вообще.
3. Движение во второе осевое время осуществлялось и по Другим направлениям. Наметившееся еще при первых Романовых отчленение абстрактной идеи государства от личности правителя сопровождалось универсализацией принципа законности – он начинал распространяться на те сферы жизни, которые раньше регулировались религиозно освященным обычаем. Если до Петра I закон использовался главным образом для восполнения ослабленной силы обычая (Алексей Михайлович, напомним, поставил под юридическую защиту власть и неприкосновенность царя), то в руках Петра закон стал и транслятором реформаторской воли власти в самые разные сферы жизнедеятельности и человеческих отношений.
При этом универсальность юридического принципа подчеркивалась как тем, что самодержавная власть начала легитимировать себя не от имени Бога, а от имени закона, так и декларациями – не очень, впрочем, громкими и частыми – о том, что законопослушание обязательно не только для подданных, но и для самого царя.
Разумеется, при сохранении неограниченной самодержавной власти это были всего лишь декларации: вплоть до Октябрьского Манифеста 1905 года самодержец был вправе менять юридические нормы по своему усмотрению, а его полномочия в отношении подданных законодательно не регламентировались вообще. Это оставляло широкие возможности для произвола, которыми Петр пользовался сполна. Однако в светском государстве игра без правил еще меньше совместима с упорядоченностью жизни, чем в государстве религиозном, где действия правителя воспринимаются как имеющие божественную санкцию. Тем более если речь идет не о милитаризованной петровской государственности, а о государственности демилитаризованной, каковой она становилась при преемниках Петра. Поэтому при сохранении формально неограниченной самодержавной власти происходило ее реальное постепенное самоограничение, что наиболее наглядное выражение получило в постоянных и неотменимых («на вечные времена») законах Екатерины П. Показательно и то, что попытки Павла I отменить их стоили ему жизни и что в дальнейшем отечественные правители юридического произвола старались не допускать.
Умерщвление Павла стало и последним противозаконным смещением с престола. Убиенный император оставил после себя утвержденный им закон о престолонаследии, который не только упорядочивал процедуру получения верховной власти, но и частично эту власть ограничивал, лишая царя права назначать себе преемника по своему усмотрению. Движение от произвола к законности было медленным и зигзагообразным, но оно тем не менее просматривается достаточно отчетливо.
Можно сказать, что к XIX веку синтезирование разнородных принципов – самодержавного и юридического – в России Романовых состоялось. Оно заключалось в том, что самодержец, оставаясь монопольным субъектом законодательства и не будучи в своих полномочиях юридически ограниченным, действовал в сложившемся правовом поле, очерченном при Николае I в Своде законов. Случались при этом и отклонения, самое известное из которых – передача крестьянам части помещичьих земель при отмене крепостного права, что нарушало неотчуждаемое право помещиков на их земельную собственность, провозглашенное в екатерининской жалованной грамоте дворянству. Однако это отступление от законодательной нормы под понятие самодержавного произвола не подпадало и таковым мало кем из современников воспринималось: крестьянская реформа была проведена после многолетних согласований с помещиками, получившими за утраченные земли немалые деньги.
Синтезирование изначально разнородных самодержавного и юридического принципов имело, однако, свою историческую границу: оно не могло быть доведено до законодательного ограничения полномочий самодержавия, т.е. до универсализации принципа законности в строгом и полном смысле этого слова. Тем не менее под давлением обстоятельств такое ограничение в 1905 году произошло, что означало фактическое завершение политической биографии русского самодержавия еще до формального отречения Николая II от престола. То, что Романовы довели принцип законности до универсальности, поставившей под сомнение универсальность самодержавия, – это тоже результат их трехсотлетней государственной деятельности. Но необратимым он, как вскоре выяснится, не станет и от попятного движения после падения династии страну не застрахует.
4. За три столетия своего правления Романовы продвинули Россию во второе осевое время и в отношении гражданских прав населения. Завершив милитаризацию жизненного уклада страны посредством окончательного закрепощения крестьян в XVII веке и фактического распространения его на все сословия при Петре I, обеспечив благодаря этому ее военно-технологическую конкурентоспособность, Романовы начали медленно, на ощупь осуществлять ее демилитаризацию: большой демилитаризаторский цикл растянулся на весь послепетровский период. То было освобождение не только от петровской, но и от старомосковской традиции: максимально использовав милитаризацию для решения прежде неразрешимых проблем, Романовы впервые в отечественной истории начали ее преодоление. То было диктовавшееся внутренними и внешними вызовами движение от узаконенного Петром тотального бесправия к узакониванию прав – сначала как сословных привилегий, а потом и как универсальных, т.е. всеобщих и равных.
Романовым не удалось завершить эту историческую работу. Но они продвинулись в ней достаточно далеко, учредив внесословный суд (при Александре II), избираемые населением институты земского самоуправления (при нем же), а потом (при Николае II) и парламентское представительство в виде Государственной думы. Во всех этих случаях принцип универсальности прав не был воплощен сколько-нибудь последовательно: права, в том числе и избирательные, распространялись на все сословия, но – не в одинаковой степени. Однако реализация самого принципа тем не менее происходила, что закладывало новую для страны традицию правовой государственности.
Да, традиция эта не успела укорениться настолько глубоко, чтобы заблокировать, как и в случае с законностью, попятное движение. Но, во-первых, попятное движение в советский период заключалось в выхолащивании принципов законности и права, а не в отказе от них. Если избранный маршрут исторического развития стратегически верен, то обратимость исторических результатов может быть только относительной. А во-вторых, даже слабая традиция при этом рано или поздно актуализируется и возрождается, в чем мы могли убедиться после падения коммунистического режима.
5. В России Романовых произошел коренной сдвиг в отношении самодержавия к личностным ресурсам подданных и способам их мобилизации. Местничество, при котором занятие гражданских и военных должностей определялось не столько индивидуальными способностями и заслугами, сколько происхождением, было отменено еще в XVII столетии. Петровская «Табель о рангах» пошла еще дальше, открыв доступ в элиту представителям низших слоев населения. Принцип личных достоинств и заслуг не размывал жесткие сословные перегородки, но он позволял людям недворянского происхождения претендовать на получение дворянства, и они такой возможностью старались воспользоваться.
Этот принцип не оставлял места для старомосковской идеологии и практики «беззаветного служения», при котором частные интересы считались нелегитимными, а индивидуальные достижения растворялись в достижениях общих, объяснявшихся, в свою очередь, благоволением небес к государю и к богоспасаемому «Третьему Риму». В милитаристской государственности Петра I принцип личной заслуги сочетался еще с обязательностью государевой службы: за ее границы легитимация частного интереса не распространялась. «Рабы государевы», в отличие от «государевых холопов» Московской Руси, получили право (речь, разумеется, идет только о дворянстве) на признание и вознаграждение персональных заслуг и личную славу, оставаясь подневольными и всецело зависимыми от воли самодержца. Но уже через несколько десятилетий, во времена Петра III и Екатерины II, само служение государству или отказ от него стали частным делом каждого дворянина. И эта возможность выбора при поощрении индивидуального самоутверждения не сопровождалась ни снижением качества государственной элиты, ни оттоком из нее личностных ресурсов. То и другое могло иметь место, но было не следствием дворянских прав, а результатом кадровой политики того или иного самодержца.
Раскрепощенное дворянство, постепенно приобщаясь к европейской культуре и образованности (из принудительного это приобщение довольно быстро превратилось в добровольное и сознательное), выдвинуло из своей среды крупных государственных деятелей и полководцев, под руководством которых Россия одержала целый ряд военных побед, в том числе и над сильнейшей в Европе армией Наполеона. Вместе с тем освобожденное от обязательной службы дворянство нашло себе новое, неслужебное поприще для самовыражения. В результате отечественная культура – благодаря широкому притоку в нее личностных ресурсов – приобрела мировое значение и влияние.
Если же говорить о непосредственно государственной, общественной и хозяйственно-экономической деятельности, то в России Романовых отчетливо выявилась зависимость между активизацией «человеческого фактора» и объемом гражданских прав и свобод. И это относилось не только к дворянству. Разночинцы (учителя, врачи и другие специалисты), привлекавшиеся для работы в земствах, проявляли, как и дворяне, тем больше заинтересованности в ней, чем меньше земства подвергались бюрократическим стеснениям. Купцы и промышленники действовали тем энергичнее и успешнее, чем больше освобождались от государственных ограничений. Оброчные крепостные крестьяне, получив возможность торговой и промысловой деятельности в городах, обнаруживали в себе предпринимательские дарования и, добившись успеха, выкупали себе волю и становились основателями купеческих династий. «Столыпинские помещики», выделившиеся из общины и освободившиеся от ее предписаний, хозяйствовали, как правило, успешнее, чем в пору пребывания в общине. Наконец, иностранный бизнес, получивший гарантии своих прав, устремился в конце XIX века в Россию и во многом обеспечил ее быстрое промышленное развитие.
За время правления Романовых страна значительно продвинулась в том, что касалось мобилизации человеческого капитала в разных видах деятельности и его качественного обогащения. Особенно заметно это проявилось в последние десятилетия их царствования, когда осталось в прошлом крепостное право. Но именно тогда же выявились системные ограничители, которые дальнейшее движение блокировали. Более того, впечатляющие результаты, достигнутые страной, не только не способствовали решению системных проблем, но и усугубляли их, ибо историческое развитие долго осуществлялось в обход или поверх них. Их обнаружившаяся нерешаемость – тоже результат правления Романовых, и нам осталось лишь, суммируя изложенное выше, эти проблемы перечислить.
1. Все достижения и завоевания Романовых были обеспечены не благодаря преодолению раскола между государственной и догосударственной культурой, а благодаря его углублению. Европеизация дворянской элиты превратила ее представителей в глазах народного большинства из господствовавших иных, но все же своих, в культурно чужих. В милитаристском государстве Петра I, находившемся в состоянии постоянной войны, этот раскол еще не воспринимался как конфликт интересов. Но по мере осуществления послепетровской демилитаризации, сопровождавшейся еще большей вестернизацией элиты, он начал восприниматься именно так.
Раскрепощение дворянства, освобождение его от обязательной службы стало в этом отношении этапным событием. Восстание Пугачева показало, что прежнее относительно мирное сосуществование «верхов» и «низов» в расколе с новыми дворянскими привилегиями совместить непросто, что само это сосуществование становится проблематичным. В милитаристской государственности оно обеспечивалось принудительной разверсткой обязанностей: помещик служит царю, а крепостной крестьянин – помещику, но тем самым и царю тоже. Раскрепощение дворянства подтачивало базовые основания системы. Последовавшее за ним почти через сто лет раскрепощение крестьян способствовало этому еще больше. Государство лишилось главного управленческого звена в деревне в лице помещика, но примирить с последним крестьянина ему не удалось, потому что сохранявшееся право дворян на земельную собственность отторгалось культурным кодом крестьян, не было в их представлении легитимным.
Чем более глубокой становилась демилитаризация, чем дальше продвигались Романовы по пути необходимых реформ, тем ближе подступал к политической поверхности социокультурный раскол и тем резче проявлялся он как конфликт интересов. Он обнаруживал себя на местных уровнях в земствах, и правительству приходилось сужать в них и без того ограниченное крестьянское Представительство. Он обнаруживал себя и на общенациональном уровне в Государственной думе, когда в ней обсуждался земельный вопрос, и властям опять-таки ничего не оставалось, как незаконно изменить избирательный ценз в пользу помещиков. Но тем самым лишь демонстрировалась непреодолимость раскола политико-правовыми, нереволюционными средствами. Потенциальная же предрасположенность значительных слоев населения к революционной смуте обусловливалась и тем, что европеизированная элита оставалась для народного большинства культурно чужой.
2. Европеизация дворянства, вызвав к жизни новые линии раскола, не устраняла прежнего раскола между государственной и догосударственной культурой, а накладывалась на него, придавая ему более четкие и зримые очертания. После петровских преобразований он стал расколом, фиксировавшемся в языке, одежде, внешнем виде, во всем образе жизни. При этом большинство населения сохраняло встроенную в государство архаичную общинно-вечевую организацию, с государственным укладом несовместимую. Такая организация исключала освоение и укоренение в сознании абстракций государства и общего интереса, отличного от интересов изолированных друг от друга локальных общинных миров.
Парадоксальность отечественного варианта исторического развития заключалась в том, что государство вынуждено было общинно-вечевую организацию не только сохранять, но и укреплять – сначала в фискальных целях, а потом ради блокирования массовой пролетаризации, ставшей одной из причин революционных потрясений в Европе. Ход событий покажет, что тем самым оно сохраняло и укрепляло низовой институт грядущей смуты. Во времена Пугачева ее еще можно было подавить – как благодаря тому, что созданная Петром I постоянная профессиональная армия пожизненно изолировала солдат от населения, так и благодаря тому, что у крестьянско-казачьего протеста не было еще надежной массовой опоры в городских центрах. Но после того, как армию пришлось реформировать, сделав срок службы относительно небольшим, а индустриализация конца XIX – начала XX века вызвала широкий приток крестьян в города, государство оказалось от смуты незащищенным. Стратегически ненадежной оказалась и новая версия милитаризации страны, утвердившаяся при последних трех Романовых и призванная военно-полицейскими средствами оборонять государство от общества. С приливами, отливами и новыми приливами смута накатывалась на Россию, а традиционные общинно-вечевые институты становились ее организующими центрами, трансформируясь в советы рабочих, крестьянских, солдатских депутатов и начиная открыто претендовать на власть.
Будучи по своей природе догосударственными и даже антигосударственными, сами по себе они были не в состоянии создать государственность, отличную от существовавшей. Но петровская и послепетровская европеизация не только углубила социокультурный раскол между элитой и народным большинством. Приток в страну самых разных идей из-за рубежа способствовал появлению в России социалистической интеллигенции, идеалы которой на какое-то время сомкнулись с ценностями общинно-вечевой культуры. Предубеждение против частной собственности, законсервированное в передельной крестьянской общине и воспроизводившееся сельскими переселенцами в городах, совпало с антисобственническим пафосом российских социалистов. Альтернатива этому союзу отечественной архаики и европейского социализма, выдвинутая Столыпиным и предполагавшая создание в деревне частнособственнического крестьянского уклада, всероссийскую смуту предотвратить не смогла. Можно говорить о том, что осуществлению такой альтернативы помешали мировая война и неудачи в ней России. Но верно и то, что само ввязывание России в эту войну не в последнюю очередь было продиктовано стремлением предотвратить смуту.
3. Чтобы удерживать расколотую страну в состоянии политической консолидации, у самодержавной власти в послепетровский период были две базовые опоры: державно-имперская идентичность и сама самодержавная власть, устойчивость которой обусловливалась «отцовской» культурной матрицей. Но эти опоры могли гарантировать стабильность и развитие не порознь, а только дополняя друг друга: ослабление одной из них неизбежно сказывалось на прочности другой. Между тем ослабление консолидирующего потенциала державно-имперской идентичности стало фактом уже к середине XIX века, а еще через несколько десятилетий потенциал этот оказался полностью исчерпанным.
Державно-имперская идентичность могла скреплять расколотый социум лишь до тех пор, пока одним из основных отличий России от других стран считалась ее военная непобедимость. В свою очередь, такое восприятие могло обеспечивать легитимность государственной власти лишь при условии, что та подтверждала эту непобедимость новыми военными успехами, в том числе – и сопровождавшимися присоединением новых земель. Поэтому столь острой и болезненной была реакция на поражение в Крымской войне – первое в послепетровской России фиаско на своей территории. Историки до сих пор спорят о том, почему Александр II мотивировал отмену крепостного права сверху угрозой его ликвидации снизу – ведь явных симптомов этого в стране тогда не наблюдалось. Предлагаем еще одно объяснение: крепостное право было отменено в том числе и потому, что власть осознала невозможность сохранять политическое единство расколотой страны и свою собственную легитимность, опираясь на державно-имперскую идентичность. Гарантировать непобедимость страны власть больше не могла, а при поражениях такая идентичность подрывает, а не укрепляет властные устои. Поэтому Романовы, начиная с Александра II, начали движение по пути преодоления социокультурного раскола.
Идентичность эта, однако, никуда не исчезла; она заставляла считаться с собой и царя-освободителя, и его преемников. Все они старались избегать новых войн, понимая их опасность. Но избежать их удалось только Александру III. Втягивание в них поначалу всегда сопровождалось всеобщим патриотическим воодушевлением, что сулило – в случае победы – упрочение легитимности верховной власти и приращение ее консолидирующих ресурсов. Поражения же эту легитимность подрывали, что в стране, остававшейся расколотой, грозило смутой, которая и вспыхнула после унизительных неудач в Русско-японской войне. В свою очередь, смута понуждала самодержавие отступать от собственной природы, ограничивая свои полномочия законом, учреждая рядом с собой парламентский институт народного представительства и предоставляя населению политические права. Но это означало,что верховная власть отказывается от своей миссии монопольного интегратора расколотого общества, предоставляя ему возможность преодолевать раскол самому под ее, власти, патронажем. Однако расколотое общество такие задачи решать не в состоянии именно потому, что оно расколотое.
Дворянство не могло поступиться правом частной собственности на землю, а крестьянство в подавляющем большинстве не готово было это право за помещиками признать. Однако и само дворянство, вкусившее плодов европейской культуры, давно уже сословного единства не демонстрировало. Одна его часть со времен декабристов обнаружила склонность к преобразованию России в европейскую страну, т.е. без самодержавия наверху и средневековых общинных порядков внизу. Другая полагала, что без самодержавия стране не обойтись, но при этом тоже не была единой в представлениях о самодержавной политике: должна она способствовать дальнейшей европеизации или, наоборот, препятствовать ей, обеспечивая сохранение самобытных устоев. Учитывая, что к концу XIX века расчленение образованного слоя – дворянского и разночинного – стало еще более дробным и что в нем появились приверженцы социализма, тоже понимаемого по-разному, можно сказать: если перспективы вывода страны из раскола в начале XX столетия и были, то весьма проблематичные.
Решение этой исторической задачи требовало глубоких реформ, которые не могли быть осуществлены без консолидации элиты и значительных слоев населения вокруг общего реформаторского проекта. Однако такой консолидации, как показал опыт Столыпина, препятствовали труднопреодолимые барьеры. В России Романовых сформировалась образованная элита с богатыми личностными ресурсами. Но в культурно расщепленном социуме раскол проник и в саму элиту. В этой ситуации оказались тщетными попытки самодержавия, начало которых восходило еще к временам Николая I и графа Уварова, опереться на православную идентичность, идеологически синтезировав светскую государственность Петра I с религиозной народной монархией времен Московской Руси. У власти оставалось лишь два выхода: либо продолжение реформ без твердой уверенности в их успехе, либо консолидация в войне при опоре на идентичность державно-имперскую. Альтернативой тому и другому варианту была революция, выводящая страну из раскола посредством насильственного отсечения одной из сторон расколотого целого.
Правительство, подталкивавшееся наиболее консервативными панславистскими группами элиты, выбрало войну, которая на время сплотила и элиту, и население. Но поражения в ней оттолкнули население и от царя, и от элиты, открыв дорогу к власти тем, кто выступал за «поражение своего правительства» и «превращение империалистической войны в гражданскую». Неудачи в двух войнах подряд окончательно лишили Николая II опоры в державно-имперской идентичности. Его прежние уступки, ограничившие самодержавие законом и волей Государственной думы, подорвали его опору и в «отцовской» культурной матрице: ограничения власти отца другими институтами в ней не предусмотрены. А то и другое,
вместе взятое, привело к тому, что единственная политическая скрепа, удерживавшая расколотую страну в состоянии государственного единства, таковой быть перестала.
4. Решая задачи, встававшие перед страной, поверх раскола и порождавшихся им проблем, искусственно консервируя и даже углубляя его, Романовы невольно способствовали тому, что после их падения в России установился не буржуазный, как происходило после антиабсолютистских революций в Европе, а советско-социалистический строй. При замораживании личностных ресурсов большинства населения в крепостном помещичьем хозяйстве и сельской передельной общине развитая буржуазно-капиталистическая среда возникнуть в стране не могла. Не могла поэтому глубоко укорениться и культура индивидуальной экономической инициативы и предпринимательства. Или, что то же самое, культура интенсивного хозяйствования.
Эта культура не получила широкого распространения не только среди крестьян, но и среди помещиков. Ее развитие блокировалось в их среде дворянской монополией на использование дарового крепостного труда и правительственными льготами на промышленную и торговую деятельность, которые предоставлялись помещикам ради сохранения и укрепления дворянского сословия как главной социальной опоры самодержавия. Поэтому большинство помещиков после отмены крепостного права не обнаружило способностей к предпринимательской деятельности, а те, кто обнаружил, оказались в конфликте с большинством крестьян, с ценностями которых частная собственность на землю была несовместима. В таком же положении оказались впоследствии и выделившиеся из общины крепкие крестьянские хозяйства. Эти относительно немногочисленные сельские предпринимательские группы – помещичьи и крестьянские – переходили от экстенсивного хозяйствования к интенсивному, к широкому использованию удобрений и ввозившихся из-за границы сельскохозяйственных машин; они производили почти всю товарную продукцию страны. Но в расколотом обществе, основной массе которого ценности экономической эффективности были чужды, они не могли претендовать на признанное социальное лидерство.
Не могла всерьез претендовать на него и городская торгово-промышленная буржуазия, что наглядно продемонстрировал полный провал ее партий на первых выборах в Государственную думу. За время правления Романовых этот слой укрепил свои позиции:
повысился его социальный статус, увеличилась степень свободы, были легитимированы его частные интересы. Однако его положение по отношению к власти и бюрократии по-прежнему оставалось подчиненным: самодержавие относилось к бизнесу инструментально, используя личностные ресурсы предпринимательского сословия лишь в той мере, в какой это было необходимо для государственных нужд и не подрывало господствующего положения дворянства и чиновничества.
Вплоть до падения Романовых частный бизнес чувствовал себя зависимым от государства, его покровительственной таможенной политики и его заказов, без которых в условиях узкого внутреннего рынка выжить было непросто. Не мог он претендовать и на культурное лидерство: предпринимательская этика индивидуального успеха отторгалась не только крестьянским большинством, но и европеизированной дворянской и разночинной интеллигенцией, искавшей контакт с ценностями сакрализируемого ею «народа». В такой общественной и культурной атмосфере городские буржуазные слои, как и сельские, не в состоянии были создать среду, которая была бы способна преодолеть инерцию экстенсивного хозяйственного развития страны. Частичную интенсификацию, прежде всего за счет приобретения иностранной техники, им обеспечивать удавалось. Но технологические заимствования происходили обычно с большим запозданием и конкурентоспособность отечественного бизнеса по отношению к европейскому в целом не увеличивали. Поэтому российская буржуазия была заинтересована в военной экспансии государства и присоединении новых территорий, что гарантировало бы сбыт ее продукции. Но это означало воспроизведение в новых условиях традиционной для страны экстенсивной модели развития: оставаясь доминирующей в сельском хозяйстве, она переносилась и на промышленность.
Российская буржуазия, в отличие от европейской, не была мотивирована на собственные хозяйственные инновации, связанные с большими рисками, а значит – и на осуществление модернизационных сдвигов. На это в стране не был мотивирован никто. Поэтому две промышленные модернизации, которые имели место в России Романовых, проводились государством. Обе они были догоняющими, основанными на импорте технологических достижений ушедших вперед европейских стран. Обе были форсированными и стимулировались военно-техническим отставанием, становившимся для страны катастрофическим: первой из них, петровской, предшествовали неудачные походы русской армии в Крым, а второй, проведенной в конце XIX – начале XX века, – поражения в Крымской, а потом и в Русско-японской войне. Но ни первая, ни вторая внутренних источников и стимулов инноваций не создали и прорыву от экстенсивного типа хозяйствования к интенсивному не способствовали. И не только потому, что не формировали субъектов инноваций, но и потому, что были верхушечными, подавляющее большинство населения не затрагивавшими.
Это были модернизации в расколотой стране, которые раскол не только не преодолевали, но и углубляли. Напомним, что вторая из них сочетала насаждение в городах новейшей промышленности с укреплением архаичных общинных порядков в деревне и нажимом на нее ради наращивания – в интересах все той же промышленной модернизации – зернового экспорта. Результатом же стало резкое обострение наложившегося на культурно-ценностный раскол конфликта интересов, а результатом такого обострения – всероссийская смута, заставившая самодержавие пойти одновременно и на демонтаж общины, и на ограничение своих властных полномочий. Но такого рода меры, подрывавшие системные устои, лишь консолидировали остававшееся в общинах крестьянское большинство, способствовали его сплочению не только против помещиков, но и против выделившихся из общины крестьянских хозяйств. Кроме того, эти меры переводили раскол на политический уровень, в стены Государственной думы.
Возможно, двадцати мирных лет, которые запрашивал Столыпин для своих реформ, ему и стране хватило бы, чтобы переломить историческую инерцию и сделать преобразования необратимыми. Но он и страна их не получили, и мы можем говорить лишь о том, что раскол российского общества в начале XX века преодолен не был, а его последствия оказались для государства катастрофическими. Мы вправе утверждать также, что осуществить поворот от экстенсивной экономики к интенсивной Романовым в ходе их долгого правления так и не удалось, как не удалось стимулировать и появление субъектов инноваций. Страна с незавершенной и зашедшей в тупик экономической европеизацией – это тоже один из исторических результатов их деятельности.
5. Избранный Романовыми способ развития посредством европеизации дворянства означал не просто углубление социокультурного раскола между элитой и основной массой населения. Фактически он означал разрыв с идеологией «Третьего Рима», который
ни в каких чужеземных и иноверных заимствованиях не нуждался уже в силу своей богоизбранности. Поэтому Романовым почти с самого начала пришлось искать основания для нового, пользуясь современным языком, цивилизационного проекта, который мог бы идеологически нейтрализовать заимствование инокультурных «хитростей» посредством включения страны в более широкую общность православных народов при политическом лидерстве Москвы. Так в русскую жизнь вошла идея освобождения от турок Византии и всего находившегося под их владычеством православного мира, которое должно было увенчаться воцарением московского государя в Константинополе.
Эту идею Романовы пронесли через все свое трехвековое царствование. Она оформлялась в разные цивилизационные проекты – религиозные и светские, ни один из которых осуществить не удалось. Такая же участь постигла в конечном счете и «неконстантинопольский» проект Священного союза, выдвинутый Александром I и предполагавший формирование общехристианской цивилизационной общности под эгидой России. Но уже сам факт такого перманентного проектирования свидетельствовал о цивилизаци-онной несамодостаточности России. Чтобы обрести цивилизационную идентичность, недостаточно ни громких военных побед, ни огромной и постоянно приращиваемой территории. Для этого нужно иметь фиксированное место не только в мировом пространстве, но и в мировом времени, для чего, в свою очередь, необходим и соответствующий символический капитал.
У России, принявшей веру от греков, побежденных и подчиненных впоследствии иноверцами-турками, такого капитала не было. Его приходилось искать вовне. Иными словами, чтобы обрести свое место в мировом историческом времени, нужно было приобрести ту часть мирового пространства, овладение которой символизировало бы укорененность в мировом времени. Византия была такой частью. Но овладеть ею России не удалось. Ее притязания на Константинополь закончились втягиванием в мировую войну и обвалом государственности.
Вопрос об обретении цивилизационной идентичности вставал перед Россией Романовых тем острее, чем дальше они продвигались – добровольно или вынужденно – по пути европеизации, переходя от заимствования научных знаний и технологий к заимствованию принципов европейского жизнеустройства. Потому что эти принципы плохо соотносились с основополагающими принципами самодержавия – главного и единственного политического инструмента, скреплявшего расколотый социум. Пока цивилизационные проекты представляли собой различные комбинации силы и веры, а закон был лишь вспомогательным средством защиты власти от бесправных подданных, находившимся под контролем самодержца, они фундамент государственности не затрагивали. Но в нем образовались трещины, когда при Екатерине II появились законы, отмене не подлежавшие и государевой воле неподвластные. Инородным телом в самодержавной государственности были и защищенные законом гражданские права. Они были инородными уже тогда, когда предоставлялись как сословные привилегии, а тем более становились таковыми по мере распространения на все население и доведения до прав политических.
Послепетровские цивилизационные проекты Романовых призваны были идеологически интегрировать в российскую государственность европейские цивилизационные принципы второго осевого времени, придававшие закону и правам личности универсальное значение. Но универсальность закона и права вступала в неразрешимый конфликт с универсальностью самодержавия. Гибридные политические идеалы, соединявшие самодержавно-авторитарный принцип с либеральным и демократическим, ставили эту универсальность под сомнение.
Их воплощение в жизнь, европеизируя Россию, в европейскую цивилизацию ее не вводило. И не только потому, что подавляющее большинство населения страны к началу XX столетия не обосновалось еще в первом осевом времени, не освоило письменную культуру и руководствовалось в своей повседневной жизни обычаем, а не законом. Европейская цивилизация двигалась от примата государства к приоритету личности, права которой узаконивались как естественные, данные человеку от рождения. Романовы же пытались соединить права личности с верховенством государства в лице самодержавной власти. Поэтому эти права считались не естественными, а дарованными. И поэтому же самодержавие, на исходе своего исторического срока юридически себя ограничив и изъяв слово «неограниченное» из законодательства, сохранило за собой статус самодержавия. Но то были паллиативы, свидетельствовавшие о том, что страна, заимствуя цивилизационные принципы европейского жизнеустройства, пыталась сохранить и свою собственную цивилизационную идентичность, которую, однако, так и не сумела обрести.
После того, как обнаружили свою несостоятельность светские проекты Екатерины II и стала осознаваться стратегическая ненадежность общехристианского Священного союза, у Романовых оставался для цивилизационного проектирования единственный ресурс – православная вера. Поэтому они стремились возродить ее былую государственную роль, переодевая светскую государственность Петра I в старомосковские религиозные одежды. Но вера могла обеспечить России особый цивилизационный статус, т.е. укоренить ее в мировом историческом времени, только в случае объединения под ее патронажем всех православных народов и овладения символическим капиталом находившейся под властью османов Византии. Это означало ставку на войну, выиграть которую России было не суждено. Неудачи же в войне привели к крушению последнего цивилизационного проекта Романовых и выявили исчерпанность исторических ресурсов, которыми располагала отечественная самодержавно-монархическая государственность.
Часть IV Советская Россия: возрождение державности и четвертая катастрофа
Советский политический режим, установившийся в стране в результате большевистского переворота 1917 года, просуществовал без одного года три четверти века – по сравнению с Московией Рюриковичей и империей Романовых очень недолго. Но за это короткое время коммунистические руководители достигли того, о чем прежние правители могли лишь мечтать. Победа в Великой Отечественной войне не только восстановила былой военный статус страны, поколебленный несколькими поражениями в последние десятилетия царствования Романовых, но и существенно его преумножила.
Советский Союз стал одной из двух мировых сверхдержав. Он контролировал огромную территорию и имел сателлитов почти на всех континентах. Советские войска стояли в Восточной и Центральной Европе, охраняя промосковские коммунистические режимы. Без согласия СССР не мог быть решен ни один сколько-нибудь существенный вопрос мировой политики – при том, что западные страны после войны консолидировались, в том числе организационно, и перед лицом общего противника впервые в истории стали действовать солидарно. Не пройдет, однако, и пяти десятилетий после победного 9 мая 1945 года, и советская сверхдержава навсегда уйдет в прошлое. А вместе с ней станет достоянием истории и Российская империя – в том виде, в каком она складывалась с середины XVII столетия. Власть первого постсоветского правителя Бориса Ельцина распространялась на территорию, не намного превышавшую ту, которой располагала Россия в момент восшествия на престол царя Алексея Михайловича.
Обвал советской сверхдержавы не имел аналогов в мировой истории. Ни одна внутренняя, т.е. не обладавшая заморскими территориями, империя в мирное время не распадалась – этому всегда предшествовали поражения в больших войнах. То был распад, обусловленный попытками обновления коммунистической государственной системы. А они, в свою очередь, были обусловлены тем, что советские руководители поняли: система эта, позволяя воспроизводить внутреннюю политическую стабильность, не обеспечивает развития и обрекает страну на беспомощность перед новыми мировыми вызовами.
Внешне закат советской империи напоминал закат империц Романовых: в обоих случаях речь шла как бы о возвращении к Началу, к трансформации однополюсной модели властвования в двухполюсную. Романовы, правившие на первых порах вместе с Земским собором, впоследствии его устранили, восстановив выборный институт народного представительства – в существенно обновленном виде и с иными полномочиями – в последнее десятилетие своего правления. Большевики, легитимировавшие захват власти поддержкой контролировавшегося ими большинства Всероссийского съезда советов, делегаты которого избирались свободно и на альтернативной основе, в дальнейшем тоже реанимировали на свой лад однополюсную модель и в конце концов тоже вынуждены были ее демонтировать. Советская власть, начинавшаяся съездами советов, ими и завершила свое историческое существование – с той лишь разницей, что теперь они назывались съездами народных депутатов.
Уже одно это внешнее сходство заставляет настороженно относиться к попыткам вынести советский период за рамки отечественной истории, рассматривая его как противоестественное отклонение от нее. И дело не только в том, что однополюсная модель властвования придумана не большевиками, а сложилась задолго до них, как задолго до них возник и прецедент отторжения альтернативной ей модели двухполюсной. Дело и в том, что и коммунистическая, и докоммунистическая государственные системы обнаружили свою нетрансформируемость из однополюсных в двухполюсные: в обоих случаях попытки таких преобразований сопровождались системными обвалами. А следовательно, в политической и культурной природе этих систем, наряду с существенными различиями, было и нечто общее.
Различия между двумя разновидностями отечественной государственности лежат на поверхности и давно уже зафиксированы как апологетами советского режима, так и его непримиримыми критиками. Те и другие расходятся в оценках этого режима, а не в описании его особенностей. Те и другие усматривают в нем разрыв с отечественной политической и культурной традицией. И оснований для такого рода констатации более чем достаточно.
Досоветская государственность была религиозно- православной. Даже Петр I, придавший ей светские формы, на православную идентичность своих подданных не покушался и от веры не отрекался: он и церковь посещал, и в церковном хоре любил петь.
Советская государственность – не просто светская, а откровенно демонстративно атеистическая, поставившая на место религиозной веры коммунистическую идеологию.
Досоветская государственность развивалась в направлении узаконивания права частной собственности – сначала как привилегированного права отдельных сословий, а потом и как всесословного. Советская государственность ликвидировала сам институт частной собственности, объявив его антинародным, эксплуататорским и исторически изжитым.
Досоветская государственность эволюционировала в сторону демократически-правовой, дойдя до предоставления населению не только экономических, но и политических прав, создания института парламентского типа и юридического ограничения самодержавной власти. Советская государственность основывалась на имитации законности и права при всевластии коммунистической партии, деятельность которой юридическими нормами не регулировалась и им не подчинялась.
Досоветская государственность ко времени захвата власти большевиками прошла более чем полуторавековой путь демилитаризации. Советская государственность довела милитаризацию повседневности до такой всеохватности и глубины, каких российская история до того не знала.
Досоветская государственность опиралась на европейски образованную дворянскую элиту, сформировавшуюся после реформ Петра I. Советская государственность укрепилась в результате самой радикальной в отечественной истории смены элиты и ее комплектования из представителей низших классов – главным образом из крестьян.
Можно назвать и другие отличия, и в дальнейшем нам придется их касаться. Но все они, за исключением кардинально изменившейся роли религии, обнаруживаются лишь при сравнении советской России с Россией послепетровской и утрачивают рельефность при сопоставлении с Россией петровской или допетровской Московией. Показательно, что из всех российских самодержцев Сталин отдавал безоговорочное предпочтение Петру I и Ивану Грозному – именно о них было предписано им создать кинофильмы. Эти персонажи не просто выводились из-под обязательной идеологической критики Царизма, но и возводились в ранг политических предшественников коммунистического лидера. В послепетровской России он такие образцы и ориентиры не находил и не искал. Сталин мог вспоминать о полководческих талантах Суворова или Кутузова, но ему и в голову не приходило создавать культ Екатерины II, Павла I или Александра I, при которых эти полководцы одерживали свои выдающиеся военные победы, нередко сопровождавшиеся значительными территориальными приобретениями. Советская государственность, утвердившись на резком разрыве с послепетровской Россией, восстанавливала преемственную символическую связь с государственностью петровской и допетровской.
Конечно, поиск такого рода опор в идеологически отвергнутом самодержавии в значительной степени диктовался прагматическими соображениями. Петр I был символом радикального разрыва с прошлым и столь же радикальной военно-технологической модернизации. Иван Грозный, олицетворял противостояние единоличной власти боярству, что для Сталина, склонного к перманентным репрессивным чисткам коммунистической элиты, всегда было политически актуально1. И тем не менее этот выбор исторических образцов означал и нечто большее.
Единоличными неограниченными властителями – за исключением Николая II – являлись и послепетровские отечественные самодержцы. Но при них всеобщее бесправие и самодержавный произвол постепенно становились достоянием истории, уступая место юридическому правопорядку. Большевикам, учитывая их доктринальное предубеждение против «буржуазной законности», этот опыт был ни к чему. Между тем в допетровский и петровский периоды не было еще ни отвергавшейся большевиками частной собственности, ни других законодательно охранявшихся прав. Зато эти периоды были ознаменованы не только перетряхиванием элиты, но и ее пополнением выдвиженцами из низов, что широко практиковалось Петром, а при Иване Грозном, равно как и при его предшественниках, и вовсе составляло, можно сказать, основу «кадровой политики». Эти периоды отмечены также движением к тотальной милитаризации жизненного уклада. Таким образом, в распоряжении Сталина были не только заимствованные марксистские формулы, но и отечествен-
1 Если в установлении политической преемственности с Иваном Грозным у Сталина среди большевиков предшественников не было, то ориентация на Петра I была свойственна их лидерам изначально. Уже через несколько месяцев после захвата власти Ленин призывал «не жалеть диктаторских приемов» для ускорения модернизации России, подобно тому, как «Петр ускорил перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» (Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 36. С. 301).
ная государственная традиция, на которую он мог опереться. Точнее – не одна традиция, а две, соединенные в одну.
Сознательно или бессознательно он двигался по пути, по которому шли последние Романовы, – по пути сочетания светской государственности Петра I, ориентированной на модернизацию, с идеологической государственностью Московской Руси. Удалось же ему это в том числе и потому, что в его распоряжении была коммунистическая идеология, превращенная большевиками в светский аналог религиозной веры. Она и позволила Сталину синтезировать государственность царя Ивана и государственность императора Петра. у Романовых не получилось втянуть Петербургскую Россию в идеологическую оболочку старой Московии. Новомосковия большевиков сумела Петербургскую Россию ассимилировать, но – ценой таких исторических перегрузок, которые долго выдерживать не могла.
Эти предварительные соображения относительно исторических корней советской политической системы нам было важно представить в том числе и потому, что в дальнейшем мы будем возвращаться к данной теме лишь походя, сосредоточившись, в основном, на своеобразии коммунистического типа государства и его принципиальных отличиях от других моделей, имевших место в российской прошлом. Но вне отечественного исторического контекста советский период понять невозможно. Разрывая преемственную связь с послепетровской демилитаризованной государственностью Романовых, коммунистический режим восстанавливал связь со светской милитаристской государственностью Петра и идеологизированной государственностью московских Рюриковичей. С той, правда, существенной разницей, что и идеология теперь стала светской.
Сказанное вовсе не означает, что советский режим отбросил весь политический опыт послепетровской России. Негласно он тоже заимствовался, но – крайне избирательно, с существенными коррекциями и лишь в той мере, в какой такое заимствование, с одной стороны, способствовало упрочению милитаристско-репрессивных основ советского строя, а с другой – придавало ему привлекательность в глазах мирового сообщества. Под оболочкой нового общественного идеала скрыто присутствовали почти все идеалы предшествовавших периодов, начиная с киевского, но одни из них были ориентирами практической политики, а другие – фасадом, камуфлирующим ее суть. Об этом нам еще предстоит говорить при рассмотрении конкретных особенностей советской государственности.
Рассматривая их, мы будем исходить из того, что окончательно советское государство сложилось при Сталине, после смерти которого началась трансформация этого государства и его идеалов, завершившаяся в конечном счете его обвалом. Поэтому и основное внимание считаем нужным сосредоточить на этапах сталинском и послесталинском, обращаясь к начальному, ленинскому периоду лишь в той мере, в какой это способствует пониманию природы общественного строя, утвердившегося при Сталине.
В советской эпохе нас будет интересовать то же самое, что и в эпохах, ей предшествовавших: культурное своеобразие государственных идеалов, их жизнеспособность в условиях мира и войны, способы легитимации власти, методы мобилизации личностных ресурсов, особенности цивилизационной стратегии. При этом, как и в главе о Романовых и по тем же соображениям, последние две темы будут рассмотрены отдельно – не в ходе анализа каждого из этапов, а применительно ко всему советскому периоду в целом.
Глава 17 Советско-социалистический идеал
Новый общественный строй окончательно сложился к середине 1930-х годов. Формально это было зафиксировано на XVII съезде Коммунистической партии (1934), вошедшем в историю как «съезд победителей», и в Конституции 1936 года, получившей название сталинской. На официальном коммунистическом языке победа выражалась как создание материально-технической базы социализма (в ходе индустриализации и коллективизации), торжество социалистических общественных отношений (ликвидация «эксплуататорских классов» в городе и деревне в сочетании с той же коллективизацией) и осуществление – спустя некоторое время после принятия Конституции – культурной революции (утверждение коммунистической идеологии в качестве единственной и обязательной для всех и формирование «народной интеллигенции»). Если же перевести это на язык, которым пользуемся мы, то коммунистический режим менее чем за два десятилетия устранил старые формы культурного, социального и политического расколов, насильственно ликвидировав и прежние высшие классы и сословия («помещиков и капиталистов»), и сельскую передельную общину с ее догосударственным жизненным укладом. На месте разрушенной прежней жизни возник тотально огосударствленный и идеологически унифицированный социум, обслуживавший потребности форсированного военно-индустриального развития. Таково было реальное содержание советско-социалистического идеала, воплощенного в Советском Союзе в 30-х годах XX столетия и надолго предопределившего особенности всего дальнейшего развития страны.
Ликвидация помещиков и городских капиталистических классов особых трудностей для большевиков не составила и произошла почти сразу после захвата ими власти. Дворянство и буржуазия были лишены права частной собственности самим фактом ее Упразднения, равно как и всех других прав. Часть их подверглась физическому уничтожению в ходе Гражданской войны и «красного террора», другая часть эмигрировала, а третья – принудительно или по доброй воле оказалась на службе у «пролетарской власти» в роли хорошо оплачивавшихся «буржуазных специалистов». Все это удалось сделать потому, что цели большевиков на время сомкнулись с народной «правдой», отторгавшей частную собственность и не признававшей прав собственников2.
Передав крестьянам помещичью землю и позволив им вернуть в общину тех, кто вышел из нее в годы столыпинских реформ, большевики получили социальную опору в деревне, благодаря чему смогли выиграть Гражданскую войну. Белое движение не сумело предложить крестьянам иного социально-экономического жизнеустройства, кроме прежнего, народной «правдой» отвергнутого. Но еще до начала этой войны вновь дал о себе знать старый раскол между государством и до государственной общинно-вечевой культурой крестьянского большинства. То, что новое государство устранило «помещиков и капиталистов» и стало именовать себя «рабоче-крестьянским», в данном отношении ничего не изменило. И когда Гражданская война закончилась, трещина раскола сразу же вышла на поверхность. Стало очевидно, что крестьянская «правда» несовместима не только с идеалами «эксплуататорских классов», но и с идеалом уничтожившей их большевистской власти.
Лидеры большевиков не скрывали, что социалистический идеал, который они исповедовали, с мелким крестьянским хозяйством и уравнительным землепользованием не сочетается. Будущее они видели в крупных сельскохозяйственных предприятиях, организованных по типу индустриальных, и коллективном труде. Но здесь они готовы были поначалу идти крестьянам на уступки, считаясь с их вековыми привычками и ограничиваясь созданием «образцовых» коммун, которые должны были демонстрировать преимущества коллективного хозяйствования перед индивидуальным, хотя продемонстрировать их так и не смогли. Гораздо менее уступчивой новая власть была в том, что касалось распределения произведенной продукции.
Доктринальные марксистские соображения понуждали большевиков вместе с частной собственностью устранять и рынок:
2 Напомним, что «Декрет о земле», в котором определялась политика большевиков в крестьянском вопросе после захвата ими власти, основывался на наказах самих крестьян. И первым пунктом этих наказов был следующий: «Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема» (цит. по: Ленин В.И. Указ. соч. Т. 35 С. 25).
свободная рыночная торговля, согласно доктрине, при социализме исключалась, а ее допущение означало прямой путь к капиталистической реставрации. Социалистический идеал требовал замены торговли прямым натуральным продуктообменом. Однако город с его разрушенной войной и революцией промышленностью предложить деревне в обмен на хлеб почти ничего не мог. Поэтому власть, чтобы сохранить свою социальную опору в городских центрах, вынуждена была изымать у крестьян хлеб насильственно. Но это означало, что она утрачивала право называться рабоче-крестьянской.
У большевиков, оценивавших любые общественные явления в логике классовых интересов и классовой борьбы, не было даже теоретического инструментария для анализа стоявшей перед ними проблемы. Феномен передельной общины, которая интегрировала всех крестьян независимо от их имущественного положения, в эту логику не вписывался. Поэтому быстро захлебнулась предпринятая летом 1918 года попытка «внесения классовой борьбы в деревню» посредством создания комитетов бедноты для реквизиций зерна у кулаков («изъятия излишков»). Комбеды оказались в противостоянии не только с кулаками, но и со всем общинным укладом, скреплявшимся традиционным механизмом круговой поруки. Не раскололи общину и рабочие продотряды, посылавшиеся в деревню и городов для хлебных реквизиций. Устояла она и при осуществлении политики продразверстки (централизованно установленных и расписанных по губерниям обязательных зерновых поставок), сменившей «классовую» политику комбедов и предполагавшей «союз с середняком». Потому что такой союз мог быть только союзом с общиной, в которой именно середняк был самым массовым социальным персонажем и главным носителем ее идеалов.
В терминах классовой теории описать ценности и поведение этого персонажа было невозможно. Он не принадлежал ни к буржуазии, ник пролетариату, ни к промежуточному мелкобуржуазному слою. Понятие о буржуазной частной собственности ему было чуждо, а от пролетария он отличался тем, что не был наемным работником. И тем не менее большевистские теоретики относили крестьянина-середняка к «мелкой буржуазии», отдавая себе отчет и в том, что отведенная ему классовая ниша не совсем для него и что он из нее вываливается. Об этом свидетельствуют многочисленные оговорки и дополнительные определения, которые мы находим у Ленина3. Об этом же свидетельствует и использование самого термина «середняк», который фиксировал его отличие, с одной стороны, от бедноты, т.е. крестьян с предельно низким уровнем дохода, а с другой стороны – от кулаков, т.е. людей не просто зажиточных, но использующих наемный труд и потому попадающих в разряд «эксплуататоров». Иными словами, классовый марксистский критерий размывался, его главная составляющая – собственность на средства производства – не использовалась вообще. Поэтому, строго говоря, середняк вместе с бедняком и частично с кулаком оставался теоретически и идеологически бесхозным.
Не воспринимался данный персонаж марксистской социологией и как особый культурный тип. В середняке видели только его индивидуалистическое начало, выражавшееся в желании единолично хозяйствовать на земле, обеспечивая себя необходимыми продуктами и имея возможность продавать их излишки на свободном рынке. Что касается его общинно-коллективистского менталитета и догосударственного вечевого идеала, то эти особенности не фиксировались даже тогда, когда получали воплощение в политических лозунгах.
С завершением Гражданской войны обнаружился не просто раскол между государством и догосударственной общинно-вечевой культурой, который большевистские лидеры по-прежнему пытались анализировать в понятиях классовой теории. Выяснилось, что речь идет не о неприятии крестьянами советской власти как таковой, а о принципиально иной, чем у большевиков, ее интерпретации. Лозунг «Советы без большевиков!» был ответом ущемленных крестьянских интересов на политику государства, которое и после войны намеревалось сохранить продразверстку, предполагавшую изъятие у земледельцев всех продуктовых излишков. Но в этом ответе, выразившемся в том числе и в вооруженных восстаниях, со-
3 Ленин считал крестьянина-середняка представителем мелкой буржуазии, но вместе с тем постоянно указывал на его предрасположенность к анархизму: слова «мелкобуржуазный» и «анархический» он употреблял через запятую (см.: Ленин В.И. Указ. соч. Т. 43. С. 36). Однако это термины из разного ряда: первый характеризует экономическое положение крестьянина, а второй – его политические установки, и одно вовсе не вытекает из другого, так как принадлежность к мелкой буржуазии не обязательно проявляется в анархическом (т.е. противогосударственном) мироощущении. Анархизм крестьян был следствием не их мелкобуржуазности, а их пребывания в добуржуазном состоянии, с одной стороны, и их догосударственных идеалов – с другой. У Ленина, кстати, можно встретить и характеристику середняка как «чуть ли не средневекового явления» (Там же. Т. 38. С. 156). Но эти столь разные оценки существуют у него независимо друг от друга. В логике классового анализа согласовать их (а быть может, и обнаружить их несогласуемость) было невозможно.
держался и альтернативный большевистскому социальный идеал, вписывавший советы в общинно-вечевую традицию.
Новая экономическая политика (НЭП), допускавшая свободную рыночную торговлю, была реакцией большевиков не на этот идеал природа которого оставалась ими нераспознанной, а на недовольство продразверсткой. НЭП успокоил крестьян и способствовал быстрому экономическому росту – в течение нескольких лет разрушенное войнами и смутой хозяйство было восстановлено. Как и в Других случаях, мы не беремся судить о том, что было бы, если бы НЭП вскоре не был бы свернут, т.е. насколько стратегически жизнеспособной была эта полурыночная хозяйственная модель, сочетавшая государственную промышленность и государственные поставки крестьянами сельскохозяйственной продукции по нерыночным ценам со свободной торговлей. Не беремся судить и о том, можно ли было примирить советско-социалистический государственный идеал с общинно-вечевым. Достоверно можно говорить лишь о том, что в последний период НЭПа властям удалось-таки расколоть и тем самым фактически ликвидировать общину. Растущее налогообложение зажиточных крестьян при расширении слоя освобожденной от налогов бедноты (к концу 20-х годов он был доведен до 35% сельского населения) и сосредоточении всех налоговых функций в руках чиновников, имевших теперь дело с отдельными крестьянскими дворами, а не с сельским «миром», подорвали до того несокрушимые общинные устои. Достоверно известно и о том, что при низких закупочных ценах и дороговизне промышленных товаров такая политика привела к трудностям с хлебозаготовками, препятствовавшим осуществлению намеченных планов индустриализации, и что ответом на это стала принудительная сталинская коллективизация.
Учреждение колхозного строя, которое преподносилось властями как последний акт классовой борьбы с эксплуататорами, направленный против кулаков и подкулачников, реально диктовалось совершенно иными соображениями и имело иную социокультурную природу. По некоторым свидетельствам современников, кулаков к началу коллективизации в деревне уже почти не оставалось: усилившееся в последние годы НЭПа налоговое давление на них и возобновившиеся реквизиции многие восприняли как сигнал об опасности и перебрались в города4. Колхозы создавались как
4 См.: Платформа «Союза марксистов-ленинцев» («Группа Рютина»): Сталин и кризис пролетарской диктатуры // Известия ЦК КПСС. 1990. № 10. С. 199.
организационный механизм, позволявший изымать у крестьян зерно, продавать его за границей и покупать на вырученные деньги машины и оборудование для индустриализации5. И это властям удалось. Вместе с тем коллективизация насильственно устраняла крестьянский жизненный уклад, окончательно ликвидировав общинную самоорганизацию деревни и подчинив ее через колхозы организации государственной. Но это означало, что уходил в прошлое и сельский вечевой идеал – без крестьянской самоорганизации он лишался почвы. Так преодолевался многовековой раскол между государством и догосударственной культурой, не сопровождавшийся, однако, утверждением культуры государственной – массовым насилием и уносящими миллионы жизней «голодоморами» она не создается.
Возникает тем не менее вполне естественный вопрос о том, как могло существовать учинившее это насилие государство. Ведь именно после коллективизации оно объявило о торжестве своего идеала и упрочило свои позиции до такой степени, что позволило себе учредить Конституцию, в которой провозглашался широкий набор прав и свобод, включая право избирать тайным голосованием органы власти. Насилие против большинства населения и легитимность государства, подтверждаемая всенародным голосованием, – вещи вроде бы несовместные. И тем не менее в сталинскую эпоху они каким-то образом соединились. А это значит, что у сталинского режима были не только репрессивные, но и другие основания.
17.1. Законы истории против законов юридических
Государство, утвердившееся в Советском Союзе при Сталине, было объявлено первым в мировой истории практическим воплощением социалистического идеала. Это значит, что отныне оно должно было развиваться на собственной основе. Парадоксальная особенность сталинского государства заключалась, однако, в том, что основы для развития у него не было, оно могло лишь воспроизводить себя в том качестве, в каком сложилось.
Конечно, Сталин и его идеологи не забывали упоминать и о коммунизме как конечной цели мирового общественного развития. Но коммунизм в изложении Маркса и Ленина означал не
5 В 1928 году крестьяне продали государству 680 млн. пудов зерна. Коллективизация позволила увеличить эту цифру почти вдвое – до 1,3 млрд. пудов. При этом валовой сбор зерна не только не увеличился, но даже несколько уменьшился – с 4,5 до 4,3 млрд. пудов (Волкогонов Д. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина. М., 1989. Кн. 1. Ч. 2. С. 25).
только ликвидацию частной собственности и «эксплуататорских классов», но и упразднение государства, его отмирание и замену народным самоуправлением, при котором не будет ни бюрократии, ни полиции, ни постоянной армии, а управлять обществом станут все без исключения, включая «каждую кухарку». Такой постгосударственный идеал был созвучен догосударственному общинно-вечевому идеалу локальных сельских миров и вышедших из них городских пролетариев. Поэтому многие критики Ленина считали коммунистический проект архаичным и примитивным, что, однако, лидера большевиков вовсе не смущало. Показательна в данном отношении ленинская пометка относительно безгосударственного будущего на полях рукописи, содержащей подготовительные материалы к «Государству и революции»: «„Примитивная" демократия на иной, высшей базе»6. Имелось в виду, что прямое народное самоуправление на основе созданных капитализмом науки и техники – нечто принципиально иное, чем демократия в архаичных общностях.
Придя к власти, Ленин столкнулся с тем, что народ в подавляющем большинстве своем осуществлять функции управления не в состоянии и вынужден был противостоять тем своим соратникам, которые настаивали на форсированном осуществлении идеала реального народовластия. Вместо «диктатуры пролетариата» на деле получалась диктатура партии, правившей от имени пролетариата, что не могло не вызвать резкую критику со стороны российских и зарубежных социалистов. Но как бы к этому идеалу ни относиться, утвердившийся при Сталине общественный строй ему не только не соответствовал, но и не открывал для движения к безгосударственному состоянию никаких видимых перспектив. Более того, «диалектическая» сталинская формула, согласно которой отмирание государства происходит посредством его предварительного всемерного укрепления, их закрывала.
Созданная Сталиным государственная система, завершая движение от прошлого к настоящему, исключала движение от настоящего к будущему. Идеал «светлого будущего», к которому она апеллировала, должен был символизировать ее безграничные возможности и исторически неизбежную перспективу других стран и народов, продолжавших оставаться, по сравнению с социалистическим Советским Союзом, в капиталистическом прошлом. То была беспрецедентная попытка создать собственное историческое
6 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 33. С. 27.
время, остановив его и превратив в универсальное. Попытка не удалась. Разрыв с отечественным прошлым и западным настоящим, тоже интерпретируемым как прошлое, оказался лишь их эклектическим соединением при существенной деформации их исторического содержания.
Сталинский режим специфическими способами завершил введение России в осевое время, ликвидировав вековые пласты догосударственных локальных миров и насильственно интегрировав их в государство. Однако это осевое время не было ни первым, ни вторым7, а неким третьим, образованным из отдельных элементов первого и второго, предварительно прошедших социалистическую переплавку.
Советское общество, подобно любому социуму первого осевого времени, скреплялось единой для всех идеологией. Но – не религиозной, а светской, коммунистической. Советское государство, тоже в полном соответствии с принципами первого осевого времени, персонифицировалось в сакральной фигуре единоличного правителя. Однако его власть, не ограниченная никакими законами, не легитимировалась ни именем Бога, ни природной принадлежностью к монархическому роду. Он был руководителем коммунистической партии и мог вообще не занимать никаких государственных постов, что и имело место в довоенный период сталинского правления.
Вместе с тем советское государство было выстроено и посредством заимствования элементов второго осевого времени, а именно – универсальных юридически-правовых абстракций. Сталинская Конституция провозглашала равенство граждан перед законом и наделяла их равными правами – как социальными, так и политическими. Однако юридический универсализм не распространялся на коммунистическую партию и ее вождя. Деятельность партийных комитетов законодательно не регулировалась, а их руководители получали власть не в результате народного волеизъявления (на выборах избирались советы разных уровней, реальной власти не имевшие), а в результате «единодушного голосования» в высших партийных инстанциях.
7 Еще раз напомним, что под осевым временем мы понимаем не результат исторического развития, а его тенденцию. Первое осевое время с его религиозно-имперским универсализмом осевым (т.е. охватывающим весь мир) не стало, а вопрос о том, получат ли глобальное распространение принципы второго, остается открытым.
Что касается прав граждан, то уже сам факт отсутствия в их перечне права частной собственности означал полную экономическую зависимость человека от государства и полную независимость государства, как единственного собственника и распорядителя ресурсов, от человека. Оно могло как перебрасывать людей из одного региона в другой, руководствуясь своими нуждами и не спрашивая их согласия, так и пожизненно закреплять на одном месте – отсутствие у колхозников паспортов лишало их возможностей передвижения. Если же говорить о политических правах и свободах, то они реализовывались лишь на безальтернативных выборах в безвластные советы и подконтрольные суды, а также на митингах и демонстрациях в поддержку «партии и правительства», включая осуждение объявленных властью «врагами народа». Во всех других случаях использование законодательно дарованных свобод пресекалось (тоже законодательно) даже в бытовой повседневности: любой политически сомнительный и рассказанный вслух анекдот мог повлечь за собой обвинение в «антисоветской деятельности» и длительное тюремное заключение. Так что реальных прав в сталинскую эпоху было не больше, чем при Иване Грозном или Петре I. С той лишь разницей, что те конституций не писали и никаких прав не декларировали.
Таков был этот уникальный синтез времен, наиболее явно обнаруживший себя в годы правления Сталина. В воплощенном советско-социалистическом идеале переплелись не только идеалы первого и второго осевого времени. Помня о советах, вмонтированных в сталинскую государственность и полностью ею ассимилированных, правомерно говорить о наличии в нем и следов идеала доосевого, общинно-вечевого. Но это не мешало сталинскому режиму претендовать на учреждение собственного исторического времени – ведь все сознательные и бессознательные заимствования были в данном случае откорректированы.
Такой коррекции подвергалось и научное знание. Его универсализм сомнению не подвергался, в сталинский период наука стала даже своего рода культом. Но и она – вполне в духе Московской Руси – проверялась на соответствие идеологии и в случае необнаружения такового могла быть объявлена лженаукой, что и произошло с генетикой, кибернетикой и теорией относительности. Подобное цензурирование выглядело ем более оправданным, что статус науки (точнее – ее последнего слова) имела и коммунистическая идеология. И этим объясняются не только государственный произвол по отношению к отдельным ученым и некомпетентное вмешательство в их профессиональные занятия, но и многие другие особенности данного типа государства, сочетавшего декларирование законности с беззаконием, предоставление конституционных прав – с бесправием, выборную легитимацию власти с невыборной властью партийных комитетов и сакральностью партийного лидера.
Жизневоплощение социалистического идеала интерпретировалось сталинским режимом как первое в мире подтверждение всеобщего исторического закона, согласно которому переход человечества к социализму и коммунизму является исторической необходимостью и потому неизбежен8. Все остальное считалось от этого закона производным. Юридический закон мог иметь место лишь постольку, поскольку он его обслуживал, права человека – лишь постольку, поскольку они ему соответствовали. Производными от него были и получившие конституционный статус новые абстракции – социалистическое государство, социалистическая демократия, социалистическая законность, социалистическая собственность. Но производной от исторического закона являлась и юридически надзаконная власть коммунистической партии и ее вождя, выступавшего в роли монопольного интерпретатора этого закона.
Историческая закономерность, распространяющаяся не только на прошлое и настоящее, но и на будущее, не может быть зафиксирована в юридически-правовых нормах. И если какой-то организации и ее руководителю удается предстать в глазах населения рупором этой закономерности, т.е. представителем будущего в настоящем, то тем самым создаются предпосылки не только для легитимации, но и для сакрализации юридически надзаконной и юридически неподконтрольной власти.
8 «Если связь явлений природы и взаимная их обусловленность представляют закономерности развития природы, то из этого вытекает, что связь и взаимная обусловленность явлений общественной жизни – представляют также не случайное дело, а закономерности развития общества ‹…› Значит, в своей практической деятельности партия пролетариата должна руководствоваться не какими-либо случайными мотивами, а законами развития общества, практическими выводами из этих законов. Значит, социализм из мечты о лучшем будущем человечества превращается в науку» (История Всесоюзной коммунистической партии большевиков: Краткий курс. М., 1953. С. 109). Ссылками на открытые марксизмом «законы развития общества», прежде всего на закон смены капитализма социализмом, и обосновывалась вся сталинская политика, как до него – политика Ленина, а после него – политика его преемников.
Пример Сталина и лидеров других правящих коммунистических партий свидетельствует о том, что в определенных исторических обстоятельствах и на какое-то время такая сакрализация возможна. Для этого, однако, должен быть сакрализирован и сам исторический закон, от имени которого выступал правитель, что и нашло свое выражение в интерпретации марксизма-ленинизма как «единственно верного и всепобеждающего учения» и придании ему жестко канонической формы в «Кратком курсе истории ВКП(б)» и других сталинских текстах. Для этого, говоря иначе, требовалось превращение знания, наделенного статусом научной истины, в светскую веру9 - лишнее подтверждение того, как сталинская эпоха синтезировала первое осевое время со вторым, деформируя то и другое и пытаясь создать нечто третье.
Такого рода синтез без труда обнаруживается и в созданном большевиками новом властном институте, каковым стала коммунистическая партия. Сам тип массовой партии был заимствован у Запада. Но там этот институт являлся организационной формой, обеспечивавшей связь между государством и гражданами: голосуя за ту или иную партию, они выражали свое мнение о желательной для них в данный момент государственной политике. КПСС, выступавшая на разных этапах под разными названиями, изначально претендовала на властную монополию при полной независимости от народного волеизъявления и неучастии в политической конкуренции – все ее возможные соперники после захвата большевиками власти были насильственно устранены. Она легитимировала себя не выборами, а как коллективный транслятор «единственно
9 Некоторые исследователи рассматривают это превращение знания в веру как присущее не только сталинской версии марксизма и большевизма, но и марксизму (и его большевистскому варианту) в целом. «В то время как классическая религия базируется на Священном Писании, религия марксистская базируется на писаниях „научных" и тем самым маскирует свою природу. Большевизм утверждает, что он противопоставляет Научную Истину Истине религиозной, на самом же деле он противопоставляет Спасение земное Спасению на небесах» (Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. М., 1995. С. 42). Мы же полагаем, что и марксизм в целом, и большевизм в его досталинском варианте содержали лишь возможность превращения знания в веру, которая была сполна реализована только в сталинскую эпоху. Впрочем, в другом месте своей работы это признает и сам автор: «При жизни Ленина марксистская истина интерпретировалась и дискутировалась теоретическими руководителями партии. С приходом Сталина марксистская истина застывает в виде „марксизма-ленинизма", становится церковной истиной ‹…› „Марксизм-ленинизм" стал сакральным словом, единственным подлинным толкователем которого выступает генсек Партии» (Там же. С. 45).
верного учения». Или, что то же самое, как коллективный транслятор идеологии, в которой – впервые в мировой истории – граница между знанием и верой оказалась ликвидированной. Тем самым сакрализировался не только исторический закон, от имени которого выступала партия, но и сама партия – подобно тому, как сакрализация религиозной веры обеспечивается сакрализацией церкви.
Это «оцерковление» партии началось не при Сталине, но завершилось именно в сталинскую эпоху, когда власть вождя стала единоличной и неприкасаемой. Сакрализация партии могла произойти только при наличии сакрального вождя, действовавшего от ее имени, но одновременно и поддерживавшего ее статус весом своего собственного имени. Эту взаимодополнительность института и личности в свое время уловил Маяковский: «Партия и Ленин – близнецы-братья»; «мы говорим – Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим – партия, подразумеваем – Ленин»10. Однако при Ленине такая взаимодополнительность еще не означала взаимосакрализации.
При Ленине фигура вождя не была неприкасаемой. Его позиция могла подвергаться критике и оспариваться. Резолюция X партийного съезда (1921) «О единстве партии» ограничивала внутрипартийную демократию запретом на образование фракций, но не сворачивала ее: достаточно перелистать стенограммы последующих съездов, в том числе и тех, что происходили в первые годы после смерти Ленина, чтобы в этом убедиться. То была система своего рода «князебоярства», в которой бояре еще не стали холопами. В этом отношении большевистская Москва за два десятилетия прошла столетний путь московских Рюриковичей, завершив его собственной «опричниной». Но Иван Грозный имел возможность выступать и действовать от имени Бога. Сталин выступал и действовал от имени светской организации и ее идеологии, сакральность которых обусловливала его собственную сакральность и одновременно обусловливалась ею.
Без такой организации большевики не могли бы ни взять власть, ни тем более удержать ее. Советы, на которые они первоначально опирались, стать основой государства были не в состоянии в силу самой своей общинно-вечевой, т.е. догосударственной природы. Их можно было использовать как политический фасад, но для управления страной требовалась стоявшая над ними и одновременно пронизывавшая их властная структура. Без такой структуры,
10 Маяковский В. Избранные произведения: В 2т. М., 1955. Т. 2. С. 144.
учитывая атеистическое мировоззрение большевиков и многокон-фессиональность страны, они не могли навязать России свою над-конфессиональную идеологию. Без такой структуры невозможно было создать новую элиту, способную заменить прежнюю дворянскую, и обеспечивать преемственность власти, отказавшейся легитимировать себя известными миру способами – именем Бога, юридическим законом или выборной (и тоже узаконенной) процедурой. Но все это не снимает вопрос о том, почему большевикам удалось легитимировать и даже сакрализировать именно партию. Факт объявления себя коллективным служителем всеобщего исторического закона сам по себе ничего не объясняет, если не известно, почему многие люди к такого рода декларациям оказались восприимчивыми.
Для того чтобы коммунистическая идеология превратилась в веру, в нее должны были поверить. Беспрецедентные масштабы насилия и идеологического принуждения тоже объясняют не все. Они не объясняют, каким образом и почему немногочисленная организация революционеров, мало кем воспринимавшаяся всерьез, смогла не только захватить власть, но и консолидировать вокруг себя миллионы людей, готовых осуществлять насилие над миллионами своих соотечественников. Они тем более не объясняют, каким образом коммунистическая партия сумела себя сакрализировать. Да, эта сакрализация была производной от сакрализации вождя, которая имела своим истоком сохранявшуюся «отцовскую» культурную матрицу. Но ведь и «отец народов», сумевший в отличие от патриарха Никона, поставить священство – правда, не православное, а коммунистическое – выше царства, обрел и поддерживал свой статус лишь постольку, поскольку был вождем обожествленной партии11. Более того, она сохраняла свою легитимирующую функцию и после того, как ее руководители «отцами народов» перестали восприниматься, а их притязания на такую роль уже ничего, кроме насмешек, не вызывали.
В отечественной истории трудно найти аналог подобного властного института. В каком-то смысле он возвращал страну к ее истокам: большевистскую партию можно рассматривать как дальнего политического потомка княжеского рода, сформированного не по
11 Показательно, в том числе и своей библейской лексикой, письмо Сталина в газету «Правда», в котором он благодарил советских людей за поздравления с его 50-летием: «Ваши поздравления и приветствия отношу за счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию» (цит. по: Волкогонов Д. Указ.соч. Кн. 1.4.2.С. 123).
кровно-родственному, а по идеологическому принципу. Этот коллективный властитель, как и княжеский род, являлся единственным источником, из которого рекрутировались правители всех рангов в центре и на местах. Правда, партийный «род» поставлял не только «князей», но и управленческие кадры всего государственного и хозяйственного аппарата, а также имел массовую базу в лице рядовых партийцев. Кроме того, после относительно недолгих внутрипартийных распрей ему удалось обеспечить в своих рядах «монолитное единство» под общепризнанным сталинским руководством. Не было у него проблем и с реанимированным вечевым институтом, принявшим форму советов, – они были поглощены партийным «родом» и никакой конкуренции составить ему не могли.
Советская власть – это то, чего никогда не было, по той простой причине, что советы выступали лишь инструментом («приводным ремнем») в руках партии, облеченной всей полнотой власти. Это делало ее более сильной и эффективной структурой по сравнению с ее отдаленным институциональным предшественником. И тем не менее устойчивая сакрализация такого искусственного родового образования, представлявшего меньшинство населения, сама по себе – в отличие от природно-естественной сакрализации княжеского рода – была невозможной. Ни в каких культурных идеалах и ценностях опоры она не имела.
Источник сдвоенной сакрализации коммунистической партии и ее вождя надо искать не во временах первых Рюриковичей – тем более что этот феномен существовал и в странах, коллективного родового правления не знавших. Его следует искать в особом состоянии российского общества в сталинскую эпоху, когда широкие слои населения форсированно вырывались из культурной традиции, оставаясь в значительной степени ее носителями. Воплощение советско-социалистического идеала отодвигало будущее страны от ее настоящего: первое переносилось в неразличимую историческую даль, а второе консервировалось. Но само настоящее не было для всех советских людей одинаковым. И индивидуальных перспектив оно тоже лишало не всех.
17.2. Возвращение тотема и сталинский утилитаризм
Коллективизация восстановила прежнее размежевание города и деревни, заново и по-новому закрепостив последнюю. Вместе с тем индустриализация резко повысила спрос на рабочую силу в городах, что открывало перед сельскими жителями возможность вырваться из беспаспортного колхозного бытия с его обязательным трудом за неоплачиваемые трудодни. Город и стал для них «светлым будущим», выводившим из темного настоящего. Многие обрели его, убегая от коллективизации еще до учреждения паспортов (1932), другие меняли место жительства после службы в армии, учебы в вузах и других городских учебных заведениях, если в них удавалось поступить, или в результате массовых наборов рабочих на многочисленные стройки. К концу сталинского правления доля горожан в общей численности населения возросла, по сравнению с дореволюционными временами, почти втрое и приблизилась к половине12. Эти выходцы из деревни и образовали массовую социальную базу утвердившегося режима единовластия, благодаря им и их культурным особенностям и стала возможна сакрализация партии и ее лидера.
Образ «отца народов» мог сформироваться только на основе «отцовской» культурной матрицы, т.е. восприятия большого, государственно организованного общества как большой патриархальной «семьи народов». Таким и было восприятие первого поколения советских горожан. То, что новый самодержец не был «природным», именно потому и не имело принципиального значения, что «природный» властитель символизировал воспроизводство неизменности, между тем как коммунистический «отец» выступал символом происходивших в жизни людей благоприятных перемен. И если он выступал при этом от имени партии, то его сакральный статус неизбежно переносился и на нее. Но он переносился на нее и потому, что вступление в партию открывало для наиболее энергичных сельских мигрантов «светлый путь» во власть – результатом кадровой революции 1930-х годов, уничтожившей почти всю старую большевистскую элиту, стал массовый приток в партийный, советский и хозяйственный аппарат выходцев из рабочих и крестьян13.
12 Только за период 1929-1933 годов, т.е. всего за четыре года, прирост городского населения составил 12-13 млн. человек. А за десять лет, с 1929 по 1939 год, численность горожан возросла на 27-28 млн. человек (Вишневский А. Серп и рубль. М„ 1998. С. 87).
13 С 1928 по 1932 год численность партии возросла с 1,5 до 3,7 млн. человек, т.е. более чем в два раза (Верт Н. История советского государства. М., 2002. С. 228). В этот же период более 140 тыс. рабочих было выдвинуто на руководящие посты в народном хозяйстве. К концу первой пятилетки «практики» составляли половину руководящих кадров в промышленности. Общее число выдвиженцев из низов составило не менее 1 млн. человек (Там же. С. 220). А к концу 1930-х годов выдвиженцы из рабочих и крестьян, получившие высшее образование, заполнили освободившееся в ходе массовых репрессий посты в партийном и государственном аппарате (Там же. С. 258).
Так произошло очередное возвращение в русскую жизнь древнего тотема – на этот раз в атеистической форме. Как и в правления Ивана IV и Петра I, он был однополюсным. Но, в отличие от тех времен, коллективное народное «мы» в нем присутствовало не только символически, но в определенной мере и организационно. Это присутствие и обеспечивалось коммунистической партией, представлявшей усеченный второй полюс тотема. Она не охватывала всю народную общность, далеко не все в стране разделяли ее идеи, но доступ в нее с помощью партбилета был открыт для многих. Те же, кто в нее попал или хотел попасть, готовы были, вслед за Лениным, воспринимать ее как «ум, честь и совесть нашей эпохи». Реально тотем оставался однополюсным, надличную волю партии дозволялось выражать только ее вождю, которая ему одному и считалась ведомой, но партбилет предоставлял возможность приобщения к этой воле и соучастия в ее жизневоплощении.
Учитывая, что широкий доступ в партию и, соответственно, путь к карьере выходцам из низов был открыт в сталинскую эпоху, именно с нее и следует вести отсчет истории партии как сакрального института. Именно при Сталине партия и ее вождь стали считаться застрахованными от ошибок – Ленин их не только не исключал, но считал неизбежными и готов был публично признавать. При Сталине же из партии были устранены люди, считавшиеся Лениным ее главным достоянием и составлявшие в совокупности тот «тонкий слой профессиональных революционеров», которые, по его мнению, одни только и были способны управлять страной. Поэтому даже сталкиваясь с жестким противодействием своей позиции в Центральном комитете, Ленин старался их в руководящих органах партии во что бы то ни стало сохранить. Но организация, лидеры которой ведут публичную полемику по поводу «генеральной линии», не может претендовать на сакральность тотема. У сакрального института могут быть враги – в том числе и внутри него, и тогда они подлежат уничтожению, – но внутренние разногласия и несогласия с вождем в нем исключаются по определению. «Ленинская гвардия» этому требованию не соответствовала. Сталинские новобранцы – соответствовали вполне.
Уже цитировавшийся выше Эдгар Морен отмечает, что сакрализация партии стала возможной лишь после того, как политики в ней были заменены аппаратчиками. «При жизни Ленина еще сохранялось первенство политбюро над аппаратом партии ‹…› Со смертью Ленина это ‹…› положение нарушилось. Медленно, неуклонно Сталин, как хозяин аппарата ‹…› подчиняет себе политических руководителей, а затем уничтожает их, и с этого времени е аппарат делает политиков»14. Именно партийный аппарат, ориентированный на беспрекословное исполнение воли вождя, был максимально заинтересован в сакрализации партии, потому что тем самым он сакрализировал и свою собственную роль. Это давало ему уверенность в правильности проводимых в жизнь решений, какими бы абсурдными они ни были, и возможность объявлять крамолой любые сомнения и колебания. «Для аппаратчика Партия есть социоантропоморфное существо, которое содержит в себе сознание Пролетариата и всеведение марксизма ‹…› Аппаратчик в полном смысле принадлежит партии и благодаря ей становится обладателем частицы ее трансцендентальной силы. Он целиком зависит от Партии, но именно эта зависимость дает ему в глазах населения авторитет Партии»15.
Остается лишь добавить, что сам аппарат мог стать таким только в результате определенной кадровой политики, т.е. при комплектовании его из носителей доличностной и доправовой культуры, которых миллионами поставляла в советские города коллективизированная советская деревня. Партийное государство, ставшее воплощением советско-социалистического идеала, – это государство окрестьяненного и привилегированного по отношению к деревне города. Из деревни оно заимствовало не только «отцовскую» культурную матрицу. Оно заимствовало из русского сельского мира и общинную модель жизнеустройства, перенеся ее на большое общество.
Подобно общине, это государство отторгало частную собственность и даже сумело ее уничтожить.
Подобно общине, это государство «безвозмездно» взяло на себя определенные социальные функции, существенно их расширив и возведя в ранг «преимуществ социализма» (бесплатное здравоохранение и образование, предоставление жилья, пенсионное обеспечение и др.), но безоговорочное предпочтение в данном отношении отдавалось городу.
Подобно общине и ее замкнутому укладу, это государство изолировало страну от мира, противопоставив советское коллективное «мы» тому, что именовалось «враждебным капиталистическим окружением».
14 Морен Э. Указ. соч. С. 44-45.
15 Там же. С. 64-65.
Подобно общине, это государство устраивало регулярные переделы – с той, правда, немаловажной разницей, что перераспределялись не земельные участки, а должности и имущество «врагов народа».
Но большая коммунистическая община, в отличие от ее прообраза, была лишена собственной, автономной от государства самоорганизации. Именно потому, что была государственной.
Эта община представляла собой совокупность атомизированных индивидуумов, принудительно и – одновременно – идеологически скрепленных обручем государственного коллективизма. Он не воспроизводил коллективизм локальных сельских миров, который большевики таковым не считали вообще. То, что подлежало коллективизации, причем не только в деревне, но и в городе, воспринималось ими как нечто буржуазно-индивидуалистическое и даже анархическое. Но если насчет буржуазности коммунистические идеологи ошибались, то насчет анархизма были не так уж далеки от истины. Россия вовсе не случайно стала родиной этого идеологического течения (в лице Михаила Бакунина и его последователей) еще до того, как стала родиной «победившего социализма». Локальный общинный коллективизм и в самом деле был противогосударственным по причине своей догосударственности. Поэтому сталинскую коллективизацию можно рассматривать как его разрушение и раздробление на атомизированные человеческие единицы ради их огосударствления. И осуществить это было легче по отношению к тем «атомам», которые оказывались пространственно отделенными от локальных сельских миров, будучи связаны с ними лишь воспоминаниями о прежнем образе жизни и неприятием новой колхозной реальности.
Атомизированные индивидуумы, выброшенные в город из традиционного жизненного уклада и оставшиеся при этом носителями традиционной патриархальной культуры, были благодатным человеческим материалом для сакрализации и образа единоличного правителя, и возглавлявшейся им партии, и воплощавшегося в их деятельности исторического закона. Оставался, однако, открытым один немаловажный вопрос, а именно: как такой человеческий материал воспроизводить? Или, говоря иначе, каким образом уже воплощенный советско-социалистический идеал сделать идеалом будущего?
Этот вопрос был ахиллесовой пятой сталинской системы. Ответа на него она не содержала, а от тех ответов которые давал сам Сталин, уже его ближайшие преемники предпочли отказаться. Они имели на то разные причины, но не последней среди них была невоспроизводимость того массового человеческого типа, на который сталинская система опиралась.
Второе и последующие поколения горожан культурный код своих отцов и дедов не наследовали или наследовали во все более ослабленном виде. Городское настоящее, которое для отцов было обретенным будущим, детьми таковым не воспринималось. Поэтому воплощенный советско-социалистический идеал удовлетворить их не мог. Поэтому же с серьезными искушениями должна была столкнуться и светская вера в открытый наукой исторический закон. И подрывалась она как тем, что коммунистический режим мог считать своей заслугой (развитие науки и народного образования, обеспечивавшее конкурентоспособность государства в мире), так и тем, чем гордиться не приходилось (низкий уровень народного благосостояния). Последнее обстоятельство в заключительные годы своего правления ощущал как серьезный вызов и Сталин, пытавшийся ответить на него ежегодным снижением цен, которое происходило в один и тот же день первого марта и призвано было сохранять в народе ощущение жизненной перспективы. Тем более остро воспринимался он послесталинскими лидерами, которым сакральный статус «вождя народов» история по наследству не передала. А без такого статуса трудно было поддерживать и светскую веру в исторический закон.
Дело не только в том, что для образованной части общества постепенно становилась очевидной несовместимость сакрализации научной истины с самой природой этой истины, подверженной, в отличие от религиозной, изменениям и на окончательность не претендующей. Дело и в том, что светская вера, тоже в отличие от религиозной, нуждается в эмпирических подтверждениях своей истинности. Победившему социализму, объявленному самым передовым общественным строем, предстояло обнаружить свои жизненные преимущества перед капитализмом. Первое поколение горожан было этим не озабочено, удовлетворяясь преимуществами своего положения по сравнению с положением односельчан в покинутой деревне. Однако следующее поколение такой точки отсчета для сравнения уже не имело. Кроме того, превосходство социализма Должно было проявляться и в ускоренной реализации общемирового закона за пределами СССР, т.е. в становлении нового общественного строя в планетарном масштабе. Такого рода эмпирические подтверждения научной истинности «всепобеждающего учения» были тем более необходимы, что в самой советской России исторический закон был реализован с существенным отступлением от его буквы и духа.
Согласно марксистскому учению, социализм исторически вырастает из зрелого, развившего все свои силы капитализма и на созданной им основе. Крестьянская Россия этому условию явно не соответствовала, что нашло свое выражение и в том, что после захвата власти большевики рассматривали Октябрьскую революцию как первый акт революции мировой: судьба социализма в России ставилась в зависимость от победы социализма в Европе. Мировой революции, однако, не случилось, и на смену этой концепции пришла концепция «строительства социализма в одной стране». Но и после того, как проект был объявлен воплощенным и советско-социалистический идеал стал реальностью, западный капиталистический мир по пути первопроходца не двинулся.
Запад не пошел по этой дороге даже под влиянием впечатляющей победы СССР над гитлеровской Германией и образования мирового «социалистического лагеря». Зона коммунистического эксперимента расширялась, охватив Восточную Европу, Китай и некоторые другие страны, но, вопреки историческому закону, не за счет развитого капиталистического мира. Для светской коммунистической веры данное обстоятельство тоже станет со временем серьезным испытанием, поскольку преимущества социализма в глазах советских людей будут становиться все более призрачными, а преимущества капитализма – все более очевидными.
Но все это проявится уже после смерти Сталина. При нем же коммунистическая государственная система была достаточно прочной и своих слабостей почти не обнаруживала. На короткий срок Сталину действительно удалось создать новое историческое время, в котором прошлое профанировалось, а настоящее сакрализировалось – не потому, что было самодостаточным и самоценным, а потому, что предвосхищало планетарное будущее. Однако такое опережение мирового времени, будучи специфическим способом форсированного преодоления отставания от него, вело к выпадению из этого времени и, в конечном счете, к еще большему отставанию. Потому что опережающее коммунистическое время не имело собственного культурного качества, как не обладали им и выброшенные в город советские сельские мигранты. Такое время могло существовать только в жестко фиксированном и изолированном от внешних воздействий пространстве – в открытой стране обоснованность его авангардистских притязаний быстро стала бы очевидной. И оно могло быть только временем перманентного большого террора: без постоянной актуализации образа врага самоизоляция в «осажденной крепости», особенно после победы войне, не выглядела бы оправданной.
Показательно, что маховик этого террора был раскручен именно тогда, когда, согласно марксистским учебникам, для массовых репрессий исчезли какие-либо основания. Большевистский «красный террор» возник не при Сталине, а при Ленине. Он, как и сталинский, тоже был юридически беззаконным, если понятие законности вообще применимо по отношению к массовому террору, и мотивировался исключительно ссылками на закон исторический, согласно которому переход от капитализма к социализму предполагает насильственное подавление неизбежно противящихся такому переходу «эксплуататорских классов». И этот террор, осуществлявшийся по социально-классовому принципу, тоже не различал правых и виноватых, потому что дворянское или буржуазное происхождение уже само по себе считалось виной. Но после того как социализм был объявлен победившим, а «эксплуататорские классы» ликвидированными, репрессии лишались доктринального обоснования. Несовместимой с «торжеством победившего социализма» была и единоличная диктаторская власть. Тем не менее она в стране утвердилась и вновь запустила механизм массового террора, без которого сталинский режим существовать не мог.
Люди, знакомые с историческим законом не понаслышке, лучше других были осведомлены о том, что воплощение его в жизнь личной диктатуры не предполагало. Они-то, наверное, и проголосовали против Сталина на «съезде победителей» при выборах Центрального комитета. Но они могли позволить себе только тайный протест: с трибуны съезда Сталин ничего, кроме одических восхвалений, не услышал. Несколько сот делегатов выступили против диктатуры, когда она – при их непосредственном участии – уже стала фактом. Пройдет несколько лет, и почти все делегаты этого съезда будут уничтожены. Но истреблены будут не только они. Сталин не мог чувствовать себя уверенно, пока сохранялись старая большевистская элита и прямо или косвенно связанный с ней слой функционеров. Большой сталинский террор – это выкорчевывание из управленческих структур определенного человеческого типа. Он потому и был произвольным, что никаких формально-юридических обвинений репрессированным даже по советским законам предъявить было нельзя. Они уничтожались как потенциальные противники режима, как «двурушники» (новая ситуация требовала нового языка), т.е. скрытые, еще не проявившие себя оппозиционеры.
Но дело было не только в том, что Сталин считал большевистскую элиту ненадежной. И даже не только в том, что, заменяя ее выдвиженцами из низов, он укреплял свои позиции в окрестьяненном городе. Ведь репрессии продолжались на всем протяжении сталинского правления, включая и послевоенный период, когда после одержанной Советским Союзом победы власти вождя ничто угрожать не могло. И причина этого именно в том, что сталинская система, объявив себя воплощенным идеалом, могла лишь воспроизводить себя, но была не в состоянии реализовать идеал более высокий. Разумеется, о коммунизме и его неизбежном торжестве говорить продолжали, как продолжали напоминать и о потенциальных возможностях социализма: еще до войны Сталин выдвинул задачу догнать и перегнать капиталистические страны по производству продукции на душу населения16. Но реальных улучшений люди не ощущали – не только в разоренной и продолжавшей разоряться деревне, но и в городе. Война заставила их забыть о своих надеждах и ожиданиях. После победы они вновь актуализировались.
В послевоенном СССР нарастало скрытое недовольство, которое лишь отчасти гасилось ежегодными снижениями цен и кинематографическим благополучием кубанских казаков. Об этом можно судить, например, по опубликованным в последние годы письмам советских людей руководителям страны. То было недовольство не строем, не режимом, не системой, которое появится позже, а тем более не «отцом народов» – единственным, как казалось, кто способен защитить от незнавшего удержу большого и малого начальства и не делает это лишь потому, что правду от него скрывают. То было недовольство повседневным бытием, которое так контрастировало с увиденным в освобожденной от гитлеризма Европе и которое, как люди успели узнать в советской школе, оказывает решающее воздей-
16 «Теперь, когда СССР сложился как социалистическое государство ‹…›, – говорилось в резолюции XVIII съезда партии (1939) по докладу Сталина, – мы можем и должны во весь рост практически поставить и осуществить решение основной экономической задачи СССР: догнать и перегнать также в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны Европы и Соединенных Штатов Америки, окончательно решить эту задачу в ближайший период времени» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971. Т. 5. С. 340).
ствие на сознание, а значит – и на уровень «социалистической сознательности», к повышению которого партия не уставала призывать17.
Показательные репрессии позволяли объяснять тяготы жизни наличием внутреннего врага. Они же давали возможность сохранять контакт с «отцовской» культурной матрицей: репрессии против представителей советской элиты, находившейся между «отцом народов» и самим народом, этой матрице вполне соответствовали. Говоря иначе, репрессии позволяли консервировать сложившийся режим как воплощенный идеал, отодвигая более высокие идеалы в неопределенное по срокам будущее и лишая их актуального содержания.
После смерти Сталина с той же проблемой столкнется Хрущев. Его обещание построить коммунизм за два десятилетия станет предметом насмешек. Между тем он правильно понял, что отказ от сталинского террора и сопутствовавшего ему конструирования образа врага требует актуализации образа будущего: в противном случае лишалось будущего само советское государство, равно как и его идеология. Сталин мог позволить себе о будущем не думать по той простой причине, что образ врага и перманентные репрессии давали ему возможность воспроизводить настоящее, интерпретируя его как будущее всего человечества. Тем более что после войны советско-социалистический идеал стал реальностью и в других странах.
Сталинский вариант отечественной государственности вызывает, конечно, ассоциации с теми ее формами, которые имели место в России во времена Ивана Грозного и Петра I. Репрессии против большевистской элиты напоминают антибоярский произвол опричнины. Без труда просматривается в деятельности Сталина и преемственность с государственным утилитаризмом Петра, превратившего не только заимствованные им зарубежные научно-технические достижения, но и всю страну и ее население в средство достижения провозглашенных им целей. Коммунистический руководитель имел все основания считать себя последователем того и другого. Но он был из тех учеников, которые, идя по пути учителей, значительно их превосходят.
17 «По диалектике указано, – писал, например, в правительство колхозник Иван Кузьмич Кириченко в 1948-году, – материальная жизнь общества определяет сознание. Какое же будет сознание у людей, когда нет этой материальной жизни для общества? ‹…› Пора уже понять, всем и каждому, что дело так не пойдет, настроение нехорошее у народа – это факт, а не сводки брехунов ‹…› Может быть я не понимаю, может это политика, но кому она нужна эта политика, если она приводит к недоеданию? (Попов В.П. Крестьянство и государство (1945-1953). Париж, 1992.С. 201-203).
Для Ивана Грозного опричный террор был инструментом экономического и политического ослабления боярства и упрочнения единоличной власти, а не постоянным способом воспроизводства государственности: просуществовав несколько лет, опричнина была упразднена. Петр же для устрашения своих явных или потенциальных противников мог устраивать массовые казни восставших стрельцов, казаков и крестьян, лишать людей жизни исключительно по подозрению, не обременяя себя поиском бесспорных доказательств, но массового превентивного террора с использованием заведомо ложных обвинений при нем не наблюдалось.
Сталинский государственный утилитаризм отличался петровского тем, что превратил в средство поддержания политической устойчивости не только жизни людей, но и произвольное лишение их жизни. Это был утилитаризм жертвоприношений на алтарь режима, преподносимых как возмездие его противникам. Он предполагал наличие в стране скрытых врагов, которое, в свою очередь, требовало наглядных подтверждений посредством непрекращавшихся разоблачений. Это был, говоря иначе, утилитаризм, нуждавшийся в имитации внутренних угроз, но – лишь постольку, поскольку сталинский режим был основан на имитации легитимировавших его идеалов.
Петр I в таких имитациях не нуждался. Он открыто заявлял о своих целях и потребных для их осуществления средствах. Цель – строительство конкурентоспособной военной державы, средства – заимствование и освоение европейских знаний и технологий и принудительная милитаризация жизненного уклада населения, т.е. превращение его самого в средство достижения цели. Сталин, обосновывая свои действия, тоже ссылался на отставание от Запада, которое необходимо в кратчайший срок преодолеть. Но сталинское «догнать и перегнать» не было самоцелью, идеалом. Идеалом было утверждение, защита и распространение на другие страны «самого передового общественного строя». Однако прогрессивность последнего предстояло демонстрировать и доказывать, причем не только новаторскими полетами через Северный полюс в Америку и возведением самых больших в мире заводов в фантастически быстрые сроки. И даже не только победой над сильнейшей в мире гитлеровской армией. Демонстрации и доказательства должны были касаться и повседневной жизни людей, и благосостояния и самоощущения. Но это и требовало имитаций. Речь идет не только о сокрытии информации о реальном положении дел и ее искажении, что обеспечивалось благодаря закрытости страны и государственной информационной монополии. Речь идет о том, что имитацией был и сам воплощенный в СССР советско-социалистический идеал, в котором тираническая диктатура представала триумфом «подлинного народовластия», торжеством «социалистической законности» и невиданной до того полнотой гражданских прав.
Этот идеал включал в себя все идеалы, которые когда-либо выдвигались в стране и мире. В нем можно обнаружить и бледные следы общинно-вечевой традиции (колхозные собрания вместе с другими проявлениями советского коллективизма, да и сама власть советов), и всеобщее согласие времен первых Романовых («морально-политическое единство социалистического общества»), и демократизм (всеобщие и равные выборы в советы), и даже либерализм (конституционные гарантии прав и свобод). Но все это были фасад-ные идеалы, за которыми скрывалась монопольная и ничем не ограниченная власть коммунистической партии и ее руководителя. И все они выступали как производные от идеала коммунистического (тоже фасадного), ставшего светским аналогом религиозной веры и имитировавшего движение от настоящего к будущему.
Сталинский утилитаризм – это утилитаризм идеологический. Петр I, используя унаследованную им «природную» самодержавную власть, превратил страну и ее население в средство достижения реформаторских целей. Сталин превратил в средство легитимации своей неограниченной власти, лишенной любых известных источников легитимности, сами цели. Все, что происходило в стране, объявлялось или их конкретным воплощением, или приближением к ним. Неудачи и поражения при этом исключались. Их можно было либо представить как удачи и победы, либо списать на деятельность врагов, которая к природе социалистического строя никакого отношения не имеет18. Сегодня мы бы назвали это
18 Нельзя не согласиться с исследователем, который именно этой двойной имитацией идеалов (принципов) и практики их воплощения объясняет террористический характер сталинской системы, предполагавший постоянное воспроизведение образа врага. «Клевета жизненно важна для системы, которая лжет сама о себе и поэтому должна безжалостно изобличать всех тех, кто не только ее изобличает, но даже обнаруживает частичку лжи, приподнимает краешек занавеса. Системе сущности ее жизненно необходимы подлецы, фашисты, предатели» (Морен Э. Указ. соч. С. 58). Прав, на наш взгляд, автор и в том, что именно эта особенность системы диктовала необходимость сакрализации партии как организации, стоящей «выше принципов и действительности» (Там же. С. 74).
политическими технологиями. В сталинскую эпоху таким языком еще не пользовались.
Но идеологический утилитаризм – это не только освящение возвышенными идеалами любых действий власти. Он, как свидетельствует коммунистический эксперимент в СССР и других странах, предполагает и постоянную корректировку промежуточных идеалов при сохранении в первозданном виде идеала конечного, к реальной жизни отношения не имеющего. Такого рода корректировки тоже начались не при Сталине. Достаточно напомнит о том, как менялась при Ленине крестьянская политика большевиков, причем все эти перемены получали доктринальное обоснование, соизмерялись с целями социалистического строительства. Так было при переходе от союза со всем крестьянством против помещиков к классовой политике комбедов, от комбедов к «союзу с середняком» и продразверстке, и, наконец, от продразверстки к продналогу, т.е. к НЭПу. А после смерти Ленина фактически началась ревизия базовых идеологических принципов марксистского учения: от адаптации исторического закона к реалиям крестьянской России перешли к пересмотру самого закона.
С этим законом были не совместимы ни идея строительства социализма в одной стране, пришедшая на смену идеологии мировой революции, ни, тем более, успешное завершение такого строительства. Не сочеталось с ним и смещение во второй половине 1930-х годов идеологических акцентов от «пролетарского интернационализма» к «советскому патриотизму». Мы говорим не о том, что исторический закон был верен, а Сталин его исказил. Эту иллюзию, воодушевлявшую отечественных «шестидесятников» и всех сторонников «социализма с человеческим лицом» в других странах, еще предстояло изжить. Мы говорим лишь о том, что сталинская система стала реальностью вопреки «единственно верному учению». А так как последнее в подлинном виде в истории не реализовалось, то сталинскую «подделку» можно считать более реалистичной, чем подлинник. По крайней мере для тех стран, где на какое-то время утвердились режимы сталинского типа.
Возвращаясь же к нашей теме, еще раз подчеркнем, что идеологический утилитаризм означал не просто инструментальное использование идеологических оснований режима, но и периодическую конъюнктурную смену самих этих оснований. Рано или поздно столь вольное обращение с историческим законом (точнее – с тем, что таковым считалось), продолжавшееся и после Сталина, не могло не подорвать веру в его научную истинность. Ведь светская вера, как и религиозная, не может выдержать постоянных отступлений от канона. Но при Сталине ее еще удавалось поддерживать.
О социальных и культурных предпосылках, благодаря которым это стало возможным, мы подробно говорили выше. Но была и еще одна причина, которой мы пока почти не касались. Она заслуживает отдельного рассмотрения.
17.3. Сакрализация и милитаризация
Сталинская государственная система прерывала большой демили-таризаторский цикл, начавшийся в послепетровские времена, и реанимировала отечественную милитаристскую традицию19. Но это Новое начало не было простым возвращением к пройденному. Во-первых, речь теперь шла о милитаризации страны не крестьянской, а становившейся городской. Во-вторых, сталинская милитаризация, в отличие от петровской, осуществлялась не во время войны, а в период мира – до германского нападения Советский Союз больших войн не вел, как не вел их и после одержанной победы. Локальные же столкновения и участие «ограниченных контингентов» в различного рода конфликтах (Испания, Корея) мобилизации больших ресурсов не требовали. Тем не менее сталинская милитаризация по своей глубине, всеохватности и комплексности аналогов в отечественной истории не имела.
С одной стороны, в СССР было воспроизведено петровское выстраивание повседневности по армейскому образцу – в том смысле, что частные интересы людей лишались легитимного статуса и всецело поглощались интересом общим, т.е. государственным. Идеологически это закреплялось в формуле «подчинения личных интересов общественным». С другой стороны, в сталинской милитаризации просматриваются и следы той практики, которая сложилась при последних трех Романовых и которая была призвана посредством чрезвычайного законодательства и расширенных полномочий репрессивных структур обеспечивать военно-полицейскую защиту власти от угроз, исходящих от общества.
19 О милитаристской природе сталинской системы см.: Клямкин И. Была ли альтернатива Административной системе? // Политическое образование. 1988. № 10; Он же. Еще раз об истоках сталинизма // Политическое образование. 1989. № 9. Из последних работ на эту тему см.: Гудков Л. Негативная идентичность. М., 2004. С. 552-649; Гольц А. Армия России: 11 потерянных лет. М., 2004.
Но Сталин не просто синтезировал – сознательно или бессознательно – опыт предшественников. Он его существенно преумножил.
В российской истории были прецеденты использования военно-полевых судов и других чрезвычайных мер в мирное время, но не было случаев, чтобы власть в профилактических целях объявляла шпионами и агентами иностранных разведок или их пособниками сотни тысяч людей и уничтожала их без всякого суда или после навязанных признаний в «двурушничестве» на показательных процессах. Не было в истории страны и столь явного уподобления мирной повседневности военной, что нашло свое отражение и в официальном языке. Слово «победа» приобрело в нем универсальное звучание и распространялось на любые успехи и достижения – как реальные, так и имитируемые. Предельно широкое значение было придано и таким словам, как «бой», «битва», «сражение», «штурм», не говоря уже о «борьбе»: они могли относиться и к проведению коллективизации, и к сбору урожая, и к форсированному строительству нового завода, и к развитию «метода социалистического реализма». Но едва ли ни самым универсальным, наряду с «борьбой», стало слово «фронт», который мог быть трудовым, промышленным, сельскохозяйственным, идеологическим, культурным, бытовым – каким угодно. И это была не просто новая лексика. Это была лексика, обслуживавшая новую практику, которая выстраивалась по армейскому образцу.
Авторское право на ее изобретение тоже принадлежит не Сталину. Оно принадлежит Троцкому. Именно он впервые предложил перенести организацию хозяйственной жизни, сложившуюся в годы Гражданской войны и получившую название военного коммунизма, в мирное время. Идея «милитаризации труда», предполагавшая повсеместное установление армейской дисциплины и непосредственное использование воинских частей («трудовых армий») на хозяйственных работах, была выдвинута Троцким на IX съезде партии (1920) и легла в основу его решений. Правда, если рассматривать эту политику в масштабе истории России, то и Троцкий не являлся в данном отношении пионером. После завершения войны со шведами Петр I тоже использовал армию на строительных и других работах. Но в чем большевики действительно были первопроходцами, так это в идеологическом обосновании тотальной милитаризации повседневности и возведении этой милитаризации в главный принцип созидания нового общественного строя.
Победив в Гражданской войне, они сразу же столкнулись с проблемой организации народного хозяйства и обеспечения дисциплины народного труда, причем на таких началах, каких мировая экономика до того не знала. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть работы Ленина 1920 года: ключевые слова в них – «организация» и «дисциплина». Предполагалось, что та и другая должны быть принципиально новыми. Новизна же, в свою очередь, должна была проистекать из того, что рабочие и крестьяне впервые получили возможность работать не на «помещиков и капиталистов», а на себя, т.е. на свое собственное, «рабоче-крестьянское» государство. Однако опыта организации такой работы у большевиков не было, наглядно продемонстрировать ее преимущества они не могли. Точнее, у них был лишь успешный опыт строительства Красной Армии и военной организации в более широком смысле слова: ведь даже коммунистические субботники, в которых Ленин усмотрел проявление «свободной и сознательной дисциплины трудящихся»20, появились в годы Гражданской войны.
Эти практики большевики и пытались перенести в послевоенное время, этим и объясняется, почему столь разные, на первый взгляд, явления, как трудовые армии и субботники, рассматривались ими в одном ряду. Они апеллировали к опыту Гражданской войны, потому что победа в ней казалась им убедительным подтверждением преимуществ новой организации и дисциплины, которые могут быть с не меньшим успехом использованы и в мирной жизни. «Пусть рабочий класс организует производство, как организовал он Красную Армию»21, пусть каждый рабочий проявит себя в созидательной работе «как член Красной армии труда»22 – такова была послевоенная идеология большевиков, предполагавшая превращение всего населения страны в единый армейский организм, подчиняющийся единой воле партии при реализации разработанного ею «единого хозяйственного плана».
Не пройдет, однако, и года, как от этого проекта придется отказаться. Соприкосновения с жизнью он не выдержит, она ответит на него крестьянскими восстаниями, ответом на которые станет переход от военного коммунизма к НЭПу. Милитаристская практика на какое-то время отступит, но обслуживавшая ее милитаристская
20 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 39. С. 14.
21 Там же. Т. 40. С. 322.
22 Там же. С. 323.
лексика сохранится и в годы НЭПа. Сталину, осуществившему второе издание этой практики, уже не нужно будет изобретать для нее идеологический язык. Он сможет воспользоваться тем военно-коммунистическим языком, который и при НЭПе не воспринимался как устаревший и не исчезал ни из официальных документов, ни со страниц газет23. Не исчезнет он полностью и в послесталинский период – просто потому, что это был язык коммунистической системы, обойтись без которого она не могла.
Сталину удалось сделать то, что не получилось у Троцкого и поддерживавшего его Ленина. Тому было несколько причин.
Во-первых, к концу НЭПа Сталин сумел укрепить и полностью подчинить себе партийный аппарат, при поддержке которого он отодвинул от принятия решений политиков «ленинской гвардии» еще до того, как они были физически уничтожены. Механизм внутрипартийной демократии на протяжении 1920-х годов сохранялся, но постепенно становился управляемым и обслуживал только генерального секретаря и любую провозглашенную им «генеральную линию». «Вертикаль власти» партийного аппарата больше соответствовала логике милитаризации, чем осуществлявшееся при Ленине «коллективное руководство».
Во-вторых, Сталин смог устранить главное препятствие, оказавшееся непреодолимым в 1920 году, – сломил сопротивление крестьянства, подчинив его через колхозы государству. Это стало возможным благодаря тому, что за годы НЭПа властям удалось расколоть сельскую общину и подорвать тем самым организационную опору крестьянского сопротивления. Советская колхозная деревня оставалась такой же замкнутой в локальных и изолированных друг от друга мирах, как и досоветская. Но теперь она была лишена самоорганизации, вместе с которой уходил в прошлое и ее общинно-вечевой идеал. При таких обстоятельствах заставить ее жить и трудиться по приказам из центра было намного проще.
В-третьих, в ходе начавшейся форсированной промышленной модернизации, которая осуществлялась одновременно
23 Дмитрий Волкогонов отмечает, что во время проведения коллективизации Сталин в своих публичных выступлениях широко использовал такие слова, как «разведка», «фронт», «наступление», «отступление», «перегруппировка сил», «подтягивание тылов», «подвод резервов», «полная ликвидация врага» и др. (Волкогонов Д. Указ. соч. Кн. 1. Ч. 2. С. 22). Но эта лексика не была ни новой, ни возрожденной старой (военно-коммунистической). Это была лишь обусловленная новой ситуацией предельная концентрация военной терминологии, которая не только в пассивном, но и в активном партийном словаре присутствовала всегда.
с коллективизацией, Сталин значительно расширил социальную базу своей поддержки в городе за счет миллионов сельских мигрантов, ставших новобранцами индустриализации. Далеко не все они готовы были с восторгом принять возрождавшееся военно-коммунистическое жизнеустройство. Но атомизированные мигранты ничего не могли ему противопоставить. В оставленных ими деревнях жизнь была еще более безотрадной. Поэтому с городским ее вариантом бывшие крестьяне примирялись – тем более что жесткая регламентация жизни тяготила их несравнимо меньше, чем потомственных горожан, ибо ценность индивидуальной свободы в сформировавшей их крестьянской культуре не была укоренена. Те же из них, кому удавалось воспользоваться предоставленными широкими возможностями для карьеры, готовы были военно-коммунистическое жизнеустройство боготворить – искренне или следуя предписанному ритуалу.
В-четвертых, у сталинского проекта было то неоспоримое преимущество перед старым проектом Троцкого, что он реализовывался в принципиально иной общественной атмосфере. После победы в Гражданской войне населению непросто было объяснить, почему и зачем нужно воспроизводить военные порядки в мирной жизни. Десять-пятнадцать лет спустя Сталин смог это сделать, актуализировав в массовом сознании опасность идущих извне угроз и навязав советским людям предощущение неизбежной войны. Эта атмосфера и стала решающим фактором, обеспечившим сакрализацию Сталина, благодаря чему, в свою очередь, оказался возможным осуществленный им военно-коммунистический поворот.
Когда существует военная угроза – реальная или имитируемая, но ощущаемая как реальная, когда люди воспринимают страну как «осажденную крепость», а общество атомизировано и лишено самоорганизации, тогда первое лицо легитимируется как военный вождь, способный обеспечить победу, и как спаситель, от которого зависит выживание всех и каждого. Коммунистическое самодержавие, не имея союзников среди других стран, не могло, в отличие от самодержавия монархического, поддерживать свою легитимность победными войнами и до заключения пакта с Гитлером (1939) их не вело, если не считать двух локальных столкновений с Японией24. Сталинский режим утверждал себя как главный оплот
24 Эти столкновения в районе озера Хасан (1938) и у реки Халхин-Гол (1939) закончились для советских войск успешно.
и гарант мира, способный блокировать агрессивные притязания «мирового империализма», обусловленные, согласно советской коммунистической доктрине, его милитаристской природой. Но это и позволяло строить повседневную жизнь, ради сохранения «мира во всем мире», по военному образцу, синтезируя модели патриархальной семьи и крестьянской общины с моделью армейской, в которой размывались границы между работником «хозяйственного фронта» и солдатом, исполняющим спущенные сверху планы-приказы.
Без внедрения в массовое сознание образа «осажденной крепости» трудно было придать сакральный статус не только вождю, но и возглавляемой им партии. Показательно, что в своем уставе она открыто именовала себя не гражданской, а военной структурой. «Партия является единой боевой организацией, связанной сознательной железной пролетарской дисциплиной»25. Такие самохарактеристики и производные от них ритуальные идентификации («солдат партии») появились задолго до утверждения единоличной власти Сталина; сохранились они и после его смерти26. Но сакрализация этого института стала возможной только при сакральном лидере, а сакрализация лидера стала возможной благодаря милитаризации жизненного уклада страны посредством ее превращения в «осажденную крепость». Большевизм, как замечает неоднократно цитировавшийся нами исследователь, «объединяет в одну ‹…› политическую реальность начало воинствующее и начало церковно-религиозное. Тем самым в сферу гражданской политики вторгаются черты, свойственные сферам военной и религиозной ‹…› Партийный аппарат призван вести борьбу классов так, как ведут войну, то есть применяя военную стратегию, в которой полностью приемлемы и насилие, и обман»27. К этому, на наш взгляд, следовало бы лишь добавить, что «церковно-религиозное» начало большевизма могло окончательно утвердиться только как следствие подчинения массового сознания началу военному, точнее - военно-оборонительному, военно-мирному и в этом смысле – не «воинствующему».
25 Формулировка взята из устава 1934 года (см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, М., 1971, Т. 5. С. 160).
26 Например, в уставе 1961 года партия характеризуется как «боевой испытанный авангард советского народа» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1972. Т. 10. С. 433).
27 Морен Э. Указ. соч. С. 42.
Сталинская милитаризация легитимировалась не идеологией экспансии, а идеологией защиты от внешней агрессии. Поэтому она не могла поддерживаться без постоянной материализации угроз в виде разоблаченных «шпионов», «диверсантов» и «агентов империалистических разведок». Поэтому же она не могла не быть сдвоенной, соединявшей милитаризацию в духе Петра I и милитаризацию в духе Александра III. Но Сталин, как уже отмечалось, не просто синтезировал их опыт. Петровская «осажденная крепость», повторим еще раз, возводилась в условиях войны, а сталинская – в мирное время. Военно-полицейское чрезвычайное законодательство Александра III диктовалось реальными угрозами властям, шедшими из общества, между тем как в случае со Сталиным мы имеем нечто иное: с помощью разветвленного и всепроникающего аппарата спецслужб он не столько защищал режим от реальных и потенциальных противников, сколько искусственно, порой даже в плановом порядке, создавал и разоблачал их ради поддержания полуармейской организации жизни в невоюющей стране. Но самым выразительным воплощением этой сдвоенной милитаризации был ГУЛАГ – массовая «трудармия» с постоянно пополнявшимся, благодаря результативной работе репрессивных структур, контингентом.
Уникальная особенность сталинской системы заключалась в том, что в ее основу была положена принципиально новая концепция, а именно – концепция перманентной гражданской войны в условиях гражданского мира28. В таком виде она, конечно, не декларировалась, на «классовом» языке она звучала иначе, но суть проводившейся в ту эпоху политики этой формулировкой, как нам кажется, передается точнее, чем сталинской формулой об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму29. То же самое можно выразить и по-другому: сложившаяся в 1930-е годы государственная система базировалась на перманентном искусственном воспроизведении смуты после того, как она уже была подавлена. Эта система вынуждена была постоянно возвращаться к своим революционным истокам, к уже объявленному преодоленным прошлому – с тем, чтобы преодолевать его снова и снова. Потому что без имитации смуты быстро обессмыслилась бы даже
28 Подробнее см.: Клямкин И. Еще раз об истоках сталинизма.
29 Эта политико-идеологическая формула, чтобы стать «законной» основой репрессивной практики, была переведена и на юридический язык, о чем можно судить по выступлениям генерального прокурора Вышинского в конце 1930-х годов (Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 51-52, 61).
милитаристская лексика, не говоря уже о милитаристской практике, что и произошло в послесталинский период. Соответственно, без такой имитации немыслима была бы и советская индустриальная модернизация с ее «штурмами», «сражениями», «мобилизациям и «героическими победами».
17.4. Милитаризация и модернизация
Сталинская модернизация в данном отношении интересна уже по тому, что до сих пор предпринимаются попытки отделить ее успехи от репрессивной практики сталинского режима. Но отчленять в нем «плюсы» от «минусов» вряд ли продуктивно. Потому что и то, что зачисляется в «плюсы», и то, что принято считать «минусами»,- лишь разные проявления его природы. Друг без друга они не существуют, как не существуют друг без друга цели и средства, о чем свидетельствует и сама сталинская модернизация.
Эта модернизация осуществлялась в военно-приказном порядке. Военно-приказной порядок – один из возможных способов функционирования планово-директивной хозяйственной системы. Но, каким бы этот способ ни был, такая система обрекает власть на принятие хромающих решений30, при которых выполнимость поставленных задач не просчитывается, как не просчитываются и побочные последствия полного или частичного их выполнения. В планово-директивной экономике других решений быть не может, потому что даже самые гениальные плановики не в состоянии учесть реальные возможности миллионов людей и коллективов и все многообразие связей между ними. Перевод же такой системы в военно-приказной режим работы означает не просто ужесточение контроля над выполнением поставленных задач, но и их максимизацию ради создания атмосферы предельного мобилизационного напряжения. Сталин это понимал и потому плановые задания почти всегда сознательно завышал, руководствуясь, очевидно, нехитрым принципом: пределы возможностей лучше всего выявляются при исполнении невозможного.
Ход первой пятилетки, спланированной именно таким способом, показал, что «погружение страны в состояние всеобщей, как на войне, мобилизации и напряжения»31 вполне достижимо. Однако
30 Подробнее см.: Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта: В 2 т. Новосибирск, 1997.
Т. 1. С. 497-499.
31 Верт Н. Указ. соч. С. 223.
он же обнаружил, что хозяйственные сражения при этом могут и не выигрываться, а потери – в виде травм, гибели людей, поломок оборудования, аварий и общей дезорганизации – оказаться непомерно большими. Поскольку же претензия партии и ее вождя на сакральный статус исключала не только их ответственность за поражения, но и открытую коррекцию целей, тут-то власть и стала «обнаруживать» в утвердившемся вроде бы гражданском мире очагами гражданской смуты («классовой борьбы») в виде конкретных «вредителей» и «саботажников». Таков механизм функционирования планово-директивной экономической системы в том случае, когда она, как было в ходе сталинской модернизации, переводится в военно-мобилизационный режим работы и когда высшая политическая власть претендует на сакральность. Так действует в этой системе принцип обратной связи: на несостоятельность хромающих решений и их негативные последствия она реагирует назначением виновных из среды исполнителей.
Однако сам факт их «обнаружения» и наказания (достаточно вспомнить сфабрикованное «шахтинское дело», процесс над никогда не существовавшей «промпартией» и др.) не означал признания поражения – даже частичного. «Террор обладал способностью обращать ошибки руководства в чужие преступления»32. Он напоминал о трудностях неизбежной победы и наличии враждебного сопротивления.
Сталина часто критикуют и за нереалистичность произвольно взвинченных им планов первой пятилетки, и за ее провал по большинству показателей, и за то, что он фальсифицировал ее результаты, представив ее не только как выполненную, но и как перевыполненную, причем досрочно. Но такая критика выводит Сталина за пределы созданной им системы. Милитаристская государственность с сакральным вождем во главе предполагает именно такое или примерно такое поведение, какое демонстрировал Сталин. Сокрытие информации и дезинформация – столь же неотъемлемые ее свойства, как создание образа «осажденной крепости», военно-приказная экономика, имитация гражданской смуты и милитаристский идеологический язык.
Сталинский культ секретности, который в значительной степени сохранили и послесталинские руководители, стал со временем притчей во языцех. «Механизм сталинской власти в 30-е гг. -
32 Гудков Л. Указ. соч. С. 614.
способ принятия решений и передачи их из центра на места представлял собой настолько законспирированную систему, что она не оставляла практически никаких следов»33. И объяснение этому явлению следует искать не только в особой бдительности руководства в отношении военных секретов и желании противостоять «русскому разгильдяйству», но и в присущем советскому строю системном качестве. Оно, повторим, заключалось в том, что официальный фасад этого строя и реальная повседневная жизнь, протекавшая з фасадом, разительно друг от друга отличались.
Такого рода несоответствия официальной версии жизни и ее самой и требовали сокрытия. В сталинской системе «механизм тайны был не менее основополагающим, чем механизм страха»34. Дезинформация о ходе модернизации – всего лишь частное проявление этого фундаментального свойства. Тотальная дезинформация – единственно возможный способ консолидации атомизированного общества, удерживаемого в состоянии дезорганизации и лишенного права на самоорганизацию. Но этот способ мог быть использован лишь потому, что власть сумела создать в стране ту политическую и психологическую атмосферу, о которой говорилось выше.
Тем не менее дезинформация и все прочие видимые и невидимые атрибуты сложившегося при Сталине государства не имели бы никакого смысла, если бы оно не справлялось с задачами, которые ставило перед собой и перед страной. Можно имитировать враждебное сопротивление их решению, устраивая открытые и закрытые судебные процессы над «вредителями», можно объявлять поражения победами, но все это не может быть самоцелью. Сокрытые поражения и вымышленные победы не имеют никакого политического значения, если отсутствуют победы реальные. Без них «съезды победителей» невозможны. Победителем же Сталин мог стать лишь благодаря индустриальной модернизации. Только она обеспечивала военно-технологическую конкурентоспособность СССР на международной арене, демонстрировала стране и миру «преимущества социализма» и упрочивала режим личной власти генерального секретаря.
То, что модернизация была осуществлена, – такой же исторический факт, как и окончательно установившаяся благодаря ей сталинская диктатура. Когда Сталин после завершения той же
33 Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 2001.
С. 20.
34 Гефтер М. Судьба Хрущева // Хрущев Н.С. Время, люди, власть: Воспоминания. М., 1999.
С. 656.
первой пятилетки объявил ее досрочно перевыполненной, – это была дезинформация. Но когда он перечислил свыше полудесятка заново созданных отраслей промышленности35, – это была информация, достоверность которой историками не оспаривается. Не ставится под сомнение и то, что в целом по промышленности и в отдельных отраслях наблюдался заметный экономический рост, хотя и существенно меньший, чем запланированный36. А значит, в определенных пределах хромающие решения, посредством которых осуществлялась модернизация, были эффективными.
Дело в том, что такие решения, будучи изначально невыполнимыми и не страхуя от незапланированных негативных последствий, в сталинской военно-приказной системе могли подвергаться коррекциям по ходу реализации, при этом не объявляясь ошибочными. Потому что в распоряжении верховной власти была не только возможность имитировать гражданскую войну с теми, кого она назначала на роль сознательных противников своей хозяйственной политики. В ее распоряжении была и возможность обвинить исполнителей решений, не зачисляя их в разряд врагов, в непонимании того, что им предписано исполнять. Так, вскоре после упоминавшихся судебных процессов над «буржуазными специалистами», осужденными за «вредительство», и форсированной замены старых кадров выдвиженцами из рабочих, которая сопровождалась дезорганизацией производства, последовал окрик Сталина в адрес партийных и советских руководителей, обвиненных в недооценке роли старых «спецов» и «спецеедстве». Правильность своего решения верховная власть тем самым не опровергала. Неправильным объявлялось его толкование.
Аналогичных примеров можно привести множество, причем из самых разных областей тогдашней жизни – в том числе и из тех, которые непосредственного отношения к индустриальной модернизации не имели. Самый известный среди подобных фактов – сталинская статья «Головокружение от успехов» (1930), обвинявшая
35 Сталин И. В. Сочинения: В 13т. М., 1955. Т. 13. С. 178.
36 За годы первой пятилетки объем промышленного производства СССР вырос примерно вдвое, объем производства тяжелой промышленности – почти вдвое. Однако, запланированные по отдельным отраслям показатели достигнуты не были. Так, вместо намечавшихся 170 млн. тонн чугуна было выплавлено 6,2 млн., вместо 170 тыс. тракторов произведено 50 тыс., вместо 100 тыс. автомобилей – 24 тыс. и т.д. В легкой же промышленности намечавшихся на первую пятилетку показателей удалось достигнуть только в послесталинский период (см.: Россия: Энциклопедический справочник. М., 1998. С. 176-177; Верт Н. Указ. соч. С. 223).
местное начальство в «перегибах» при проведении коллективизации, хотя оно лишь исполняло спущенные сверху директивы. Таков был технологический механизм коррекции хромающих решений, позволявший вуалировать их несостоятельность и поддерживать коллективную сакральность партии и индивидуальную сакральность ее вождя. Однако без признанной партией монополии вождя не только на формирование, но и на интерпретацию ее «генеральной линии» не мог бы возникнуть и сам этот феномен светской сакральности.
Кроме того, в распоряжении Сталина был и такой способ коррекции решений, как их толкование задним числом. Скажем после того, как массовые репрессии середины 1930-х годов обернулись дезорганизацией управления, было объявлено о том, что свою роль в очищении партии они уже сыграли и в политическую повестку дня встает вопрос об укреплении «социалистической законности». Не отменяло прежние решения, а как бы надстраивалось над ними и снижение плановых заданий на вторую пятилетку по сравнению с первой – ведь та уже была объявлена успешной, а потому правильность «генеральной линии» и способность власти вести страну «от победы к победе» не должны были вызывать сомнений.
Рассматривая сталинскую технологию власти, мы стараемся избегать моральных оценок. И потому, что они уже давно выставлены, и потому, что технология эта находится за пределами морали, – ни в чем другом выпадение советской системы из мирового исторического времени не проявилось с такой отчетливостью, как в этом. Но Сталин, подобно другим большевистским лидерам, и не претендовал на моральность в общепринятом ее понимании, рассматривая ее как один из «пережитков прошлого». Его цели лежали совсем в другой плоскости, и вопрос в том, насколько удалось ему их реализовать.
Таких целей было две: воплощение советско-социалистического общественного идеала, т.е. создание полностью поглощающего общество государства и послушной вождю элиты, и все та же индустриальная модернизация, выступавшая одновременно и как средство достижения первой цели, и как самостоятельная историческая задача. О том, как воплощался идеал и каковы были исторические результаты этого воплощения, мы подробно говорили в предыдущих разделах. Что касается индустриальной модернизации, то к ее результатам можно отнести создание советской тяжелой промышленности и советского военно-промышленного комплекса, доказавшего свою жизнеспособность во время Отечественной воины, а также превращение СССР в ядерную сверхдержаву. Однако в стратегическом плане эта модернизация оказалась столь же тупиковой, как и воплощенный общественный идеал.
Долгосрочные последствия хромающих решений, продуктом которых она была, в отличие от краткосрочных, корректировке не поддавались. Между тем в конце сталинского правления такого рода последствия стали проявляться в том, что хромота передавалась огосударствленному обществу и лишала его способности к движению. Или, говоря иначе, проявлялась в системном кризисе, выбраться из которого при сохранении военно-приказных порядков было невозможно. Индустриализация, оплаченная за счет деревни, обернулась в конце концов разорением и деградацией последней. Перевод сельского хозяйства с сохи на трактор сам по себе в данном отношении ничего не решал. Технологическое обновление, сопровождавшееся не развитием, а упадком, – таков был уникальный итог форсированной сталинской модернизации. И не только в сельском хозяйстве.
В первые же годы после смерти Сталина его преемники вынуждены были это открыто признать. Одним из ключевых слов в их публичных речах стало «отставание», относившееся и к советской науке и промышленности37. Между тем сталинская промышленная модернизация начиналась с проектирования и строительства – с помощью приглашенных иностранных специалистов – современных для той эпохи предприятий и оснащения многих из них новейшим импортным оборудованием. Ввозилось оно в страну и в первые послевоенные годы. В значительных объемах западная техника поступала в СССР в виде трофеев или в порядке репараций из Германии и других воевавших на ее стороне государств38, а также, в соответствии с союзническими договорами, из США. И тем не менее к концу сталинского периода прогрессировавшее технологическое отставание стало фактом.
Третья отечественная индустриальная модернизация, осуществленная в 30-е годы XX века, разумеется, отличалась от двух предыдущих, проводившихся при Петре I и последних Романовых. Она
37 См.: Булганин Н.А. О задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прог-
рессу и улучшению организации производства. Доклад на пленуме ЦК КПСС 4 июля 1955 г. М., 1955. С. 11; Хрущев Н.С. Отчетный доклад Центрально комитета Коммунистической партии Советского Союза XX съезду партии. М., 1956- С. 55,99.
38 По подсчетам некоторых экономистов, репарационные поставки из Германии полностью пок-
рыли потребности советской промышленности в оборудовании в четвертой пятилетке и частично использовались в пятой (Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. С. 265).
отличалась уже тем, что сопровождалась не консервированием, как раньше, а беспрецедентной насильственной ломкой традиционного сельского уклада, затронувшего подавляющее большинство населения страны. Но одновременно она воспроизводила в предельно утрированном виде их главный дефект: перенесение заимствованных зарубежных технологий в социально-экономическую среду, в которой отсутствовали или были крайне неразвиты субъекты инноваций Заимствования означали интенсификацию, но лишь временную и ситуативную, не имевшую продолжения и не стимулировавшую появление внутренних источников для него. В данном отношении все три российские модернизации можно считать экстенсивными – ведь и проявлялись они в основном в строительстве новых предприятий, а не в технической реконструкции старых. Но даже в этом ряду экстенсивность последней не имеет аналогов.
Петр I, сделав поначалу ставку на создание государственных предприятий, довольно быстро осознал их неэффективность и передал частным лицам. Последние же Романовы осуществляли модернизацию в условиях гарантированных прав собственности, чего при Петре не было, и за счет широкого привлечения частного иностранного капитала. Да, субъекты инноваций при этом не появлялись, источники интенсивного развития не возникали, потому что государство удерживало бизнес под бюрократической опекой и опасалось развития его субъектности. Но такого, как при Сталине, огосударствления хозяйственной жизни, доведенного до полного вытеснения рыночных экономических отношений политическими и административными, в России до того не было. Поэтому сталинская модернизация и оказалась не только незавершенной39, но и тупиковой, ибо, в отличие от двух предыдущих (особенно от второй), препятствия для ее завершения содержались и в ней самой, а не только в архаичном аграрном секторе. Поэтому и хромающие решения, неизбежные при любых модернизациях, инициированных и проводимых «свер-
39 На незавершенный характер советской модернизации указывает А. Вишневский. «Создать более
или менее совершенный материально-технический аппарат современной индустриальной экономики, – пишет он, – это полдела. Вторая же половина – вдохнуть в него жизнь, „встроить" механизмы саморазвития. На Западе такие механизмы складывались постепенно, вместе с самой промышленностью, тогда как в СССР индустриализация была „искусственной", основанной на заимствовании готовых технологий и некоторых организационных форм. Мобилизационная модель ранней советской экономики сделала возможным такое заимствование в очень короткие сроки, но она же привела к подавлению рыночных механизмов, порождающих стимулы к развитию» (Вишневский А. Указ, соч. С. 57).
ху», обернулись в данном случае последствиями, груз которых страна ощущает на себе до сих пор и перспективы освобождения от которого все еще не просматриваются. И главное из этих последствий заключается в том, что к иным решениям, кроме хромающих, т.е. лишенных стратегического измерения, у российской элиты не выработалось ни способностей, ни привычки.
Тупиковость сталинской модернизации наиболее наглядно обнаружила себя в гражданских отраслях промышленности и сельском хозяйстве. Что касается военно-технологической конкурентоспособности, то милитаристская система хозяйствования ее обеспечивала. При концентрации всех ресурсов в руках государства и приоритетном финансировании оборонного сектора за счет других отраслей это было возможно. Но отсутствие в стране самостоятельных субъектов инноваций и благоприятной среды для их формирования сказывалось и здесь. Поэтому военно-технологические новшества приходилось, как правило, заимствовать. Поэтому особую роль в развитии советской оборонной индустрии играла промышленная разведка40, что проявилось и в процессе работы над атомным оружием и средствами его доставки к цели. Но поэтому же даже тогда, когда в советской науке и технике намечались новаторские сдвиги, они могли быть заблокированы, как произошло в 1930-е годы с радиолокацией – в результате приостановки разработок в данной области радарные установки впоследствии пришлось закупать за границей41. И происходило это не только по идеологическим соображениям.
40 См.: Чертопруд С. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева. М., 2002.
41 О положении дел в советской науке и технике и вторичности последней по отношению к западным образцам, а также о причинах этой вторичности Сталину счел нужным написать в 1952 году академик Петр Капица. «Если взять последние два десятилетия, – говорилось в письме, – то оказывается, что принципиально новые направления в мировой технике, которые основывались на новых открытиях в физике, все развивались за рубежом, и мы их перенимали уже после того, как они получили неоспоримое признание. Перечислю главные из них: коротковолновая техника (включая радар), телевидение, все виды реактивных двигателей в авиации, газовая турбина, атомная энергия, разделение изотопов, ускорители ‹…› За рассматриваемые два десятилетия все наши основные силы были направлены на то, чтобы осуществить ряд удачных усовершенствований, улучшающих уже известные процессы ‹…› Обиднее всего то, что основные идеи этих принципиально новых направлений в развитии техники часто зарождались у нас раньше, но успешно не развивались, так как не находили себе признания и благоприятных условий. Яркий пример этого радарная техника. Она на возникла у нас задолго до запада» (П.Л. Капица – И.В. Сталину, 30 июля 1952 года // Известия ЦК КПСС. 1991. №2. С. 106-107)
В ситуации, при которой принятие всех государственных решений определяется интеллектом и волей одного человека, подобные сбои были неизбежны. Ставка на научно-технологические инновации – это всегда риск. Причем риск второго осевого времени, в котором, в отличие от рисков политической борьбы, «единственно верное учение» не могло служить ни опорой, ни ориентиром. Такого риска Сталин сознательно или интуитивно старался избегать, предпочитая иметь дело с готовым и апробированным. Поэтому, как мы уже упоминали, после получения чертежей атомной бомбы и сведений об устройстве американского тяжелого бомбардировщика Б-26, он категорически отказался от предложений по усовершенствованию уже устаревавших образцов, потребовав их буквального воспроизведения42. И дело здесь не только в личности Сталина, в присущей ему, по свидетельствам современников, обостренной подозрительности, но и в особенностях созданной им военно-приказной системы с сакральным вождем во главе, самим своим статусом «обреченным» на всеведение и безошибочность решений.
Выбор нового направления, да еще в такой ключевой для системы области, как военно-технологическая, был связан с риском растраты ресурсов и потери времени в гонке вооружений. А значит, и с риском утраты военно-технологической конкурентоспособности, что поставило бы под вопрос и судьбу социалистического проекта, и, соответственно, сакральный статус советского лидера. Поэтому и в данной области сталинский СССР первопроходцем, как правило, не выступал.
Это не помешало, однако, превращению послевоенного Советского Союза в ядерную сверхдержаву. В результате не успевшая пустить глубоких корней советско-социалистическая идентичность, которая призвана была заменить прежнюю религиозно-православную, дополнилась идентичностью державной, воспроизведенной в СССР после победы в войне и образования подконтрольного «социалистического лагеря». Она и станет тем главным легитимирующим ресурсом, который унаследуют от Сталина его преемники. Но они быстро осознают и его недостаточность в тех обстоятельствах и при том грузе проблем, которые им
42 См. об этом: Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1989. С. 212.; Быстрова И.В., Рябов Г.Е. Военно- промышленный комплекс СССР // Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 170.
тоже достанутся в наследство. Сохранение советской системы в ее милитаристско-репрессивном варианте станет для них и невозможным, и нежелательным. Подобно тому, как в демилитаризаторский цикл вступила в свое время послепетровская Россия, в него вступал теперь послесталинский Советский Союз.
Глава 18 Идеалы социалистической реформации
В истории, как мы могли неоднократно убедиться, не бывает перемен, не подготовленных в той или иной степени самой историей. Не были исключением и изменения, осуществленные в СССР в послесталинский период. Они стали реакцией на тупиковость той политики, которая проводилась Сталиным в послевоенные годы. Это были попытки использовать военно-приказную систему для решения задач, при ее сохранении не решавшихся в принципе. Поэтому прежде чем рассматривать послесталинские реформаторские новации, есть смысл вкратце остановиться на том, что им предшествовало.
18.1. Военно-приказная система после военной победы
Победу в войне и смерть Сталина отделяли без малого восемь лет. Эти годы показали, что созданная им система способна расширяться в пространстве (создание «социалистического лагеря»), но по-прежнему не может развиваться во времени. Воплощенный советско-социалистический идеал оставался идеалом победы над капиталистическим прошлым, необратимость которой теперь подтверждалась и разгромом гитлеровской Германии. Но, как и до войны, он отгораживал страну от будущего. Военно-приказная организация жизни, как и армия, никаких социальных идеалов не предполагает в принципе; она предполагает лишь самовоспроизводство. Однако в послевоенном СССР воспроизводить такую организацию было намного сложнее, чем в довоенном. Потому что советский флаг над поверженным немецким рейхстагом стал для советских людей и символом надежд на перемены в их повседневном существовании. Чтобы вернуть их в «осажденную крепость» после того, как осада была снята самим фактом военной победы, требовались новые методы и дополнительные идеологические обоснования.
Прежде всего предстояло ослабить память о войне как народном подвиге. Удивительный и вместе с тем показательный факт: два руководителя страны, при которых были одержаны победы в двух отечественных войнах, вслух о них предпочитали не вспоминать.
В глазах Александра I 1812 год ассоциировался с зависимостью царя от народа. Наверное, аналогичные ассоциации возникали и в сознании коммунистического вождя: ежегодные торжества по поводу одержанной победы могли казаться ему ведущими к росту народного самосознания и народных ожиданий, и без того для системы непомерных. И таких торжеств при Сталине не было.
Кроме того, забвению должно было подлежать все увиденное советскими людьми в Европе. Поэтому многие бывшие военнопленные оказались в СССР за колючей проволокой. Поэтому в деревнях развешивались плакаты, призывавшие не верить рассказам о загранице и напоминавшие о том, что советский образ жизни несоизмеримо лучше, чем любой другой. Поэтому же были инициированы многочисленные идеологические кампании, направленные в основном против интеллигенции: разоблачения «безродного космополитизма», «низкопоклонства перед заграницей» и отступлений от «метода социалистического реализма» призваны были остановить ее движение в мировое историческое время и вернуть в альтернативное ему время советское. Представителям интеллигенции предстояло забыть не только о том, что они могли наблюдать в Европе, но и о союзе с западными демократиями в борьбе против Гитлера, а также о тех идеологических послаблениях, которые были получены в годы войны и следы которых обнаруживаются, например, во фронтовой лирике советских поэтов.
Однако изоляция от западного мира, доведенная до запретов на браки с иностранцами и постановки в театрах пьес заграничных авторов, сама по себе не могла удовлетворить ожидания улучшений, вызванные военной победой. Между тем удовлетворить их при сохранении сталинской системы было невозможно. Но если социальный идеал не сулит людям в обозримом будущем реальных перемен к лучшему, то его несамодостаточность должна быть чем-то компенсирована. Поэтому в конечном счете Сталин обратился к своему прежнему методу, суть которого, как мы уже отмечали, заключалась в имитации гражданской войны в условиях гражданского мира. От выборочного и дозированного уничтожения внутренних «врагов», которое не прекращалось и в послевоенные годы (достаточно вспомнить о «ленинградском деле», сопровождавшемся физической ликвидацией всего руководства Северной столицы) он вновь вернулся к довоенному опыту замены всей правящей элиты. И Дело тут опять-таки не только в личной подозрительности вождя, но и в том, что такие замены как раз и являются основным способом воспроизводства военно-приказной системы в условиях мира. Только они в состоянии вместе с предощущением внешних угроз создавать видимость общественной динамики и удовлетворять карьерные амбиции наиболее активных социальных слоев.
Смерть помешала Сталину реализовать этот план. Но его послевоенная внутренняя политика показательна не только возвращением к довоенной мобилизационно-репрессивной практике. Она показательна и тем, что иллюстрирует определенную закономерность: социальный идеал, отгораживающий настоящее от будущего, смещается в поисках дополнительных легитимационных ресурсов либо в прошлое (в нашем случае досоветское), либо за пределы социальной реальности в природу, либо в обоих направлениях сразу.
Победа в войне открыла возможность дополнения советско-социалистической идентичности, уязвимой уже в силу ее привязки к постоянно отодвигавшемуся будущему, возрожденной идентичностью державной. Последняя же, в свою очередь, позволяла восстановить разорванную большевиками преемственную связь с отечественной государственной традицией и противопоставить ускоренно консолидировавшемуся Западу державу-победительницу, укорененную в более долгом, чем советский период, собственном историческом времени. Результатом же стал наметившийся еще в предвоенный период идеологический поворот в интерпретации досоветского прошлого: под перьями сталинских историков добольшевистская Россия из отсталой превратилась в передовую, из заимствовавшей западные достижения – в первопроходческую. Так на помощь несамодостаточному советско-социалистическому идеалу пришла идеализированная, а в ряде случаев и попросту фальсифицированная отечественная история, начиная с Киевской Руси.
Разумеется, полностью реабилитировать поверженную большевиками государственность и ее самодержавных персонификаторов Сталин не мог. Исключения были сделаны только для Ивана Грозного и Петра I. Однако и сам факт такого рода исключений, и восстановление воинских званий и знаков отличия царской армии, и обратное переименование народных комиссаров в министров, и появление в новом гимне слов «великая Русь» свидетельствовали о целенаправленных попытках синтезировать советскую государственность с досоветской. Начавшись во время войны, а в некоторых своих проявлениях и до нее, они наиболее явно проявились именно в послевоенный период, когда была восстановлена и актуализирована в народном сознании старая державная идентичность.
Тем не менее неорганичность этого синтеза была слишком очевидной, чтобы ее не замечать. Поэтому, возможно, державная идентичность и была дополнена этнической составляющей. В данном отношении Сталин пошел даже дальше последних Романовых. Те тоже проводили насильственную русификаторскую политику, но не прибегали ни к столь масштабным переселениям «ненадежных» народов, ни к объявлению имама Шамиля «английским шпионом», и к идеологической символизации верховенства русских над другими этносами империи. Они могли не выдвигать этническую идентичность во главу угла, поскольку опирались на идентичность православную. Атеистическая коммунистическая власть такой возможности была лишена. Уступки Сталина церкви в последние годы его жизни симптоматичны, но вернуть ей ее былую идеологическую роль не дано было даже ему. Подчеркивание особой роли русского народа – сначала в победе над Германией, а потом и во всей отечественной истории – тоже, конечно, было идеологической ревизией большевистского «интернационализма» и официальной советской идентичности. Но на это Сталин пошел. Советское государство он укреплял как русскую империю.
На первый взгляд, такое смещение идеологических акцентов выглядит немотивированным. Ведь оно произошло после одержанной победы, одинаково важной для всех народов Советского Союза и потому способной упрочить их консолидацию. Но если учесть вызванные победой ожидания перемен, на которые военно-приказная система ответить было нечем, то сталинский поворот не покажется иррациональным и необъяснимым. В границах данной системы он был логичен. Тем более что СССР втягивался в новую войну – на этот раз холодную. И не с отдельными европейскими странами, а с Западом в целом, который впервые консолидировался, причем не только в политическом, но и в военно-организационном отношении, создав блок НАТО.
Ответом на это могла быть или линия на разрядку международной напряженности, с чего начнет свое правление Хрущев, или курс на конфронтацию с Западом. Сталин предпочел конфронтацию. Последняя же предполагала вытравливание порожденных победой ожиданий и восстановление мобилизационной модели 1930-х годов с ее ориентацией на наращивание военно-промышленного потенциала, приоритетное развитие тяжелой индустрии, выкачивание ресурсов из деревни и минимизацию потребления. Но это означало, что воплощенный советско-социалистический идеал требовал от
людей очередных жертв, не суля никаких улучшений. Поэтом нуждался в искусственной идеологической и политической подпитке, каковой и призваны были стать все те меры – апробированные раньше и новые, – о которых говорилось выше.
Но социальный идеал не может все же легитимировать только разоблачениями врагов, преемственной связью с государственной традицией и патриотической гордостью этнической большинства деяниями предков. Он должен быть открыт будущему. Идеал же, социальные изменения исключавший, мог обрести точки опоры лишь там, где изменения признавались возможными. Возможными же (и даже неминуемыми) они признавались во всем что касалось природы. Только при такой ориентации – не важно, осознанной или нет – могли получить официальную поддержку идеи академика Лысенко, обещавшего изобилие сельскохозяйственных продуктов благодаря использованию его новейших «открытий» в биологии. И только при такой ориентации мог быть утвержден грандиозный «сталинский план преобразования природы», предусматривавший, помимо прочего, создание искусственного моря в Западной Сибири и сооружение плотины через Тихий океан, отводящей от сибирских берегов холодные течения. Все это не только не требовало трансформации военно-приказной системы, но именно на ее мобилизационный потенциал и было рассчитано. А чтобы увеличить его еще больше, велись специальные изыскания, призванные открыть способы преобразования не только природы человеком, но и природы самого человека. С тем, чтобы окончательно освободить его от «пережитков прошлого» и сделать действительно «новым», т.е. принимающим сталинскую систему как полностью соответствующую всем его желаниям и изменениям не подлежащую.
Послесталинские руководители не могли продолжать движение в намеченных Сталиным направлениях – как потому, что быстро осознали их тупиковость, так и потому, что без Сталина созданная им система была невоспроизводима. Победа в войне настолько упрочила его сакральный статус, что он больше не нуждался в легитимационном ресурсе партии. Поэтому в тексте нового советского гимна, утвержденного в конце войны, когда ее исход уже не вызывал сомнений, о партии даже не упоминалось. Поэтому Сталин мог позволить себе не проводить партийные съезды, пленумы и даже общие заседания Политбюро, ограничиваясь встречами с отдельными его членами. Партия и ее аппарат стали рассматриваться им исключительно как инструмент реализации его воли. Он был самодержцем, но не по наследственному праву, а как персонифицированный символ Победы. Это и давало ему возможность восстанавливать разорванную преемственную связь с досоветской государственностью и осуществлять частичную ревизию базовых принципов коммунистической политики. Но у его преемников такой возможности не было.
Символическим капиталом, необходимым для наследовали его персональной сакральности, ни один из них не обладал. Точнее, претендовать на такое наследование в СССР мог лишь один человек – маршал Жуков, воспринимавшийся вторым после Сталина персонификатором Победы. Поэтому ему суждено было сыграть решающую роль в борьбе за власть после смерти «вождя народов» и в утверждении Хрущева. Но по той же причине он не имел никаких шансов на политический успех, даже если бы к нему стремился. Ни одна из противоборствовавших группировок воспроизводить единоличное правление больше не хотела. Более того, в обновленной политической системе человеку с таким, как у Жукова, символическим капиталом вообще не было места, как не было его и в сталинской системе. Маршал был обречен на маргинализацию, которая и последовала почти сразу после того, как Хрущев с его помощью одолел политических противников.
Принцип «коллективного руководства», взятый на вооружение партийно-государственной элитой, стал принципом ее консолидации и самосохранения как монопольно властвующего слоя, гарантированного от повторения сталинского произвола. В этом отношении послесталинская коммунистическая элита шла по пути послепетровского дворянства – разумеется, с поправками на время и с учетом специфических особенностей коммунистического типа властвования. Но «коллективное руководство» означало и признание того, что индивидуальная легитимация лидеров после Сталина невозможна, что сам источник такой легитимации может быть только коллективным – возврат к ленинской модели партийного «князебоярства» был обусловлен и этим. Но он не мог быть полным. И не только потому, что ленинская модель была невоспроизводима без Ленина, который лично привел созданную им партию к власти.
Источником легитимности послесталинских руководителей могла быть только эта партия. В их распоряжении оставалась возрожденная державная идентичность, но у них, в отличие от Сталина, не было возможности дополнять ее этнической составляющей
и апелляциями к державности докоммунистической: ведь она лежала за пределами истории КПСС, а русский национализм был несочетаем с ее интернационалистской партийной идеологией следовательно, иного выхода, кроме ставки на советско-социалистическую идентичность, у них не было, чем объясняются и их апелляции к «революционным, боевым и трудовым традициям советского народа», и провозглашение этого народа «новой исторической общностью», и попытки обосновать преемственность своей политики с точкой революционного разрыва отечественной истории («революция продолжается»). Но долгосрочная легитимность коммунистической власти всем этим не обеспечивалась.
Такая легитимность могла основываться только на возрожденной сакральности партии. Однако сакральный статус партия обрела не при Ленине, а в довоенном сталинском СССР, причем лишь благодаря тому, что таким статусом наделялся и ее вождь. С принципом «коллективного руководства» это было несовместимо. Поэтому демонтаж сталинской военно-приказной системы, ее демилитаризация не могли не сопровождаться кризисом коммунистического типа легитимности как такового.
18.2. Кризис и распад коммунистической легитимности
При всех разногласиях, обнаружившихся после смерти Сталина в его окружении, десталинизация коммунистической системы была неизбежной. Речь могла идти и шла лишь о том, в какой мере и какими способами ее осуществлять. И дело не только в естественном желании партийно-государственной элиты освободиться от страха, тотального контроля со стороны репрессивных органов и гарантировать себя от нового произвола, что выразилось в согласии, достигнутом в высшем руководстве, о необходимости устранения Берии. Дело в тех старых и новых проблемах, которые обнаружили себя еще при жизни Сталина и со всей остротой встали перед новыми руководителями страны.
Обстановка в стране и мире, сложившаяся к концу сталинского правления, исключала продолжение прежней политики. Советская деревня деградировала и не могла обеспечивать продовольствием продолжавшее увеличиваться население городов. В тяжелом положении находились и городские жители: при Сталине уровень их благосостояния так и не достиг показателей 1928 года43, большинство
43 См.: Верт Н. Указ. соч. С. 336.
горожан жило в коммунальных квартирах, бараках, общежитиях, подвальных и полуподвальных помещениях. Дополнительные проблемы создавало и расширение за счет Восточной Европы контролировавшегося Советским Союзом пространства. Уже в 1953 году, чти сразу после смерти Сталина, волнения в Восточной Германии актуализировали вопрос о том, как расширившееся пространство хранить, удержать в политическом подчинении. Становилось ясно, что одной только силы для этого недостаточно, что она должна быть соединена с привлекательностью образа жизни, а не только с абстрактными «преимуществами социализма», в повседневной жизни никак не ощущавшимися.
Кроме того, создание ядерного оружия ставило под сомнение и прежние представления о роли самой силы. С одной стороны, Советский Союз значительно отставал от США в ядерном вооружении, что требовало мобилизации ресурсов для достижения паритета. С другой стороны, все более сомнительной начинала выглядеть доктринальная установка на конечную победу «нового общественного строя» в результате неизбежного военного столкновения с «мировым империализмом». В свою очередь, политическая и военная консолидация Запада заставляла сомневаться в правомерности и другого доктринального тезиса, а именно – о неизбежности войн между самими капиталистическими государствами как предпосылках для социалистических революций. Это привело к коррекции идеологической доктрины и признанию Хрущевым на XX съезде КПСС (1956) принципиальной возможности предотвращения войн и, соответственно, не ситуативного, а долговременного «мирного сосуществования» с капитализмом44. Но тем самым вопрос о противостоянии двух социально-политических систем и их будущем переносился в экономическую плоскость, т.е. опять-таки в плоскость повседневной жизни, ее уровня и качества.
Однако такое расширение поля соперничества с Западом, легальное согласие на никогда не свойственную России конкуренцию с ним не только в военно-технологической, но и в потребительской области, причем на уровне не стратегических деклараций, а конкретных обещаний на ближайшую перспективу, было равносильно началу конца не только советской системы, но и многовековой парадигмы развития страны. Нельзя сказать, что власть не
44 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 2 т. М.,
1956. Т. 1. С. 34-37.
выполняла свои обещания вообще. Росла зарплата45, миллионы людей переезжали из коммуналок и бараков в отдельные квартиры46, колхозники получили право на пенсии, не говоря уже о паспортах, строились новые больницы, школы, университеты, детские учреждения, дома отдыха и санатории. Но продекларированная готовность конкурировать с Западом на потребительском поле одновременно сопровождалась и постоянными перебоями в снабжении населения товарами первой необходимости, дефицитом и очередями. Планово-директивная система, отказавшись от военно-приказного режима функционирования, пыталась повернуться лицом к человеку и его потребностям. Но удовлетворить их, оставаясь планово-директивной, она была не в состоянии.
Поэтому именно десталинизация и сопутствовавший ей поворот государства к человеку обернулись перманентной делегитимацией коммунистической власти и ее персонификаторов, а потом и государственности в целом. Но это был не просто кризис определенного исторического типа легитимности. Это было одновременно и свидетельством исчерпанности всех прежних отечественных способов легитимации властных институтов, основанной на сакрализации последних.
У советских руководителей, строго говоря, оставался только один выход – отказаться от самой идеи соперничества с Западом в области массового потребления, что и советовали им идеологи возродившегося в 1960-1970-е годы русского почвенничества. Но и он был сугубо теоретическим, поскольку культурная почва традиционалистских идеалов и ценностей, противопоставлявшихся западному «потребительству» и «вещизму», была уже перепахана самой коммунистической системой в ходе форсированной сталинской
45 В 1966-1970 годах заработки в промышленности выросли в среднем на 29%, в следующем пятилетии – на 23%, в 1976-1980 годах – на 16%, в первой половине 1980-х – на 14% (Труд в СССР. М., 1988. С. 189). Однако падение темпов роста доходов, фиксируемое этими цифрами, свидетельствовало о кризисных тенденциях в советской экономике и ее стратегической неконкурентоспособности.
46 Только во времена Хрущева (с 1955 по 1964 год) городской жилищный фонд СССР увеличился на 80% (Верт Н. Указ. соч. С. 405). Однако дефицит жилья в городах, образовавшийся в результате форсированной урбанизации, был настолько острым, что не мог быть ликвидирован ни хрущевскими «пятиэтажками», ни жилищным строительством в послехрущевский период. Тем не менее к концу1980-х годов более четырех пятых городских семей занимали отдельные квартиры или жили в собственных домах (Гордон Л А., Клопов Э.В. Возрождение рабочего движения в России: Вторая половина 80-х – начало 90-х годов // Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал. Т. 2. С. 451).
индустриализации и урбанизации. Эти идеалы и ценности могли воспроизводиться лишь до тех пор, пока сохранялся – если не в реальности, то хотя бы в памяти, – питавший их жизненный уклад досоветской российской деревни и два его базовых института – патриархальная многодетная семья и передельная община. Именно на таком культурном основании Сталин выстроил коммунистическое государство, возглавлявшееся «отцом народов». Но он, опираясь на этот фундамент, одновременно и разрушал его.
Преемникам Сталина досталось только созданное им государство. Архаичная культура, на основе которой оно было возведено, в значительной степени уже трансформировалась, а порождавший ее жизненный уклад становился достоянием истории. Старые общинные порядки и идеалы постепенно забывались, а патриархальный тип семьи постепенно уходил в прошлое по мере размывания ее функции как основной хозяйственной ячейки не только в городе, но и в деревне. Происходило это в первую очередь из-за широкого вовлечения в несемейные виды деятельности женщин и в результате все большего сокращения численности сельского населения47. Поэтому и вопрос о легитимации своей власти послесталинским лидерам приходилось решать во многом заново и по-новому – ту службу, которую веками служила российской верховной власти «отцовская» культурная матрица, последняя уже служить не могла. И другого способа, кроме веских фактических доказательств доктринального тезиса о «преимуществах социализма» не только в военных столкновениях, но и в мирной повседневности, т.е. в росте народного благосостояния, у лидеров СССР не было. В противном случае под угрозой могла оказаться не только их власть, но и вся система созданных в предшествующий период государственных институтов, авторитет которой и без того был поколеблен вынужденными разоблачениями «культа личности».
При этом единственным институциональным источником легитимации власти послесталинских руководителей могла быть, повторим, только коммунистическая партия. Соответственно, они должны были возрождать ее «первичный» сакральный статус, перено-
47 Доля городского населения, увеличившаяся в период между 1917 и 1959 годами с 18 до 48%, продолжала возрастать и в дальнейшем: в 1970 году она составляла 56%, в 1979-м – 62, в 1990-м – 66%. При этом в Российской Федерации рост был более быстрым, чем в среднем по СССР: в 1990 году горожане составляли здесь 74% от общей численности населения. См.: Итоги Всесоюзной переписи населения СССР 1959 г. М., 1962. С. 13; Население СССР. М. 1983. С. 19; Демографический ежегодник СССР. М., 1990. С. 7.
ся на нее все достижения советского периода, в том числе и победный исход войны, которые раньше приписывались одному Сталину. Однако здесь их и подстерегала уже упоминавшаяся трудность: сакрализация партии была мыслима только при наличии сакрального руководителя. Но именно такого руководителя советская элита и не хотела. Кроме того, при такой взаимодополнительной легитимации любая посмертная или прижизненная десакрализация вождей как отступников от воли партии-тотема неизбежно десакрализирует и саму партию. Этот процесс и составлял одну из характерных особенностей политической эволюции послесталинского СССР: начавшись на XX съезде КПСС, он растянулся на три с лишним десятилетия и формально завершился в 1990 году отменой шестой статьи советской Конституции, закреплявшей партийную монополию на власть
Таким образом, после разоблачения «культа личности» все коммунистические лидеры попадали в своего рода легитимационную ловушку. Они выступали от имени партии как сакрального института («вдохновителя и организатора всех наших побед»), но он мог восприниматься таковым только при персональной сакрализации самих лидеров. Однако непреодолимыми барьерами на этом пути оказывались как интересы самосохранения советской элиты, так и хрущевские разоблачения, бывшие, в свою очередь, не до конца осознанным следствием той трансформации массовых идеалов и ценностей, которая произошла в ходе предшествовавшей радикальной ломки культурной архаики.
Вот почему послесталинским лидерам ничего не оставалось, как двигаться по дороге, уже проложенной Сталиным, и ставить себя в прямую преемственную связь с партийным родоначальником, мертвое тело которого, выставленное на всеобщее обозрение, призвано было символизировать продолжение его жизни во времени и в вечности. Подобно Сталину же, они вынуждены были и расчищать историческое пространство (оно же время) между собой и Лениным, освобождать его от промежуточных фигур. Именно поэтому, а не только в силу политической конъюнктуры, Хрущев завершил разоблачение Сталина выносом его тела из мавзолея, а Брежнев удержался от официальной реабилитации «вождя народов» и вычеркнул из истории Хрущева.
Но вычеркивание одних «верных ленинцев», оказавшихся на поверку самозванцами, и замена их другими не могли не девальвировать и сам этот способ легитимации. В результате же каждому очередному правителю удавалось избегать легитимационной ловушки лишь на первых порах его правления, когда он открыто или намеками отмежевывался от предшественника, и пока люди связывали с ним определенные ожидания. А потом она всегда захлопывалась: почти все послесталинские руководители уходили с политической сцены, увешанные не только орденами, но и гирляндами сложенных про них анекдотов.
В основе этого процесса, повторим, лежало изменение культурного генотипа, на котором базировалось государство. Возврат т сталинского самодержавия к ленинской модели коммунистического «князебоярства» (т.е. «коллективного руководства») приращением легитимационного ресурса власти не сопровождался и сопровождаться не мог. Размывание самодержавно-патерналистской, «отцовской» культурной матрицы не означало, что она вытесняется матрицей «братской семьи». Это был новый идеал коммунистической элиты, не желавшей воспроизведения неограниченной бесконтрольной власти – подобно тому, как русское боярство послемонгольской эпохи не желало утверждения неограниченной власти московских князей на манер татарской. Бояре тогда проиграли, потому что их неукорененному в культуре политическому идеалу противостоял идеал укорененный. На исходе коммунистической эпохи модель «братской семьи» была столь же беспочвенной, как и во времена московских Рюриковичей. Нои корни альтернативной ей «отцовской» модели к тому времени были уже подрублены.
Поэтому коммунистическому боярству, в отличие от его далеких предшественников, свой замысел удалось осуществить: претензии Хрущева единолично править, не считаясь с элитой, были пресечены его принудительным смещением. Но при этом главный вопрос о том, как поддерживать сакральный статус партии при десакрализации ее лидера, оставался открытым. И элите ничего другого не оставалось, как искать опору в уходившей в прошлое «отцовской» матрице. Или, говоря точнее, искать сочетание идеала «братской семьи» («коллективного руководства») с идеалом авторитарным. Можно сказать, что коммунистическая элита хотела иметь зависимого от нее единоличного правителя. Но при такой модели неизбежно воспроизводилось и стремление лидеров к максимальной независимости от элиты.
Послесталинские руководители, ставившие себя в прямую преемственную связь с Лениным, апеллировали к принципу «коллективного руководства», якобы завещанному родоначальником партии и исключавшим какие-либо притязания на «культ личности».
Но удерживаться от таких притязаний ни у кого из них не получилось. Поэтому почти после каждой смены власти в Кремле объявлялся очередной переход к «коллективному руководству», что проявлялось в своеобразном разделении властей – должности руководителя партии, правительства и Верховного Совета закреплялись за разными лицами. И всегда это заканчивалось тем, что лидер партии получал второй пост: Хрущев, подобно Сталину, стад одновременно главой правительства, Брежнев – председателем президиума Верховного Совета, Горбачев – председателем Верховного Совета, а потом президентом СССР.
При партийной монополии на власть и отсутствии у партии других источников легитимности, кроме нее самой, такого рода колебания между идеалом «братской семьи» и идеалом авторитарным были неизбежны, как неизбежно было и подчинение первого второму, воспроизводившееся из раза в раз. «Разделение властей», не закрепленное юридически, приводило к борьбе за концентрацию власти в одних руках, а после того, как борьба завершалась чьей-то победой, начиналось славословие в адрес победителя, которое становилось единственным способом сохранения статуса и карьерного роста. Но этот постоянно воспроизводившийся «культ личности» после единожды уже состоявшегося его официального осуждения не только не увеличивал легитимационные ресурсы партии, но лишь давал поводы для новых анекдотов. По инерции система функционировала в логике сакрализации власти первого лица (его критика исключалась, а восхваления являлись политической нормой) в условиях, когда культурная почва для сакрализации была уже размыта и создан прецедент посмертной десакрализации.
Эта имитация сакральности и стала внутриэлитным компромиссом между авторитарным идеалом и принципом «коллективного руководства», исключавшим очередное возвращение власти-тотема. В логике такого компромисса титул «отца народов» был уже немыслим. И потому, что разрушал внутриэлитный консенсус, и потому, что культурная традиция, питавшая авторитарный идеал «царя-батюшки», уже себя исчерпала48. Но это значит, что легитимация лидеров
48 Была, правда, попытка приблизить к такому статусу Брежнева (со стороны члена Политбюро ЦК КПСС А. П. Кириленко). В 1976 году на одном из торжественных заседаний по случаю вручения правительственных наград Кириленко назвал Брежнева «великим человеком нашего времени, вождем нашей партии и всех народов». Но и «вождь всех народов» в то время, очевидно, уже резал слух: последователей в высшем руководстве у Кириленко не нашлось (см.: Авторханов А. Сила и бессилие Брежнева: Политические этюды. Франкфурт-на-Майне, 1979. С. 172).
осуществлялась в культурном вакууме, не находя почвы в массовом сознании и искусственно поддерживаясь лишь усилиями правящего слоя и подконтрольными ему СМИ. Словесные паллиативы, призванные снять или хотя бы смягчить нараставшее отчуждение между властью и населением, эмоционально сблизить их («наш Никита Сергеевич», «дорогой Леонид Ильич») ничем уже помочь не могли.
Десакрализация власти первого лица, а вместе с ним и коммунистической партии, была, однако, предопределена не только происшедшими в стране социальными и культурными сдвигами. Она стала и следствием начавшейся демилитаризации жизненного уклада, отказом от образа «осажденной крепости». Преемники Сталина вынуждены были осуществлять адаптацию коммунистической системы к условиям мира и легитимировать себя тем, что способны этот мир обеспечить, одолев «мировой империализм» не силой, а экономическими успехами. Но перевод противостояния «мы – они» в плоскость мирной конкуренции исключал сакрализацию вождей и возглавлявшейся ими партии даже в том случае, если бы обещанные успехи достигались. А они между тем становились со временем все более призрачными.
Послесталинские лидеры не могли не понимать, сколь велика была роль военной составляющей в сакрализации Сталина и его власти. Но использовать его опыт у них не было возможности. Восстановление державной идентичности при смещении идеологических акцентов с констатации неизбежности войн к признанию их предотвратимости помочь им в данном отношении мало чем могло. Демонстрация растущей военно-технической мощи на парадах призвана была вызывать не ощущение угроз, а уверенность в гарантированной защищенности от них. Это вполне соответствовало настроению населения, которое выразилось в известном присловье тех лет: «Лишь бы не было войны». Власти отдавали себе отчет в том, что после победы, добытой столь дорогой ценой, реставрировать атмосферу «осажденной крепости» без сталинской военно-приказной системы и имитации образа внутреннего врага было невозможно. Но в том, что эта система вела страну в тупик, они могли убедиться в течение первого послевоенного восьмилетия. Поэтому воспроизводить ее никому из них в голову не приходило. В результате же мир и отсутствие военной угрозы постепенно стали восприниматься как обеспеченные, а это, в свою очередь, размывало легитимирующий потенциал архетипа «мы – они».
Война уходила в историческую память, к которой только и оставалось апеллировать. И к ней апеллировали: с 1965 года начал торжественно отмечаться День Победы, который со временем стал по своей идеологической нагруженности конкурировать с днем 7 Ноября и даже оттеснять его на второй план49. Консолидирующий и легитимирующий ресурс Победы теперь уже воспринимался, причем не без оснований, как более значительный, чем ресурс Октябрьской революции. Но это, повторим, были все же апелляции к исторической памяти, которые сами по себе не позволяли преодолеть растущий дефицит легитимности у действующих руководителей. Отсюда – поиск ими символических контактов с народной памятью посредством публичной демонстрации своей личной причастности к самому героическому периоду советской истории.
Так возник феномен созданных задним числом воинских биографий, что наиболее выразительно проявилось в период правления Брежнева. Воспевание его роли во время войны в сочетании с присвоением маршальского звания, награждением в мирное время тремя звездами Героя Советского Союза и даже полководческим орденом Победы в пародийной форме демонстрировали вырождение милитаристской легитимации власти, равно как и отсутствие альтернативы ей.
Таким образом, к моменту начала горбачевской перестройки (1985) советская система подошла с весьма неоднозначными итогами. В сталинскую эпоху в стране были насильственно ликвидированы догосударственные общности и структуры, но вместе с ними – и все неподконтрольные государству структуры вообще, вплоть до обществ краеведов. Интеграция населения в государство осуществлялось посредством подчинения последнему всех сфер жизни, в том числе и экономики. Но именно после того, как процесс завершился, и система продемонстрировала свою жизнеспособность победой в войне, встал вопрос о том, что она может дать человеку. Точнее, может ли дать ему то, что изначально обещала. При этом в условиях тотального огосударствления все ожидания людей связывались исключительно с государством, чему способствовали, помимо прочего, и его собственные патерналистские притязания: оставив в прошлом образ «отца народов», оно
49 См.: Зудин А.Ю. «Культура имеет значение»: К предыстории российского транзита // Мир России.
2002. № 3. С. 151-152.
продолжало легитимировать себя отеческой заботой о человеке, желанием и способностью «накормить, одеть и обуть народ», как выражался Хрущев.
Однако к 80-м годам XX века такого рода надежды в значительной степени были изжиты. СССР не перегнал Америку по «производству мяса и молока на душу населения», как обещал тот же Хрущев. Более того, именно тогда, когда, согласно принятой при нем программе КПСС, должен был наступить коммунизм, советские люди оказались вынужденными выстраиваться в очередь уже не только за импортным ширпотребом, но и за продуктами – без надежды, что достанется всем. Между тем планово-директивная советская экономика ко времени перестройки обгоняла американскую по производству железной руды, чугуна, стали, тракторов, цемента и ряду других видов промышленной продукции, не говоря уже о нефти и газе50. Но запросы массового городского потребителя, ставшего за годы советской власти доминирующим социальным персонажем страны, она удовлетворить не могла.
Причины этого давно и обстоятельно исследованы, и мы их еще коснемся. Здесь же нам важно подчеркнуть: неспособность коммунистической системы удовлетворить запросы городского потребителя и явились главным эмпирическим доказательством нереализуемости послесталинских идеалов социалистической реформации, ориентированных на рост народного благосостояния. Социалистическое государство не очень щедро оплачивало труд людей. Но даже те деньги, которыми они располагали, им не на что было тратить. Таков был конечный исход попыток соединить советско-социалистический идеал с потребительским, т.е. создать социалистический аналог западного общества массового потребления.
При таком положении вещей кризис коммунистической легитимности был неотвратим. Внутриэлитный консенсус брежневской геронтократии лишь оттенял распад консенсуса национального и межнационального, обеспеченного в сталинскую эпоху Доминированием «отцовской» культурной матрицы, первичным эффектом урбанизации и тотальной милитаризацией, а также не иссякшими еще ожиданиями «светлого будущего», которые поддерживались коммунистической верой одних и репрессивным устрашением других. Система держалась, в основном, на исторической инерции, затруднявшей проникновение в элитное и массовое
50 Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986. С. 594-596.
сознание мысли о том, что «возврат к капитализму» есть движение назад, а вперед, и что «буржуазное» государство больше соответствует вызревшему идеалу индивидуального благосостояния, чем социалистическое.
Горбачевская перестройка, ставшая реакцией на системный кризис, резко ускорила движение умов в этом направлении. Идеал благосостояния сомкнулся в них с идеалом индивидуальной свободы, включавшим и свободу экономическую, т.е. признание прав частной собственности. Но в совокупности эти два идеала выводили страну далеко за пределы того, что первоначально виделось инициатору преобразований. Ведь они были уже не идеалами перестройки коммунистической системы, а идеалами трансформации последней. И остановить нарастание таких умонастроений Горбачев не мог, поскольку ему нечего было им противопоставить.
Новаторство Горбачева-реформатора заключалось в том, что он выдвинул задачу изменения самого типа государства и его взаимоотношений с обществом. Но идеал, которым он руководствовался, оставался идеалом социалистической реформации. Каково же могло быть социально-политическое содержание такого идеала?
Критика Горбачевым «административно-командной системы» не только в ее сталинском милитаристском воплощении, но и в ее послесталинских демилитаризированных вариантах реально означала отказ от авторитарной модели правления. Что же можно было противопоставить ей, оставаясь в исторических границах социализма? В политической программе инициатора перестройки были, безусловно, либеральная и демократическая компоненты.Но универсальные идеи законности и права, свойственные второму осевому времени, накладывались в этой программе на старые вечевые, т.е. доосевые идеалы, архаичность которых камуфлировалась социалистической фразеологией – разумеется, не осознанно, а в силу полученного политического воспитания.
Не покушаясь на основы экономической системы, Горбачев попытался активизировать ее выборностью хозяйственных руководителей51. Не покушаясь на основы политической системы, т.е. на партийную монополию на власть, он попытался реанимировать советы как органы реального народовластия, допустив выборы на альтернативной основе и инициировав создание новой властной
51 XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 3т. М.,
1986. Т. 1.С.82.
структуры – съезда народных депутатов СССР. В обоих случаях речь шла о неосознанном возвращении к вечевой традиции, ибо в том и другом решение вопросов, требующих профессиональной подготовки, отдавалось на откуп вечевой стихии.
Несколькими десятилетиями ранее противопоставить фиктивному народовластию реальное пытался и Хрущев. Но он или переносил реализацию своих идей в будущее, пусть и приближенное настоящему во времени (коммунистическое общественное самоуправление),или ставил создаваемые институты низовой активности под партийную и государственную опеку, что их развитию, разумеется, не способствовало. Горбачев же предоставил вечевым институтам право принятия решений. Это и стало одной из причин распада государства: высвободившиеся из-под партийной опеки советы благодаря относительно свободным выборам стали легитимными органами власти и окончательно делегитимировали партию, а вместе с ней и ее лидера, не обладая при этом собственным государствообразующим ресурсом. Вече, возрожденное князем, смело со сцены его самого и весь его идеологический род, чтобы, в свою очередь, вскоре уступить место другим политическим институтам, лучше приспособленным к управлению большим обществом.
Мы не говорим о том, была ли альтернатива такому ходу событий. Мы лишь констатируем, что под флагом развития «социалистической демократии» и «социалистического самоуправления народа»52 был реанимирован старый вечевой идеал, который поначалу нашел отклик в элитном и массовом сознании, но очень быстро свой легитимирующий потенциал исчерпал. Ни отказ от идеи выборности хозяйственных руководителей, ни роспуск союзного и российского съездов народных депутатов, а потом и советов вообще, широкого недовольства не вызвали. Потому что жизненные корни вечевого идеала были не только подрублены, но и выкорчеваны в сталинскую эпоху. В этом отношении Горбачеву суждено было подвести черту под всей предыдущей историей России. В годы перестройки страна дважды вернулась к своим истокам: отпраздновала тысячелетие принятия христианства и возродила древний вечевой идеал – с тем, чтобы окончательно с ним расстаться.
Если же оставаться в границах советской эпохи, то горбачевская перестройка завершала почти сорокалетний период демилиаризации сталинской военно-приказной системы. Эта система,
52 Там же. С. 77.
ликвидировав догосударственные локальные миры, сумела внедрить в сознание населения созданные ею политико-идеологические абстракции, призванные интегрировать его в государственно организованную целостность. Но то были абстракции, в которых государство выступало самоцелью – подобно тому, как выступает оно самоцелью во время войн, угрожающих его суверенитету. То были абстракции общего интереса, в которых интересы частные и групповые профанировались до такой степени, до какой раньше они профанировались даже в России.
Послесталинский период отмечен попытками легитимации этих интересов и коррекции в соответствии с ними базовых коммунистических абстракций. В данном отношении Горбачев лишь продолжал то, что было начато его предшественниками. Именно они в значительной степени демонтировав военно-приказную систему подготовили перестройку. Но они подготовили ее не столько своими успехами и достижениями, сколько неудачами в решении задач, которые перед собой и страной ставили.
Эти неудачи заслуживают, на наш взгляд, отдельного рассмотрения. Потому что речь идет о попытках вернуть страну в мировое историческое время, из которого она выпала при Сталине, оставаясь в границах своего собственного «социалистического» времени. Или, говоря иначе, о попытках соединить неправовую коммунистическую государственность с универсальными принципами второго осевого времени – законностью и правом. А это ставит данный тип государственности, при всем его своеобразии, в общий исторический ряд с другими отечественными политическими формами – как досоветскими, так и постсоветскими. Во все времена она пыталась и пытается до сих пор стать государственностью правовой, но ни одна из попыток успехом не увенчалась. И пока это так, история всех подобных попыток будет сохранять актуальность.
18.3. Несостоявшаяся четвертая модернизация
Послесталинское руководство СССР, осуществлявшее демилитаризацию военно-приказной системы, находилось в несравнимо более сложном положении, чем демилитаризаторы послепетровской эпохи. Исторические вызовы, с которыми столкнулись советские лидеры, аналогов в отечественном прошлом не имели, а ответить на эти вызовы коммунистическая система была не в состоянии. Но то, что очевидно задним числом, не обязательно поднимается большинством современников. Течение человеческой истории таково, что в ней тупиковый путь должен быть пройден если не до конца, то до той точки, в которой его тупиковость может быть осознана. Осознана же она может быть лишь тогда, когда начинает проявляться в повседневном опыте миллионов людей. И, соответственно, в политическом опыте руководителей.
Беспрецедентность задач, стоявших перед послесталинским СССР заключалась в том, что страна, только что осуществившая радикальную промышленную модернизацию, почти сразу же оказалась перед необходимостью новой модернизации: послевоенный мир вступал в эпоху научно-технической революции. Если на технологическом фундаменте, заложенном при Петре I, Россия могла развиваться целое столетие, то технологическая база сталинской индустриализации стала устаревать уже через два десятилетия. Концентрация в руках государства всех ресурсов позволила создать ядерное оружие (водородная бомба была испытана в СССР даже раньше, чем в США) и ракеты для его доставки. Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли и первым начал осуществлять пилотируемые полеты в космос. Но эти достижения в отдельных областях покупались ценой возраставшего отставания во всех остальных, что рано или поздно не могло не сказаться и на военно-технологической конкурентоспособности страны: гонка вооружений, которой отмечен весь послевоенный период, при общей низкой эффективности советской экономики становилась для СССР все более непосильной.
Новизна ситуации определялась, однако, не только этим. Она определялась и тем, что четвертую в истории страны модернизацию нельзя было провести по образцу первой (петровской) и третьей (сталинской),т.е. посредством принудительного выкачивания ресурсов из закрепощенной деревни. Крестьянская Россия уходила в прошлое, взять у деревни было уже нечего; чтобы она могла прокормить многократно увеличившееся городское население, ей самой теперь приходилось выделять дополнительные средства. Кроме того, модернизация по петровско-сталинским милитаристским сценариям была несовместима с самой логикой демилитаризации, явившейся естественной реакцией на настроения и ожидания советской элиты и населения.
Однако послесталинские руководители не могли опереться и на опыт второй отечественной модернизации, имевшей место при последних Романовых. И не только потому, что те тоже использовали ресурсы деревни. Последние Романовы осуществляли преобразования при наличии в стране частной собственности и рынка, что позволяло, помимо прочего, в значительных объемах привлекать в Россию частный иностранный капитал. В глазах же коммунистических лидеров все это выглядело исторически преодоленным прошлым, возвращение в которое могло рассматриваться только как контрреволюционное отступление от исторического закона перехода от капитализма к социализму и коммунизму.
В результате же они оказывались в положении, в каком не оказывался ни один из досоветских российских правителей. Советскому Союзу предстояло доказать стране и миру, что именно он является первопроходцем на пути человечества в будущее. Это была не старая претензия на особость и избранность, как в пору господства над умами и чувствами идеи богоизбранного «Третьего Рима». Это была претензия на земной, посюсторонний универсализм, на альтернативную глобальную модель общественного развития.
Обоснованность такого рода притязаний могла быть подтверждена только успешной технологической модернизацией. Советское руководство отдавало себе в этом отчет: достаточно вспомнить призыв Брежнева к «соединению достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства»53. Вопрос заключался лишь в том, являлись ли декларировавшиеся преимущества действительными. Спустя некоторое время история даст на этот вопрос однозначно отрицательный ответ.
Четвертая технологическая модернизация в России не состоялась, потому что не могла состояться без модернизации общественных отношений, причем более глубокой, чем когда-либо происходившие в отечественной истории. Она требовала возвращения на тот путь, по которому страна начала двигаться, но не сумела далеко и необратимо продвинуться после отмены крепостничества в XIX столетии. Она требовала, говоря иначе, «контрреволюционного» признания преимуществ рыночно-капиталистической экономики по сравнению с планово-социалистической и универсализации принципа законности, превращения его из средства защиты государства от граждан в инструмент защиты универсальных прав
53 XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 2т. М.,
1971. Т. 1.С.82.
и свобод самих граждан, включая «буржуазное» право частной собственности. Без этого освоение «достижений научно-технической революции», не говоря уже об их приумножении, обречено было оставаться лишь благим пожеланием.
Взаимосвязь двух модернизаций – технологической и социально-политической – была осознана советским руководством лишь во времена Горбачева. До тех пор в СССР не происходило ни первой, ни второй, но с тех пор началась вторая, социально-политическая, которая все еще не завершилась, а потому буксует и первая, технологическая. Что касается доперестроечного периода, то тогда коммунистические лидеры пытались двигаться по дороге, проложенной сталинской «индустриализацией без рынка»54. Последняя же, повторим, осуществлялась не в логике преемственности с досоветским прошлым, а в логике революционного разрыва с начавшейся в добольшевистской России социально-политической модернизацией второго осевого времени, ориентированной на универсальные принципы законности и права, и замену их универсализмом идеологическим. Импульс промышленного развития, заданный стране в 1930-е годы, позволял продолжать «индустриализацию без рынка», распространяя ее вширь, чем и воспользовались послесталинские руководители. Однако источники и стимулы технологического обновления в ней заложены не были – в этом отношении коммунистическая хозяйственная система не только не преодолевала отечественную традицию экстенсивности, но явилась ее (традиции) предельным воплощением. Поэтому естественные границы, в которые рано или поздно упирается любая экстенсивная модель, в данном случае означали окончательное исчерпание ресурсов самой традиции. Не осознав это, трудно понять историческую новизну проблем, с которыми столкнулся позднесоветский СССР и которые унаследовала от него постсоветская Россия.
О том, как послесталинская «индустриализация без рынка» уводила страну в сторону от технологической модернизации и как она исчерпывала возможности экстенсивного развития на своей собственной основе, много и обстоятельно написано, и у нас нет необходимости подробно на этом останавливаться. Напомним лишь, что развитие осуществлялось посредством строительства
54 Лапкин В., Пантин В. Что остановилось в эпоху застоя? // Погружение в трясину: Анатомия застоя. М., 1991.С. 158.
новых промышленных предприятий-гигантов при сохранении заложенных в сталинский период приоритетов военно-промышленного комплекса и тяжелой промышленности, в значительной степени тоже ориентированной на нужды ВПК55. Это обеспечивало относительно высокие темпы экономического роста, что выражалось в уже упоминавшемся опережении США по производству некоторых видов промышленной продукции (чугуна, стали и др.). Индустриальная экспансия вширь, прежде всего в восточные районы страны, требовала, однако, новых трудовых ресурсов, которые, как и прежде, черпались, в основном, из деревни и которые, в силу естественных причин, не могли быть неисчерпаемыми. К 1970-м годам этот источник почти полностью иссяк, и к многочисленным советским дефицитам добавился дефицит рабочей силы. В результате показатели темпов экономического роста начали катастрофически падать56: стратегическая хромота решений, продвигавших «индустриализацию без рынка» на всех ее этапах, на сей раз обнаружила себя в демографических ограничителях и в логике экстенсивного развития коррекции не поддавалась.
Нельзя сказать, что преимущества интенсивного типа хозяйствования перед экстенсивным и необходимость осваивать «достижения научно-технической революции» декларировались только на словах. Но в нерыночной планово-директивной системе, которая и воспринималась как главное преимущество социализма, субъектом инноваций могло быть лишь государство. Оно же могло их только заимствовать, т.е. в готовом виде закупать за рубежом. И по мере нарастания кризисных тенденций оно прибегало к этому старому средству все охотнее (в 1970-е годы импорт западного оборудования возрос в четыре раза), благо беспрецедентно высокие мировые цены на нефть обеспечивали беспрецедентно высокую валютную платежеспособность советской казны. Но серьезными модернизационными сдвигами такого рода точечные технологические инъекции не
55 Эта особенность советской экономики проявлялась по нарастающей на всем протяжении перманентной «индустриализации без рынка»: если в 1928 году доля производства средств производства составляла 39,5%, то в 1986-м – 75,3%.Доля же производства предметов потребления в течение этого периода уменьшилась с 60,5 до 24,7% (Селюнин В. Реванш бюрократии // Иного не дано. М., 1988. С. 195).
56 В период правления Брежнева (1964-1982) ежегодный прирост национального дохода СССР снизился с 9 до 2,6%, а промышленного производства – с 7,3 до2,8% (Некрич А.М. Золотой век номенклатуры // Советское общество: Возникновение, развитие и исторический финал. С. 432).
сопровождались57. В нерыночной хозяйственной среде и при слабой экономической мотивации производителей их суммарный эффект был столь же незначительным, как и эффект огромных денежных вливаний в советское сельское хозяйство в брежневскую эпоху58: компенсировать быстрое убывание деревенского населения интенсификацией колхозно-совхозного производства и обеспечить продовольствием возросшее население городов даже обильные инвестиции оказались не в состоянии. Сталинская «индустриализация без рынка», ставшая возможной благодаря вывозу за рубеж изымавшегося у крестьян зерна, одним из своих незапланированных следствий имела начавшийся уже в середине 1960-х годов вынужденный зерновой импорт.
Эта индустриализация, позволившая превратить СССР в военную сверхдержаву, логикой своей собственной эволюции подводила страну к системному кризису и очередному обвалу государственности – на сей раз без войн и военных поражений. Какое-то время кризис мог вуалироваться благодаря притоку в страну нефтедолларов, но ни остановить, ни даже приостановить его нарастание не могли и они. Аналогично тому, как к середине XIX века исчерпала себя созданная Петром I и обновленная Екатериной II система самодержавно-дворянская, к концу века XX исчерпала себя созданная Сталиным и обновленная его преемниками система самодержавно-коммунистическая. Однако если у первой еще оставались ресурсы самореформирования, позволившие ей продержаться более половины столетия, то вторая таких ресурсов была лишена.
Горбачев, придя в 1985 году к власти с установкой на перемены, довольно быстро понял, что технологическая модернизация и переход к интенсивной модели хозяйствования невозможны без модернизации социально-политической. В течение своего относительно недолгого, составившего менее семи лет правления он
56 Это не значит, что в интересующий нас период не происходило технологического обновления на индустриальной основе. Об этом свидетельствует, в частности, уменьшение численности рабочих, занятых ручным, немеханизированным трудом: с 1948 по 1987 год их доля сократилась с 63 до 32% (Труд в СССР. С. 250). Но отсюда следует, что даже индустриальная модернизация в Советском Союзе не была завершена (почти треть рабочих оставалась занятой неквалифицированным ручным трудом). И отсюда не следует, что технологическое развитие на индустриальной, основе создавало предпосылки для трансформации индустриальной экономики в постиндустриальную.
58 К середине 1970-х годов объем инвестиций в сельское хозяйство достиг 27% всех капиталовложений (Некрич А.М. Указ. соч. С. 432).
прошел путь от концепции «ускорения» с ее акцентом на новые широкомасштабные закупки импортного оборудования ради обновления отечественного машиностроения до идей гласности, демократизации и демонтажа однополюсной партийной системы властвования. Фактически он возрождал идеалы «социализма с человеческим лицом», вдохновлявшие чехословацких реформаторов 1968 года, т.е. идеалы соединения социализма с универсальными принципами законности и гражданских прав и свобод. Предшественники Горбачева, ответившие на чехословацкую попытку введением в Прагу советских танков, исходили из того, что такое соединение ведет социализм к краху. По сути, они были правы – подобно тому, как правы оказались Александр II и Александр III, предупреждавшие о том, что сочетание самодержавия с конституцией и парламентаризмом обернется крахом российской государственности. Но ее обвал после исторически назревшего сочленения самодержавного принципа с конституционным – вовсе не аргумент в пользу того, что самодержавие можно было сохранить. Аналогичным образом обвал коммунистической государственности после осуществленного Горбачевым скрещивания советского социализма с ценностями второго осевого времени, которые он именовал «общечеловеческими», – не аргумент в пользу жизнеспособности социализма, такого рода ценности отторгавшего.
Косвенно об этом свидетельствует уже то, что все послесталинские руководители, отвергая их, вынуждены были, в отличие от Сталина, с ними считаться. Но не потому, что осознавали их связь с технологической модернизацией – такой связи они как раз не замечали и о ней не задумывались. Считаться же с ценностями законности и права они были вынуждены именно потому, что советский общественный строй претендовал на авангардную роль в мировом развитии. Это предполагало конкуренцию с Западом не только в области вооружений и идеологической риторики, но и в качестве повседневной жизни, ее привлекательности. Показателем же такого качества и такой привлекательности, по мере расширения и углубления урбанизации и роста образованности населения, постепенно становилось соответствие повседневности ценностям не только индивидуального благосостояния, но и прав и свобод человека. То был вызов, порождавшийся сдвигами в культуре, которые в ходе смены поколений оставляли в прошлом промежуточную деревенско-городскую культуру сельских мигрантов сталинской эпохи.
Однако в первую очередь этот вызов шел из контролировавшейся Советским Союзом Восточной Европы: то, что считалось одним из главных достижений социализма, а именно – распространение на другие страны, оборачивалось едва ли не главной его проблемой. В Восточной Европе светская коммунистическая вера испытывалась на крепость соотнесением социалистического и западного образа жизни, о котором восточные европейцы были осведомлены намного лучше, чем советские люди. Испытывалась она и сравнением с до коммунистическим, «буржуазным» прошлым, которое не успело забыться, будучи ближе во времени, чем у народов СССР. Таких испытаний эта вера не выдерживала, о чем и свидетельствовали массовые выступления 1950-1980-х годов в ГДР, Венгрии, Польше, Чехословакии и снова Польше59. В СССР, правда, они широкой поддержки и массового сочувствия не находили. Не вызывали неприятия у большинства населения и усмирительные акции в восточноевропейских странах советской армии, вполне сочетаясь с державной идентичностью, актуализированной Великой Отечественной войной и победой в ней. Но официальная социалистическая идентичность сталкивалась с серьезными вызовами и внутри СССР. Они были обусловлены и упоминавшимися сдвигами в культуре, и приоткрытием «железного занавеса в послесталинском Советском Союзе, что тоже не осталось без культурных последствий, и, наконец, самим фактом демилитаризации военно-приказной системы, сопровождавшейся разоблачениями «культа личности».
При всех оговорках насчет того, что «культ личности Сталина ‹…› не мог изменить природы социалистического государства»60, эти разоблачения оборачивались более глубокими, чем рассчитывала власть, трансформациями сознания и мышления. Человеческий ум так устроен, что несовпадение явления и сущности
59 Попытки расширить контролируемое пространстве в Европе в стратегической перспективе и раньше оборачивались для российских политических режимов их ослаблением, расшатыванием их оснований. В этом отношении ситуация, сложившаяся после Второй мировой войны, типологически близка к ситуации, имевшей место после наполеоновских войн. Подробнее см.: Яковенко И.Г. От Тильзитского мира до пакта Молотова-Риббентропа (большой модернизациониый цикл отечественной истории) // Общественные науки и современность. 1998. № 3, 4.
60 Постановление Центрального комитета КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» (от 30 июня 1956 года) // Хрущев Н.С. Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС: О культе личности и его последствиях. М., 1959.С.72.
(«природы») возбуждает в нем интерес к последней. В результате у партии и ее лидеров начали появляться конкуренты в конкретизации и даже интерпретации базовых абстракций социализма и коммунизма и производных от них «социалистического государства», «социалистической демократии», «социалистической законности». Официальные трактовки этих понятий сопоставлялись с их толкованием заново и по-новому прочитанными Марксом и Лениным, а также с тем, что под государством, демократией и законностью понималось в капиталистическом мире.
Хотели того советские лидеры или нет, но социализм должен был конкурировать с Западом именно на почве отторгавшихся ими ценностей второго осевого времени. Тем более что эту конкуренцию в 1970-е годы им стал целенаправленно навязывать сам Запад, раз. вернувший широкомасштабную идеологическую кампанию по поводу нарушения прав человека в Советском Союзе. И на Хельсинском совещании глав государств по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975) Брежневу пришлось даже – в обмен на признание Западом послевоенных границ – подписать обязательство эти права не ущемлять. Если бы оно выполнялось, то социально-политическая модернизация началась бы в СССР на десять лет раньше. Но такая модернизация в глазах политиков хрущевско-брежневского поколения выглядела не модернизацией, а «подрывом устоев». Весь доступный им путь к законности и праву они к тому времени и в самом деле прошли до конца.
Демилитаризация военно-приказной системы, осуществленная в основном при Хрущеве, уже сама по себе означала движение в данном направлении. Выдача крестьянам паспортов и отмена законов, прикреплявших рабочих к предприятиям и приравнивавших прогулы и опоздания на работу к уголовным преступлениям, устраняли советские рецидивы крепостничества. Тем самым формула «социалистической законности» существенно корректировалась, зона государственного принуждения сужалась, а степень свободы увеличивалась. Кроме того, эта формула становилась теперь заслоном на пути физического устранения политических оппонентов и страховала партийно-государственную элиту от тиранической диктатуры. Отказ от изобретения Вышинского о признании подсудимым своей вины в качестве решающего доказательства и от пыточных методов, которыми признания обеспечивались, – в том же ряду. Это означало, что оставались в прошлом и превентивные репрессии за потенциальную нелояльность к коммунистической системе или ее отдельным руководителям. Сталинская категория «двурушника», т.е. тайного, открыто не проявляющего свою нелояльность противника, аннулировалась. В совокупности же все это свидетельствовало о том, что формула «социалистической законности» отныне исключала возможность беспредельно широкого толкования исходной идеологической абстракции исторического закона: от него перекидывались правовые мосты к закону юридическому. Однако прилагательное «социалистическая» предполагало все же сохранение вторичности права по отношению к базовой абстракции.
Тень исторического закона продолжала, как и прежде, нависать над теми, кто осмеливался реально демонстрировать критическое отношение к коммунистической системе, ее идеологии или конкретным действиям верховной партийной власти и ее персонификаторам. Таким образом, юридический принцип универсального значения не приобретал, что наиболее наглядно проявлялось в сохранявшейся выведенности партии (точнее – ее руководства) за пределы его действия. Подобно российским самодержавным императорам додумского периода, она продолжала стоять над законом, но, в отличие от них, эту свою позицию юридически не фиксировала. Не обнаруживала она и свойственного последним российским монархам стремления избегать, по возможности, отступлений от действующих юридических норм.
Порой единичный факт лучше характеризует природу общественного явления, чем любые развернутые обоснования. Таким фактом во времена Хрущева стала история валютчика Яна Рокотова. Нелегальное хождение долларов Хрущеву показалось настолько опасным для системы, что он настоял на принятии закона о смертной казни за подобные преступления и подведении под этот закон дела Рокотова. В результате последний был расстрелян вопреки действовавшей юридической норме, согласно которой закон обратной силы не имел. Для потомков же сохранилась фраза Хрущева, которая лучше, чем что бы то ни было, выявляет и природу «социалистической законности», и ее границы. Когда ему намекнули насчет Юридической некорректности его желания наделить закон обратной силой, он гневно воскликнул: «Мы над законами или они
61 О модельном значении этого эпизода для понимания советской правовой теории и практики см.:
Фурсов А.И. Коммунизм как понятие и реальность // Русский исторический журнал. 1998. Т. 1.№ 2.
Страна по-прежнему удерживалась коммунистическим руководством в собственном историческом времени, альтернативном мировому, «капиталистическому». Но она удерживалась в нем иначе, чем при Сталине. Последний, доведись ему иметь дело с Рокотовым, при желании нашел бы возможность расстрелять его, не обременяя своих юристов поиском соответствующей юридической нормы и не смущаясь ее отсутствием. Послесталинские же лидеры пытались соединить несоединимое – законность и гарантированные ею права и свободы граждан с надзаконной экономической политической и идеологической монополией на власть. Это значит что права и свободы, равно как и законность, должны были исключать не только любое противодействие власти, но и любое открытое проявление инакомыслия по отношению к ней. Проблема, однако, заключалась в том, что претензии на привлекательность социалистического образа жизни не позволяли о такого рода ограничениях говорить вслух.
Поэтому послесталинские руководители, отказавшись от сталинской имитации гражданской войны, не могли отказаться от имитации «всенародной поддержки» своей политики или, что то же самое, всенародного добровольного отказа от права критики «своего» государства и выражения недовольства им. Но такая имитация могла претендовать на убедительность только в том случае, если бы в стране по-прежнему не было людей, понимавших права и свободы иначе, чем официально предписывалось, и готовых свое понимание не скрывать. Между тем такие люди стали в СССР появляться.
История никогда не повторяется в деталях и подробностях. Но в чем-то существенном она повторяется. По крайней мере в тех странах, где вопрос о сочетании государственного порядка и свободы остается проблемой. Послепетровская демилитаризация, осуществлявшаяся самодержавной властью, сопровождалась формированием отечественной интеллигенции, поставившей под сомнение сам принцип самодержавного правления. Точно также и послесталинская демилитаризация привела к появлению интеллигенции, усомнившейся в исторической прогрессивности советско-социалистического жизнеустройства. Однако теперь, чтобы бросить вызов государственной системе, ее представителям вовсе не обязательно было становиться революционерами.
С формально-юридической точки зрения власть советских лидеров была гораздо более уязвимой, чем власть их самодержавных предшественников. Те являлись неограниченными властителями по закону. Коммунистические руководители официально провозглашать себя таковыми не могли уже потому, что претендовали на воплощение демократического принципа, причем более полное и последовательное, чем где-либо и когда-либо в мире. Попытка – в новой Конституции 1977 года – придать своему полновластию юридическую форму узакониванием роли КПСС как «руководящей и направляющей силы советского общества»62 в данном отношении ничего не меняла. Ведь юридически необоснованными оставались и само право на «руководящую роль», и сохранявшаяся претензия партии на надзаконный статус63, и властная монополия ее лидеров. Но это означало, что никаких формально-юридических оснований для запрета на критику в свой адрес и в адрес системы в целом у коммунистических руководителей не было. Тем более если они хотели конкурировать с тем пониманием законности и гражданских прав, которое утвердилось на Западе.
Подписав Хельсинские соглашения, советское руководство продемонстрировало готовность с таким пониманием считаться. Но соблюдать эти договоренности, не подрывая устоев системы, оно не могло. Не могло оно, соответственно, терпимо относиться и к возникшему в СССР еще раньше правозащитному движению, которое получило возможность апеллировать к хельсинским документам. Однако правовая основа для противостояния защитникам прав граждан у советского социализма отсутствовала. Не в состоянии он был и создать ее, о чем со всей очевидностью свидетельствовала и уже упоминавшаяся Конституция СССР 1977 года.
В этой Конституции права и свободы советских людей были продекларированы в максимально широком наборе, значительно превышавшем не только их перечень в сталинской Конституции (тоже в данном отношении не скупой), но и в аналогичных документах западных стран. Однако в тех случаях, когда речь шла о взаимоотношениях граждан и государства, декларации сопровождались ограничительными оговорками: права и свободы могли
62 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1978. С. 6.
63 В этом смысле показательно конституционное положение, согласно которому «все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР» (Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 6). Эта уступка правовому принципу не относилась ни к партии в целом, ни к ее руководящим структурам которые «партийными организациями» не именовались, ни к ее лидерам.
использоваться только «в соответствии с целями коммунистического строительства» или «в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя»64. Так юридический закон «юридически» подчинялся закону историческому Или, что то же самое, право подчинялось идеологии. Понятно, что соответствие или несоответствие «интересам народа» и «целям укрепления и развития» на строгий юридический язык непереводимо, а потому у властей сохранялась полная свобода интерпретации того или иного действия как конституционного либо неконституционного.
Однако дефицит правовой конкретности был на руку не одним лишь властям. Его стали использовать и правозащитники, которые могли теперь апеллировать не только к хельсинским договоренностям, но и к советской Конституции: чтобы защищать продекларированные в ней права человека, вовсе не обязательно было выступать против социализма и коммунизма. Тут-то окончательно и выяснилось, что коммунистическая система, отказавшись от сталинской версии «социалистической законности», на правовом поле оказалась беспомощной. Защищаясь от критики, она вынуждена была лишать свободы людей, которые на ее идеологические и политические устои не покушались, а просто говорили вслух о том, чего, по официальной версии, в стране не было и быть не могло – например, о цензуре65. Правозащитники, иными словами, ставили под сомнение соответствие фасада системы и жизни за фасадом. Но публичного раскрытия этой своей главной тайны система допустить не могла.
Советские лидеры не могли, однако, признаться и в том, что способны лишать людей самого права на такое раскрытие, равно как
64 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 18.
65 В этих целях власти использовали внесенные еще в 1966 году дополнительные статьи Уголовного кодекса, предусматривавшие уголовные наказания за «распространение измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и за «организацию или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок». Но эти дополнения не стыковались с декларированными конституционными правами и свободами граждан (во время принятия новых законов действовала еще сталинская Конституция), что лишний раз демонстрировало несовместимость советской государственной системы с последовательным проведением юридически-правового принципа. Подробнее см.: Козлов В.А. Крамола: Инакомыслие в СССР во времена Н. Хрущева и Л. Брежнева (по материалам Верховного суда и Прокуратуры СССР) // Общественные науки и современность. 2002. №4. С. 70-71.
и права обращаться к властям и гражданам с призывами «жить не по лжи» (А. Солженицын). Поэтому от фигур масштаба Сахарова или того же Солженицына власть отделывалась принудительной изоляцией или высылкой за рубеж, никакими законами не предусмотренными вообще. Ведь привлечение таких людей к уголовной ответственности еще больше подрывало бы и без того малопривлекательный образ СССР в мире. Что касается советских вольнодумцев, столь широкой известностью не защищенных, то их либо преследовали в судебном порядке на полузакрытых процессах, либо насильственно отправляли в психиатрические лечебницы, не только не признаваясь в этом, но и отметая любые на сей счет обвинения и объявляя их клеветническими.
Таков был исторический итог противоестественного скрещивания советского социализма с законностью и правом. Гибрид получился явно нежизнеспособным: уже сам факт, что многие свои действия власти предпочитали скрывать, свидетельствовал о несоответствии коммунистической системы тем ценностям и идеалам, которым она хотела бы выглядеть соответствовавшей. От вызовов времени она могла отгораживаться только увеличением скрываемой информации и откровенной дезинформации. И это тоже были симптомы глубокого системного кризиса.
Большинством населения они не воспринимались так остро, как диссидентами-правозащитниками и осведомленными об их деятельности – благодаря самиздату и зарубежным радиоголосам – более широкими слоями советской интеллигенции. Но системный кризис именно потому и являлся системным, что обнаруживал себя не в каком-то одном, а в самых разных проявлениях, о которых мы говорили выше. И в той или иной степени его последствия затрагивали почти всех.
Советские руководители пытались ответить на новые внешние и внутренние вызовы, избегая назревшей социально-политической модернизации системы. Они смогли искусственно продлить ее существование, но остановить ее движение в исторический тупик им было уже не по силам. Тем более что кризис обнаруживал себя не только в увеличивавшемся несовпадении фасадного и нефасадного социализма, оторое постепенно фиксировалось массовым сознанием. Это все более глубоко осознававшееся несовпадение рано или поздно должно было сказаться и на базовой опоре системы, а именно – на самой коммунистической идеологии.
18.4. Конец атеистического средневековья
Целевые абстракции будущего могут восприниматься сознанием людей только в двух случаях: или когда они переносят идею рая и спасения в мир иной, или когда эта идея – в светском варианте – соизмеряется с длительностью отдельной человеческой жизни. Концепция «строительства социализма в одной стране» такому требованию соответствовала. Но после того как он был объявлен построенным, ожидания автоматически переносились на коммунизм. Образ «осажденной крепости» и война позволили на время вытеснить эти ожидания из массового сознания. Одержанная победа их неизбежно актуализировала. Послесталинские руководители вынуждены были уже считаться с тем, что жертвенное отношение к настоящему во имя будущего в исторических сроках ограничено. Но при этом они шли разными путями.
Хрущев, объявив о том, что уже «наше поколение советских людей будет жить при коммунизме»66, как раз и пытался конкретизировать идеологическую абстракцию будущего, приблизив его к настоящему во времени. Брежнев, осознав с помощью советников иллюзорность хрущевских сроков и уязвимость коммунистического проекта как такового, начал отходить от финалистского пафоса базовой абстракции и смещать конкретизирующие акценты от будущего к настоящему, поднимая идеологический статус последнего. Так появился «развитой социализм»67 - термин, придававший настоящему самостоятельное значение, а не только как подготовительной стадии на пути к будущему. Но если хрущевская конкретизация, как вскоре выяснится, была утопической, то брежневская столкнулась с тем, что повысившийся идеологический статус социалистического настоящего не только не уменьшил, но еще больше увеличил его фактическую уязвимость в сравнении с другим, несоциалистическим настоящим.
Идеологические новации брежневской поры не нашли в советском обществе заинтересованного отклика. Оно осталось к ним равнодушным уже потому, что никаких радужных перспектив они ему больше не сулили, предлагая научиться ценить то, что есть. Но сегодня
66 XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 3 т. М.,
1962. Т. 1.С.257.
67 XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 2 т. М.,
1971. Т. 1. С. 87: XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 3т. М., 1981. Т. 1. С. 97.
советский идеологический официоз, по крайней мере для авторов данной книги, выглядит гораздо интереснее, чем в советскую эпоху. Потому что теперь мы знаем, чем все кончилось. А зная это, мы можем в том, что казалось бесконечно далеким от жизни казенным словотворчеством, рассмотреть определенное жизненное содержание.
Ничто, пожалуй, не осложняло в такой степени существование коммунистической системы, как сама идея коммунизма. Благодаря ей система начала свое историческое бытие, но со временем идея эта пришла в слишком явное несоответствие с реальным функционированием советской государственности. Последняя, как любая другая, нуждалась в поддержании и упрочении своей легитимности. Между тем коммунизм с его пафосом прямого, т.е. безгосударственного, народовластия обрекал ее на временную, преходящую и потому заведомо несамодостаточную историческую роль. Кроме того, идея будущего, отличного от настоящего, способствовала постоянной актуализации в общественном сознании образа иного настоящего в виде чешского «социализма с человеческим лицом» и его советских аналогов, представленных отечественным «шестидесятничеством». Формула «развитого социализма», способного к развитию на собственной основе, и призвана была все эти идеологические альтернативы устранить, а их персонификаторов – от Александра Твардовского до Роя Медведева – маргинализировать. Показательно, однако, что программу КПСС, принятую при Хрущеве и обещавшую ввести Советский Союз в коммунизм к 1980 году, брежневское руководство заменить другой так и не решилось. Она продолжала действовать даже тогда, когда обещанные сроки ее выполнения прошли, а ее невыполненность стала эмпирически фиксируемым фактом. Потому что вообще отказаться от коммунистического целеполагания система не могла. Но она не могла и перевести его на язык конкретных проектов и планов, не говоря уже о сроках. В свое время эта проблема встала уже перед Сталиным. Но он имел возможность притуплять ее остроту образом «осажденной крепости» и имитацией внутренних угроз. В демилитаризированном состоянии и в отсутствие сакрального вождя система таких компенсаторов лишалась. Поэтому ей ничего не оставалось, как искать Идеологические паллиативы. «Развитой социализм» переносил пропагандистские акценты с конечной коммунистической цели на уже Достигнутые исторические результаты, необходимые и достаточные для того, чтобы процесс движения к цели («коммунистическое строительство») оставался необратимым. В этом отношении «развитому социализму» отводилась примерно та же рол, что и «победившему социализму» в сталинскую эпоху: в том и другом случае образ «светлого будущего» не устранялся, но, подобно религиозным идеалам, смещался из времени в вечность.
Мы, повторим, так подробно останавливаемся на идеологическом официозе брежневской эпохи вовсе не потому, что ему удалось сколько-нибудь значительно повлиять на общественное сознание. Наоборот, он влиял на это сознание меньше, чем в любой другой период советской истории. Но он интересен и важен для понимания того системного кризиса, который переживал в ту эпоху советский общественный строй. Понятие «развитого социализма», отодвигая настоящее от будущего, не могло повысить статус настоящего в глазах населения. А понятие «реального социализма», брошенное тогда же на помощь «развитому» и тоже призванное профанировать, как заведомо нереальные, идеологические альтернативы отечественных и восточноевропейских шестидесятников и западных «еврокоммунистов»68, вместе с образом будущего вытравливало из идеологического официоза и какое-либо идеальное начало вообще.
Когда-то западноевропейская, а потом и русская церковь, осознав свою неспособность поддерживать ожидания скорого Второго пришествия и Страшного суда, отказалась от актуализации таких ожиданий, перенесла их исполнение в неопределенное будущее и предложила каждому христианину «думать не о вселенском „Дне Господнем", а о сроке собственной жизни»69. Тем самым была подведена культурно-историческая черта под религиозным средневековьем. Передвижка в неопределенную даль времен идеала коммунистического подводила черту под средневековьем советско-атеистическим. Но это означало лишь то, что культурно-исторические источники, питавшие властную монополию партийной коммунистической «церкви», полностью иссякли. Осуществлявшиеся ею идеологические коррекции должны были, по замыслу, приспособить ее к новым обстоятельствам. Реально же они выявляли ее
68 Термин «реальный социализм» был введен в политико-идеологический обиход секретарем ЦК
КПСС Б.Н. Пономаревым в ходе полемики с представителями западноевропейского коммунистического движения, критиковавшими советские порядки, по мнению руководства КПСС, с идеально-доктринерских, нереалистичных позиций (см.: Пономарев Б.Н. Коммунисты в борьбе против фашизма и войны, за мир, демократию и социализм // Коммунист. 1975. № 11. С. 20; Социализм: между прошлым и будущим. М., 1989. С. 174-175).
69 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 28.
неприспособляемость к ним. Государственно-идеологический утилитаризм, унаследованный послесталинскими лидерами от Сталина, в демилитаризованной системе обнаружил пределы своих возможностей.
Из ситуации системного кризиса, ставшего очевидным к концу брежневского геронтократического правления (средний возраст членов коммунистического Политбюро превышал 70 лет), можно было двигаться в двух основных направлениях. Первое – контрреформационное (по отношению к послесталинской демилитаризации). Второе – реформационное (по отношению к созданной Сталиным и во многом сохраненной его преемниками «административно-командной системе»).
Движение в первом направлении, предполагавшее ужесточение идеологической, хозяйственной и административной дисциплины при сохранении всех системных параметров, наметилось во время недолгого правления Андропова (1982-1983). Однако последовательное осуществление такой контрреформации было невозможно без реанимации сталинских методов, неадекватность которых изменившимся условиям не мог не осознавать и сам Андропов. Но и эффективный паллиатив, который он искал, ему, проживи он дольше, найти бы не удалось: ремонту, тем более капитальному, с помощью административно-репрессивных методов оставленная Брежневым система не поддалась бы. В данном случае мы отступаем от своего правила и пытаемся прогнозировать прошлое именно потому, что после смерти Андропова людей его типа на роль лидеров уже не выдвигали – то ли по причине их отсутствия в высших эшелонах власти, то ли из-за нежелания правящего слоя видеть таких людей во главе страны.
Оставалось второе направление – реформационное, получившее политическое воплощение в деятельности Горбачева. Оно означало не ужесточение идеологической дисциплины на средневековый манер, а очищение самой идеологии от сталинского и послесталинского утилитаризма. Речь шла об отказе от фасадной имитационности, при которой отсутствие демократических прав и свобод и защищающей их законности камуфлировалось декларациями о подлинно народной природе «социалистической демократии», в отличие от демократии «буржуазной». То не было отречением от первой в пользу второй. То была установка на соединение неимитационной демократии с советским социализмом при убежденности в органичности такого соединения. «Больше демократии, больше социализма»70, – именно так понимал их взаимосвязь и взаимообусловленность инициатор перестройки и именно в соответствии с таким пониманием и действовал.
Это был самообман реформатора. Перестройка коммунистической системы, предпринятая им, на деле означала ее демонтаж. Потому что все возможные для нее перестройки она к тому времени уже осуществила. Мы говорим это как историки, а не как современники и в определенной степени участники событий тех лет. Самообман Горбачева какое-то время был созвучен самообману советского общества, в котором убежденные антикоммунисты составляли незначительное меньшинство и на ход перестройки первоначально влиять не могли. Изжить иллюзии относительно сочетаемости советского социализма и демократии можно было только при наличии исторического опыта, продемонстрировавшего их несочетаемость. Раньше такой опыт отсутствовал. Перестройка его создала.
Провозгласив приоритет «общечеловеческих» ценностей над классовыми, отменив цензуру, освободив политических заключенных и введя относительно свободные выборы в советы, Горбачев выводил страну из коммунистического средневековья во второе осевое время. Самоотрицание этого средневековья произошло раньше. Но выход за его пределы в качественно иное состояние начался только в годы перестройки. Однако это новое общественное состояние и, соответственно, новое историческое время в интерпретации реформатора по-прежнему претендовали на социалистическую, а в неопределенном будущем и коммунистическую особость.
Горбачев пытался вернуть социалистической идее идеальное измерение. Брежневский «развитой социализм» (он же «реальный») из нормы превращался в аномальное отклонение от нее, подлежащее преобразованию в соответствии с другой нормой, единственно подлинной. О том, что это означало, мы уже говорили. Уводя Советский Союз из изжившего себя политического средневековья во второе осевое время (в его социалистической версии), реформатор вынужден был, того не подозревая, искать социалистическую подлинность в древней вечевой традиции, т.е. во времени доосевом. Если же вспомнить, что Горбачев хотел не только передать власть советам, но и сохранить эту власть за коммунистической партией,
70 Горбачев М. С. Избранные статьи и речи: В 8т. М., 1988. Т. 5. С. 219.
которую возглавлял и от аппарата которой зависел, то понятнее будет, почему в его идеологических новациях соединялись содержательно несовместимые смыслы.
Идея «социалистического правового государства»71 лишь к концу горбачевского правления стала сочетаться с осторожными попытками законодательного регулирования деятельности КПСС, но так и не стала идеей превращения коммунистической партии из «авангардной» в партию парламентского типа, конкурирующую на равных с другими политическими организациями72. Не предполагало «социалистическое» толкование правового государства и легитимации частной собственности: ее право на существование Горбачев официально признал лишь в августе 1990 года, а на приватизацию так и не решился. Те же ограничители закладывались в понятия «социалистического самоуправления народа» и «социалистического рынка». При таком понимании демократизации она не могла не сопровождаться последствиями, на которые Горбачев не рассчитывал. Вопреки его замыслу, «больше демократии» и «больше социализма» в общественном сознании все дальше друг от друга отдалялись, превращаясь в непримиримых антагонистов.
Исторический закон, от имени которого, подобно своим предшественникам, действовал Горбачев, не сочетался с неимитационными правами и свободами граждан. Более того, их предоставление
71 Горбачев М.С. Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР // Первый съезд народных депутатов СССР, 25 мая – 9 июня 1989 г.: Стенографический отчет: В 6т. М., 1989. Т. 1. С.456.
72 Изменения, внесенные в 6 статью советской Конституции, означали, что КПСС отказывалась от претензий на единовластие и ограничивала свою роль лишь «участием», наряду с другими общественными организациями и массовыми движениями, в выработке политики и управлении государством через своих представителей, избранных в Советы. Но при этом КПСС сохраняла свою финансовую, информационную и административно-организационную монополию, посредством которой надеялась сохранить за собой в изменившихся условиях и монополию политическую. Закон «Об общественных объединениях» (1990) преподносился как шаг к многопартийности, но о партиях, условиях их деятельности и конкуренции в нем не говорилось вообще. Этот закон предоставлял гражданам возможность создавать общественные объединения с довольно широким кругом прав, вплоть до права иметь собственные средства массовой информации, но исключал государственное и зарубежное финансирование этих объединений и не предусматривал их доступа к государственным СМИ. Если учесть, что контролировавшая как их, так и финансовые ресурсы КПСС сохраняла партийные организации на предприятиях и в учреждениях, то станет понятно, каким политическим содержанием наполнялась формула «Социалистического правового государства».
оборачивалось требованиями признать сам закон несостоятельным. Формула «социалистического плюрализма»73, призванная удержать эти права и свободы в первоначально намечавшихся идеологических и политических границах, с возложенной на нее ролью не справлялась.
«Социалистический плюрализм», по мысли Горбачева, должен был создать широкий простор для открытого обсуждения любых вопросов с единственным ограничением – противоборство позиций должно было оставаться в историческом пространстве «социалистического выбора» (народов СССР) и «коммунистической перспективы». Это была попытка соединить средневековый идеологический универсализм с универсализмом второго осевого времени, который с претензиями какой-либо идеологии на привилегированный статус несочетаем. Но даже при таком ограничении горбачевская формула лишала партийное руководство монополии на интерпретацию и политическую конкретизацию базовых идеологических абстракций. Допущение же на этом поле конкуренции, да еще при создании для нее институциональной основы в виде относительно свободно избранных советов обнаружило отсутствие у «социалистического плюрализма» фиксированных границ и строгих критериев, которые позволяли бы их установить.
Невозможно было, например, объяснить, почему «социалистический плюрализм» исключает право критики партии и ее лидера. Невозможно было объяснить, почему союзные республики, имевшие конституционное право выхода из СССР, не могут им воспользоваться. Невозможно было объяснить, почему к публичному диалогу не должны допускаться сторонники социалистической идеологии в ее западном социал-демократическом толковании, а если должны, то как избежать диалога с ними о частной собственности, которая этой идеологией не отрицается, и самом плюрализме, который ею не ограничивается. В доперестроечные времена то, что объяснению не поддавалось, объяснялось силой. Отказ от ее использования против инакомыслящих при допущении даже усеченного идеологического плюрализма неизбежно переводил систему из состояния кризиса в состояние распада. Потому что ограниченный плюрализм в условиях неимитационной свободы имеет свойство превращаться в неограниченный.
73 Горбачев М.С. Избранные статьи и речи. М., 1990. С. 246.
Демократизация поставила коммунистическую партию, а вскоре и возглавлявшего ее Горбачева под огонь критики. Это вызвало раскол самой партии по идеологическим и национальным линиям, сопровождавшийся все более массовым выходом из нее. Распад единственной в стране надконфессиональной и надэтнической идеологической структуры стал фактическим свидетельством исторической исчерпанности и социалистической идеи, и имперской государственности – не только советской, но и российской. Он показал, что социалистическая идентичность советских народов была ситуативной и преходящей, в культуре не укоренившейся. Он показал также, что державно-имперская идентичность, не подпитываемая внешними военными угрозами и победными войнами, свой консолидирующий ресурс утрачивает: подписанные в декабре 1991 года Беловежские соглашения, санкционировавшие ликвидацию СССР, были восприняты спокойно даже в Российской Федерации, не говоря о других советских республиках.
Распад коммунистической системы выявил несовместимость советского социализма и советской империи с демократией и правовым типом государственности. Однако он выявил и нечто другое: на большей части постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию, возникли новые, несоциалистические разновидности имитационно-демократических и имитационно-правовых государств. Почему так получилось – вопрос отдельный и самостоятельный, и мы вернемся к нему в главе о посткоммунистической России. Предваряя же его рассмотрение, еще раз отметим, что страны, народы и их элиты способны создать лишь то, к чему они подготовлены предшествующей историей. На смену исторически изжитым формам жизнеустройства может прийти лишь то, что нажито в процессе изживания.
Демократически-правовая государственность может утвердиться только при достаточно высокой развитости частных производительных интересов и культурной укорененности в сознании Широких слоев населения идеи интереса общего. От этого зависит качество личностных ресурсов, которыми располагает страна, а от них, в свою очередь, зависит и тип ее государственности. Разумеется, зависимость эта обоюдная – то, что государством отторгается, существенно повлиять на него не может. Нои отторгать оно в состоянии лишь то, что в культуре еще не возобладало, что является в ней маргинальным.
Мы могли наблюдать, как частные интересы сочетались с интересом общим в досоветской России, как осуществлялась в ней мобилизация личностных ресурсов в разные сферы жизнедеятельности и как это сказалось на судьбе самодержавной государственности и событиях, последовавших за ее обвалом. Посмотрим теперь, как обстояло дело в Советском Союзе и что он оставил в данном отношении постсоветской России.
Глава 19 От «беззаветного служения» к приватизации государства
Большевистский режим стал исторической платой России за социокультурный раскол. Новая власть устранила его, насильственно ликвидировав как все прежние элиты, так и противостоявший им общинно-вечевой жизненный уклад. При этом коммунистическая система форсированно преодолела разрыв между образованным меньшинством и необразованным большинством населения, находившимся вне письменной культуры, что тоже было одним из главных проявлений раскола. В данном отношении большевики завершили процесс, начавшийся при Петре I: если тот сделал образование обязанностью и привилегией дворянства, то в советский период оно стало всеобщим. Отставание от Запада ушло в прошлое, а по некоторым показателям образованности СССР вошел даже в число миро-выхлидеров74. Но это не спасло государственную систему ни от прогрессировавшего со временем технологического отставания, ни от обвала государственности. Потому что образование само по себе не способствовало выявлению личностных ресурсов и их мобилизации. Точнее – оно способствовало этому лишь до тех пор, пока не были исчерпаны возможности экстенсивного индустриального развития. В конечном счете советская государственность споткнулась о ту же самую проблему, которая оказалась камнем преткновения для государственности досоветской. Она тоже не смогла найти
74 По показателю грамотности, если верить официальным советским данным, СССР приблизился к странам Запада еще до войны. По численности учащихся начальных и средних общеобразовательных школ (в расчете на тысячу человек) Россия, отстававшая в 1914 году от западных стран в два с половиной – четыре раза, к 1940 году отставание почти ликвидировала, а некоторые страны Европы (Австрию, Великобританию, Францию) даже опередила. По численности студентов (на десять тысяч человек) Советский Союз к 1940 году вышел на второе после США место в мире и сохранял эту позицию в течение нескольких десятилетий. В досоветский период Россия отставала от западных стран и по данному показателю. См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2т. СПб., 2000. Т. 2. С. 383-385.
оптимальную меру между общим интересом и интересами частными, при которой личностные ресурсы страны могут быть использованы и для блага каждого, и не во вред благополучию и устойчивости государства. Эта проблема остается нерешенной и сегодня. Поэтому и по отношению к ней правомерно говорить, что все попытки ее решения на разных этапах, в том числе и неудачные, сохраняют актуальность. История – это не только преемственность позитивных традиций. Это и преемственность нерешенных задач при отсутствии традиций их оптимального решения.
Учитывая, что советский опыт мобилизации личностных ресурсов имел свои специфические особенности, нам придется отступить от принятого способа изложения данной темы. Отсутствие в Советском Союзе частной собственности означало и отсутствие в нем частного предпринимательства. Руководители предприятий представляли собой один из отрядов чиновничества, выполнявший государственные плановые задания. Разумеется, особенности его функций предопределяли и его существенные отличия от других групп чиновников. Но в тематических и содержательных границах нашей работы такого рода отличия не очень важны.
Поэтому мы ограничимся рассмотрением тех методов, которые использовались в коммунистическую эпоху для рекрутирования личностных ресурсов в советскую государственную элиту, а также типологических и качественных особенностей последней. Что касается хозяйственных руководителей, то мы их будем касаться лишь вскользь. Кроме того, будут рассмотрены методы трудовой мотивации рядовых работников и, соответственно, те результаты, которые ею обеспечивались. Наконец, принимая во внимание особую роль военно-промышленного комплекса в советской хозяйственной системе и его уникальную для данной системы конкурентоспособность и восприимчивость к инновациям, вопрос о мобилизации и использовании личностных ресурсов в ВПК есть смысл рассмотреть отдельно.
19.1. Советская элита и ее личностные ресурсы
В истории каждая новая стадия расширяет угол зрения на стадии предыдущие, позволяет заметить в них то, на что раньше не обращалось внимания. Более того, новая стадия может выработать и язык для описания не только феноменов настоящего, но и явлений прошлого, в том числе и отдаленного. Выше уже говорилось о том, что идея «беззаветного служения» – коммунистическим идеалам, партии, государству, народу – появилась в советскую эпоху. Мы же сочли возможным использовать это выражение для характеристики тех взаимоотношений, которые складывались между властью подданными и еще во времена Московской Руси. Тем самым мы хотели показать, что при разных идеологиях могут существовать одни те же культурные механизмы сочетания общего интереса, персонифицированного в фигуре верховного правителя, с интересами частными. Профанирование последних, полное или частичное лишение их легитимного статуса – это и есть то, что роднит советских лидеров с их отдаленными предшественниками, правившими страной до Петра III и Екатерины II.
Формула «подчинения личных интересов общественным» наиболее полное и последовательное воплощение получила в сталинские времена. «Наша демократия, – говорил Сталин, – должна всегда на первое место ставить общие интересы. Личное перед общественным – это почти ничего»75. Идея «беззаветного служения» и была идеей служения общему интересу. Его коллективным символом выступала партия, персональным символом – ее вождь. Ему принадлежало монопольное право не только на формулирование общего интереса, но и на то, чтобы единолично определять степень соответствия этому интересу тех или иных действий представителей властной элиты.
Учитывая, что критерии такого соответствия были известны только самому вождю, субъективно искреннее «беззаветное служение» при желании всегда могло быть квалифицировано как «двурушничество». Казалось бы, это должно было создавать непреодолимые препятствия для рекрутирования людей в правящий слой – ведь попадание в него уже само по себе означало большие риски, в том числе и для жизни. Тем не менее желающих попасть во властные структуры при Сталине было более чем достаточно.
Со стороны это казалось необъяснимым и даже противоестественным. «Я никак не мог и до сих пор не могу понять, – писал известный мыслитель-монархист из числа русских эмигрантов, – какой это черт тянет людей на верхи сталинской бюрократической лестницы. Власть – дутая, деньги – пустяковые, работа каторжная, и ведь все равно гениальнейший рано или поздно зарежет»76. Но для тех, кто шел на службу в сталинский партийный, государственный
75 Цит. по: Волкогонов Д. Указ. соч. Кн. 1. Ч. 2. С. 56.
76 Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2003. С. 380.
и хозяйственный аппарат, вопрос так не стоял. И дело не только в том, что большинство из них репрессии по отношению к другим воспринимало не как произвол, а как заслуженное наказание за неспособность к «беззаветному служению», каковой в себе они не ощущали.
Любое советское «начальство» имело преимущества п сравнению с рядовыми тружениками. Только попадание во власть или близость к ней обеспечивали человеку той эпохи жизненную перспективу, возможность вырваться из нищенского или полунищенского существования. Вхождение во власть приобщало к миру, где исчезали или существенно смягчались все бытовые проблемы беззаветность служения, исключавшая какие-либо контракты и заранее оговоренные правила игры, предполагала, тем не менее, определенные жизненные блага и привилегии, возвышавшие даже не очень больших начальников над простыми смертными. Не забудем также, что сталинский партийно-государственный аппарат комплектовался из представителей низов, имевших возможность непосредственно сравнивать мир, в который они вошли, с тем, из которого только что вышли.
В этом отношении Сталин шел по пути Ивана Грозного и его предшественников – с той лишь разницей, что ликвидацию коммунистического «боярства» осуществлял более последовательно и довел до конца. Вместе с тем советский лидер, в отличие от московских Рюриковичей и подобно Петру I, культивировал принцип личной заслуги и выделял тех, кто в «беззаветном служении», по его представлениям, особенно преуспел, головокружительным карьерным продвижением, общественной известностью, орденами, званиями, премиями и другими способами. Как и во времена Петра, служебный рост ставился при Сталине в зависимость от образования, хотя масштабы кадровой революции не позволяли строго соблюдать это правило. Но, в отличие от первого российского императора, у первого коммунистического генерального секретаря не было необходимости принуждать людей к учебе.
Петр имел дело с дворянством, которое к государственной службе не рвалось и воспринимало учебу как предписанную дополнительную обязанность. Сталинские новобранцы партийно-государственного и хозяйственного аппарата поместий и крепостных не имели, а в службе видели единственно возможный для них «светлый путь» наверх. Но так как одним из главных условий карьеры было образование, то оно воспринималось не менее важным жизненным делом, чем вступление в партию.
Новая элита, сформировавшаяся при Сталине, – это элита военно-приказной системы. Последняя предполагала предельную мобилизацию личностных ресурсов, но – в строго определенных границах, которые очерчивались спускавшимися сверху планами-приказами. Поэтому в сталинскую эпоху преобладал спрос на людей, готовых безоговорочно принимать правила системы и способных им следовать, а главное – умевших организовать и мобилизовать нижестоящих функционеров и «массы» на выполнение партийных директив, проявляя ту степень жесткости, которая необходима для достижения необходимого результата.
Сталинская милитаризация повседневности, будучи более последовательной и глубокой, чем милитаризация Петра I, тем не менее, как ибо времена Петра, в первую очередь распространялась на элиту. Взяв на себя удовлетворение ее частных интересов и сняв бремя бытовых забот, советское государство заменило собой крепостных крестьян и холопов, которые исполняли аналогичную роль при дворянах. В результате оно получило возможность эти интересы и заботы идеологически третировать и профанировать, т.е. требовать полного растворения жизни в работе, не считаясь со временем. О том, что представляла собой психология такого «солдата партии» и как проявлялась его установка на «беззаветное служение», хорошо показано в повести Александра Бека «Новое назначение».
Иными словами, доминирующим типом в управленческих структурах, по мере укрепления сталинского режима, становился функционер-аппаратчик, главной задачей которого было проведение в жизнь директив и плановых заданий властного центра. Организаторские качества и инициатива требовались от него только в этом диапазоне, общая культура значения не имела, глубокие специальные знания тоже. Не было спроса и на стратегическое мышление – уже потому, что стратег в стране был только один. Этот тип вытеснил функционера-романтика77, гораздо хуже приспособленного к роли «винтика» в бюрократической машине, не говоря уже о том, что социализм ему в идеале виделся существенно иным, чем новый строй в сталинском исполнении. Вытеснил аппаратчик и «буржуазных специалистов», которые до конца 1920-х годов широко использовались в хозяйственном управлении. В военно-приказной системе, действовавшей в мобилизационном режиме,
77 Гефтер М. Указ. соч. С. 679.
профессиональные критерии, которыми они руководствовались, выглядели как один из «пережитков прошлого».
Но личностные ресурсы функционера-аппаратчика были так же ограничены, как и мобилизационные ресурсы создавшей его военно-приказной системы. Она была пригодна для того, чтобы осуществить индустриальный рывок, т.е. построить новые предприятия и оснастить их закупленным за рубежом оборудованием. Она была пригодна и для того, чтобы провести коллективизацию и выкачивать ресурсы из закрепощенной деревни. Но она оказалась совершенно неприспособленной для обеспечения эффективной работы уже построенных предприятий и колхозных хозяйств, что выявилось со всей очевидностью уже в предвоенные годы: «победа социализма» сопровождалась хозяйственной стагнацией. Испытание войной система тем не менее выдержала78. Однако после войны снова обнаружилось, что испытания миром79 она выдержать не в состоянии.
Демилитаризация жизненного уклада при Хрущеве стала ответом и на этот вызов. Но она не могла не сопровождаться и появлением спроса на иной личностный ресурс и изменением способов его мобилизации. Освободив коммунистическую элиту от страха перед произволом, Хрущев осуществил и частичную идеологическую легитимацию ее частных интересов: вместо подчинения интересу общему теперь предполагалось их «правильное сочетание»80 с ним, хотя и при сохранении его приоритета. Формально эти коррекции касались не только элиты и даже не столько ее; они относились к «трудящимся» в целом. Но реально они распространялись и на нее. Такого рода под-
78 Не в последнюю очередь жизнеспособность сталинской хозяйственной системы в годы войны была обусловлена тем, что в то время система отошла о жесткой централизации, предоставив значительную самостоятельность отдельным управленческим звеньям и предприятиям. Парадоксальным образом именно война заставила осуществить либерализацию военно-приказной модели экономики – разумеется, оставаясь в границах данной модели. См. об этом: Лацис О. Знать свой маневр. М., 1988. С. 432-470.
79 О вызове миром, т.е. отсутствием угрозы большой войны, как новой исторической проблеме позднесоветского и постсоветского периода см.: Клямкин И.М. Россия столкнулась с совершенно новым для ее историческим вызовом – отсутствием угрозы большой войны // Десять лет после августа: Предпосылки, итоги и перспективы российской трансформации. М., 2002; Он же. История России: Конец или новое начало? // Ведомости. Тюмень, 2004. Вып. 25.
80 Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, 19-23 ноября 1962 г.: Стенографический отчет. М., 1963. С. 68. На необходимость «сочетать личные и общественные интересы» указывалось и в принятой при Хрущеве новой программе КПСС (см.: Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1967. С. 15).
вижки должны были стимулировать правящий слой служить общему интересу не за страх, а за совесть, т.е. еще лучше и «беззаветнее», чем при Сталине. Однако этого-то как раз и не получалось.
Хрущев исходил из того, что главной управленческой фигурой должен оставаться функционер-организатор, но – не аппаратно-бюрократического типа, а организатор-специалист в той области жизнедеятельности, которой он руководит, не лишенный самостоятельности и идеалистично-творческого начала. Он и себя самого считал таким, и его бесконечные реорганизации – отражение его веры в организацию и творчество организаторов. Но Хрущев не отдавал себе отчет в том, что его планы не сочетаемы с тем пониманием творчества и тем представлением о допустимой в нем свободе, которое культивировалось советским социализмом.
Природа последнего предполагала выталкивание сознания и мышления в некую промежуточную зону между полюсами культуры – традиционалистской архаикой с ее тяготением к статичной устойчивости и модернистским универсализмом с его ориентацией на общественную динамику и критичным пафосом по отношению к любой реальности. Но между этими полюсами оставалось лишь пространство для «серого творчества» с ограниченной реализацией личностных ресурсов и проблематичной продуктивностью81. При завышенных же ожиданиях от такого творчества и вере в его безграничные возможности, свойственной Хрущеву, оно могло обернуться лишь деструктивным организаторским «волюнтаризмом» лидера и дезорганизацией властной элиты.
Не отдавал себе Хрущев отчета и в том, что тип «организатора масс» соответствует лишь экстенсивной модели хозяйствования в индустриализирующемся по социалистическому проекту обществе и для интенсивной экономики не пригоден. Даже если он будет не просто организатором, но одновременно и высококвалифицированным специалистом, «знающим дело», чего Хрущев добивался и ради чего не в последнюю очередь и разделил партийные комитеты на промышленные и сельские. Но замена аппаратчиков сталинской выучки, у которых он нужных качеств не обнаруживал, новыми людьми ожидаемых результатов не приносила. Переоценка потенциала «серого творчества» обернулась кризисом советской кадровой парадигмы. Мобилизация личностных ресурсов во властных структурах становилась для Хрущева неразрешимой проблемой.
81 Ахиезер А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 589.
Дело, разумеется, не в том, что желающих попасть в эти структуры стало меньше. Наоборот, гарантии безопасного и благополучного существования такое желание стимулировали. Однако реабилитация частных интересов в тотально огосударствленной плановой системе сопровождалась не активизацией «беззаветного служения» интересу общему, не всплеском организаторской инициативы, а постепенной девальвацией самого понятия об этом интересе. Советская номенклатура, того не подозревая, двигалась по пути послепетровского дворянства: частные интересы в ее сознании и поведении выдвигались на первый план, вызывая стремлении приватизировать и государство, и правящую партию. Стремление тем более сильное, что у коммунистической элиты, в отличие от дворянской, не было ни поместий в частной собственности, ни крепостных крестьян, а были только должности и статусы.
Хрущев пытался противостоять этой тенденции, добившись, в частности, внесения в устав КПСС пункта об обязательной ротации партийных функционеров всех уровней (кроме самого высшего), ограничения сроков их пребывания на должностях. Но подобные меры, призванные мобилизовать личностные ресурсы в институтах власти, создать в них конкурентную среду, явились одной из причин того, что Хрущев сам лишился всех своих должностей. Почти сразу же после его принудительной отставки пункт о ротации был отменен, а люди во власти стали меняться так редко, как никогда раньше.
В брежневскую эпоху демобилизация личностных ресурсов в правящей элите была завершена. Условием пребывания в ней стала предписанная имитация деятельности при ориентации – в условиях переживавшегося системой кризиса целеполаганий – на сохранение системного статус-кво. В аппарат рекрутировались люди, готовые поддерживать стабильность стагнации в обмен на возможность под видом «беззаветного служения» партии и государству служить самим себе. Аппаратчик снова восторжествовал над романтиком, но теперь уже в демобилизованном качестве. Он восторжествовал в том числе и потому, что при Хрущеве романтик не стал доминирующим персонажем во властной элите, оставшись в основном за ее пределами и воплотившись в оппозиционную по отношению к партийно-государственному аппарату (но не к социализму) фигуру советского интеллигента-«шестидесятника».
Брежневский период не без оснований называют «золотым веком номенклатуры» (А. Некрич). Продолжавшаяся «индустриализация без рынка» сопровождалась учреждением новых ведомств и, соответственно, появлением новых рабочих мест для чиновников82. Поэтому пополнение бюрократии и карьерный рост внутри нее могли обеспечиваться без ротации: пожизненность номенклатурных статусов и обновление правящего слоя посредством его расширения мирно сосуществовали друг с другом. Повышалось и качество повседневной жизни советской элиты. Для номенклатурных работников строились дома по самым современным западным образцам, их селили в квартиры, метраж которых мог многократно превышать установленные нормы, они отдыхали в привилегированных санаториях и домах отдыха, ездили за государственный счет за границу и пользовались спецраспределителями, где покупали дефицитные товары по сниженным ценам83. Такова была компенсация за демобилизацию личностного потенциала или плата за его отсутствие.
Демилитаризация сталинской военно-приказной системы, подобно демилитаризации системы петровской, сопровождалась сочленением государственного утилитаризма с индивидуалистическим. Однако между привилегиями коммунистической номенклатуры и сословными привилегиями дворянства имела место и существенная разница. И заключалась она не только в том, что дворяне, в отличие от коммунистической элиты, были земельными собственниками.
В государстве, именовавшем себя «общенародным», льготы и привилегии элиты еще меньше могли претендовать на легитимность, чем привилегии помещиков в послепетровской России. При всей необъятности своей власти, генеральный секретарь был лишен возможности издать, подобно Екатерине II, нечто похожее на жалованную грамоту дворянству и узаконить особые права номенклатуры. Поэтому эти права тщательно скрывались. Нов демилитаризированном коммунистическом государстве, где высокая Должность означала доступ к распоряжению ресурсами, частные интересы бюрократии нельзя было удержать даже в этих нелегитимных границах. В данном отношении советские чиновники мало
82 Если в начале 1960-х годов в СССР насчитывалось около двух десятков союзных и союзно-рес-
публиканских отраслевых министерств, то к началу 1980-х число центральных ведомств приблизилось к сотне. Кроме того, в стране существовало почти 800 республиканских министерств и ведомств (Пантин В., Лапкин В. Указ. соч. С. 163).
83 Подробнее см.: Вселенский М. Номенклатура. М., 1991. С. 267-352.
чем отличались от чиновников досоветских. Отмененный большевиками рынок возрождался внутри государства в виде нелегальной торговли должностями и чиновничьими услугами. Личностные ресурсы устремились в коррупционно-теневую сферу. Приватизация партии и государства становилась неуправляемой.
Андропов попытался обуздать зарвавшийся частный интерес точечными репрессивными мерами. Горбачев, осознав их неэффективность, пошел гораздо дальше. Он понял, что дело не в злоупотреблениях отдельных должностных лиц, а в системе, эти злоупотребления порождавшей. Но чтобы изменить систему нужны были новые люди.
Поэтому новый генеральный секретарь вынужден был проводить беспрецедентную – даже по советским меркам – кадровую чистку84. Брежневской демобилизации личностных ресурсов была противопоставлена установка на их мобилизацию ради обновления государства и общества, вошедшего в историю под именем перестройки. Сначала Горбачев надеялся найти резервы в самом партийно-государственном аппарате. Но там людей, способных решать новые задачи, оказалось немного. И дело не только в том, что аппарат, отобранный и воспитанный при брежневском «застое», в массе своей не мог адаптироваться к переменам и отторгал их. Дело и в том, что новые задачи и способы их решения были не очень ясны и Горбачеву, их приходилось формулировать на ходу, а потому непонятно было, какой именно личностный ресурс необходим для перестройки.
Однако и со временем ясности в данном вопросе не прибавлялось. Горбачевский замысел, как постепенно выяснялось, был нереализуем: обновление системы вело к ее демонтажу и распаду. Поэтому реально востребованным оказался личностный ресурс тех, кто шел дальше Горбачева, кто начинал понимать необходимость именно демонтажа, а не обновления. Некоторые из этих людей были выходцами из номенклатуры, но большинство из них попало во властные структуры впервые в результате выборов в советы на альтернативной основе. Таким образом, ставка Горбачева на высвобождение личностных ресурсов и их рекрутирование в элиту наглядно и убедительно продемонстрировала, что мобилизовать эти ресурсы на перестройку советской системы невозможно, что их можно
84 Между 1986 и 1990 годами состав ЦК КПСС изменился на 85%. Даже в период сталинских репрепрессий (1934-1 939) изменения не были столь масштабными (Геллер М.Я. Победа гласности и поражение перестройки // Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал. Т. 2. С. 556).
мобилизовать только на ее слом. Правда, и потенциала для создания системной альтернативы ни в элите, ни в обществе не было. Но это уже другой вопрос, на котором мы остановимся ниже.
Не удалось Горбачеву активизировать человеческий потенциал, направив его на развитие и упрочение советского социализма, и в сфере повседневного труда миллионов рядовых тружеников. Как и во властных структурах, его реализация блокировалась системными ограничителями. Те способы трудовой мотивации, которые использовались в СССР, реформированию не поддавались, поскольку их историческая эволюция ко времени перестройки была уже завершена. Попробуем в общих чертах эту эволюцию охарактеризовать.
19.2. Ресурсы «трудящихся масс»
Ни в чем, пожалуй, тотальность сталинской милитаризации не проявилась так отчетливо, как в организации и стимулировании народного труда. Сталин не превращал пахарей в солдат, как Александр I в военных поселениях. Но и пахарей, и рабочих, и всех остальных он пытался мотивировать к мирному труду так, как мотивируют солдат и офицеров к труду ратному. В этом отношении у «отца народов» предшественников не было, если не считать эксперимента с «милитаризацией труда» периода военного коммунизма, предпринятого по инициативе Троцкого. Но тот эксперимент, продолжавшийся всего год, провалился, после чего последовало отступление к рыночным методам хозяйственной активизации в период НЭПа. В сталинской военно-приказной системе аналогичный эксперимент продолжался почти четверть века.
Военно-приказная система – это система принуждения. Однако одним лишь принуждением служебное рвение невозможно обеспечить даже в армии, а в гражданской жизни – тем более. Помимо этого, требуется стимулирование индивидуальных достижений и признание индивидуальных заслуг, т.е. мобилизация личностных ресурсов, без которой принуждение ожидаемых результатов не приносит. С этой особенностью человеческой природы вынужден был считаться и Сталин. Идеологические формулы «беззаветного служения» и «подчинения личных интересов общественным», распространенные им на все население, а не только на служимый слой, сами по себе никого и ни к чему стимулировать не могли, если бы лишенный легитимного статуса личный интерес вообще не получал удовлетворения. И не только в «светлом будущем», но и в приготовительном по отношению к нему настоящем.
В исторических границах военно-приказной системы эта проблема не имела решения. Не решалась она и в границах советского социализма как такового. Но чтобы осознать это, потребуется больше полувека. В интересующий же нас период власть была уверена в том, что новые способы трудовой мобилизации позволяют с данной проблемой справиться. В сталинские времена таких способов, не считая ГУЛАГа, тоже своеобразно исполнявшего эту роль, было два.
Первый способ – вознаграждение «беззаветного служения» общему интересу карьерным ростом, т.е. перспективой продвижения из рабочих и крестьян в партийно-государственное или хозяйственное начальство, что при небывалых масштабах вертикальной мобильности способствовало активизации наиболее энергичной и амбициозной части населения. Рабочему с репутацией лодыря или пьяницы на карьеру рассчитывать не приходилось.
Однако подавляющее большинство людей в состав руководящих кадров попасть не могло, да и стремились к этому далеко не все. Между тем государство нуждалось в их трудовом энтузиазме не меньше, чем в служебном усердии больших и малых начальников. На «широкие трудящиеся массы» и был рассчитан второй способ мобилизации личностных ресурсов, перенесенный в мирную жизнь из практики войны. Речь идет о моральном возвышении обычного будничного труда до уровня воинского долга перед страной и государством, о превращении его, пользуясь словами самого Сталина, в «дело чести, доблести и геройства».
Но эта беспрецедентная в мировой хозяйственной жизни героизация труда, сопровождавшаяся награждениями «передовиков производства» правительственными орденами и медалями85, прославлением в газетах и другими поощрениями, тоже не находила у большинства рядовых тружеников того отклика, на который власти рассчитывали. Тем более если речь шла не о рекордно быстром возве-
85 Советские ордена и медали, которыми отмечались успехи в труде, начали учреждаться в конце 1920-х годов, т.е. при переходе от НЭПа к военно-приказной системе. Сначала был учрежден орден Трудового красного знамени (1928), потом орден Ленина (1930) и Знак Почета (1935). В 1938 году было учреждено звание Героя социалистического труда (присвоение звания предполагало вручение ордена Ленина и Золотой звезды). В том же году появились медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». После войны к ним добавились медали, которыми отмечалось участие людей в решении тех или иных конкретных задач, – «За восстановление угольных шахт Донбасса», «За восстановление предприятий черной металлургии Юга». Учреждение наград этого типа широко практиковалось и в послесталинские времена.
дении новых городов и заводов, с которым слово «штурм» и другие существительные из военного лексикона еще как-то соотносились, а о повседневной работе миллионов людей: вытачивание деталей на токарном станке, монотонный труд на конвейере или прополку овощей в поле подводить под понятие «трудового подвига» было намного сложнее. К тому же в подобных случаях героизация отдельных людей вроде шахтеров Алексея Стаханова или Никиты Изотова, каким-то непостижимым образом умудрявшихся в десятки раз перекрывать сложившиеся нормы выработки, сопровождалась повышением последних, хотя и не столь значительным, и для всех остальных. Понятно, что энтузиазма у них это не вызывало, а порождало, наоборот, неприязненное отношение к ударникам, которые после развернутого в стране стахановского движения (1935) появились во всех отраслях промышленности. Тем более что стахановцы награждались не только славой: введение сдельной оплаты труда вело и к росту их доходов.
То были попытки мобилизовать личностные ресурсы рабочих, вводя индивидуальную конкуренцию в неконкурентную плановую экономику. Но если даже отвлечься от того, что герои-ударники нередко достигали рекордных результатов благодаря созданию для них искусственных условий – наличие стахановцев служило показателем организаторских способностей и политической сознательности их руководителей, – такая «конкуренция» не могла способствовать интенсификации социалистического хозяйствования. В том числе и потому, что была несовместима с базовыми основаниями плановой системы, в которой перевыполнение производственных норм не соотносилось с нормированностью поставок сырья и материалов. Поэтому при перенесении стахановского движения из добывающей промышленности в обрабатывающую оно сопровождалось часто не столько ростом эффективности, сколько нарастанием дезорганизации. Поощрение рабочей инициативы и изобретательности способствовало интенсификации труда отдельных работников, но не могло компенсировать отсутствие рыночных стимулов экономической динамики. О том, что такого рода методы мобилизации личностных ресурсов ожидаемых результатов не приносили, свидетельствуют и наметившаяся в предвоенные годы стагнация советской экономики, и предпринятые тогда же меры по ужесточению трудового законодательства, превращавшие его в уголовное.
Сталинская героизация труда самодостаточной мотивации не создала и могла существовать только в сочетании с репрессивными верами. Но именно поэтому глубоко укорениться в культуре ей было не суждено. И проявилось это уже в сталинскую эпоху: ведь даже создав образ «осажденной крепости», военно-приказная система вынуждена была отступать от своих принципов и соединять тотальную милитаризацию с терпимым отношением к идеологически нелегитимному частному экономическому интересу, бросая его на помощь интересу общему.
Не удалось последовательно провести милитаризацию труда и в коллективизированной деревне. Сняв с себя всякую ответственность за нее, коммунистическая власть пошла гораздо дальше царского самодержавия, возлагавшего на помещиков определенные обязательства перед крепостными крестьянами. При тех объемах изъятия у колхозов сельскохозяйственной продукции, которые были установлены государством, это вело к физическому уничтожению сельского населения, что и продемонстрировали сталинские «голодоморы» начала 1930-х годов. Кроме того, резкое падение сельскохозяйственного производства в результате коллективизации86 создавало неразрешимые проблемы с продовольственным снабжением городов, что повлекло за собой введение в мирное время карточной системы – случай в мировой практике небывалый. Поэтому уже в 1933 году власть отступила, разрешив колхозникам вести индивидуально-семейное хозяйство на небольших, не более половины гектара, приусадебных участках, разводить мелкий скот и продавать «излишки» на колхозном рынке. Это позволило обеспечить выживание деревни и отменить карточки в городах – приусадебные хозяйства, занимавшие весьма незначительную часть в общем земельном массиве, производили несоизмеримо большую, по сравнению с колхозами, часть сельскохозяйственной продукции страны87. Вопреки официальной идеологии, получалось так, что личный интерес лучше служил общему не тогда, когда полностью ему подчинялся, а тогда, когда освобождался от диктата последнего.
Однако в военно-приказной системе индивидуально- семейное хозяйство было инородным телом. И не только потому, что не
86 Речь идет прежде всего о животноводстве, в котором уровень 1927-1928 годов был превышен только к началу 1950-х годов (Верт Н. Указ. соч. С. 252). Производство мяса, молока, яиц и некоторых других продуктов в первые годы после завершения коллективизации составляло примерно две трети того, что производилось в 1913 году (Россия: Энциклопедический справочник. С. 177).
87 В 1938 году приусадебные участки, которые занимали 3,9% всех посевных площадей, производили 45% всей сельскохозяйственной продукции. На их долю приходилось более 70% производимого в стране мяса и молока (Верт Н. Указ. соч. С. 256-257).
сочеталось с ее базовыми основаниями. Частный интерес, получив даже весьма дозированную свободу, уводил личностные ресурсы колхозника с колхозных полей и ферм в индивидуальное подворье. Поэтому приусадебное хозяйство идеологически третировалось. Официальные документы сталинской эпохи переполнены инвективами против «собственнических пережитков», «несознательности» и других качеств, которые мешают колхозникам трудиться с полной самоотдачей. Но ни обличительная риторика, ни сопровождавшие ее административные меры в виде возраставшего налогового давления на приусадебные хозяйства изменить трудовую мотивацию людей не могли. И продуктов в стране в результате такого давления становилось не больше, а меньше. Поэтому ни у кого из ближайших преемников Сталина исчерпанность методов стимулирования производственной активности, присущих военно-приказной системе, сомнений уже не вызывала.
Осуществляя дозированную идеологическую реабилитацию частного интереса, все послесталинские руководители – от Хрущева до Горбачева – пытались сочетать его с интересом общим посредством укрепления позиций интереса группового. Это проявилось в начавшемся при Хрущеве и продолженном при его преемниках значительном повышении государственных закупочных цен на продукцию колхозов, предоставлении им большей хозяйственной самостоятельности и расширении экономической свободы промышленных предприятий. В результате колхозы и заводы получили возможность направлять оставлявшиеся в их распоряжении средства на строительство жилья, пансионатов и домов отдыха, которыми работники могли пользоваться бесплатно или за небольшую цену, а также на выплату премий за счет прибыли. Однако долговременного эффекта такого рода меры не дали и к заметной мобилизации личностных ресурсов у хозяйственных руководителей и рядовых работников не привели. Степень этой мобилизации измеряется производительностью труда. Но она-то как раз повышалась очень медленно, а темпы ее роста в последние советские десятилетия последовательно снижались.
Мобилизация личностных ресурсов могла происходить только при переходе от экстенсивного хозяйствования к интенсивному. Но для решения этой задачи, в свою очередь, тоже необходимо было мобилизовать личностные ресурсы. Говоря иначе, предстояло заинтересовать людей в постоянной рационализации труда и управления, в разработке и внедрении технологических новшеств, что
предполагало не только инерционное использование руководителями предприятий и рядовыми работниками однажды освоенных знаний и навыков, но и готовность тех и других к непрерывному самоизменению. Однако послесталинские механизмы сочетания частного и общего интересов так же мало располагали к этому, как и сталинский механизм подчинения первого второму. Ставка на групповые' интересы оказалась несостоятельной, так как советская экономика исключала свободную конкуренцию между ними, а потому не могла вовлечь в конкурентные отношения и интересы частные. Социалистическое государство, взявшее на себя труд заменить конкуренцию собственной стимулирующей деятельностью, вынуждено было в конце концов, перед этой задачей капитулировать. Советские имитации конкуренции – стахановское движение, социалистическое соревнование, движение за коммунистический труд – помочь в данном отношении не могли.
Благодаря мемуарам Хрущева у нас есть возможность увидеть, как сама власть, отказавшись от сталинских военно-репрессивных способов мобилизации личностного ресурса, уперлась, как в стену, в невозможность найти им эффективную замену в условиях советского социализма. Бывает так, пишет Хрущев, что колхозом «заправляют умные люди, но направленность их действий не соответствует экономическому положению ‹…› района, и в результате снижается доходность колхозов. Почему? Хотя бы потому, что правление, председатель и агроном получают определенную ставку, заработок им обеспечен. Правда, он может быть повышен в результате более эффективного ведения хозяйства, но разница выходит небольшой. И они взвешивают, стоит ли овчинка выделки? Лучше жить поспокойнее. По принципу „посеял, убрал, отчитался". Экономический эффект у нас не поддается анализу, отсутствует сравнение, и получается, что все кошки серы (курсив наш. – Авт.). Выделяются же те, кто лучше справился с полевыми работами на бумаге»88.
Бывший руководитель страны, убежденный сторонник социализма, добросовестно описывает, что получается, когда государство заменяет рынок и конкуренцию: «экономический эффект не поддается анализу», «отсутствует сравнение», хозяйственная система функционирует на основе дезинформации. Хрущев понимает, что механизм не работает, человеческий потенциал не используется. Нельзя сказать также, что он не осознает значения частной
88 Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: Воспоминания. М., 1999. С. 144.
собственности и конкуренции, поскольку ссылается то на старый опыт российских кулацких хозяйств, отдавая должное их эффективности89, то на деятельность западных фермеров. «Когда хозяйство ведется на частнособственнической основе, рычаг, стимулирующий фермера, крестьянина, – прибыль ‹…› У нас такого стимула нет»90. Поэтому, даже если среди советских хозяйственных руководителей и рядовых тружеников появляются новаторы, их опыт перенимать никто не спешит, хотя о нем и пишут все газеты. Более того, даже организованно его распространить не удается, и «бриллианты народной инициативы» поэтому «быстро тускнеют»- Иными словами, социалистического эквивалента конкуренции изобрести не удалось. Но это вовсе не значит, убежден Хрущев, что такое невозможно вообще, в принципе.
Этой убежденностью его размышления и интересны. Социалистическое государство, по его мнению, не только может заменить рынок и конкуренцию, но в силу «преимуществ социализма» – капиталистов нет, эксплуатации тоже, следовательно, власть у народа своя, т.е. народная – в состоянии превзойти их. Альтернатива рынку и конкуренции – правильная организация дела, «сильные организационные начала»91. Нужны особые государственные органы, которые как раз и должны заниматься анализом деятельности предприятий, выработкой для них научно обоснованных рекомендаций, столь же обоснованным выделением и поощрением лучших, а главное – жестко контролировать выполнение хозяйственными руководителями предписанных рекомендаций92.
Мы обращаемся к мемуарам Хрущева, а не к его высказываниям периода его пребывания у власти только потому, что именно в воспоминаниях отставного лидера максимально рельефно выражены и основной принцип его деятельности, и ее мотивация. При этом в его рассуждениях отсутствует даже намек на вопросы о том, почему же его организаторское творчество не принесло ожидаемых результатов и что же все-таки должно стимулировать научные институты и государственные органы, призванные разрабатывать и внедрять инновации. В чем, говоря иначе, заключаются собственные интересы таких структур и работающих в них людей? Подобны-
89 Там же. С. 155.
90 Там же. С. 144.
91 Там же. С. 155.
92 Там же. С. 137.
ми вопросами, повторим, Хрущев не задается. Не задается же он ими, возможно, в том числе и потому, что они, в свою очередь, поставили бы под вопрос и его убежденность в наличии социалистической альтернативы свободной рыночной конкуренции.
Сам, наверное, того не подозревая, Хрущев искал некий исторический компромисс между сталинской военизированной экономикой, предписывавшей растворение частного интереса в интересе общем, и экономикой мирной, в которой частный интерес реабилитируется, но, согласно букве и духу идеологической доктрины, остается производным от интереса общего. Не догадывался он, скорее всего, и о том, что проблема, с которой столкнулась послеста линская коммунистическая система, была для России вовсе не новой. Большевики именно потому и смогли прийти к власти, что в досоветский период стране не удалось завершить начавшуюся в послепетровскую эпоху демилитаризацию жизненного уклада и закрепить в культуре понятие об общем интересе применительно к демилитаризованному состоянию, когда частным интересам придается легитимный статус. Если общий интерес отчуждается от интересов частных в пользу государства, если само оно выступает не представителем и интегратором этих интересов, а стоящей над ними и существующей независимо от них автономной силой, то невозможно избежать и отчуждения населения от государства. И чем больше власть берет на себя функций, тем меньше предпосылок для формирования в обществе ответственности за него. Или, что то же самое, для превращения подданных в граждан.
Коммунистическое государство, подчинившее себе все жизненные сферы, включая экономику, в данном отношении было еще уязвимее, чем докоммунистическое. Вынужденная послесталинская демилитаризация обнажила хрупкость его фундаментальных основ, что рельефнее всего и выявилось в отсутствии механизмов для мобилизации личностных ресурсов. Хрущев вплотную подошел к этому выводу, но сделать его, оставаясь до конца жизни приверженцем социализма, не мог. И это объясняет, почему и в пору своего пребывания у власти он ослаблял репрессивную компоненту военно-приказной системы, не покушаясь на ее нерепрессивные мотивационные механизмы, а именно – на героизацию трудовой повседневности как мобилизационный фактор.
Сам факт такой героизации, сохранившийся до конца коммунистической эпохи, очень важен для понимания не только реальной, но и идеальной (фасадной) составляющей советского социализма.
Эта вторая составляющая и сегодня продолжает сохранять привлекательность в глазах многих людей, в том числе и в некоторых группах российских интеллектуалов. Коммунистический идеализм, воодушевлявшийся надличными глобальными целями совершенного жизнеустройства, мог восприниматься в преемственности с мировой гуманистической традицией, противостоявшей приземленным мещанско-потребительским идеалам буржуазной эпохи. Поэтому и некоторые видные западные интеллектуалы даже в сталинские времена с симпатией и сочувствием присматривались к осуществлявшемуся в СССР социально-политическому эксперименту. Впоследствии выяснится, что это был самообман, причем не только в отношении оправданности применявшихся средств и их совместимости с декларировавшимися целями. Это был самообман и в отношении гуманистического содержания советских ценностей. Действительно, руководство СССР апеллировало к мировой гуманистической традиции, чем существенно отличалось, например, от идеологов германского нацизма, который подверг ее идеологическому остракизму. Это отличие не вызывает сомнений и у современных немецких историков, полагающих, что именно исходные гуманистические принципы коммунизма сделали возможным разоблачения Сталина на XX съезде КПСС, между тем как в гитлеровской партии представить себе такое событие трудно93. Парадокс, однако, заключается в том, что идеализм, внедрявшийся в советскую повседневность, неизбежно сопровождался ее героизацией. А она в пределе вела к тому, что декларировавшиеся гуманистические идеалы уживались с недекларируемым, но неизбежным отрицанием самоценности человеческой жизни, признанием ее второстепенности по сравнению с другими ценностями, причем вполне материального свойства.
О том, как глубоко было укоренено такое представление в сознании и подсознании советских политиков и идеологов, можно судить по очерку Константина Симонова, опубликованному в «Комсомольской правде» в конце 1960-х годов. Писатель рассказал о трактористе, который ценой своей жизни спасал загоревшийся трактор, причем такого рода жертвенность ради спасения «общенародного достояния» возводилась в моральную норму. Гуманистическая составляющая советской идеологии, основанная на перенесе-
93 Ян Э. Исследования проблем мира в период и после конфликта «Восток – Запад». М., 1997.
С. 249-250.
нии нормативной модели поведения во время войны «ради жизни на Земле» в повседневную мирную обыденность, реально означала подмену гуманизма государственным утилитаризмом, опускавшим человеческую жизнь до уровня средства, призванного обслужит вещно-материалъные цели и вторичного по отношению к ним
Очерк Симонова был написан уже в брежневские времен когда пафос героизации, не находя отклика в массовом сознании постепенно уходил и с газетных полос, а если оставался, то звучал все более казенно и натужно. Это была реакция писателя, озабоченного размыванием идеализма советской эпохи, на дегероизацию и «омещанивание», напоминание о том, «во имя чего». Но в хрущевское десятилетие такое размывание еще не было столь очевидным: гибридное сочетание воинской морали и морали мирного повседневного труда весьма характерно для идеологии и пропаганды того времени. «Битвы за урожай» и разнообразные «штурмы» (рек, целины, космоса и т.д.) ежедневно входили в каждую квартиру вместе со свежими номерами газет, из радиоприемников и с экранов появившихся тогда телевизоров. «Герои труда» по-прежнему награждались правительственными орденами и медалями, не оставляя сомнений в том, что советская модель мобилизации личностных ресурсов уходит своими истоками и корнями в практику войны. Все это сохранится и после Хрущева. Но советский идеализм вместе с крушением хрущевских коммунистических иллюзий уйдет в историю. Уйдет и вера во всемогущество организации и организаторов.
Вера эта тоже подпитывалась у Хрущева представлениями о возможностях, заключенных в военной модели мобилизации личностных ресурсов. Ведь армейская организация действительно не требует мотивации прибылью, частной собственности, рынка и капиталистов. Поэтому подготовка наступления на том же сельскохозяйственном фронте вполне сопоставима в его глазах с действиями перед боем генералов и офицеров, которые «настойчиво учат солдат решению поставленной задачи»94. Но отсюда же и его прямые отсылки к опыту минувшей войны, его убежденность в возможности синтеза военной мотивации с мирной, экономической. «Вспомним былые времена, когда люди вынуждены были жить не только в палатках, но и в окопах, жертвуя своей жизнью, – говорил Хрущев, настаивая на том, что при освоении целины обустройство быта людей придется отложить на потом. – Несмотря на тяжелые
94 Цит. по: Стреляный А. Последний романтик // Хрущев Н.С. Указ. соч. С. 51.
условия, в которые попала наша страна в первые годы войны, народ мобилизовался и сумел преодолеть все трудности. А освоение целинных земель – это труд, который будет оплачен, получат к тому же люди моральное удовлетворение от того, что они, осваивая новые Земли, приумножают богатство страны»95.
Но этот военно-мирный мотивационный гибрид, сохранявший свою относительную пригодность для экстенсивного хозяйствования, оказывался совершенно беспомощным перед задачами интенсификации. Вместе с тем одним из незапланированных последствий отказа от сталинской милитаризации труда и ликвидации ГУЛАГа стало и постепенное подтачивание системных устоев экономики экстенсивной. Героизация труда, лишенная принудительно-репрессивной опоры, обнаруживала границы своих мобилизационных возможностей. И проявляться это стало уже при Хрущеве. Во-первых, для привлечения людей на «стройки коммунизма» им приходилось платить больше, чем в обжитых районах. Но такой способ стимулирования трудового героизма плохо стыковался с самой природой героизма, приземлял его и тем самым выхолащивал его исходную романтически-возвышенную сущность. Поэтому доплаты первопроходцам не афишировались, а погоня за «длинным рублем» идеологически и морально третировалась. Но это рассогласование идеологии и жизни не могло не сопровождаться размыванием и полным обезжизниванием идеологии, приближавшим ее банкротство.
Во-вторых, легитимация частного интереса при ограниченных возможностях его реализации в государственном секторе вела к тому, что интерес этот устремлялся в другие, параллельные государству, жизненные уклады, в которые и перемешались личностные ресурсы. Хрущев, начавший с налоговых послаблений личным подсобным хозяйствам, вскоре в очередной раз убедился в том, что именно здесь, а отнюдь не в «более высоком» общественном секторе концентрировались интересы и энергия колхозников, причем коллективные хозяйства становились источником нелегально-теневого укрепления «частника». Оказалось, что предпринятые меры по экономической поддержке колхозов в данном отношении существенной роли не сыграли и преодолению «собственнических пережитков» не способствовали. Еще больше удивило и возмутило советского лидера то, что личное хозяйство повсеместно возникало и на целине, где все
95 Хрущев Н.С. Указ. соч. С. 76.
вроде бы начиналось с нуля, люди не были привязаны к прошлому и потому должны были понимать преимущества крупного социалистического хозяйства. Результатом стало административное наступление Хрущева на «частника»96, которое привело не к ожидавшейся мобилизации личностных ресурсов в общественном секторе, а к еще большей их демобилизации с последующим усугублением и без того чрезвычайно обострившейся продовольственной проблемы.
Поэтому Брежнев, в отличие от Хрущева, уже не пытался бороться с частным интересом, даже если он реализовывался не внутри общественного сектора, а вне его. Стало очевидно, что без использования этого интереса хозяйственная система не в состоянии обеспечивать собственные потребности и отвечать элементарным запросам населения. Речь шла не о том, чтобы опереться на частный интерес для перехода к интенсивному типу развития. Речь шла о том, что и экстенсивная стратегия не могла уже без такой опоры обойтись. Без продукции личных подсобных хозяйств не решалась продовольственная проблема – она и с их помощью решалась плохо. Без «шабашников» и студенческих строительных отрядов (их создание инициировалось государством, но труд в них, по советским меркам, неплохо оплачивался) при возраставшем дефиците рабочей силы не решались многие задачи нового строительства и ремонта старых объектов. Это изменившееся отношение к частному интересу нашло свое отражение и в Конституции 1977 года. В ней было записано, что «в СССР в соответствии с законом допускается индивидуальная трудовая деятельность в сфере культурно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также другие виды трудовой деятельности, основан-
96 Будучи отступлением от первоначальной линии Хрущева на поддержку личных хозяйств, эти меры вполне соответствовали его всегдашним представлениям о том, что природе социализма такое хозяйство не соответствует. Об этом можно судить, в частности, по постановлению сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС, посвященного проблемам сельского хозяйства и по праву считавшегося поворотным по отношению к сталинской политике в данной области. В документе говорилось (речь шла о колхозах) о необходимости «правильного сочетания общественного и личного в артели при подчинении личных интересов общественным» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференцией пленумов ЦК. М., 1954. Ч. 3. С. 232). Впоследствии слово «подчинение» из официальных документов уйдет, но идеологический приоритет общественного интереса останется незыблемым. Другое дело, что у преемников Хрущева отношение к идеологическим канонам станет более прагматичным; наученные его опытом, столь откровенно «волюнтаристских» наскоков на «частника» они уже позволять себе не будут.
ные исключительно на личном труде граждан и членов их семьи» (т.е. без применения наемного труда. – Авт. )97.
Однако мобилизация личностных ресурсов на периферии советской хозяйственной системы, узаконивание относительно автономного от нее частного интереса вовсе не означали признания его идеологического равноправия с интересом общим. Второй продолжал по инерции героизироваться, а первый – принижаться и даже третироваться. «Мещанству», «вещизму» и прочим проявлениям отщепления людей от государства противопоставлялась «активная жизненная позиция»98 – разумеется, в отстаивании не частных, а общих интересов. Ордена и медали за трудовые достижения, раздававшиеся при Брежневе щедрее, чем когда бы то ни было99, вручались не «шабашникам» и не колхозникам, торговавшим на рынке произведенной в подсобном хозяйстве продукцией. Мотивация этих людей воспринималась не как норма, а как допустимое отклонение от нее. Норма же по-прежнему ассоциировалась с «беззаветным служением» и «героическим трудом» передовиков производства и мотивацией, предписанной им официально100.
97 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 10.
98 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М„ 1978. Т. 12. С. 291;
М., 1981. Т. 13. С. 360.
99 «Наградомания» брежневской эпохи косвенно свидетельствовала об окончательной девальвации
советских методов стимулирования труда посредством его героизации. При Брежневе не только награждать стали чаще, но и самих наград стало больше. Были учреждены ордена Октябрьской революции (1967), Дружбы народов (1972), Трудовой славы трех степеней (1974). Учреждались и новые медали: «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1976), «За преобразование Нечерноземья» (1977), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1978) и др.
100 Вот как выглядела эта мотивация в интерпретации самого Брежнева. Передовики производства,
говорил он, «выделяются тем, что в совершенстве овладели техникой, сознательно служат обществу, проявляют высокие моральные качества, дух коллективизма и самоотвержения, с полной отдачей сил выполняют перед народом свои обязанности ‹…› Они трудятся так, как будут трудиться все при коммунизме» (XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет: В 2т. М., 1966.Т. 1.С. 102). А вот как интерпретировалась руководителем страны мотивация не столь передовая, с которой приходилось мириться на практике, но которая идеологически оставалась неприемлемой: «… Есть у нас и такие лица, которые стремятся поменьше дать, а побольше урвать от государства. Именно на почве такой психологии и появляются эгоизм и мещанство, накопительство, равнодушие к заботам и делам народа» (XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Т. 1.С. 82).
Но это не мешало развиваться набиравшему скорость процессу формирования оригинального исторического феномена – «частного» человека в индустриальном обществе без частной собственности.101
Этот человеческий тип постепенно становился доминирующим не только на периферии системы, но и в ее ядре, включая партийно-государственный аппарат, о чем выше уже говорилось, и государственный сектор экономики. В нем развивались взаимопереплетавшиеся разновидности квазирыночных отношений.
С одной стороны, ведомства и предприятия внутри них, реализуя свои групповые интересы, вели борьбу за доступ к государственным ресурсам на «бюрократическом рынке» (В. Найщуль) С другой стороны, эта борьба велась не только в официальных инстанциях – Госплане, правительстве и аппарате ЦК КПСС, – Но и перетекала в сферу нелегальную, образуя многочисленные коррупционно-теневые рынки, в сделки на которых были втянуты почти все – от министров до продавцов магазинов, торговавших из-под прилавков дефицитом, и их клиентов102. В них были втянуты заводские «несуны», покупавшие попустительство начальства в обмен на свое согласие не превращаться в «летунов», и колхозники, которые обменивали похищенные в коллективном хозяйстве комбикорма на готовность поработать на колхозном поле. На этих разнообразных рынках и реализовывались, как правило, личностные ресурсы руководителей и рядовых граждан. В результате же общий интерес страны, заключавшийся в переходе к интенсивному типу хозяйствования и технологической модернизации, в очередной раз оказался поглощенным интересами частными и групповыми: коммунистическая система на новом историческом витке воспроизводила ту же самую проблему, о которую Россия споткнулась во времена Столыпина.
Суть данной проблемы в том, что общий интерес воспринимается властью и элитными группами как сохранение системного статус-кво, а системный статус-кво блокирует развитие и появление субъектов этого развития. Если же претенденты на субъектность возникают, то система их отсекает, оставляя их личностные
101 Подробнее см.: Клямкин И.М. Политическая социология переходного общества // Политические исследования. 1993. №4.
100 Подробнее см.: Кордонский С.Г. Административные рынки в СССР и России. М., 1996; Тимо-
феев // Институциональная коррупция. М., 2000.
ресурсы невостребованными103. Такого рода инерционность в разное время может проявляться по-разному, но плата за нее всегда одна и та же – кризис и распад самой системы.
В брежневское время было немало шедших снизу инициатив и сопровождавших их хозяйственных экспериментов. Они призваны были способствовать мобилизации личностных ресурсов работников посредством приведения оплаты труда в зависимость от конечных результатов коллективной деятельности. Щекинский метод в промышленности, начинания Ивана Худенко в сельском хозяйстве, бригадный подряд в строительстве как раз и были первыми попытками перейти от экстенсивного хозяйствования к интенсивному. Но судьба новаторов сложилась печально: одни эксперименты свернули, суть других выхолостили, а Ивана Худенко даже арестовали, и он умер в тюрьме. Потому что речь шла не просто о предоставлении предприятиям права распоряжаться частью заработанных средств, а о движении к реальной экономической независимости хозяйственных субъектов от государства. Этого система допустить не могла, ведь такая независимость и в самом деле подрывала ее устои.
Тем не менее именно по этому пути пошел Горбачев. Он не только создал на периферии государственной хозяйственной системы относительно автономный кооперативный сектор, но и довел экономическую самостоятельность государственных предприятий до права продавать часть продукции по свободным ценам, устанавливать численность работников, размер заработной платы и выбирать хозяйственных партнеров по своему усмотрению. Экономические реформы Горбачева, как и его политические новации, реально означали не перестройку советского социализма, а его демонтаж. Перестроить его было нельзя. Но и не перестраивать нельзя было тоже. Историческая миссия реформаторов нереформируемых систем – прояснять для себя и других то, что без опыта неудач прояснить невозможно.
Первоначальный акцент Горбачева на роли «человеческого фактора»104 в укреплении и развитии социализма свидетельствовал о том, что он понимал: мобилизация личностного ресурса – это
103 Подробнее см.: Кутковец Т. Либералам давно пора называть вещи своими именами // Вниз по вертикали: Первая четырехлетка Путина глазами либералов: Сб. статей. М., 2005. 104.
104 Горбачев М.С. Избранные статьи и речи. С. 72.
проблема не только властных структур, но и экономики. Мы уже говорили о том, что предпринятое Горбачевым реформирование советской политической системы привело к мобилизации не столько системного, сколько антисистемного ресурса. Примерно то же самое происходило и в ходе реформирования системы хозяйственной.
Создание кооперативного сектора показало, что созидательные личностные ресурсы в обществе существуют и могут быть мобилизованы. Но частная экономическая инициатива была потенциально антисистемной: предприниматели быстро осознали, что их интерес заключается в легализации частной собственности, приватизации государственных предприятий и возможности в ней участвовать. Не удивительно, что этот новый социальный слой вскоре отвернулся от Горбачева, продолжавшего стоять на позиции «социалистического выбора и коммунистической перспективы», и повернулся в сторону Ельцина и новых российских властей, которые готовы были частную собственность и приватизацию узаконить.
Разрушительным, а не спасительным для системы оказалось и реформирование государственной экономики. Значительное расширение самостоятельности предприятий отвечало интересам директорского корпуса. Но мобилизацией личностных ресурсов его представителей на повышение эффективности хозяйствования оно не сопровождалось. И дело не только в том, что у «красных директоров» не было необходимой для этого хозяйственной культуры. Дело в том, что в монополизированной и формально остававшейся государственной экономике не могло возникнуть никакой конкуренции. Реализация концепции «социалистического рынка» вела к тому, что социализм разрушался, а рынка не возникало. Самая последовательная за весь советский период попытка мобилизовать личностный ресурс посредством соединения идеи социализма с идеей экономической свободы завершилась падением социализма и социалистической государственности.
Стране предстояло вернуться на историческую дорогу, по которой она начала двигаться во второй половине XIX века и с которой свернула в 1917 году. Но ей предстояло вернуться на нее, находясь в другой исторической точке, – Россию Николая II и Россию Ельцина разделял радикально изменивший ее советский период. Этого времени стране хватило, чтобы превратиться из сельской в городскую и оставить в прошлом многовековой раскол между государственной и догосударственной культурой. Этого времени ей хватило и на то, чтобы преодолеть предубеждение большинства населения против частной собственности, позволившее большевикам прийти к власти. Она изжила его благодаря опыту тотального огосударствления, наглядно продемонстрировавшего свою стратегическую несостоятельность. Все произошло прямо по Гегелю: коммунистическое отрицание старой России сменилось посткоммунистическим отрицанием отрицания. Но мы уже говорили: само по себе изживание старого не означает готовности созидать новые формы жизни.
Советская эпоха устранила некоторые прежние препятствия, блокировавшие утверждение этих форм. Однако субъектов интенсивного хозяйствования с соответствующими ему личностными ресурсами она создать не могла. В этом отношении Советский Союз не только не превзошел досоветскую Россию, но и обрубил те тенденции интенсификации, которые наметились в последние десятилетия ее существования. Была лишь одна сфера, в которой нерыночная социалистическая система хозяйствования обнаружила способность к инновациям. Но задел, созданный в этой сфере, оказался настолько значительным, что позволяет ослабленной и уменьшившейся в размерах посткоммунистической России сохранять пусть и не ключевую, но все-таки важную роль в той международной системе, которая складывается после окончания «холодной войны». Речь идет о советском военно-промышленном комплексе и тех способах мобилизации личностных ресурсов, которые в нем небезуспешно использовались.
19.3. Феномен советского ВПК
Военно-промышленный комплекс СССР не был анклавом интенсивного хозяйствования уже потому, что являлся чрезвычайно ресурсозатратным и развивался за счет перекачки в него средств из гражданских отраслей. Вместе с тем советский ВПК, будучи привилегированным сегментом социалистической экстенсивной экономики, был открыт для инноваций и способен их продуцировать, чем разительно отличался от других ее сегментов. В данном отношении он был даже более конкурентоспособным, чем досоветская оборонная промышленность с ее постоянными колебаниями между отставаниями, догоняющими рывками и новыми отставаниями. Особенно результативной работа советского ВПК была в послевоенный период, Причем не во всех отраслях, а главным образом в непосредственно связанных с созданием и совершенствованием ракетно-ядерного оружия105. Побочным продуктом развития этих отраслей стала космическая программа, в реализации которой Советский Союз на какое-то время стал мировым лидером. И вопрос заключается в том, каким образом и благодаря чему такое оказалось возможным.
Ведущие отрасли военно-промышленного комплекса всегда работали под особо жестким контролем государства в лице его высших руководителей. Но эффект, позволявший реально конкурировать с Западом, достигался не благодаря такому контролю. И не только потому, что в ВПК вкладывались огромные средства (при Брежневе, напомним, они вкладывались и в сельское хозяйство), а занятые в нем специалисты и рабочие оплачивались значительно лучше, чем в гражданских отраслях, и находились в привилегированном положении с точки зрения качества жизни106. Главные причины, на наш взгляд следует искать в том, что в этой среде действовали два мощных стимулятора, способствовавшие мобилизации личностных ресурсов. Один из них имеет прямое отношение к сталинской военно-приказной системе и ее особенностям. Другой же можно рассматривать как самобытную советскую трансформацию мотивационных механизмов, обеспечивающих интенсивное ведение хозяйства на Западе.
Послевоенный ВПК был единственным хозяйственным сегментом, в котором удавалось не просто поддерживать атмосферу «осажденной крепости», но и использовать ее для стимулирования научного и технического творчества. В пору развертывания работ по форсированному созданию ядерного оружия отставание СССР от США в данной области воспринималось учеными и специалистами ВПК, как серьезная угроза безопасности страны. Академик Сахаров, бывший одной из ключевых фигур в реализации советской ядерной программы, впоследствии вспоминал, что и он сам, и множество других специалистов прилагали «огромные усилия» для решения поставленной задачи: они «думали, что только таким путем можно предупредить третью мировую войну»107. Эту атмосферу удавалось поддерживать и при послесталинских руководителях, когда между двумя ядерными державами развернулось соперничество в создании
105 По большинству видов вооружений, не являющихся средствами массового поражения, СССР к 1980-м годам от США отставал. Удерживая лидерство по пяти видам оружия, включая химическое и бактериологическое, советский ВПК уступала американскому по 17-ти (Фальцман В. Кризис Союза и будущее экономики России //Вопросы экономики. 1991. №4-6).
106 Быстрова И.В., Рябов Г.Е. Указ. соч. С. 170.
107 Сахаров А.Д. Тревоги и надежды. М., 1990. С. 300.
и производстве средств доставки ядерного оружия. Так что можно сказать, что ВПК оставался той единственной сферой, где милитаристский способ мобилизации личностных ресурсов (точнее – его героико-патриотическая составляющая) продолжал не без успеха использоваться и после того, как во всех других областях себя исчерпал.
Однако долговременная конкурентоспособность ведущих отраслей советского военно-промышленного комплекса обеспечивалась не только этим. Существовал и другой способ стимулирования, и он тоже был отработан еще при Сталине. В этих отраслях сложился и действовал механизм своего рода социалистической конкуренции, в котором государству удавалось отчасти заменять рынок. Монопольно контролировавшиеся властью ресурсы позволяли ей мобилизовать частные и групповые интересы на решение поставленных задач посредством одновременного финансирования нескольких претендентов на роль разработчиков и исполнителей. Это было не формальное социалистическое соревнование, как в гражданских отраслях. Это было реальное соперничество за доступ к выделяемым на военные цели огромным ресурсам, стимулировавшее достижение лучших результатов в области инноваций. Последнее обстоятельство отличало этот тип соперничества от борьбы между ведомствами на «бюрократическом рынке», где получение дополнительных средств инновационными разработками и их внедрением не обусловливалось.
Механизм социалистической конкуренции в ВПК начал складываться после того, как СССР, обеспечив себя ядерным оружием, должен был решить вопрос о средствах его доставки к цели. Какой способ окажется наиболее эффективным – самолетами, на подводных лодках или с помощью различных типов ракет, – никто не знал. Сын Хрущева, хорошо осведомленный о том, что происходило в ВПК и вокруг него не только в пору правления его отца, но и раньше, рассказывает, как запускался этот конкурентный механизм в одной отдельно взятой группе смежных отраслей. «Решили объявить конкурс, – пишет он. – Коллективу победителей сулили Щедрые премии, ордена. Наибольшие награды в виде построенных загосударственных счет дач и автомобилей, званий Героя Социалистического Труда, внеконкурсного избрания в Академию наук, сталинских и просто огромных денежных премий обещались генеральным и главным конструкторам. По логике Сталина, против такого не способен устоять никто, и ученые сделают невозможное»108.
108 Хрущев С.Н. Рождение сверхдержавы: Книга об отце. М., 2000. С. 48.
Автор, правда, считает нужным подчеркнуть, что в послесталинские времена такие документы уже не появлялись. Но речьидет лишь о форме, а не о существе дела. Механизм социалистической конкуренции, предполагавший предварительное финансировали ее участников с последующими щедрыми наградами победителей, в том числе и в виде новых заказов, продолжал функционировать и целенаправленно развиваться. Решение Хрущева «назначить» конкурентом Сергея Королева на «ракетном» направлении Михаила Янгеля – с соответствующим ресурсным обеспечением создававшихся новьых структур109 – убедительное тому подтверждение. Потом в качестве конкурента им обоим был «утвержден» Владимир Челомей110.
Эта практика сохранялась и при Брежневе, с той лишь разницей, что он, не желая ссориться с конкурировавшими группами и их покровителями в разных ведомствах, все больше тяготел к самоустранению от исполнения главной «рыночной» функции государства в ВПК – функции определения победителей в конкурентной борьбе. Бывали даже случаи, когда при относительно равноценных результатах он санкционировал запуск в производство разных моделей нового оружия, не вдаваясь в «подробности», касавшиеся экономической цены таких «компромиссных» решений111. Тем самым лишний раз демонстрировалось, что «князебоярская» модель «коллективного руководства», утверждаясь не на восходящем, а на нисходящем витке системной эволюции, делает власть «князя» в значительной степени символической.
Но как бы то ни было, синтезирование в ВПК милитаристских способов стимулирования (без их репрессивной компоненты) с механизмами социалистической конкуренции позволило осуществить в этой сфере мобилизацию личностных и коллективных
109 Там же. С. 189-190.
110 Там же. С. 328.
111 С. Хрущев рассказывает о том, как подводились итоги конкурса на разработку отечественной модели ракеты с разделяющимися боеголовками. Конкурировавшие между собой Янгель и Челомей разработали разные варианты, причем тот и другой были признаны удачными. Предстояло решить, какой из них взять на вооружение. Устинов, курировавший ВПК, отдавал предпочтение Янгелю, министр обороны Гречко – Челомею. Брежнев же, которому предстояло сказать решающее слово, решил поставить на вооружение обе ракеты, что значительно увеличивало расходы (Там же. С. 634). Особенность социалистической конкуренции, в отличие от капиталистической, заключалась в том, что экономическая эффективность была в ней вопросом второстепенным. Поэтому нет оснований и для того, чтобы считать модель развития советского ВПК интенсивной.
ресурсов и достигнуть ракетно-ядерного паритета с США. Однако стратегическая неэффективность советской хозяйственной системы в конечном счете сказалась и на ее оборонном секторе. Колоссальные вложения, которых он требовал, могли быть обеспечены только за счет недофинансирования гражданских сегментов экономики. В свою очередь, со временем стало выясняться, что на определенном витке гонки вооружений именно неэффективность экономики в целом и отсутствие субъектов технологических и организационных инноваций за пределами ВПК ставят под вопрос и конкурентоспособность самого ВПК.
После того как в ответ на установку советских ракет СС-20 в Восточной Европе США начали размещать в западноевропейских странах свои крылатые ракеты, а президент Рейган объявил о программе стратегической оборонной инициативы (СОИ), переводившей гонку вооружений в космос, обнаружилось, что необходимыми для адекватной реакции средствами СССР не располагает. Тем более что беспрецедентно высокие мировые цены на нефть, поддерживавшие устойчивость стагнировавшей экономики, в середине 1980-х годов стали падать. Слабость хозяйственного тыла оборачивалась трудноразрешимыми проблемами на переднем крае военно-технологического фронта.
Горбачев, судя по его собственным высказываниям, рассматривал варианты решения этой проблемы посредством переноса новых научно-технологических разработок из оборонной и космической промышленности в другие хозяйственные отрасли112. Такого рода перенос предполагал разрушение последнего бастиона сталинской милитаристской системы, т.е. отказ от «неразумной секретности», о чем Горбачев начал говорить открыто113. Но он же публично признавался и в том, что производственники в новшествах не заинтересованы114. Технологическая модернизация требовала модернизации социально-политической. Социально-политическая модернизация, помимо воли реформатора, вела к демонтажу советского социализма и свертыванию коммунистического проекта, представлявшего собой самую последовательную в истории страны цивилизационную альтернативу Западу.
112 Первый съезд народных депутатов СССР. С. 450.
113 Там же.
114 Горбачев М.С. Политический доклад Центрального комитета КПСС XVII съезду Коммунистичес-
кой партии Советского Союза. М., 1986. С. 36-37.
Глава 20 Безальтернативная цивилизация: замыслы и воплощения
Российский коммунистический проект не осознавался его творцами и исполнителями как цивилизационный. Это был проект движения не к новой цивилизации, а к новой общественно-экономической формации, которой, в соответствии с марксистской доктриной, предстояло сменить формацию капиталистическую, – подобно тому, как последняя сменила феодализм. Но многие современные отечественные почвенники склонны именовать советский социализм особой цивилизацией, альтернативной западной115. И для этого у них есть определенные основания. СССР действительно заложил в основу своего жизнеустройства новый цивилизационный элемент, каковым стала светская коммунистическая вера. И он действительно выстраивал новую цивилизационную комбинацию этого элемента с двумя другими – силой и юридическим законом.
20.1. Коммунизм и православие
Применительно к сталинскому периоду, когда советский проект стал социально-экономической и политической реальностью, правомерно говорить о доминировании бесконтрольной силы и над верой, и над законом. Они исполняли по отношению к ней подчиненно-инструментальные роли: первая сообщала этой силе легитимность, а второй использовался для придания ее произвольно-репрессивным действиям правовой видимости. Но это, в свою очередь, означало, что никакого нового цивилизационного качества в сталинскую эпоху создано не было. Потому что цивилизация предполагает жизнеустройство, подчиненное определенным общепринятым и понятным правилам. Если же они отсутствуют или только имитируются, то это верный признак того, что государство и общество пребывают в предцивилизационном состоянии.
115 См., например: Кара-Мурза С. Советская цивилизация от начала до великой победы. М., 2004.
Силовая составляющая – огромная армия116 и наделенные почти неограниченными полномочиями спецслужбы – была опорным звеном в институциональном устройстве сталинской системы. Юридически-правовому звену отводилась в нем вспомогательная функция: суды, как правило, выносили заранее предписанные им решения, переводя предъявленные следователями и прокурорами обвинения в судебные приговоры. Широко использовались и внесудебные способы вынесения наказаний117. Однако произвол репрессивной силы мог иметь место и даже выглядеть в глазах большинства населения законным способом поддержания порядка лишь потому, что источник ее легитимности находился вне нее.
Источником легитимности всех государственных институтов выступали светское коммунистическое вероучение и властная структура, считавшаяся его монопольным хранителем и толкователем. Но и эта структура, каковой являлась коммунистическая партия, играла свою роль лишь постольку, поскольку возглавлялась сакральным вождем, наделенным неписанным правом единолично интерпретировать и ее коллективную веру (она же знание), и ее совокупную волю. Доминирование надзаконной силы в сталинском СССР обусловливалось тем, что ее верховным распорядителем выступал персонифицированный сакральный субъект, власть которого законом не определялась и не регулировалась. Не корректировалась эта сила и верой – по той простой причине, что ее главный блюститель, руководствуясь собственными, другим не известными критериями, был вправе определять, кто является ее беззаветным служителем, а кто – явным или скрытым еретиком.
Советский проект замышлялся и воплощался в жизнь не только как альтернатива западной цивилизации. Он был альтернативным и по отношению ко всем прежним отечественным цивилизационным стратегиям. Надзаконная сила могла сочетаться в них с верой или законом, могла образовывать с ними и более сложные комбинации, но никогда не сочеталась с верой светской. Субъектом прежних стратегий выступал институт наследственного самодержавия, который мог подчинять себе церковь и даже становиться во главе нее, но исключительно потому, что политически по отношению
116 Ко времени смерти Сталина советская армия была самой большой в мире: в вооруженных силах силах служило 5 394 038 военнослужащих (Военные архивы России. 1993.№1. С.272).
117 В годы перестройки это было официально признано Прокуратурой и КГБ СССР (см.: О внесудебных органах // Известия ЦК КПСС. 1989. № 10. С. 80-82).
к ней всегда был первичен. В сталинском же проекте заглавной фигурой стал именно «церковный» (партийный) первосвященник. Он возглавлял «церковь» не по праву императора-самодержца. Наоборот, он был нетитулованным императором-самодержцем по праву первосвященства.
Налицо, таким образом, резкий разрыв не только с политической, но и с религиозно-православной отечественной традицией. Подобного соподчинения духовно-идеологической и светской властей она не знала, как и превращения духовной власти в атеистическую. Фактом, однако, является и то, что именно в православной России коммунистический проект, выдвинутый на Западе, но им отторгнутый, впервые получил воплощение. Факт и то, что данный проект нашел благоприятную для себя почву и в других странах с преобладанием православного населения, причем в некоторых из них, например в Югославии, коммунисты пришли к власти без помощи Москвы. Исключение из этого правила составила только Греция, которая по итогам Второй мировой войны оказалась в зоне западного влияния. Факт, наконец, и то, что в странах, попавших после войны под военно-политический контроль СССР, наименьшую предрасположенность к примирению с советским социализмом демонстрировали немцы, венгры, чехи и поляки, т.е. народы католического и протестантского регионов118.
Коммунистический проект можно рассматривать как ответ православного Востока на модернизационный вызов Запада. Отсюда, однако, вовсе не следует, что атеистический коммунизм непосредственно вырос из православия. Отсюда следует лишь то, что в последнем не обнаружилось достаточного ценностного иммунитета против первого. В православии ценность земной жизни и ее обустройства ставится ниже, чем в католической, не говоря уже о протестантской версии христианства. Град небесный в нем не просто противопоставлен граду земному, но представлен как единственная подлинная реальность, по отношению к которой посюсторонняя реальность выступает как профанная. Этим предопределяется особый статус идеально-божественного должного и его абсолютное верховенство над греховным человеческим сущим119, над материальной
118 Яковенко И.Г. Православие и исторические судьбы России // Общественные науки и современность. 1994. № 2.
119 О соотношении должного и сущего в русской культуре см.: Яковенко И.Г. Небесный Иерусалим, или Российская империя: диалектика должного и сущего // Рубежи. 1997. №5-8.
практикой и материальными интересами. Отечественные почвенники усматривают в данном явлении преимущество православия над западными ветвями христианства. В нашу задачу оспаривание их воззрений не входит. Нас интересует не оценка этого религиозно-культурного феномена, а его следствия.
Предельным выражением разрыва между небесным и земным мирами, вызывавшим обеспокоенность даже у православных идеологов120, выступала идея мироотреченства. Одно из его проявлений можно обнаружить в раннем русском старообрядчестве. Истовость веры и желание соответствовать божественно-должному сопровождались у старообрядцев энтузиастическим трудовым усердием, которое, однако, ничего общего не имело с западно-протестантскими ценностями мирского успеха и самоутверждения, а выражало готовность принять от Бога наказание трудом во искупление человеческой греховности. В определенной степени проекцией идеально-должного в мир сущего можно считать и общинно-уравнительный сельский уклад – отечественные славянофилы имели достаточно оснований для отождествления его ценностей с православными. Но при такой религиозно-культурной матрице ответить на модернизационный вызов Запада по-западному было непросто, что и продемонстрировали столыпинские реформы. С другой стороны, эта матрица, как выяснится, при определенных обстоятельствах не обладала и иммунитетом против коммунизма.
Пока традиционный уклад жизни остается незыблемым, а его материальная, экономическая составляющая не воспринимается как особая и самостоятельная проблема, он достаточно надежно застрахован от чужеродных влияний. Это убедительно продемонстрировали неудачи «хождения в народ» русских социалистов-народников. Но когда такой уклад начинает восприниматься разрушающимся и перестает восприниматься гарантирующим общее и индивидуальное выживание, притерпелость к неизбежным отклонениям сущего от должного (например, к частной земельной собственности) может смениться нетерпимостью к ним с сопутствующим ей пафосом утверждения иного сущего, приведенного в соответствие с должным.
120 Констатируя, что основой русского национального сознания является «элемент религиозный» или, говоря иначе, «абсолютный этический элемент», Лев Тихомиров вместе с тем отмечал, что «в этой высоте основного элемента нации лежит трудность его реализации, а трудность реализации грозит разочарованием, унынием и смертью нации, оказавшейся неспособной провести в мир столь высоко взятый идеал» (Тихомиров П.А. Монархическая государственность. М., 1998. С. 353-354).
При таких обстоятельствах может актуализироваться и глубоко укорененная в религиозно-культурной матрице идея мироотриченства, трансформируясь в идею отречения от «старого мира» во имя утверждения нового.
О том, как и благодаря чему образ этого нового мира, представлявший собой идеализированный, очищенный от «профанных» наростов общинно-вечевой уклад, мог быть преобразован в ста некий проект, мы подробно говорили выше. Здесь же достаточно подчеркнуть, что православная духовность, столкнувшись на уровне массового сознания с материальными вызовами, ответила на них готовностью к одухотворению самого материального начала, выявив тем самым свою непреодоленную языческую компоненту. Не забудем, что одним из главных символов советского коммунистического проекта стал ленинский мавзолей, призванный представить «вечно живое» содержание учения усопшего вождя в телесной форме, т.е. вполне на языческий манер. Принижая ценностный статус материальной повседневности, православие оставляло ее идеологически бесхозной. Поэтому ему так и не удалось преодолеть язычество121 и устоять перед атеистическим коммунизмом. Последний восторжествовал над православием, противопоставив ему откровенно материалистическую доктрину и соответствовавшие ей лозунги («фабрики – рабочим, земля – крестьянам!»). Однако надолго закрепиться в истории ему не удалось. Потому что на новый лад он по-прежнему пытался обеспечить верховенство должного над сущим. Но об этом – ниже.
Пример Китая и некоторых других азиатских стран не позволяет объяснять выбор коммунистического проекта исключительно конфессиональными причинами. С Россией эти страны сближало лишь то, что индустриальная модернизация начиналась в них при доминировании в населении патриархального крестьянства. О том, какую роль сыграли его ценности и идеалы в историческом самоутверждении коммунистов, мы уже говорили тоже. В данном отношении существенных различий между православной Россией, конфуцианским Китаем и другими странами, самостоятельно пошедшими по
121 О широком распространении языческих воззрений в досоветской России, в том числе и в последние десятилетия ее существования, см.: Горбунов Б.В. Традиции народных кулачных боев в Петербурге в начале XX в. // Этнография Петербурга-Ленинграда: Материалы ежегодных научных чтений. СПб., 1994. С. 22-32; Короленко В.Г. Глушь: Отрывки из дневника учителя // Короленко В.Г. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1960.Т. 3; Миронов Б.Н. Указ. соч. Т. 1. С 332.
пути СССР, не просматривается. Однако сводить причины их выбора только к запоздалой модернизации патриархально-крестьянских миров было бы неверно. Ведь исламские регионы, тоже крестьянские, предрасположенности к коммунизму не обнаружили. Такая предрасположенность обнаружилась лишь там, где идея доминирования должного над сущим либо вообще обходилась без религиозно-божественного обоснования, либо была доведена до полной изоляции идеально-божественного от материально сущего.
Показательно, однако, что в Китае, где имел место первый случай, идеологическая установка на глобальную реализацию коммунистического проекта сочеталась с претензией на национальную особость, породив «социализм с китайской спецификой». Здесь речь шла о воспроизводстве сложившейся цивилизации и ее адаптации к новым мировым вызовам. Что касается Советского Союза, то он унаследовал от досоветской России ее цивилизационную несамодостаточность вместе с многовековым стремлением отсутствовавшую самодостаточность обрести. Поэтому в СССР возобладала ориентация на универсальную цивилизационную стратегию, предполагавшую резкий разрыв с отечественным прошлым при сохранении преемственной связи только с одной традицией – имперско-державной. Поворот Сталина от тотальной критики этого прошлого к его возвеличиванию не должен в данном отношении вводить в заблуждение: Сталин искал в нем дополнительные аргументы для обоснования глобальных притязаний советского проекта, а не доводы в пользу российской самобытности.
Советский цивилизационный проект, в отличие от досоветских, можно назвать вертикальным. Он предполагал не просто нахождение особого места страны рядом с другими цивилизационными образованиями и даже не просто возвышение над ними. Он предполагал их полное поглощение в процессе всемирных революционных преобразований, которые начались в России и потому позволили ей оказаться впереди других стран, как провозвестнице их собственного будущего. Это была заявка на прорыв в реальное осевое время, в котором разрозненное и запутавшееся в конфликтах человечество сумеет, наконец-то, объединиться, но – не благодаря освоению абстракции единого Бога или универсальных принципов глобального капиталистического рынка и обслуживающих его юридических норм, а благодаря Постижению абстракций коммунистической идеологии и насильственному отсечению тех, кто в силу своего классового положения и классовых заблуждений освоить их не в состоянии.
По сравнению с советским все предыдущие российские цивилизационные проекты и в самом деле были горизонтальными. Максимум, на что они претендовали, – утверждение России рядом и над другими цивилизационными анклавами, т.е. достижение превосходства над ними, а не их ассимиляцию. Проекты православной цивилизации с центром в Москве, выдвигавшиеся в допетровской Руси, не распространялись за пределы православного мира. «Греческий проект» Екатерины II предполагал доминирование России в Европе, но оставлял в ней законное место и для западноевропейских стран, считавших себя наследниками Древнего Рима. А реализация Александром I проекта Священного союза сопровождалась даже готовностью поступиться православной идентичностью ради достижения цивилизационного единства – при лидерстве России – с Австрией и Пруссией на общехристианской основе. Не были планетарными, несмотря на всю их амбициозность, и более поздние пан славистские стратегии. Иными словами, досоветские цивилизационные проекты могли претендовать и, как правило, претендовали на альтернативность – прежде всего по отношению к Западу. Коммунистический же проект в исполнении большевиков, изначально притязавший не на самобытную, а на глобальную альтернативность, был, в отличие от них, безальтернативным.
20.2. Сущее под маской должного
На первых порах, однако, проект этот не предполагал ни доминирования Советской России в мире, ни даже ее самодостаточности. Ее будущее ставилось в зависимость от предстоящей «мировой революции», которая должна была, согласно марксистскому учению, неизбежно затронуть и развитые капиталистические страны, в наибольшей степени подготовленные к вхождению в новую глобальную цивилизацию, именовавшуюся коммунистической формацией. Неоправдавшиеся надежды на «мировую революцию» означали, что глобальный проект предстояло воплощать в локальном пространстве «одной, отдельно взятой страны». Это придавало самому проекту уникально-самобытную окраску, которая, тем не менее, по-прежнему интерпретировалась как универсальная, как образец для всех стран и народов. То был не отказ от идеи безальтернативной цивилизационной вертикали, а самоутверждение СССР, где социализм уже победил, на ее вершине, что проявлялось не только в идеологической риторике, но и в жестком подчинении коммунистических партий всех стран советскому руководству и предписанной им безоговорочной поддержке любых действий Советского Союза. Коммунистический интернационал (Коминтерн), созданный еще при Ленине для реализации стратегии «мировой революции», стал инструментом внешней политики сталинского СССР.
После победы в войне в советскую вертикаль удалось вмонтировать уже не только коммунистические партии, но целые страны, где не без помощи Москвы эти партии пришли к власти. Но тогда же стало выясняться, что претензия советского проекта на универсальную альтернативу «мировому империализму» отторгаться не только Западом, которого глобальные амбиции СССР и его военная мощь подтолкнули к форсированной цивилизационной консолидации. Эта претензия была отвергнута и выбравшей социалистический путь развития Югославией во главе с маршалом Тито. Таким образом, новое цивилизационное образование раскалывалось, едва успев выйти за пределы «одной, отдельно взятой» страны. Но его раскол ставил под сомнение не только оправданность универсалистских притязаний советского проекта. Он ставил под сомнение и сталинскую военно-репрессивную версию этого проекта как таковую. Ее можно было распространить на страны Восточной Европы, находившиеся после войны под контролем СССР. Если же, как в случае с Югославией, военного контроля над страной не было, то и коммунисты, придя в ней к власти, могли оказаться Москве неподконтрольными. Светская коммунистическая вера, не подкрепленная силой, цивилизационную солидарность не обеспечивала.
Но главные испытания у руководителей СССР и его восточноевропейских сателлитов были впереди. Им предстояло доказывать цивилизационную самодостаточность и перспективность советского проекта не только тем странам и народам, которые присоединяться к нему не спешили, но и собственному населению. Сталинская модель, основанная на произвольном использовании надзаконной силы и оставлявшая открытой границу между гражданским миром и гражданской войной, таких доказательств предоставить не могла: перманентно имитируемая гражданская война была равнозначна отсутствию цивилизационного качества вообще. Отказ послесталинс-ких лидеров от подобных имитаций и сопутствовавших им произвольных репрессий можно рассматривать как стремление такое Качество обрести. Проблема, однако, заключалась в том, чтобы сделать его более высоким, чем цивилизационное качество Запада. Без этого идея безальтернативного вертикального проекта лишалась Жизненного содержания и обрекалась на историческое банкротство.
Преемники Сталина, ограничив применение силы, пробовали по-новому комбинировать ее с верой и законностью. Хрущев, идеологически приблизив коммунистическое будущее к настоящему, пытался актуализировать светскую веру. Тем самым он сохранял вертикальную направленность советского проекта, его безальтернативность: утверждение в СССР коммунизма должно было наглядно продемонстрировать всем странам основной вектор мирового развития. Однако несостоятельность замысла, быстро ставшая очевидной, в том числе и руководству страны, подрывала и веру, и – вместе с ней – социалистический строй, который этой верой себя легитимировал. Появлялось все больше людей, ставивших под сомнение его соответствие тем ценностям, которые он декларировал-«подлинная демократия» казалась им несовместимой с властной монополией коммунистической партии, а «подлинная свобода» – с наличием цензуры и негласным запретом на критику осуществлявшейся в стране политики. И по мере того, как такие сомнения начинали высказываться вслух (например, в самиздате) власти оказывались перед двойным вызовом. С одной стороны, им предстояло защищать советский проект, вера в который была поколеблена, не только от внешних, но и от появившихся внутренних угроз. С другой стороны, защищать его, не снижая еще больше его цивилизационное качество, было непросто.
Послесталинские лидеры пытались обогатить это качество принципом законности. Поэтому откровенно беззаконного использования силы в сталинском духе они, по возможности, старались избегать, хотя это у них не всегда получалось – достаточно вспомнить о расстреле новочеркасских рабочих в 1962 году. Но в данном случае мы говорим об общей тенденции. По закону же критиков советских порядков можно было привлечь к уголовной ответственности только в том случае, если их действия подпадали под статью об «антисоветской пропаганде и агитации». Однако большинство инакомыслящих послесталинского периода открыто против социализма и советской власти не выступало, а потому и осуждение их по этой статье было бы равнозначным возвращению к сталинской практике. Защитить себя от новых вызовов советская система могла только посредством законодательного ограничения конституционных прав граждан, что и нашло выражение в новых юридических нормах брежневской эпохи, которые предусматривали уголовное преследование за распространение «порочащих измышлении» и участие в «групповых действиях, нарушающих общественный порядок». При этом под «порочащие измышления» могла быть подведена любая констатация официально непризнававшихся фактов и явлений, а под «групповые действия» – любая уличная демонстрация протеста. Показательно и закрепление в Конституции «руководящей и направляющей» роли КПСС – тем самым ее надзаконная власть ставилась под защиту закона.
Так самоограничение силы и размывание веры компенсировались в советском проекте ужесточением юридической регламентации. Его исполнители все больше запутывались в двойной бухгалтерии: создав цивилизационный фасад в виде конституционных прав граждан, они оказались вынужденными законодательно запрещать этими правами пользоваться. Принцип законности, брошенный на защиту проекта, разваливал данный проект изнутри.
Коммунистическая система попала в историческую ловушку, в чем-то сходную с той, в которой оказалась в свое время система православно-самодержавная. Советское цивилизационное творчество сопровождалось возрождением идеи должного (на сей раз в светско-атеистической форме), которое теперь уже не просто верховенствовало над сущим, а заменяло его, превращало его из профанного в несуществующее вообще. Почти все, что при социализме, согласно идеологической доктрине, не должно было иметь места, в реальности – по официальной версии – такого места и не имело. В СССР, в соответствии с этой версией, не было ни политзаключенных, ни цензуры, ни проституции, ни наркомании, ни взрывающихся на полигонах ракет122, ни разительного отставания в уровне жизни от капиталистических стран, ни перебоев со снабжением населения продуктами. Если же какие-то отклонения от должного и признавались – например, уголовные преступления, – то они объявлялись «пережитками капиталистического прошлого», к социализму и его природе не имеющими отношения. Чтобы претендовать на безаль-
122 О механизмах, которые использовались для трансформации сущего в должное, можно судить, например, по истории с взрывом ракеты на космодроме в 1960 году, в результате которого погибло много людей. Тем, кто уцелел, настоятельно рекомендовали на всю жизнь запомнить, что они пострадали и спаслись вовремя авиакатастрофы, о чем и получили соответствующие официальные свидетельства, в том числе и медицинские. Такими событиями, как взрывы ракет, «преимущества социализма» ставились под вопрос, а потому бывшее должно было стать «небывшим». Конечно, историю с авиакатастрофой можно было и не сочинять, а взрыв ракеты замолчать, если бы среди погибших не было маршала Неделина, исчезновение которого не могло пройти незамеченным и который был объявлен погибшим в авиакатастрофе (Хрущев С. Указ. соч. С. 378).
тернативную цивилизационную вертикаль, реальность приходилось подменять ее идеальным образом, а тех, кто начал обнаруживать между ними несоответствие и высказывать свои соображения вслух, сажать в тюрьму за «порочащие измышления».
Но такие способы защиты советского проекта привлекательности ему не добавляли, а лишь выявляли несостоятельность его глобальных претензий. Более того, косвенно они свидетельствовали о том, что из универсального он превращался в горизонтальный. Если же вспомнить, что одновременно происходила девальвация коммунистической веры, а идея долгосрочного «развитого социализма» устраняла границу между должным и сущим даже во времени, еще больше смещая должное от будущего к настоящему, то трансформация безальтернативно-альтернативного проекта, претендовавшего на универсальность, в просто альтернативный, т.е. локальный, станет очевидной. А в годы перестройки и эта его претензия уйдет в прошлое.
Горбачев почти до самого конца своего правления продолжал рассматривать социализм как альтернативу капитализму123, но – именно как горизонтальную: в социализме он видел не всеобщее будущее, а один из вариантов исторического развития, «органическую часть современной цивилизации»124. Ритуальные упоминания о «коммунистической перспективе» из его речей со временем исчезли – слишком уж явно не соотносились они с его отказом от классовых ценностей в пользу «общечеловеческих» и с общей направленностью его политического курса. А после того, как в числе «общечеловеческих ценностей» оказались экономические и политические свободы, выяснилось: трансформация советского цивилизационного проекта из универсально-вертикального в горизонтально-локальный этот проект не только не спасает, но и подводит окончательную черту под его историческим существованием.
Еще более наглядно его исчерпанность выявилась во внешней политике Горбачева, осуществившего вывод советских войск из Афганистана и отказавшегося от военной поддержки просоветских режимов в странах Восточной Европы, что привело к победе в них антикоммунистических «бархатных революций». Социалистическая цивилизационная альтернатива, лишенная такой поддержки,
123 «…У капитализма есть альтернатива. И эта альтернатива – социализм» (Горбачев М.С. Избранные статьи и речи. Т. 5. С. 438).
124 Горбачев М.С. Избранные статьи и речи. Т. 7. С. 251.
обнаружила свою неукорененность и беспочвенность на всем пространстве, которое контролировалось Советским Союзом. Но проявляться это стало еще раньше – ив антисоветских выступлениях восточных европейцев, и в военных неудачах в Афганистане. Это проявлялось и в том, что, несмотря на военную и финансовую поддержку, которую СССР оказывал революционным силам и лояльным к Москве режимам в странах «третьего мира»125, в послесталинский период сколько-нибудь существенного расширения зоны мирового социализма Советскому Союзу добиться не удалось.
Такое расширение было главным и единственным аргументом в пользу стратегической перспективности советского проекта. Оно рассматривалось советским руководством не только с точки зрения демонстрации сверхдержавного влияния на мировой арене и его увеличения, но как важное средство упрочения легитимности режима внутри страны в условиях ослабления коммунистической веры. В ситуации длительного мира и исчерпанности возможностей для территориальных приращений традиционная имперско-державная идентичность могла поддерживаться только в том случае, если официальная социалистическая идентичность ее подпитывала. Но такая взаимодополнительность могла обеспечиваться лишь при постоянном и зримом расширении «социалистического лагеря» за пределами страны.
Возможно, введение войск в Афганистан и было неосознанной попыткой синтезировать две идентичности, реанимировав былую роль статусных войн. Но попытка не удалась. Весьма скромными оказывались и достижения на других направлениях, между тем как потери становились все более ощутимыми. Окончательно отпал от советского блока Китай, дистанцировались от Москвы Албания и Румыния, своим особым путем развивалась Югославия. Ослабевало и влияние КПСС на компартии развитых капиталистических стран – наиболее сильные среди них отказались от основополагающих принципов ленинской политической доктрины и стали
125 В послесталинский период советские военнослужащие участвовали в боевых действиях в Лаосе (1960-1963,1964-1968,1969-1970), Алжире (1962-1964), Йемене (1962-1963), Вьетнаме (1965-1974), Сирии (1967,1973), Камбодже (1970), Бангладеш (1972-1973), Анголе (1975-1979), Мозамбике (1967-1969,1975-1979), Эфиопии (1977-1979), Афганистане (1978-1991), Никарагуа (1980-1990) и других странах. Совокупный долг этих стран Советскому Союзу за поставки военной техники и вооружений составил 34,4 млрд. долларов (Быстрова И.В., Рябов Г.Е. Указ. соч. С- 202-203).
партиями парламентского типа, готовыми входить в «буржуазные» правительства126. Таким образом, горбачевская перестройка явилась попыткой ответа не только на внутренний кризис советского социализма, но и на возраставшее ослабление его международных позиций. И она же показала, что такого ответа у СССР нет.
По мере развертывания научно-технической революции советский цивилизационный проект все больше выявлял свою неспособность обеспечить прорыв человечества во второе осевое время на альтернативных принципам западной цивилизации основаниях. Проект этот не был самодостаточным. Его реализация позволяла за счет концентрации ресурсов на военно-промышленном направлении добиваться на данном направлении конкурентоспособности по отношению к Западу. Но во всех других хозяйственных отраслях коммунистическая система источников саморазвития и стимулов инноваций не обнаруживала и без перманентных технологических заимствований, прежде всего посредством ввоза зарубежного оборудования, обойтись не могла.
Положение еще больше усугублялось тем, что при претензиях СССР на мировое лидерство в этом невозможно было признаться. Советские люди не знали ни о масштабах закупок западной техники в годы индустриализации, когда в страну ввезли около трехсот тысяч станков, ни о масштабах американской технической помощи по ленд-лизу, ни о том, какую роль сыграло в восстановлении экономики СССР оборудование, вывезенное после войны из Германии и воевавших на ее стороне других стран. Осознания населением технологической неконкурентоспособности Советского Союза его руководители опасались не меньше, чем ее самой. Поэтому в послевоенные годы предосудительным и наказуемым было не только «восхваление американской демократии» (ВАД), но и «восхваление американской техники» (ВАТ). В послесталинские времена ВАТ, в отличие от ВАДа, уже не преследовалось, но масштабы технологических заимствований, в том числе и прошлых, по-прежнему не афишировались.
Опасения советских лидеров не были беспочвенными. Заимствования, без которых коммунистическая система не могла обойтись, действительно подтачивали ее легитимность и порождали дополнительные сомнения в перспективности советского циви-
126 Эта новая стратегия была разработана в 1970-е годы и получила название «еврокоммунизма». Но исторических перспектив, как вскоре выяснится, она не имела.
лизационного проекта. Слово «импорт» становилось синонимом качества, которое советская экономика обеспечить была не в состоянии. Но повышая, вопреки своим собственным установкам, статус «импортного», прежде всего западного, коммунистическая система попутно решала – тоже вопреки собственным целям – важную историческую задачу.
В русской литературе XIX века можно обнаружить свидетельства того, что в низовой городской и патриархальной крестьянской среде досоветской России понятие «немецкая вещь» нередко все еще символизировало культурно чужое и чуждое начало, вызывавшее отторжение. Советская эпоха от этого предубеждения излечила всех. Но тем самым она подготовила и свой собственный уход, как подготовила его ликвидацией догосударственной культуры локальных сельских миров, урбанизацией и развитием народного образования. Потому что заимствование вещей (в широком смысле слова) рано или поздно ведет к заимствованию культурно-цивили-зационных принципов и институтов, благодаря которым производство этих вещей обеспечивается. Другое дело, что заимствовать принципы и институты гораздо сложнее, чем вещи. Для заимствования вещей и их использования достаточно обучения. Для заимствования принципов и институтов требуется еще и самоизменение элиты и населения.
Советский цивилизационный проект, именовавшийся формационным, себя исчерпал, продемонстрировав свою стратегическую несостоятельность. Нои замены ему постсоветская Россия пока не нашла. О том, как она ее ищет и что из этого получается, нам предстоит говорить после того, как мы, следуя принятому способу изложения, суммируем итоги советского периода.
Краткое резюме Исторические результаты четвертого периода
Об итогах советской эпохи говорить труднее, чем об итогах друг. периодов, из-за специфических особенностей ее самосознания П ли, которые ставились перед страной ее лидерами, формулировали ими в логике перехода от капитализма к социализму и коммунизму. В этой же логике фиксировались достижения советской системы, многие из которых на поверку оказались не достижениями, а их имитациями или же просто попятными движениями по отношению к достигнутому добольшевистской Россией. Иными словами, то, что в Советском Союзе официально считалось позитивными результатами, в исторической перспективе нередко создавало лишь дополнительные проблемы, оставленные коммунистической системой посткоммунистической России.
Вместе с тем некоторые из прежних проблем в советскую эпоху проблемами быть перестали. Часть из них большевики решали сознательно, но так было не всегда: в отдельных случаях решение поставленных ими задач приводило к достижению результатов, заранее не планировавшихся и исторически значимыми даже не осознававшихся. Поэтому при подведении итогов данного периода, значение которых выходит за его временные границы, придется каждый раз специально оговаривать, идет ли речь о том, что власти считали соответствовавшим своим целям и сами ставили себе в заслугу, или о том, что оказалось побочным историческим продуктом их действий, диктовавшихся иными целями.
1. Коммунистическая система сняла проблему, которая оказалась неразрешимой для Рюриковичей и Романовых, неподатливость которой стала одной из главных причин обвала самодержавно-монархической государственности и, вместе с тем предопределила нетрансформируемость последней в государственность западного типа. Многовековой раскол между догосударственной и государственной культурой, усугубленный начавшейся в петровскую эпоху вестернизацией дворянской элиты, был устранен в советской России революционно-репрессивными методами посредством насильственного отсечения обоих полюсов расколотого социума: народного (общинно-вечевого) и элитного, оформившегося под воздействием европейской культуры. Но здесь перед нами как раз тот случай, когда проблема решалась, не будучи даже осознанной, а само ее решение выступало как никем не планировавшийся результат деятельности властей, руководствовавшихся совершенно другими соображениями.
Ликвидация элитного дворянско-буржуазного полюса интерпретировалась большевиками как ликвидация частной собственности и «эксплуататорских классов» и идеологически мотивировалась как необходимый шаг на пути к социализму, при котором не может и не должно быть ни этой собственности, ни этих классов. Ликвидация крестьянского общинно-вечевого полюса тоже интерпретировалась в логике классовой борьбы, а мотивировалась необходимостью перевода деревни на социалистические рельсы посредством коллективизации и превращения сельского хозяйства в источник дешевых ресурсов для социалистической индустриализации. Но в итоге прежний раскол между догосударственной и государственной культурой ушел в историю, сменившись тотальным огосударствлением всего жизненного уклада, которое, в свою очередь, собственным культурным качеством не обладало и потому могло быть лишь исторически ситуативным и преходящим.
2. Это огосударствление сопровождалось созданием универсальных норм советской законности, с утверждением которых специфическим образом завершалось введение страны в первое осевое время и осуществлялся ее частичный переход во второе. Тот факт, что в коммунистической системе данный процесс тоже воспринимался по-особому и толковался как прорыв в принципиально новое мировое время, важен опять-таки лишь для понимания самосознания советской эпохи, свойственных ей обманов и самообманов, но факт этот не должен вводить в заблуждение относительно вектора самого Процесса. Советский Союз двигался в том же направлении, что и идеологически отвергавшаяся им западная цивилизация, но – параллельным по отношению к ней историческим курсом, предполагавшим не освоение, а имитацию ее базовых принципов.
Советская законность, как и западная, была конституционной. Подобно западной же, она была всеобщей, вытеснившей остатки обычного права сельских локальных миров, которые (и остатки, и миры) сохранялись в России до 1917 года. Наконец, советская законность со временем была доведена до юридического равенства граждан в их обязанностях и правах, в том числе и избирательных, что является одним из важнейших признаков второго осевого времени. Да, речь шла в основном лишь об имитациях принципов законности и права, о форме, а не о содержании. Но форма эта была универсальной, она интегрировала догосударственные миры в большое, государственно-организованное общество. Она была, говоря иначе, формой снятия социокультурного раскола.
Кроме того, в годы перестройки выяснилось, что форма «социалистической законности» и «социалистической демократии» в определенной степени могла наполняться и реальным демократически-правовым содержанием, а по мере наполнения им трансформироваться сама. При этом, правда, выяснилось и то, что советская имитационность обладает сильной инерцией, которая до сих пор блокирует становление правовой государственности в России Коммунистическая эпоха сделала достоянием массового сознания лишь универсальные абстракции законности и права. Как императивы поведения, определяющие способ повседневного функционирования государства и общества, они в культуре не укоренились. Но в досоветский период сознанием большинства людей не были освоены и эти абстракции.
3. Важнейшей предпосылкой, сделавшей такое освоение возможным, стало развитие народного образования. В данном отношении коммунистическая система завершала долгий процесс, начавшийся во времена Петра I. Эту проблему большевики решали сознательно и целенаправленно, что определялось, с одной стороны, потребностью в квалифицированных специалистах и рабочих, соответствующих требованиям индустриальной эпохи, а с другой – желанием доказать превосходство советской системы над досоветской по части демократизации и соответствия интересам народного большинства. Универсальные абстракции научного знания, освоение которых начиналось со школы, закладывали культурный фундамент и для массового освоения других абстракций, включая абстракции государства, законности, права. Они создавали необходимые предпосылки и для того, чтобы окончательно ушло в прошлое культурное отторжение технологических и иных заимствований, инерция которого сохранялась в народной среде до 1917 года.
Универсальные принципы науки продвигали страну во второе осевое время гораздо дальше, чем локальные советские имитации законности и права, тоже претендовавшие на универсальность. Этот побочный эффект всеобщего образования коммунистическая система пыталась снять посредством насаждения, в том числе и в процессе обучения, светской веры в первопроходческую миссию СССР, опережающего мировое время и предвосхищающего мировое будущее. Но уже одно то, что канонизированное коммунистическое вероучение преподносилось в форме научного знания, свидетельствовало о переходности, промежуточности того исторического времени, в котором обосновался Советский Союз.
С легкой руки Солженицына, гуманитарная составляющая советского образования стала именоваться «образованщиной», чего она, безусловно, заслуживает. Но факт и то, что коммунистическое вероучение, удерживавшее страну в светском идеологическом средневековье, одновременно и выводило ее из него. И именно потому, что вероучение это, в отличие от религии, апеллировало к научному знанию, т.е. к рациональному началу, к логике, а главное – к соотнесению с реальностью. Тем самым советская «образованщина», призванная идеологически охранять коммунистическую систему, способствовала одновременно и формированию преодолевавшего эту систему сознания.
4. Вполне сознательно осуществлялось большевиками и ускоренное превращение сельской страны в городскую. Во-первых, это диктовалось нуждами индустриализации, создававшей повышенный спрос на рабочую силу, черпать которую можно было только из деревни. Во-вторых, урбанизация соответствовала доктринальным идеологическим установкам, согласно которым надежной и долговременной опорой социалистического строя могут быть только промышленные рабочие и не могут быть подверженные «собственническим предрассудкам» крестьяне. Именно большевикам суждено было подвести историческую черту под старой сельской Россией и начать историю России городской. Тем самым они оставляли в прошлом проблему, которая в последние десятилетия правления Романовых приобрела невиданную остроту, став одной из причин обвала государственности и, соответственно, прихода большевиков к власти, – проблему аграрного перенаселения.
Советская урбанизация, осуществленная в беспрецедентно короткие сроки и заполнившая города сельскими мигрантами, обеспечила краткосрочную легитимность нового государства и его системообразующих институтов. Этому способствовало широкое распространение особого сельско-городского типа культуры, носителем которого выступало первое поколение горожан и о котором мы подробно говорили в предыдущих разделах данной главы. Но в следующих поколениях он не воспроизводился, а потому урбанизации суждено было сыграть в СССР ту же роль, что и развитию образования: будучи одним из самых заметных результатов советского периода, она, вместе с образованием, стимулировала формирование ценностей, с коммунистической системой и ее идеологией несовместимых. А именно – ценностей городской культуры, т.е. индивидуальной свободы и благосостояния.
Ответить на эти вызовы советское государство могло только целенаправленной социальной политикой, которая рассматривалась им как одна из главных особенностей социализма. Строительство и содержание жилья, бесплатное образование и здравоохранение, пенсионное обеспечение оно целиком брало на себя. В таком широком наборе социальные блага не предоставлялись даже в развитых капиталистических странах, не говоря уже о докоммунистической России. Эта политика, особенно активно проводившаяся в послесталинскую эпоху, была непосредственно связана с урбанизацией и порождавшимися ею потребностями, хотя от ее темпов и отставала.
Но дело было не только в отставании, которое само по себе системе ничем не грозило. И даже не только в том, что качество бесплатных услуг постепенно переставало соответствовать быстро менявшемуся типу потребностей, а за более высокое качество приходилось нелегально приплачивать. Дело было и в том, что эта система социальных благ, вызывающая сегодня у многих ностальгические чувства, тогда воспринималась как привычное проявление советской уравнительности и унификации, блокировавших реализацию индивидуально-личностного начала и утверждение более высоких, чем в СССР, западных жизненных стандартов. Так урбанизация и образование, будучи главными достижениями советского социализма, стали и главными причинами его исторического поражения.
5. Наиболее заметным и общепризнанным в мире результатом советского периода стали успехи СССР на военно-технологическом направлении, включая военно-космическое, где он стал пионером. Коммунистическая система обнаружила мобилизационный потенциал, достаточный для проведения индустриальной модернизации, победы в войне с гитлеровской Германией и превращения страны в одну из двух мировых сверхдержав. Успехи СССР на этом направлении показали, что при концентрации в руках государства всех материальных и человеческих ресурсов военная мощь может быть обеспечена и при низкой эффективности экономики.
С созданием в Советском Союзе ядерного оружия и средств его доставки старая проблема военно-технологической конкурентоспособности по отношению к Западу, воспроизводившаяся на реем протяжении правления Рюриковичей и Романовых, в прежнем ее виде проблемой быть перестала. Но с появлением такого оружия уходил в прошлое и прежний тип больших войн между ведущими державами – и оборонительных, и статусных, и тех, которые обусловливались установками на приращение территорий. Тем самым обозначился и принципиально новый исторический вызов, перед которым оказалась страна, – вызов миром, т.е. отсутствием реальной угрозы большой войны со стороны главного военного противника в лице Запада при невозможности всерьез угрожать ему самой. Это и продемонстрировал разразившийся в 1962 году Карибский кризис, последовавший за размещением советских ракет на Кубе и завершившийся их вынужденным возвращением в СССР. То был именно вызов, потому что опытом государственной консолидации в условиях долговременного мира страна не располагала.
Знамя победы над поверженным германским Рейхстагом и установление промосковских коммунистических режимов в Восточной Европе позволило Советскому Союзу восстановить отечественную имперско-державную идентичность, поколебленную военными неудачами последнего Романова в начале XX века. Но при защищенности «ядерным зонтиком» от внешних военных угроз такая идентичность начинала размываться, а официальная советско-социалистическая идентичность могла поддерживать ее только в том случае, если бы сама постоянно укреплялась успехами социализма внутри страны и заметным расширением «социалистического лагеря» за ее пределами. Однако в том и другом отношении СССР быстро двигался к границам своих возможностей, что становилось все более очевидным и для советских людей, и для руководителей государства. Тем более что границы эти со временем обозначились и в военно-технологической области.
Ядерное оружие, сняв угрозу прямых военных столкновений между Западом и советским блоком, не устранило их противостояние. «Холодная война» между ними стала новым видом силового противоборства в условиях предписанной ядерным веком необходимости воздержания от войны «горячей». Она сопровождать гонкой вооружений, выдерживать которую длительное время эффективная советская экономика была не в состоянии.
Советский Союз прекратил свое существование, добившись статуса мировой сверхдержавы и оставаясь ею вплоть до своего распада. Он покинул историческую сцену потому, что, решая одни проблемы, создавал другие, которые оказывались для него неразрешимыми. Бремя обретенной сверхдержавности стало для него столь же непосильным, как и вызовы, порожденные урбанизацией и развитием образования. Его распад – прямое следствие его достижений. Поэтому, говоря о достигнутых коммунистической системой результатах, мы вынуждены были делать оговорки относительно содержавшейся в них антисистемной составляющей.
Но дело не только в том, что советский социализм не смог ассимилировать эти результаты и устоять перед их последствиями Идеологические цели, которые реализовывались в СССР, в сочетании с методами, которыми в нем снимались проблемы досоветской России, во многом возвращали страну к более низкой точке эволюции по сравнению с достигнутой при Романовых. Об этих исторических потерях тоже подробно говорилось выше, и нам осталось лишь их суммировать.
1. Ликвидация прежнего раскола между государственной и догосударственной культурой посредством принудительного огосударствления жизненного уклада не означала, что в СССР возникла новая государственная культура. Упразднение обычного права и распространение принципа законности вширь, т.е. на все население, и даже доведение его до юридически фиксированного равенства прав сами по себе эту задачу не решали. Во-первых, потому, что данный принцип не стал универсальным, поскольку руководство правящей коммунистической партии было выведено за пределы его действия. Во-вторых, само такое выведение свидетельствовало о том, что вне юридического контроля оказывалась вся система правоприменения: ее монопольным контролером выступала надзаконная партийная власть, легитимировавшая себя не юридическим, а декларировавшимся от имени науки историческим законом. Или, что то же самое, коммунистической идеологией. В правовом отношении советская эпоха возвращала страну ко временам Петра I и даже Ивана Грозного. Движение к правовой государственности, наметившееся при Романовых, было прервано. Речь идет не только о той тенденции, которая обозначилась при Николае II и выразилась в юридическом ограничении самодержавия. Речь идет и о тенденциях более ранних.
Самодержавие додумского периода, подобно КПСС, обладало монополией на законотворчество. Но неограниченные полномочия самодержцев фиксировались юридически, а после убийства Павла I, т.е. начиная с XIX века, фактически были ограничены – в том смысле, что император должен был считаться с действующим законодательством. В военно-приказной государственной системе, оформившейся в СССР при Сталине, реальный законодатель в лице партийного первосвященника скрывался за законодателем фасадным – Верховным Советом и его президиумом – и никакими ограничениями в законотворчестве и правоприменении связан не был. Преемники Сталина попытались, бессознательно идя по пути российских самодержцев, легитимировать свою неограниченную власть юридической нормой о «руководящей и направляющей» роли КПСС. Более того, в Конституции 1977 года появилась даже констатация, что все партийные организации действуют в рамках закона. Тем не менее с точки зрения реального правового содержания послесталинская государственность все еще уступала государственности последних Романовых.
Власть российских императоров, наряду с юридическим, имела династический источник легитимности. Власть КПСС, приобретенная революционным путем и утвержденная силой, собственного источника легитимности не имела, а потому не имела оснований и ее претензия на «руководящую и направляющую» роль. Законодательное закрепление этой роли в Конституции не снимало вопрос о юридической обоснованности самого такого закрепления. Кроме того, за пределами правого регулирования оставалась и власть партийного аппарата, а главное – генерального секретаря, которая, в отличие от власти российских императоров, законодательно не оговаривалась вообще. Ничего не меняло в данном отношении и конституционное ограничение деятельности партийных организаций, ибо собственно правовые механизмы такого ограничения отсутствовали.
Если учесть сохранявшуюся подконтрольность парткомам советского суда, то станет очевидным и принципиальное отличие тенденций послесталинского периода от наметившихся в последние десятилетия правления Романовых. Во втором случае речь шла об исторической эволюции в направлении правовой государственности, что проявилось в движении к независимости судов (с присяжными заседателями и независимыми адвокатами), учреждении земств и, в конечном итоге, в юридическом ограничении самодержавия в пользу Государственной думы. В первом – об имитации Правовой государственности, что как раз и свидетельствовало о неспособности коммунистической системы создать новую государственную культуру. Эта система могла выстроить лишь ситуативное государство с ситуативной легитимностью.
В наследство от него постсоветская Россия получила некоторые важные принципы: всеобщность закона и равенство перед ним, включая равенство прав, которые в России Романовых утвердиться не успели и массовым сознанием освоены не были. Но и в СССР, став достоянием сознания, они были не жизненной реальностью, а ее парадным фасадом. Поэтому советская эпоха оставил после себя не культуру правовой государственности, а псевдокультуру правовой имитации, инерция которой сказывается по сей день.
2. Значительными стратегическими потерями при ситуативных успехах сопровождалась в СССР и индустриальная модернизация. Из двух основных ее вариантов – германского и американского, известных в то время в мире, ориентиром был выбран германский. В отличие от американского, с его ставкой на экономическую свободу, индивидуализм и высокую оплату труда, он предполагал значительную программирующую и стимулирующую роль государства в развитии промышленности и усиленный контроль над рабочими. Такой выбор был обусловлен как тем, что немецкая модель считалась достаточно эффективной, так и тем, что она в большей степени соответствовала доктринальным установкам большевиков на огосударствление экономики. Но тем самым советские руководители оказывались и преемниками той традиции отечественных государственных модернизаций «сверху», которая сложилась задолго до них. Новаторство же их заключалось в том, что они довели ее до наиболее полного, предельного воплощения. В этом отношении они тоже следовали не столько за последними Романовыми, ориентировавшимися, в свою очередь, на немецких императоров, сколько за Петром I, но пошли гораздо дальше него.
Подобно Петру, Сталин осуществлял технологическую модернизацию посредством милитаризации всего жизненного уклада страны – с той лишь разницей, что он делал это не в военное, а в мирное время. Однако гораздо более существенное отличие заключалось в том, что сталинская индустриализация проводилась не просто при ограничении рыночных отношений и прав собственности, как было во времена Петра, а при полной ликвидации рынка и его замене государственным целеполаганием. Именно это и обусловило стратегическую уязвимость советской индустриальной системы. Создать ее государство смогло, но оно было не в состоянии обеспечивать ее саморазвитие, сообщать ей импульсы для новых модернизаций. Единственной сферой, в которой эта система обнаружила конкурентоспособность по отношению к рыночным экономикам, был военно-промышленный комплекс, поставленный в особо привилегированное положение. Но при низкой эффективности экономики в целом, ее неспособности продуцировать технические и организационные инновации поддерживать такое положение со временем становилось все труднее: обеспечивать постоянно возраставшие, по мере развертывания гонки вооружений, потребности ВПК в ресурсах она была не в силах.
В определенном смысле Советский Союз оказался в той же модернизационной ловушке, в какую попала Россия при последних Романовых. В том и другом случае модернизация отдельных приоритетных сегментов экономики осуществлялась при консервировании всех остальных, а вместе с ними и большинства населения в нединамичном, стагнирующем состоянии. Но если в конце XIX – начале XX века город и городская промышленность развивались за счет сохранения архаичных порядков в доиндустриальной деревне, то в советском варианте поддержание технологической конкурентоспособности ВПК осуществлялось за счет недофинансирования гражданских секторов при заблокированности дальнейшей модернизации не только в деревне, но и в городе. Тот факт, что Романовы до столыпинских реформ сохраняли архаичный сельский уклад сознательно, а советские лидеры оказались заложниками созданной ими нерыночной системы, нечувствительной к модернизационным вызовам, принципиального значения не имеет. Существенно лишь то, что в советский период наметившаяся при Романовых тенденция государственно-рыночной модернизации была пресечена и заменена модернизацией государственно-безрыночной, которая обернулась трудновосполнимыми стратегическими потерями.
Мировая технологическая революция второй половины XX столетия выявила пределы модернизационных возможностей коммунистической системы. На вызовы новой эпохи не могла ответить ни сталинская военно-приказная модель этой системы, ни ее обновленные послесталинскими руководителями варианты. Вторая отечественная демилитаризация, последовавшая за второй милитаризацией, завершилась, как и демилитаризация послепетровская, системным обвалом. Но на этот раз он последовал не почти через два столетия, а менее чем через четыре десятилетия. Технологическая модернизация для своего осуществления нуждалась в модернизации социально-политической, предполагавшей реабилитацию частной собственности и рынка. Однако такая модернизация советскому социализму была противопоказана, выдержать ее, как показала горбачевская перестройка, он был не в состоянии.
Советская экономика являлась столь же ситуативной, как и советская государственность. Ликвидировав рыночно-предпринимательскую культуру, развивавшуюся в досоветской России, коммунистическая система не создала новую продуктивную культуру, альтернативную рыночной, но осложнила возвращение на прерванный путь. Многое из того, что его прервало, в советскую эпоху из народной жизни исчезло. Однако инерция огосударствленной экономики сказывается в постсоветской России не меньше, чем инерция фасадно-имитационной государственности.
3. Советская индустриальная модернизация не только не вывела страну из тупиков экстенсивного хозяйствования, издавна в ней доминировавшего, но и ликвидировала все ростки интенсификации, которые медленно прорастали в досоветском городском предпринимательстве, в лучших помещичьих и «кулацких» хозяйствах. Коммунистической системе принадлежит приоритет в создании экстенсивной экономики нового типа, основанной не столько на вооруженных захватах чужих земель и мировых рынков, сколько на перманентной нерыночной индустриализации, распространявшейся в пространстве без качественных изменений во времени. Экстенсивность как продукт осуществленной технологической модернизации, лишенной собственных модернизационных импульсов, – таков был незапланированный и непрогнозировавшийся исторический результат полного вытеснения рынка и рыночных субъектов государством. И причина этого парадоксального явления не только в том, что советская индустриальная экономика не продуцировала технические инновации, но и в том, что она была не в состоянии продуктивно использовать и новшества уже готовые.
Замена сохи и лошади на трактор приносила первичный хозяйственный эффект, но при отсутствии организационных, управленческих и экономических стимулов для дальнейшей интенсификации он был обречен остаться разовым. Поэтому внедрение индустриальных технологий в сельское хозяйство не сопровождалось решением продовольственной проблемы, а форсированное освоение целинных земель и их последующее неэффективное использование стали выразительным свидетельством безальтернативной экстенсивности, которая довлела над коммунистической системой хозяйствования. О том же свидетельствовали закупки новейшего им портного оборудования, происходившие на всем протяжении советского периода: само по себе оно не обеспечивало в СССР уровень производительности и качества, который обеспечивало в странах, откуда ввозилось. И в сельском хозяйстве, и в промышленности такая система, даже заимствуя инновации, могла развиваться только вширь – за счет увеличения площади распашки или строительства новых предприятий, благодаря чему и осуществлялся какое-то время экономический рост.
Как и любая экстенсивная экономика, ее индустриальная советская версия имела свои естественные (природные) границы. Раньше других обозначилась граница демографическая – сельский источник рабочей силы, необходимой для продолжения индустриальных новостроек, к 1970-м годам иссяк, и экстенсивность обернулась стагнацией, предопределившей последующий распад коммунистической системы. Он был отсрочен благодаря высоким мировым ценам на нефть: экстенсивная экономика, достигшая своего предела, может продлить свое существование, если располагает природным ресурсом, позволяющим ей подключиться к интенсивным экономикам за рубежом. Но продлить такое существование можно ровно настолько, насколько позволяет мировая экономическая конъюнктура. Советскому Союзу она благоприятствовала недолго.
Советское государство, претендовавшее на замену рынка, в конечном счете перед ним капитулировало. Но наследство, которое оно оставило, адаптировать к рынку было непросто. Оно оставило после себя огромный индустриальный сектор, производивший продукцию, которая при директивно-плановом сбыте потреблялась в основном внутри самого этого сектора и за редкими исключениями, относившимися, прежде всего, к сырьевым отраслям и некоторым сегментам сверхпривилегированного ВПК, рыночной ценности не имела. Оно оставило после себя экономическую среду, не знавшую понятия конкуренции и к ней непредрасположенную. Среду, в которой отечественная традиция экстенсивного хозяйствования была полностью очищена от тенденций интенсификации, пусть и слабых, наметившихся в последние десятилетия правления Романовых.
4. Существенно ослаблен в советский период был и личностный потенциал страны, накопленный в досоветские столетия. Радикально-революционная смена правящей элиты и ее комплектование из представителей низших классов не могли не сопровождаться ее провинциализацией, резким падением культурного качества и девальвацией в ней субъектного начала. Те способы мобилизации личностных ресурсов, которые культивировались в коммунистической системе, способствовали продвижению наверх людей с исполнительской психологией и энергетическим потенциалом, позволявшим им воплощать в жизнь поступавшие из властного центра государственные планы-приказы. Любое другое проявление инициативы исключалось.
Консолидация новой элиты вокруг верховной власти осуществлялась посредством возвращения идеологии и практики «беззаветного служения», которое осознавалось не как возвращение, а как историческое новаторство, соответствовавшее первопроходческому пафосу коммунистического целеполагания. Однако советская элита оказалась столь же ситуативной, как советская государственность и советская планово-безрыночная экономика, причем в ходе своей эволюции элита эта утрачивала и первоначально присущую ей энергию политических целеполаганий и целевоплощений.
Идеология «беззаветного служения» выхолащивалась по мере того, как сталинская милитаристская модель коммунистической системы сменялась моделью демилитаризованной. Как и в послепетровской России, демилитаризация жизненного уклада сопровождалась элитной приватизацией государства и превращением «беззаветного служения» в фасадную формулу, прикрывавшую у многих служение частному интересу. Но такой, как в позднесоветскую эпоху, невостребованности личностных ресурсов, такой их демобилизации и такого подавления субъектности самодержавно-дворянская Россия все же не знала. Она сумела освоить европейскую гуманитарную культуру и создать ее оригинальную собственную ветвь. Медленно, не всегда уверенно, не без попятных движений, но она все-таки открывалась западному миру, заимствуя у него не только военные технологии, но и экономические, политические и организационные идеи, что сопровождалось законодательным утверждением института частной собственности, развитием частной хозяйственной инициативы, мобилизацией личностных ресурсов в земское самоуправление, а в последний период правления Романовых – даже легализацией, пусть и вынужденной, партийно-политической субъектности. В советскую эпоху все это было утрачено, и Горбачеву, осознавшему решающую роль «человеческого фактора» в развитии страны, в данном отношении приходилось начинать отечественную историю заново.
Демобилизация личностных ресурсов к исходу советского периода наблюдалась не только в партийной, государственной и хозяйственной элите. Она повсеместно наблюдалась и среди рядовых работников. Вместо экономического, «буржуазного» стимулирования труда еще во времена Сталина была изобретена мотивация, приравнивавшая мирный труд к ратному посредством его героизации. Серьезными успехами ее использование не сопровождалось и в сталинской военно-приказной системе, где она дополнялась – в полном соответствии с природой системы – стимулированием репрессивным. В послесталинский же период такая мотивация постепенно и вовсе становилась анахронизмом, но ничего другого коммунистические лидеры противопоставить ей не могли. Советская уравниловка в оплате труда переносила в индустриальное общество прежнюю общинную крестьянскую традицию, в границах которой мобилизация личностных ресурсов не только не предполагалась, но и считалась предосудительной. Соединить уравнительность с такой мобилизацией посредством орденов, медалей, досок Почета и прославления передовиков производства в газетах коммунистической системе не удалось. Но в результате проводившейся большевиками политики была пресечена и досоветская тенденция преодоления уравнительности, обозначившаяся в хозяйственной деятельности крестьян, выделившихся из общины при Столыпине. И это тоже была стратегическая потеря.
Тем не менее большевистский режим споткнулся в конечном счете о ту же самую проблему, нерешенность которой привела к обвалу самодержавно-православной монархии Романовых. Речь идет о сочетании общего (государственного) и частного интересов. Романовы не могли справиться с этой проблемой, потому что ее решение блокировалось социокультурным расколом. В расколотом социуме не может укорениться само понятие об общем интересе, если иметь в виду не противостояние внешним угрозам, а обустройство внутренней жизни. Отсюда и особая консолидирующая роль войн в истории России. Отсюда – трудности ее консолидации в условиях длительного мира. Но отсюда же – и русская идеология соборности: она фиксировала не столько наличную реальность, сколько мечту о том, что в этой реальности отсутствовало. Идеальное соборное должное призвано было духовно скреплять расколотое, т.е. совсем не соборное, сущее. Но если в наши дни данная идеология снова востребована, то отсюда следует, что советская система, устранив раскол, общепризнанное представление об общем интересе утвердить не сумела и что в постсоветской России застарелая отечественная проблема по-прежнему остается проблемой.
Коммунистическая концепция общего интереса своим неосознанными жизненными аналогами имела, с одной стороны, модель военной консолидации, а с другой – модель архаично-синкретичных, нерасчлененных, внутренне не дифференцированных общностей, в которых частные интересы не обрели еще самостоятельного статуса и выступают как проекции интереса общего чтобы воспроизводить эти модели в индустриальную эпоху, большевики должны были имитировать наличие агентов внешних враждебных сил внутри страны, осуществлять тотальную идеологическую унификацию, лишать частные интересы легитимности и закреплять монополию на представительство общего интереса за одним властным институтом в лице сакрализованной коммунистической партии. Но такое решение опять-таки могло быть лишь ситуативным. Большое и сложное современное общество не может долго функционировать как простое, и руководителям СССР в конце концов пришлось в этом убедиться на собственном опыте. Тем более что советское общество по мере своего развития становилось все более сложным и дифференцированным. Однако выработать понятие об общем интересе, как о подвижной равнодействующей интересов частных, ни с какими властными монополиями не совместимой, им, учитывая полученное политическое воспитание, было не суждено.
Устранение социокультурного раскола создавало предпосылки для решения едва ли не самой сложной проблемы отечественной государственности. Но ликвидировав вместе с расколом частную собственность (точнее – устранив его благодаря ее ликвидации), большевики эту проблему одновременно и усложнили. Потому что восстановление института собственности не могло не сопровождаться резким креном в сторону частных интересов и их конфронтацией как друг с другом, так и с государством. Последнее же, не получив в наследство от советского периода правовых способов решения конфликтов и унаследовав от него способы правовых имитаций, стать представителем общего интереса оказывается не в состоянии, а оказывается в состоянии лишь такое представительство имитировать.
5. Обвал «реального социализма» и распад СССР показали, что коммунистический цивилизационный (формационный) проект был таким же стратегически нереализуемым, как и предшествовавшие ему отечественные проекты. Однако его претворение в жизнь сопровождалось и существенным падением уже достигнутого ранее цивилизационного качества страны и ее государственности. Частично эти исторические утраты компенсировались некоторыми приобретениями, но нового устойчивого качества они не создавали.
Продекларировав всеобщность принципа законности и доведя его до юридического равенства прав, коммунистическая система с формальной точки зрения утверждала более высокий цивилизационный стандарт по сравнению с достигнутым при Романовых. Но с содержательной точки зрения это был откат в прошлое под видом прорыва в будущее. И дело не только в том, что из перечня прав советская законность исключала право собственности. Дело в том, что само такое исключение означало превращение в монопольного собственника государства, а такое превращение, в свою очередь, означало выведение государства за пределы действия принципа законности. Тем самым начавшееся при Романовых развитие в направлении правовой государственности прерывалось, и за формально правовым фасадом происходило возвращение к той комбинации двух других цивилизационных элементов – силы и веры, – которая имела место в Московии Рюриковичей. Существенная разница заключалась лишь в том, что вера теперь была светской и выступала от имени научного знания.
Этот симбиоз силы и новой веры, получившей институциональную опору в коммунистической партии и ее аппарате, призван был обеспечить прорыв в глобальную цивилизацию второго осевого времени, альтернативную цивилизации западной. Реально же речь шла о реанимации в новых условиях староимперских мировых проектов, т.е. проектов первого осевого времени, глобалистская устремленность которых успела повсеместно выявить свою несостоятельность. Большевикам удалось почти полностью восстановить распавшуюся империю Романовых и даже расширить ее за счет внешних сателлитов – стран «социалистического лагеря». Но светская вера в иной и лучший мир, не подтверждаемая очевидными цивилизационными достижениями, имеет свойство слабеть и иссякать, что и произошло с ее коммунистической разновидностью.
Компенсировать же увядание этой веры возвращением от фасадной законности к реальной система не могла: с ее природой подобное возвращение было несовместимо, о чем и свидетельствует все попытки такого рода, предпринимавшиеся в послесталинский период. Когда же Горбачев, того не осознавая, решился ее природу проигнорировать и соединить идею социализма с идеей
правовой государственности, т.е. отказаться от ставки на надзаконную силу, советский цивилизационный проект почти сразу же обнаружил свою исчерпанность. Распался не только «социалистический лагерь». Распалась и Российская империя, историческое существование которой большевикам удалось продлить почти на три четверти века.
Таким образом, сам коммунистический проект тоже оказался ситуативным. Его воплощению предшествовала государственная катастрофа. Катастрофой оно и завершилось. Вопрос же о том, насколько долговременными окажутся инерционные последствия его реализации и насколько долог путь к обретению страной нового цивилизационного качества, остается открытым. Во всяком случае, ее посткоммунистическая эволюция, к рассмотрению которой мы переходим, ответа на этот вопрос пока не содержит.
Часть V Постсоветское государство в ретроспективе и перспективе
История России, изложенная в предыдущих главах, охватывает более тысячи лет. Постсоветский период – менее полутора десятилетий. Но все, что происходило в стране раньше, нас интересует не столько само по себе, сколько как предыстория того, что происходит на глазах наших современников при их участии либо безучастии. Возникновение и эволюция посткоммунистической государственности, равно как и проблемы, при этом обозначившиеся, задали нам углы зрения на дальнее и ближнее прошлое. В свою очередь, прошлое, будучи актуализированным, задает ретроспективные ракурсы для рассмотрения настоящего и содержащихся в нем перспектив развития.
Распад СССР и вычленение из него Российской Федерации как самостоятельного государства – это принципиально новое историческое начало и по отношению к советской эпохе, и в сравнении со всем тем, что происходило в стране на предшествовавших этапах. Узаконив право частной собственности и перейдя от плановой экономики к рыночной, ликвидировав воплощавшуюся во властной монополии КПСС политическую и идеологическую одно-полюсность и учредив выборный законодательный институт парламентского типа, формируемый на многопартийной основе, посткоммунистическая Россия восстанавливала преемственную связь с историческими тенденциями, которые наметились в России до-коммунистической. Эту связь призвано было символизировать, в частности, старое название нового отечественного парламента – Государственная дума. Но посткоммунистическая Россия, выступая наследницей России Романовых, существенно отличается и от последней. И дело не только в уменьшившихся размерах страны и утрате ею имперского статуса.
Российская Конституция, принятая в 1993 году, впервые в отечественной истории провозгласила первичность – по отношению к государству – человеческих прав и свобод, объявив их «высшей ценностью»1 и признав их естественную, природную
1 Конституция Российской Федерации М., 1999. С. 4.
обусловленность: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»2. До этого права и свободы могли быть только дарованными «отеческой» властью – самодержавно-императорской или советско-коммунистической. Кроме того, они, тоже впервые, стали главным источником формирования власти и, соответственно, ее легитимации. Общенародные прямые выборы не только депутатов Государственной думы, но и главы государства означали юридически фиксированный разрыв с российской традицией властвования, предполагавшей приоритет государства над обществом и его правами и не предполагавшей поэтому зависимости высшего должностного лица от голосов избирателей. Но многовековая политическая традиция единовластия при этом почти не была поколеблена. Оно стало избираемым и перестало быть пожизненным. Но, оставив в прошлом старые формы, отечественное единовластие обрело новую.
Утратив опору в общих идеологических принципах - как религиозных, так и светских, оно сохранило ее в юридических полномочиях главы государства. Но Конституции 1993 года, под монопольным контролем президента России находится федеральная исполнительная власть и ее формирование, он обладает правом отклонять принимаемые парламентом законопроекты и значительными возможностями влиять на состав органов суда и прокуратуры3. Президент не представляет ни одну из трех ветвей власти, но в той или иной степени возвышается над каждой из них и всеми вместе в качестве четвертой ее ветви; именно он «определяет основные направления внутренней и внешней политики государства» и «является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина»4. Это позволяет утверждать, что в постсоветской России воспроизведена властная модель, во многом схожая с той, которая существовала в стране в последнее досоветское десятилетие: полномочия российского президента близки к полномочиям российского самодержца в 1906-1917 годах. Однако сходство не есть тождество.
Во времена последнего Романова речь шла о соединении традиционного авторитарного политического идеала с идеалом либерально-демократическим в условиях, когда первый из них был
2 Там же. С. 8.
3 Там же. С. 24-30.
4 Там же. С. 25.
укоренен в жизненном укладе большинства населения и соответствовавшей ему «отцовской» культурной матрице. Тогда сама попытка сочетания двух несочетаемых идеалов была проявлением социокультурного раскола российского общества. В постсоветской России нет уже ни этого уклада, ни этой матрицы, ни этого раскола. Следовательно, за внешней схожестью властных моделей скрывается несходство их политической и социокультурной природы. В думском самодержавии Николая II институциональное воплощение европейского либерально-демократического идеала осуществлялось на основе компромисса с авторитарной традицией. В посткоммунистической России возрождение этой традиции стало, наоборот, прямым следствием реализации европейского идеала, первоначально ей бескомпромиссно противопоставленного.
Глава 21 Либерально-демократический идеал после царей и генсеков
21.1. Оборванная и возрожденная традиция
Российская посткоммунистическая государственность возникла на обломках государственности коммунистической. Особенность последней заключалась, напомним, в том, что вместе с архаичным до-государственным укладом она ликвидировала не только зародыши европейской политической культуры, но и все промежуточные негосударственные структуры между властью и человеком, атомизировав тем самым социум и одновременно тотально огосударствив его. Начавшаяся при Горбачеве демократизация коммунистического государства выявила готовность советских людей к массовому бегству от него, что позволило демонтировать систему относительно безболезненно. Однако для строительства государственности демократического типа нужны были адекватные задаче субъекты, которых не было ни в элите, ни среди населения. К тому же элита, выдвинувшаяся в ходе относительно свободных выборов, оказалась расколотой на две противостоявшие друг другу группы, каждая из которых имела собственную легитимную институциональную опору и претендовала на властную монополию.
Это не было возрождением старого раскола между догосу-дарственной и государственной культурой, который выплеснулся в свое время на политическую поверхность в досоветской Государственной думе. Это был конфликт, вызванный резкой инерционной вспышкой политических притязаний со стороны утратившего почву в культуре догосударственного вечевого института советов, который достался Российской Федерации от коммунистического периода и получил во времена горбачевской перестройки огромные полномочия. За ним стояла элитная группа, заинтересованная в его сохранении и удержании контроля над другой ветвью власти, возникшей на излете коммунистической эпохи и претендовавшей на независимое от советов существование.
Высший орган советов – российский съезд народных депутатов, созданный по модели съезда общесоюзного, – юридически обладал всей полнотой власти в Российской Федерации. Но еще до распада СССР, по мере ослабления КПСС и утраты ею легитимности, начала выявляться функциональная недееспособность этого института. Полновластные советы, как и раньше, нуждались в дополнении другим институтом, способным восполнить их несамодостаточность. В большевистском и добольшевистском политическом наследстве такового не было, он мог быть или изобретен, или заимствован. Остановились на заимствовании института президентства. Тем более что прецедент был уже создан Горбачевым, избранным в 1990 году президентом СССР. Новизна же заключалась в том, что российский президент, в отличие от союзного, избирался не съездом народных депутатов, а населением. Кроме того, он изначально не был привязан к сходившему с исторической сцены властному институту в лице КПСС, между тем как Горбачев совмещал должности президента и лидера партии. Так в России возник принципиально новый способ легитимации власти высшего должностного лица. В июне 1991 года первым президентом России был избран Борис Ельцин5.
Острейшая политическая борьба за доминирование, развернувшаяся после распада СССР между депутатским большинством съезда и Ельциным, внешне выглядит как традиционное для страны противостояние вечевого и авторитарного идеалов. Соответственно, победа президента над депутатами в результате неконституционного роспуска съезда в сентябре 1993 года и вооруженного штурма здания (Белого дома), в котором заседали депутаты, могут интерпретироваться как столь же традиционное торжество отечественного авторитаризма. Тем более что следствием этой победы стало принятие Конституции, наделившей президента уже упоминавшимися обширными полномочиями. Однако такой вывод если и верен, то лишь отчасти.
Авторитарная власть, легитимирующая себя демократической избирательной процедурой, – это власть, лишенная возможности опираться на авторитарно-патриархальную культурную
5 Разумеется, возникновение новых властных институтов не всегда обусловливается лишь нежизнеспособностью уже существующих. В случае с учреждением российского президентства немаловажную роль сыграло стремление Ельцина, не имевшего устойчивой поддержки депутатского большинства, создать институциональную опору с собственным источником легитимности. Однако если бы властная конструкция советов была самодостаточной и эффективной, то это вряд ли стало бы возможным. Точно так же, как в свое время невозможным было бы смещение центра власти от советов к коммунистической партии.
традицию и вынужденная искать опору в противостоящих данной традиции либерально-демократических принципах. Конституционные полномочия российского президента находятся в преемственной связи с прежними отечественными моделями властвования, но не потому, что соотносятся с традиционной культурой в которой эти модели и обслуживавшие их идеологии были укоренены, а потому, что в обществе не сложилась новая культура при исчерпанности старой. Иными словами, постсоветский конституционный авторитаризм вырос не из традиции, а из нетрадиционности для России демократически-выборной легитимации власти. Можно сказать, что он вырос из демократии.
Современная демократия базируется, как известно, на представительстве интересов различных групп населения в парламентских институтах и согласовании этих интересов посредством компромиссов. Но если сами интересы еще не оформились и не структурировались, а определяющие их отношения собственности глубоко не укоренились, если «народ» представляет собой атомизированную массу, а в политической элите нет согласия относительно исторического вектора развития страны, то демократия либо свертывается (тем быстрее, чем богаче культурная почва для возрождения авторитарного идеала)6, либо трансформируется в персонификацию народного представительства, его воплощение в одном лице. В 1917 году зарождавшаяся российская демократия была свернута. Постсоветская Россия пошла по другому пути.
Персонификация народного представительства равнозначна свертыванию демократии, если сопровождается устранением личной и институциональной политической конкуренции. Выборы главы государства при одном кандидате, запрет на деятельность нелояльных партий, ликвидация парламентского представительства как такового, – подобных примеров «демократического» правления в истории немало. Даже Гитлер, уже став диктатором, считал необходимым легитимировать свою власть посредством плебисцитов. Мы же, говоря о персонификации народного представительства, имеем в виду не ограничение демократических процедур и не роспуск других выборных институтов, а доминирование одного из них над другими за счет расширенных и юридически фиксированных властных полномочий. Однако такой гибридный
6 Подробнее см.: Яковенко И.Г. Российское государство: Национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999.
тип политического устройства не может быть устойчивым и обречен на историческую эволюцию в одном из двух направлений – демократическом или авторитарном, причем выбор в значительной степени зависит от состояния общества и его ценностей.
Постсоветское российское общество вышло из коммунистической системы в состоянии культурно-ценностной неопределенности. Массовые ценности и идеалы – это продукт исторического опыта. Даже тогда, когда они наличную реальность отрицают, как было в случае с утверждением советского коммунизма. На выходе же из советской эпохи, когда страна возобновила прерванное в 1917 году движение к демократии, у российского общества не было опыта ни гражданской самоорганизации, ни политической жизни при разделении властей, ни сопутствующего такому разделению опыта согласования интересов посредством диалога и компромисса. Поэтому не утвердились в этом обществе и соответствующие ценности. И поэтому же в нем сохранялись инерционные установки, свойственные монологичной культуре. Обеспечить восстановление былой сакральности российских правителей они были не в состоянии. Но их оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечить легитимность института единоличной президентской власти при изжитости традиционного авторитарного идеала и кризисе подпитывавших его прежних государственных идентичностей – и державно-имперской (после распада СССР и военных неудач в Чечне она лишилась жизненной почвы), и религиозно-православной (в светском многоконфессиональном государстве возрождение ее былой политической роли в духе московских государей или графа Уварова уже невозможно).
Из сказанного, однако, вовсе не следует, что у постсоветского человека вообще нет никаких ценностей и идеалов. Но они соотносятся не столько с представлениями людей о желательном институциональном устройстве государственной власти, сколько с ожиданиями, связанными с ее конкретными персонификаторами. В данном отношении весьма показателен период правления Ельцина.
Его первоначальная легитимация обусловливалась двумя идеалами, которые вызревали и вызрели в массовом сознании после смерти Сталина. Речь идет об идеалах индивидуальной свободы от всепроникающего государства и потребительском идеале индивидуально-семейного благосостояния в его западном варианте, о котором многие имели определенное представление еще в советское время, а остальные могли получить недостававшую им информацию в ходе горбачевской перестройки. При этом главную роль, как показали последующие события, сыграло именно неприятие коммунистического государства и психологическое отчуждение от него, постепенно трансформировавшееся у многих в антикоммунизм.
Это «низовое» настроение искало своего выразителя в «верхах» и – после столкновения Ельцина с Горбачевым на пленуме ЦК КПСС (1987) и скандального отстранения Ельцина от должности первого секретаря московского горкома партии – нашло такого выразителя в лице высокопоставленного бунтаря, отщепившегося от коммунистической «вертикали власти» и из нее выброшенного. Искать себе лидера за пределами правившего партийного рода население, в отличие от народов Восточной Европы, не было предрасположено, что косвенно свидетельствовало об отсутствии у него опыта самоорганизации и ощущения собственной субъектности. К тому же реальных «низовых» претендентов на эту роль в стране не нашлось, если не считать малоизвестных по тем временам Владимира Жириновского и Амана Тулеева, выставивших свои кандидатуры на президентских выборах 1991 года.
Ельцин, успевший стать символом противостояния коммунистической системе, был на тех выборах вне конкуренции7. Политический капитал, приобретенный им в ходе этого противостояния, оказался настолько основательным, что впоследствии значительные слои населения простили первому президенту России крайне непопулярные, обернувшиеся чувствительным падением жизненного уровня гайдаровские экономические реформы, поддержав на апрельском референдуме 1993 года не только его лично, но и проводившуюся им социально-экономическую политику8. Потому что противостоявший президенту съезд народных депутатов, который эту непопулярную политику резко критиковал и апеллировал к идеалу благосостояния, воспринимался как потенциальный реставратор коммунистического государства. По той же причине Ельцину простили и неконституционный роспуск съезда и формировавшегося им Верховного совета, и танковый обстрел Белого дома. Тем самым была подтверждена известная мысль Карла Шмитта о том, что легитимность власти может обеспечиваться и вопреки юридической законности.
7 Он выиграл выборы уже в первом туре, получив 57,3% голосов избирателей. Показатель занявшего второе место Николая Рыжкова (отставного председателя правительства СССР) был почти вчетверо ниже.
8 В поддержку Ельцина высказались около 58% пришедших на референдум в поддержку проводившегося им социально-экономического курса – около 53%.
Однако именно после этой победы, в результате которой получил и конституционно закрепил почти неограниченную власть, его легитимность быстро пошла на убыль. Потенциальные коммунистические реставраторы (или воспринимавшиеся таковыми) были устранены, и сразу же актуализировался второй, потребительский идеал массового сознания. Не понадобилось людям много времени и для того, чтобы понять: идеал этот, становясь жизненной реальностью немногих, для большинства из них недостижим. Их собственный опыт подводил к мысли о том, что свобода от государственного диктата и благосостояние могут не совпадать, более того – взаимоисключать друг друга. И главным виновником такого несовпадения стал выглядеть в глазах населения глава государства: за несколько месяцев до президентских выборов 1996 года его рейтинг не дотягивал и до 10%.
Но как только преобладавшие в стране противники тотального огосударствления почувствовали – не без помощи политтехнологов и журналистов, – что поиск альтернативы Ельцину может обернуться приходом к власти коммуниста Геннадия Зюганова, идеал благосостояния снова отошел в их представлениях на второй план. По данным всероссийского социологического опроса того времени, проведенного при участии одного из авторов этой книги, подавляющее большинство людей, собиравшихся голосовать за Ельцина, не рассчитывали, что их жизнь при нем станет лучше, между тем как среди избирателей Зюганова ожидания были прямо противоположными9. Однако после того, как Ельцин выиграл выборы – на этот раз, правда, лишь во втором туре, – все вернулось на круги своя: идеал благосостояния снова стал главным легитимирующим (точнее – делегитимирующим) фактором. Поэтому в последний период своего правления Ельцин практически лишен был возможности проводить какую-либо инициативную политику и сосредоточил свои усилия на удержании власти и подыскании
9 Среди сторонников Ельцина только 3% рассчитывали, что в случае его переизбрания материальное положение их семей улучшится (26% полагали, что оно останется без изменений, 28% затруднились с ответом, а 43% считали, что оно ухудшится). В электорате Г. Зюганова при его избрании на улучшение рассчитывал61% респондентов и только 3% ждали ухудшений (17% исходили из того, что перемен не произойдет и 19% затруднились с ответом). Опрос был проведен в мае1996 года по репрезентативной общероссийской выборке (1519 респондентов) Институтом социологического анализа на базе Фонда «Общественное мнение» в рамках социологического исследования «Особый путь России – что это такое?» (авторы Т.Н. Кутковец и И.М. Клямкин).
надежного преемника, победа которого на выборах была бы гарантирована. Когда он был найден, первый президент России объявил (в декабре 1999 года) о досрочном сложении своих полномочий.
Мы так подробно остановились на легитимационных волнах ельцинского периода, чтобы показать: в это нелегкое для населения время никаких новых государственных идеалов в российском обществе не появилось. Не обнаружило оно и стремления обрести отсутствовавшую у него субъектность и стать гражданским. К концу президентства Ельцина оно по-прежнему готово было делегировать властные полномочия одному человеку и даже соглашаться на их расширение при условии, что, в отличие от Ельцина, он не только сохранит обретенные свободы, но и сумеет пресечь их бесконтрольное использование немногими и обеспечить реальное продвижение к идеалу народного благосостояния. Однако официальный преемник непопулярного Ельцина, Владимир Путин вряд ли мог получить поддержку избирателей, если бы в ответ на их ожидания ограничился лишь обещаниями соединить свободу и демократию с государственным порядком («диктатурой закона») и повышением жизненного уровня. Для этого у людей должна была появиться дополнительная мотивация.
21.2. «Вертикаль власти» в атомизированном обществе. Владимир Путин и Александр III
Политический взлет Путина стал возможным в силу ряда нестандартных обстоятельств. Его приходу к власти предшествовали вооруженное вторжение чеченских боевиков в Дагестан и взрывы домов с многочисленными жертвами в Буйнакске, Москве и Волгодонске. В результате в массовом сознании актуализировался образ врага, и возник спрос на власть-защитницу. Идея государственного порядка, наряду с социально-экономическим и политическим измерениями, вновь приобретала старое и в условиях длительного мира успевшее забыться измерение военное. Путин, назначенный в августе 1999 года председателем правительства и возобновивший военные действия в Чечне, которые еще до выборов завершились штурмом и взятием Грозного, стал восприниматься этому ново-старому измерению вполне соответствовавшим.
Потому что, в отличие от первой чеченской войны (1994- 1996),которая населением не поддерживалась и политически Ельцину только навредила, теперь был факт вторжения в Дагестан. И были взрывы домов в разных районах страны, сделавшие вопрос о физической безопасности актуальным для каждого человека. В такой ситуации начало Путиным второй чеченской кампании, сопровождавшееся публичным обещанием всех боевиков «мочить в сортире», стало сильнодействующим легитимирующим фактором, позволившим преемнику Ельцина без труда выиграть президентские выборы 2000 года.
Но традиционный для России способ легитимации власти войной и военными угрозами, как свидетельствует о том вся история страны, имеет собственную жесткую логику. При незавершенной эволюции в направлении авторитарного правления, он влечет за собой усиление авторитарности, т.е. устранение или маргинализацию персонификатором власти всех других политических субъектов, если таковые еще сохраняются. То состояние постсоветского российского общества, о котором говорилось выше, данному развитию событий не препятствовало. Культурной матрицей, повторим, оно уже не предопределялось. Но и противодействия с ее стороны не было тоже: авторитаризм перестал быть ценностью, однако и другой, альтернативной ему ценности при отсутствии опыта неавторитарного правления в стране не возникло. Если же решения своих проблем общество ждет только от персонификатора власти и не испытывает потребности в обретении собственной политической субъектности.то и власть начинает тяготеть к выстраиванию административной вертикали поверх общества и консервированию его в объектном положении. Тот факт, что оно может наделяться при этом самыми широкими конституционными правами, включая право самому выбирать высшее должностное лицо государства, в данном отношении почти ничего не меняет. Потому что возникшая в посткоммунистической России модель властвования позволяет управлять процедурой выборов и в значительной степени предопределять их исход.
Модель эту создал не Путин, ее основные базовые основания были заложены при Ельцине, который на президентских выборах 1996 года первым реализовал ее возможности для ослабления политических конкурентов за счет использования административного и информационного ресурсов. От Ельцина же Путин унаследовал институт президентской администрации – структуру, никакими властными полномочиями Конституцией не наделенную, но, подобно аппарату ЦК КПСС в советское время, реально ими располагающую. Наконец, и идея надпартийного президентства тоже была впервые воплощена в жизнь не Путиным, а его предшественником.
Вклад Путина в создание данной модели властвования заключается в том, что он, обладая нерастраченным первичным политическим капиталом, сумел ее достроить, придать ей относительно завершенные очертания.
Когда говорят, что тем самым он стабилизировал госудаственность, то с этим трудно спорить. Но не менее справедливо и утверждение о том, что стабилизация произошла благодаря более последовательному и целенаправленному, чем мог себе позволить Ельцин, возвращению к традиционной для России авторитарной форме правления. Путин сумел приспособить ее к нетрадиционному для страны способу легитимации власти высшего должностного лица избирательной процедурой при исчерпанности легитимирующих ресурсов «отцовской» культурной матрицы и при наличии других демократических, т.е. тоже избираемых, институтов. Не претендуя на понятийную строгость, мы называем эту форму правления конституционно-выборным самодержавием10, что позволяет отличать ее и от наследственно-монархического самодержавия российских царей и императоров, и от ситуативного выборного самодержавия первых Романовых, и от партийно-коммунистического самодержавия генеральных секретарей советской эпохи.
Выстраивание очередной отечественной «вертикали власти», замкнутой непосредственно на главу государства, не обошлось без точечных репрессий, но возвращаться к методам Ивана Грозного или Сталина для этого не потребовалось. Новые российские элиты, претендовавшие на политическую субъектность в масштабах страны, были слабы уже потому, что не имели собственных сколько-нибудь глубоких источников легитимности ни в традиции, как бояре Московской Руси, ни в своих политических биографиях, как представители большевистской «ленинской гвардии». Для их маргинализации достаточно оказалось несколько изменить систему регионального представительства на федеральном уровне и ограничить политические контакты оппозиционных элит с населением – прежде всего, во время предвыборных кампаний. Учитывая, что серьезного сопротивления общества это не вызвало и что к протестам оппозиционных политиков и журналистов оно осталось невосприимчивым, осуществление такого рода мер стало делом политической техники.
10 Подробнее см.: Клямкин И., Шевцова Л. Внесистемный режим Бориса II. М., 1999.
Во-первых, Путин существенно ослабил субъектность региональных руководителей, лишив их права представлять свои регионы в верхней палате парламента (Совете Федерации) и учредив для усиления контроля над ними институт представителей президента в семи специально созданных федеральных округах. Следствием первой из этих мер стала ликвидация политической Су6ъектности и фактическая маргинализация самого Совета Федерации. А после трагедии в северо-осетинском городе Беслане (сентябрь 2004 года) избранный к тому времени на второй срок Путин выступил с предложением об отмене прямых выборов губернаторов и президентов национальных республик и переходе к их избранию местными законодательными собраниями при монополии главы государства на выдвижение кандидатур. В конце того же года новая процедура была законодательно утверждена. Эволюция политической системы в направлении авторитаризма не может остановиться на полпути. Военные, а в наши дни – террористические вызовы ее ускоряют, сообщают ей дополнительные импульсы.
Во-вторых, была ликвидирована субъектность Государственной думы. Это стало возможным в результате ужесточения контроля над процедурой выборов. Он был обеспечен благодаря возросшему – в силу увеличившейся зависимости руководителей регионов от федерального центра – административному ресурсу, подчинению Кремлю основных телевизионных источников информации и лишению нелояльной оппозиции источников финансирования, что сопровождалось ликвидацией политической субъектности крупного бизнеса. Конкретные события, в которых проявились эти тенденции (подчинение НТВ, ликвидация ТВ-6, «дело ЮКОСа» и др.), происходили на глазах читателя и, строго говоря, еще не стали историей – в том смысле, что их долговременные последствия не успели обнаружить себя во всей полноте. Поэтому мы не считаем нужным подробно на них останавливаться. К сказанному остается лишь добавить, что после трагедии в Беслане Путин объявил также о переходе к пропорциональной системе выборов в Государственную думу. Последовавшее вскоре законодательное оформление данной инициативы означало, что теперь в Думе не будут представлены депутаты-одномандатники, а будут представлены только политические партии, зависимость которых от президента будет обеспечиваться всей совокупностью перечисленных выше мер.
Общий предварительный итог проведенных Путиным преобразований - восстановление персонифицированной однополюсной модели властвования в условиях конституционно закрепленного разделения властей и их выборной легитимации. С точки зрения поставленной текущей цели, т.е. выстраивания «вертикали власти», они обнаружили свою результативность еще до того, как были завершены. Путин легко выиграл президентские выборы 2004 года – на очищенном от конкуренции политическом поле у него не было и не могло быть серьезных соперников. Поддерживавшаяся им партия «Единая Россия» еще раньше (декабрь 2003 года) получила конституционное большинство в Государственной думе. Оппозиция был маргинализирована, консолидация большинства политического класса и крупного бизнеса вокруг президента – обеспечена. Однако главный вопрос – о соответствии нынешней российской государственности современным вызовам – остался открытым ее преемственная связь с отечественной политической традицией очевидна. Но сам факт такой связи делает актуальным ретроспективный взгляд на стратегические перспективы выстроенной в России государственной системы.
Путина нередко сравнивают с Александром III. Для такого сравнения есть определенные основания. Российский президент, как и его отдаленный предшественник, тоже осуществил пореформенную консервативную стабилизацию посредством усечения субъектности институтов, созданных в предшествующий период. Кроме того, ему тоже приходится противостоять террору. Но если даже отвлечься от кардинальных отличий природы террора прежнего и современного, придется признать, что этим сходство двух правителей и проводимой ими политики исчерпывается. Читатель, осведомленный о происходящем на его глазах, может и сам, вернувшись к нашему описанию деятельности Александра III, сделать все уместные в данном случае сопоставления. Мы же считаем нужным остановиться лишь на двух моментах, которые представляются нам наиболее существенными.
Первое отличие касается террора и проблемы безопасности в более широком смысле слова. Александру III приходилось выстраивать военно-полицейскую систему защиты от революционных террористов, чьи действия были направлены против высших должностных лиц государства. В современной России высокопоставленные чиновники, по крайней мере на федеральном уровне, защищены достаточно надежно, а главной жертвой террора оказывается население. С подобными угрозами российская государственность в конце XIX века не сталкивалась, а их аналоги если и имели место, то во временах более ранних. Можно вспомнить, например, опустошительные набеги крымских татар на Московскую Русь. Эта аналогия тоже условная и приблизительная, однако именно ее условность и приблизительность дают возможность лучше понять новизну вызовов, с которыми столкнулась страна в начале XXI столетия.
У московских Рюриковичей не было проблем с легитимностью их власти. Она обеспечивалась и именем Бога, и «отцовской» культурной матрицей, и династически-наследственным, «природным» принципом правления, и достаточно глубокой милитаризацией жизненного уклада. Эту легитимность не могли поколебать ни сокрушительные поражения в Ливонской войне, ни набеги из Крыма, ни унизительные выплаты дани – в обмен на безопасность – крымским ханам, еще долго продолжавшиеся и при Романовых. Современная российская власть, легитимирующая себя выборной процедурой, находится в существенно ином положении. Ее устойчивость может быть обеспечена только в том случае, если она обнаружит способность защищать население от террористических угроз. Воспользоваться же опытом прошлых отечественных правителей ей непросто уже потому, что те с такими угрозами не имели дела, а если с чем-то похожим и сталкивались, то обвалом их власти и государственности это не грозило. Такие обвалы имели место, но – по другим причинам, о которых говорилось в предыдущих главах.
После бесланской трагедии российское руководство в лице президента Путина определило новую ситуацию, в которой оказалась Россия, словом «война». Был обозначен и враг – международный терроризм и те неназванные силы, которые используют его как инструмент для достижения своих целей. Но такого врага у страны никогда раньше не было. И потому, что он находится не только вовне, но и внутри: боевики, захватывающие заложников, и смертники-шахиды – это в основном граждане России. И потому, что он не имеет государственного оформления и его нельзя победить так, как побеждают армию враждебного государства. В данной связи и встает вопрос о том, можно ли решить эту новую проблему традиционными средствами централизации и концентрации власти. В истории России ответа нет. Во всяком случае, консервативная стабилизация с сопутствующим ей укреплением авторитарной составляющей государства в духе Александра III с такого рода проблемами не соотносится.
Не соотносится с современными у грозами и отечественная традиция консолидации населения вокруг авторитарной власти посредством милитаризации его жизненного уклада. Война с терроризмом – это особая война в условиях мира, успех в которой обеспечивается не патриотической мобилизацией граждан и их готовностью превратиться на время из пахарей и строителей в воинов, а качеством государства, его способностью обезопасить мирную жизнь. Если же оно такой способности не обнаруживает, то и государственная власть не может быть устойчиво легитимной и прочной.
Второе отличие консервативной стабилизации Владимира Путина от осуществлявшейся Александром III заключается в том, что последний использовал ее как одно из средств технологической модернизации. В те времена такая стабилизация вполне сочеталась с широким привлечением в страну иностранного капитала, что позволило создать новейшие промышленные отрасли. Продолжения и углубления социально-политической модернизации, начавшейся при Александре II, для этого не требовалось, а ее частичное свертывание этому не препятствовало. Однако в постсоветской России данный способ технологического развития невозможно использовать по той простой причине, что главным его субъектом выступало государство, которое в информационную эпоху подобную роль играть уже не может.
В современном динамичном мире, где технологии быстро и непредсказуемо меняются и стратегическая эффективность тех или иных инноваций не гарантирована, государство, реализующее крупномасштабные инвестиционные проекты в сферу высоких технологий, подвергается слишком большим рискам. Поэтому основным субъектом инноваций в постиндустриальную эпоху стал частный бизнес, помочь которому государство может лишь созданием максимально благоприятных условий для его инициативной деятельности11. Консервативная сталибизация этому способствовать не может, а значит не может способствовать и технологической модернизации: последняя предполагает не свертывание, а продолжение и завершение модернизации социально-политической. Поэтому и в данном отношении аналогии между консервативной стабилизацией Александра III и внешне схожей с ней стабилизацией Владимира Путина приходится признать поверхностными.
Тем более трудно представить себе в начале XXI века технологическую модернизацию по петровско-сталинскому образцу. Этот тип модернизации неотделим от тотальной милитаризации
11 Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики. М., 2004. С. 38.
жизненного уклада, которая в современном городском обществе не только непродуктивна, но и невозможна. Война с международным терроризмом не может способствовать воспроизведению атмосферу «осажденной крепости» уже потому, что речь идет о враге внутреннем. Но если бы такая возможность и наличествовала, то ее использование ради осуществления технологического прорыва по прежним милитаристским принудительным сценариям быстро обнаружило бы свою тупиковость.
Традиция государственных модернизаций «сверху» во всех ее отечественных воплощениях в России себя исчерпала. К концу коммунистической эпохи руководители страны осознали, что главным условием ее экономической и технологической конкурентоспособности, в том числе и в военной области, становится модернизация самого государства. Горбачев начал движение в этом направлении, но совместить его с сохранением коммунистической системы реформатору не удалось, а ее демонтаж обернулся распадом страны. Нерешенная Горбачевым историческая задача досталась по наследству политическим лидерам Российской Федерации. На обломках коммунистической системы им предстояло создать государство, какого до них в стране не было.
Мы попытались показать, как в ходе реализации первоначально провозглашавшегося европейского политического идеала происходило совмещение конституционно закрепленных либеральных прав и свобод и демократическо-выборной легитимации власти с возрождением российской авторитарной традиции. Посмотрим теперь, насколько постсоветская Россия продвинулась в создании механизмов правового регулирования, в обеспечении верховенства закона, что тоже декларируется Конституцией. Авторитаризм, как свидетельствует о том мировая и отечественная история, может способствовать движению в данном направлении, но может, как свидетельствует она же, такое движение блокировать. Это два разных авторитаризма, и потому важно понимать, какой именно из них утверждается в современной России.
Глава 22 Правовое государство и протогосударственная культура
22.1. Неупорядоченная свобода как опора неустойчивой политической монополии
Провозгласив Россию «правовым государством»12, которое гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина» и в котором «все равны перед законом и судом»13, Конституция 1993 года – с учетом закрепленных ею же природной естественности и неотчуждаемости прав и свобод – вводила страну во второе осевое время. С формально-юридической точки зрения многовековой извилистый «путь в Европу» был тем самым завершен: с этой точки зрения отечественная государственность стала государственностью западного типа, каковой раньше никогда не была. Однако обретение ею принципиально новой конституционной формы не привело к существенному качественному обновлению ее исторического содержания. Потому что узаконенная той же Конституцией авторитарная властная конструкция обеспечить такое обновление, предполагавшее оснащение провозглашенного правового государства действенными правовыми механизмами, была не в состоянии.
Более того, в конкретных условиях посткоммунистической России конструкция эта, персонифицированная первоначально в фигуре Ельцина, только потому и могла возникнуть и утвердиться, что опиралась на поддержку тех общественных слоев, которые в создании жестких юридических регуляторов либо не были заинтересованы вообще, либо не придавали отсутствию таких регуляторов серьезного значения: их беспокоила угроза реставрации коммунистического государства, утраты обретенных свобод, а не то, как свободы эти должны регулироваться. Однако и в противостоявшей им части населения сознательных субъектов правового порядка тоже не появлялось. Подобно тому, как без опыта жизни при демократии неоткуда было взяться демократическим ценностям, так и без опыта проживания в правовой
11 Конституция Российской Федерации. С. 4.
12 Там же. С. 8.
среде неоткуда было взяться ценностям правовым. Вместе с тем их неукорененность в культуре вовсе не означала, что в ней доминировали ценности, альтернативные правовым. В этом отношении начальная стадия постсоветской России существенно отличалась от финальной стадии России досоветской – при том что первая восстанавливала оборванную преемственную связь со второй.
В России Романовых, если говорить о крестьянском большинстве населения, не успели сложиться даже абстрактные представления о государственности, выстроенной на основе законности и гражданских прав как универсальных принципов, в равной степени распространяемых на всех. Этим принципам противостоял до-государственный общинно-вечевой идеал и неотделимая от него традиция обычного права, имевшие глубокие корни в крестьянском жизненном укладе. Его насильственная ликвидация в ходе коммунистической коллективизации и индустриализации, которые сопровождались форсированной урбанизацией, лишила прежние идеалы и традиции социальной почвы, а официальное советское культивирование принципов законности и равенства прав способствовало их закреплению в массовом сознании. Но тотальное коммунистическое огосударствление, устранившее оба полюса старой расколотой культуры – и догосударственный народный, и государственный элитный, – никакой новой государственной культуры, соответствующей современному городскому обществу, после себя не оставило, а оставило культуру яротогосударственную14.
На осевшие в сознании абстрактные представления о социалистической законности и социалистическом праве в годы перестройки наложились столь же абстрактные представления о законности и праве в их западной интерпретации. Результатом такого наложения стало отторжение коммунистической властной иерархии как противозаконной, узурпировавшей права большинства населения и втайне от него распределявшей богатства страны в собственных интересах: лозунг борьбы с «привилегиями партно-
14 Разумеется, о протогосударственной культуре правомерно говорить применительно к ранним стадиям существования любых государств, а не только современных. Прежде чем стать государственной, догосударственная культура проходит «протогосударственную» стадию эволюции. Особенность исторического Развития России заключалась в том, что большинство населения в ней вплоть до XX века было искусственно законсервировано на подступах к этой стадии. Что же касается протогосударственной культуры постсоветского общества, то «прото» в данном случае относится не к государственной культуре вообще, а к культуре именно современного, т.е. демократически-правового, государства.
менклатуры» был при Горбачеве одним из самых популярных. Будучи первоначально лозунгом очищения социализма и приведения его в соответствие с исходным идеалом, он постепенно приобретал антикоммунистическую направленность. Антикоммунизм и стихийная вестернизация массовых ориентации имели своим следствием реабилитацию права частной собственности, коммунистической системой репрессированного. Однако пока оно не было юридически узаконено и не вошло в жизненную практику, оно не могло закрепиться и в культуре, т.е. стать консолидирующей общество ценностью. Когда же узаконивание этого права состоялось, обнаружилось нечто такое, чего мало кто ожидал и к чему почти никто не был готов. Страна оказалась лицом к лицу с проблемой, бывшей для нее камнем преткновения на протяжении столетий. Речь идет о согласовании частных интересов с интересом общим и о достижении базового консенсуса относительно принципов такого согласования.
В прошлые времена неразрешимость этой проблемы компенсировались наличием властного института, представлявшего общий, т.е. государственный, интерес на правах надзаконной самодержавной монополии. Пока сохранялся социокультурный раскол, ее юридическое ограничение и попытки соединить ее с публичным согласованием частных интересов и нахождением их равнодействующей были чреваты катастрофическими последствиями, что и продемонстрировал пример думского самодержавия Николая II. Коммунистическое самодержавие, устранив раскол и внедрив в массовое сознание представление об универсальных принципах законности и права, пусть и в урезанной советско-социалистической трактовке, подготовило свое падение выведением себя за пределы их действия. Но культура формирования общего интереса посредством согласования в политическом диалоге интересов частных, а значит, и культура немонопольного представительства этого интереса, в атомизированном коммунистической системой обществе, а потому, строго говоря, еще не обществе, сложиться не могла.
Поэтому и властная монополия после непродолжительного противостояния претендентов на нее в посткоммунистической России была восстановлена, хотя и на новых, конституционно-юридических основаниях: в отличие от прежних ее вариантов, она была вмонтирована в оболочку правовой государственности. Тем самым политическая конструкция приводилась в соответствие с утвердившимися в обществе абстрактными представлениями о законности. Но именно их абстрактность, их неконкретизированность жизненном опыте населения и, соответственно, в его ценностях не позволяли обществу преодолеть границы советской протогосударственной культуры, т.е. выйти из атомизированного объектного существования и ощутить себя субъектом правового порядка. Или, говоря иначе, субъектом второго осевого времени.
Восстановленная властная монополия заменить общество в данном отношении не могла уже потому, что политическая природа любой такой монополии склоняет ее к попустительству элитному меньшинству, в котором она в первую очередь и ищет социальные точки опоры и управленческие ресурсы. В свою очередь, элитное меньшинство всегда стремится использовать эту монополию в своих частных интересах, т.е. приватизировать персонифицированное представительство интереса общего. Особенность же посткоммунистической России заключается в том, что в ней воспроизведение отечественной политической традиции происходило в условиях, когда «единственным источником власти», включая и власть первого должностного лица, был провозглашен народ15. Немаловажно и то, что притязания постсоветской элиты подпитывались первоначальной неустойчивостью вновь возникшего государства и политических позиций его персонификатора, а также сменой элиты, осуществлявшейся в ходе превращения бывшей государственной собственности в частную и трансформации плановой экономики в рыночную.
Это превращение и эта трансформация начались еще до конституционного утверждения президентской властной монополии. Они начались в январе 1992 года с реформ Егора Гайдара и сформированного им по поручению Ельцина правительства, когда юридически монополистом был не президент, а Съезд народных депутатов. Конфликт между двумя политическими институтами, несколькими месяцами ранее (в августе 1991 года) солидарно противостоявшими ГКЧП, стал прямым следствием гайдаровских реформ и их отторжения большинством населения. Но выйти из этого столкновения победителем Ельцин смог не только потому, что оставался персонифицированным символом антикоммунизма, легитимирующий ресурс которого еще не был исчерпан. Он взял верх и потому, что имел опору в российской элите: как в новой (прежде всего, в возродившемся отечественном бизнес-классе и в вышедшей на политическую поверхность еще при Горбачеве либеральной интеллигенции), так и в части старой (хозяйственной, административной,
15 Конституция Российской Федерации. С. 4. глава 22.
военной), которая увидела свою выгоду в начавшихся преобразованиях и связывала с ними свои надежды. Однако в правовом порядке эти новые и старые элиты не нуждались. Учитывая состояние постсоветского общества, о котором говорилось выше, нетрудно поэтому понять, почему правовое государство, провозглашенное Конституцией после победы Ельцина, таковым не стало. Оно продолжало развиваться в направлении, заданном ему, вопреки замыслам Гайдара и части его идеологических единомышленников уже в начальный период их деятельности.
Реформаторы исходили из того, что доставшееся им советское государство, а точнее – его осколки в виде многочисленных групп хозяйственной и административной бюрократии, не может стать правовым, пока оно владеет почти всей собственностью и не запущены рыночные механизмы. И они стали уводить государство из экономики, отпустив цены на большинство товаров, а потом приступив к приватизации, т.е. к передаче государственной собственности частным лицам.
Реформаторы рассчитывали, что рынок и действующий на нем свободный собственник, нуждающийся в четких и стабильных юридических правилах игры, как раз и создадут необходимые предпосылки для утверждения правовой государственности. Они полагали также, что собственник станет тем новым субъектом, в лице которого они получат базовую опору для продолжения и углубления реформ, а рынок сам преобразует советскую хозяйственную бюрократию и «красных директоров», чьи интересы тоже максимально были учтены в ходе приватизации, равно как и бюрократию административную, заставив ее следовать диктуемым логикой рыночных отношений правовым нормам. Государственный аппарат оставался нереформированным, такая задача даже не ставилась.
Бюрократия приняла рыночную трансформацию и вписалась в нее. Но рынок не только не превратил ее в служанку закона, но и сам оказался под ее коррупционно-теневым контролем. И уже через четыре года после начала реформ сам Гайдар вынужден был признать, что больше всех от них выиграла бывшая советская номенклатура.
Реформаторы, строго говоря, ничего не проектировали и не конструировали. Они шли за стихией уже сложившихся частных и групповых интересов элиты, пытаясь соблюсти их баланс16. В резуль-
16 См.: Ясин Е.Г. Российская экономика: Истоки и панорама рыночных реформ. М., 2002. С. 221; Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции от Кромвеля до Путина. М., 2001. С. 181-182.
тате же широкий доступ на рынок вместе с появившимися собственниками получила и бюрократия, что реформаторами не планировалось. Она вышла на него в качестве владельца и продавца особого товара – самого права на пользование полученной собственностью, которое при несовершенстве и запутанности законодательства, чиновничьей монополии на его интерпретацию через подзаконные акты и негарантированной безопасности предпринимателям приходилось оплачивать по коррупционно-теневым «рыночным» ставкам.
Возрождение в стране частной собственности и рынка восстанавливало ее преемственную связь с докоммунистической Россией. Но попутно восстанавливались и старые клиентально-патронажные формы взаимоотношений бизнеса и бюрократии, причем в несопоставимо больших масштабах. Масштабы же, в свою очередь, предопределялись во многом слабостью политической власти. Она была слабой во время противостояния Ельцина и Съезда народных депутатов – уже в силу самого факта их непримиримого противостояния. Но она оставалась слабой и после установления и закрепления в российской Конституции президентской властной монополии. Если учесть, что такая монополия с правовым порядком несовместима в принципе, то тем более несочетаемой с ним оказалась она при той легитимационной неустойчивости, каковой был отмечен ельцинский период.
Эта неустойчивость, напомним, предопределялась тем, что обретение индивидуальных свобод, которые ассоциировались с фигурой Ельцина, не сопровождалось для большинства населения их материализацией в росте благосостояния, а сопровождалось, наоборот, падением жизненного уровня. Недовольство населения несколько смягчалось проведенной реформаторами бесплатной приватизацией жилья, в результате которой люди стали собственниками полученных при советской власти квартир, а также начавшейся еще при Горбачеве массовой раздачей дачных земельных участков. Но компенсировать заметное уменьшение зарплат и пенсий, выплата которых к тому же зачастую надолго задерживалась, это не могло.
Поэтому Ельцину за все годы его правления так и не удалось получить устойчивое большинство в Государственной думе: на парламентских выборах, в отличие от президентских, антикоммунистическая мотивация, которая консолидировала преобладавшую часть избирателей, дробилась на различные политико-идеологические составляющие и приводила в Думу партии, президента не поддерживавшие. Это значит, что властная монополия была при Ельцине ограниченной и на область законодательства распространялась лишь частично: президент мог блокировать принятие мешающих ему законов, но не имел возможности проводить нужные. В этом отношении он находился примерно в том же положении, что и Николай II в начале думского периода. Однако такое ограничение при отсутствии у закоодателей права контролировать исполнительную власть, которое Конституцией 1993 года не предусматривается, не только не способствовало наполнению конституционно-правовой оболочки постсоветской государственности реальным правовым содержанием, но и предопределило ее эволюцию в противоположном направлении
Оппозиционность депутатов парламента понуждала Ельцина искать поддержку в других элитных группах, а именно – в бизнесе, федеральной бюрократии и у региональных лидеров, за которыми стояла бюрократия местная. Однако платой за такую поддержку мог быть лишь отказ от принципов правового порядка, проявлявшийся в попустительстве частным интересам этих групп. В годы правления Ельцина вопрос о коррумпированности чиновничества и теневой деятельности сросшегося с ним бизнеса в политическую повестку дня практически не попадал, а если там и оказывался, то оставался маргинальным. Не обращал президент внимания и на то, что в регионах принимались законы, противоречившие федеральным, а нередко и Конституции. Такого рода правонарушения, как и быстро развивавшийся рынок коррупционных бюрократических услуг, были естественным и закономерным следствием президентской властной монополии в условиях неподконтрольности ей парламента и неустойчивости ее легитимации.
Единственным конкурентом бюрократии стал при Ельцине крупный российский бизнес, возникший при непосредственном участии Кремля и получивший возможность непосредственно влиять на принятие государственных решений. Такой политической роли, как в 90-е годы XX столетия, представители предпринимательского класса никогда раньше в стране не играли. Эту роль им удалось получить благодаря пересечению их интересов с интересами властной монополии. Последняя нуждалась в пополнении полупустой казны для выплаты зарплат и пенсий и целенаправленной информационной политике, которая обеспечивала бы сохранение общественной поддержки Ельцина. Бизнесмены же хотели получить в собственность – по заведомо заниженным ценам – сохранявшиеся в руках государства предприятия сырьевых и других высокодоходных отраслей, а также ведущие телевизионные каналы. Результатом состоявшихся в середине 1990-х годов сделок17 и стало появление политически влиятельного крупного бизнеса, приближенного к Кремлю и еще больше укрепившего свои позиции после того, как при его финансовой и информационной поддержке Ельцин выиграл президентские выборы 1996 года.
Однако дальнейшего усиления этих бизнес-групп и их отдельных представителей, не совсем точно названных «олигархами» (на ответственных должностях во властных структурах никому из них закрепиться не удалось), переизбранный на второй срок Ельцин не допустил. Такое усиление грозило подорвать и без того неустойчивое внутриэлитное равновесие, на котором держалась президентская монополия. При Ельцине, правда, «олигархи» могли продолжать свою политическую игру – как теневую через личные связи с президентской администрацией и правительством, так и публичную через принадлежавшие Борису Березовскому и Владимиру Гусинскому федеральные телеканалы. Нов послеельцинской России они, как вскоре выяснится, перспектив не имели. И вовсе не потому, что исчерпал себя олицетворявшийся ими патронажно-клиентальный, коррупционно-теневой порядок и на смену ему шел порядок правовой.
Сохранявшаяся атомизация общества и доминировавшая в нем протогосударственная культура предпосылок для такого порядка не создавали и движение к нему не стимулировали. Но и «олигархам» ельцинского призыва в этом обществе и в этой культуре укорениться было не дано. Они могли обрести политическую субъектность лишь постольку, поскольку верховная власть была слаба и нуждалась в их ресурсах, которыми сама же и помогала им овладеть. Но едва преемник Ельцина получил надежный народный источник легитимности, независимый частный капитал стал для власти помехой. Тем более если речь шла о капитале, владевшем каналами массовой информации. Властная монополия испытывает потребность в других политических субъектах лишь тогда, когда она не самодостаточна. Если же она получает возможность самодостаточность обрести, то первым делом она освобождается именно от этих субъектов. Такова ее природа, проявление которой
17 Ключевую роль среди них сыграли «залоговые аукционы», в результате которых ряд крупнейших российских предприятий стали собственностью приближенных к Кремлю бизнесменов. Аукционы прошли без отступлений от тогдашнего законодательства, но с серьезными нарушениями процедуры; вопрос об их победителях фактически был предрешен заранее (см.: Ясин Е.Г. Указ. соч. С. 236-239).
в истории России мы могли наблюдать неоднократно. Постсоветский период не стал в данном отношении исключением.
22.2. Демонтаж постсоветского «князебоярства». Власть закона и власть над законом
Формирование посткоммунистической государственности в России началось с воспроизведения в новых условиях старой модели «князебоярства», при которой персонифицированная единоличная власть сочетается с относительной политической автономией элит. При Ельцине в роли «бояр» выступали прежде всего приближенные к Кремлю представители крупного бизнеса, в том числе медийного, и региональные лидеры, которые с середины 1990-х годов стали избираться населением. Но «князебоярство», если оно возникает в пору становления государственности, а не ее заката, как в поздне-советский период, тяготеет к сбрасыванию с себя «боярской» составляющей посредством апелляции к антиэлитным настроениям общественного большинства. В этой логике и действовал получивший поддержку избирателей Владимир Путин.
Первым делом новый президент лишил политического влияния руководителей регионов, устранив их из Совета Федерации, и ельцинских «олигархов» – все бизнесмены были объявлены «равноудаленными» от Кремля, а владельцы телевизионных каналов Березовский и Гусинский, пытавшиеся сопротивляться, оказались в конце концов в эмиграции. В этой же логике действовал Путин и в дальнейшем, о чем свидетельствует и «дело ЮКОСа», и отмена прямых выборов региональных руководителей. Выстраивание однополюсной модели властвования, повторим, на полпути никогда не останавливается – просто потому, что в недостроенном состоянии она заведомо нежизнеспособна. Отсюда, однако, вовсе не следует, что ее достроенность в любых исторических обстоятельствах автоматически обеспечивает ее эффективность. Во всяком случае, условия постсоветской России этому не благоприятствовали.
Воспроизводство в стране властной монополии могло осуществляться только при консервировании унаследованной от советской эпохи протогосударственной культуры. Закрепившиеся в ней абстрактные представления о законности и праве создали новый источник легитимации такой монополии на месте исчерпавших свои ресурсы источников прежних. Но эти представления, не будучи конкретизированными в опыте правовых взаимоотношений личности и государства, сами по себе не способствовали становлению общества как субъекта правового порядка. Вместе с тем, они не соотносились и с откровенно неправовой ельцинской системой нового «князебоярства», что создавало благоприятную общественную атмосферу для укрепления единоличной власти «князя». Происшедшие в XX веке сдвиги в культуре обусловили возможность наступления на «бояр», не прибегая к обвинениям в измене или «двурушничестве», к призывам «грабить награбленное» и обещаниям обеспечить «отмирание государства». Это наступление, предпринятое Путиным под лозунгом «диктатуры закона», оказалось достаточно успешным. Однако сам лозунг в жизнь не воплощался. Точнее – воплощался таким образом, что президентская власть в результате упрочивалась, а государство правовым не становилось.
Достраивание Путиным властной монополии имело своей первоначальной целью не столько введение элит, действовавших вне правового поля, в его пределы, сколько их политическую нейтрализацию. Если они обнаруживали к этому готовность, то и власть готова была сохранить за ними экономические и статусные приобретения ельцинского периода, какими бы способами они ни осуществлялись. Учитывая же, что осуществлялись они – с юридической точки зрения – не совсем корректно или совсем не корректно, нетрудно понять, почему преобладающая часть элиты на новые правила игры согласилась. Тем более что именно против несогласных был запущен механизм обещанной «диктатуры закона», которая своему названию не очень соответствовала. Она не соответствовала ему, во-первых, потому, что закон – даже тогда, когда он не нарушался – применялся избирательно, т.е. только по отношению к политическим оппонентам власти, а во-вторых, его применение зачастую сопровождалось процессуальными нарушениями со стороны правоохранительных органов. При подконтрольности встроенных в «вертикаль власти» судов такого рода нарушения могли интерпретироваться и интерпретировались как места не имевшие18.
Таким образом, на новом витке исторической эволюции происходило возвращение к инструментальному использованию прин-
18 Эксперты отмечали, в частности, многочисленные процессуальные нарушения в «деле ЮКОСа», игнорируемые судами (Никитинский Л. Русский бунт бессмысленный, суд – Басманный // Новая газета. 2003.22 декабря. № 96). Однако чаще власть стремится прямых нарушений избегать. Скажем, закон формально не был нарушен при смене руководства телеканала НТВ и закрытии канала ТВ-6, когда политические конфликты переводились в «споры хозяйствующих субъектов». При этом зависимость бизнеса от государства позволяла выставлять против субъекта нелояльного субъекта зависимого, как против НТВ был выставлен один из акционеров этого канала «Газпром», а контроль над судебной системой позволил обеспечить победу зависимого над независимым.
ципа законности в политических целях. Это, в свою очередь, означало, что в постсоветской России восстанавливалась советская модель имитационно-правовой государственности. Оказалось что она вполне может обходиться без коммунистической идеологии и сосуществовать с частной собственностью и рыночной экономикой.
Имитационность – это и есть способ функционирования государства в обществе с протогосударственной культурой, в которой абстрактные представления о законности и праве уже закрепились а конкретный образ общественного порядка, таким представлениям соответствующего, еще не сложился. Но при демократически-выборной легитимации власти имитационность неизбежно распространяется и на демократию, т.е. на сферу политических, прав и свобод. Финансовый, административный и информационный контроль над выборной процедурой означает ограничение свободной политической конкуренции, что не соотносится с узаконенным принципом равенства демократических прав граждан и их политических организаций. В правовом государстве на страже этих прав стоит суд. В государстве имитационно-правовом суд, будучи вмонтированным в «вертикаль власти», призван не столько гарантировать верховенство права над политикой, сколько обеспечивать ее доминирование19.
Воссоздание в обновленном виде советской модели имитационно-правовой и имитационно-демократической государственности явилось одновременно и воспроизведением советского государственного утилитаризма. Последний, напомним, от своих прошлых отечественных аналогов отличался тем, что был светско-идеологическим, т.е. использовал декларировавшиеся коммунистической системой идеалы как средство поддержания ее устойчивости. Все, что делалось властями в СССР, объявлялось продвижением к коммунистическому будущему. В постсоветской России освободившееся место коммунизма занял идеал демократически-правового государства. Но и он, как выяснилось, может использоваться в качестве утилитарного
19 Избирательное использование закона позволяет, к примеру, в судебном порядке отстранять от участия в выборах нежелательных политиков, не обращая внимания на аналогичные или даже более серьезные нарушения у их конкурентов. Практически оппозиционные партии и лидеры лишены возможности защитить свои права в суде в случае их ущемления в ходе избирательных кампаний. Российские эксперты и международные наблюдатели отмечали, например, явную тенденциозность и политическую ангажированность федеральных телеканалов перед парламентскими выборами 2003 года и президентскими выборами 2004-го, когда принцип равенства прав кандидатов откровенно нарушался. Но никакими санкциями против правонарушителей это не сопровождалось.
средства для утверждения и укрепления авторитарной власти, по отношению к которой принцип законности и выборности должностных лиц выступает не определяющим, а определяемым, т.е. вторичным и производным. Это значит, что постсоветское государство, подобно советскому, вынуждено вуалировать свою политическую природу. А это, в свою очередь, дает основания предполагать, что постсоветская государственность, как и ее предшественница, является государственностью ситуативной, стратегического измерения лишенной. О том, что такое предположение по меньшей мере не беспочвенно, свидетельствуют и некоторые другие ее особенности.
Встраивание в президентскую «вертикаль власти» парламентского представительства, региональных лидеров, суда и прокуратуры, ведущих каналов массовой информации и крупного бизнеса означало предельную бюрократизацию этой «вертикали». Опорой политической монополии может быть только чиновничество, которое нуждается в ней не меньше, чем она в нем. Показательно, что непримиримо противостоявшие друг другу на исходе ельцинского правления группы бюрократии, каждая из которых надеялась привести к власти своего кандидата в президенты, после победы Путина быстро вокруг него консолидировались20. Персонифицированная политическая монополия максимально отвечает нуждам чиновничества, поскольку обеспечивает ему монополию административную. Оно получает не только право представлять общий интерес, но и возможность бесконтрольно использовать свое положение для обслуживания интересов собственных, частных и корпоративных.
Персонификатор политической власти нужен бюрократии, так как только в качестве его служительницы она может воплощать идею государства в глазах населения. Поэтому именно в населении должен находиться и основной источник легитимности единовластного правителя. Но при этом оно должно быть лишено собственной субъектности и не должно превращаться в общество, способное поставить бюрократию под свой контроль. Протогосударственная культура атомизированных индивидов, выступающих в роли управляемых избирателей, такому требованию вполне соответствует. Пока она сохраняется, не может возникнуть и альтернативы персонифицированной политической монополии, имеющей своим естественным следствием
20 Противостоявшая кремлевской администрации группа во главе с отставным премьер-министром Примаковым и мэром Москвы Лужковым после выборов заявила о поддержке нового президента Впоследствии Лужков стал одним из лидеров Партии «Единая Россия», поддерживавшей Путиным и поддерживавшейся им.
бесконтрольную административную монополию чиновничества. Однако у этой бюрократическо-авторитарной модели есть существенный изъян, который не может не беспокоить любого ее персонификатора и стоящие за ним околовластные группы уже потому, что подрывает жизнеспособность самой модели, предопределяя ее ситуативность.
22.3. Рецидивы застарелой болезни
Недолгий опыт постсоветской эволюции показал, что президентская «вертикаль власти», превращаясь в вертикаль коррупционно-бюрократическую, не в состоянии создать условия для технологической модернизации, которая блокируется незавершенностью модернизации социально-политической. Имитационно-правовое государство, усилив свою авторитарную составляющую, может поддерживать политическую стабильность, но не в силах утвердить стабильные правила игры и обеспечить формирование инвестиционного климата, которые стимулировали бы инновационную активность бизнеса и других инициативных групп населения. Не в силах оно противостоять и современным террористическим угрозам, что делает потенциально неустойчивыми и его стабильность, и саму его легитимность. Бюрократически-авторитарная модель государства и его эффективность – в современных условиях вещи несовместные.
Придя к власти и освободившись от влиятельных политических оппонентов, Путин довольно быстро осознал, что без очищения «вертикали власти» от коррупционных наростов провозглашенный им курс на модернизацию страны останется лишь благим пожеланием. В его публичных выступлениях, в том числе и в ежегодных посланиях парламенту, тема коррупции стала одной из основных. Не скрывалось больше от общества и то, что коррупция в России является всепроникающей, охватывающей и гражданскую бюрократию, и правоохранительные органы, и суды. Признавался, говоря иначе, системный характер болезни21, что предполагало, в свою очередь, системный характер ее лечения. В качестве таково-
21 Уже в послании 2001 года Путин, характеризуя постсоветскую государственную систему, отметил, что эта «система защищает свои права на получение так называемой „статусной" ренты. Говоря прямо – взяток и отступных» (Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2001. 4 апреля). Аналогичные констатации присутствовали и в последующих посланиях. А в сентябре 2004 года, обращаясь к населению после трагедии в Беслане, президент отметил, что «мы ‹…› позволили коррупции поразить судебную и правоохранительную сферы» (Интервенция: Обращение Президента России Владимира Путина // Российская газета. 2004. 6 сентября).
го было предложено преобразование государственного аппарата, получившее название административной реформы. Но подобным реформам суждено оставаться безрезультатными внутриаппаратными перестройками, каковых в истории России происходило немало, при отсутствии ответа на вопрос о том, кто будет контролировать бюрократию. А он как раз и отсутствовал.
Не было ответа на этот вопрос и в отечественной управленческой традиции. Системные тупики сопровождались в стране либо обвалами в смуту, либо попытками персонификаторов политической власти взять функции верховного контролера непосредственно на себя, опираясь на специально создаваемые репрессивные структуры (опричное войско Ивана Грозного, петровская гвардия, ведомство Ежова-Берии при Сталине). Однако «опричный» метод, позволяя успешно противостоять реальным и потенциальным политическим оппонентам, значительного антикоррупционного эффекта никогда не обнаруживал22. Это значит, что лечение системной болезни в современной России равнозначно выходу за пределы российской традиции властвования и обращению к такому нетрадиционному для страны способу, как контроль над бюрократией со стороны общества. Но такой контроль может быть обеспечен лишь при установлении юридической и экономической ответственности должностных лиц и стоящего за ними государства за ущерб, наносимый их решениями гражданам. Он предполагает также наличие свободных от бюрократической опеки каналов массовой информации, право парламента контролировать исполнительную власть и независимость суда. Однако Путин не пошел по этому пути – с курсом на выстраивание «вертикали власти» он не сочетался.
Мы отдаем себе полный отчет в сложности и даже беспрецедентности проблем, с которыми столкнулась постсоветская Россия. При доминировании в обществе протогосударственной культуры передача ему функций контроля может сопровождаться политической дестабилизацией, вызываемой популистскими апелляциями к населению со стороны элитных групп, для которых «народовластие» – лишь один из инструментов в конкурентной борьбе за приватизацию государства. Об этом более чем красноречиво свидетельствует
22 Это было обусловлено в том числе и тем, что сами «опричные» структуры наделялись монопольным правом на произвол, о чем можно судить, например, по наставлению Ивана Грозного земским судам: «Судите праведно, наши виноваты небыли бы». Под «нашими» имелись в виду опричники (см.: Скрынников Р.Г. Лихолетье: Москва в ХVI-ХVII веках. М., 1988. С. 76).
ельцинская эпоха. Но она же показывает, что такая борьба может возникнуть только при попустительстве властной монополии, компенсирующей свою политическую неустойчивость созданием дополнительных опор в частных интересах элиты и выведением ее из-под юридического надзора. Никаких правовых механизмов, которые защищали бы государственный интерес от приватизаторских амбиций бюрократии и сросшихся с ней бизнес-групп во времена Ельцина не возникло. Поэтому оказалась заново воспроизведенной старая отечественная проблема, заключающаяся в самом этом сращивании, т.е. в нерасчлененности собственности и власти. Поэтому же не получила практического воплощения и зафиксированная в Конституции ответственность чиновников и представляемого ими государства за ущерб, наносимый гражданам их решениями23.
Так что главный урок ельцинского правления состоит вовсе не в том, что оно выявило нетрансформируемость протогосударственной культуры общества в культуру государственную и, соответственно, его «неготовность к демократии». Главный урок в том, что такая трансформация невозможна, если конституционное закрепление правовых принципов и введение демократических процедур не сопровождается переориентацией государства на формирование в обществе влиятельных субъектов правового порядка и их поддержку, субъектов, заинтересованных в сдерживании коррупционных аппетитов бюрократии и потенциально готовых противостоять ей. На выходе из советской эпохи таковых еще не было. Но к исходу ельцинского периода они начали появляться.
Прежде всего мы имеем в виду возрожденный отечественный бизнес: встав на нога не без помощи бюрократии, он вскоре стал тяготиться коррупционно-теневым союзом с ней и обнаружил потребность в четких и стабильных правилах игры. Иными словами,
23 «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц» (Конституция Российской федерации. С. 15). Однако конкретные механизмы реализации этого права в постсоветской России не созданы. Его декларирование в Конституции можно рассматривать как важный шаг во второе осевое время, который не решился сделать при проведении судебной реформы Александр II: формальное право граждан предъявлять претензии к должностным лицам фактически сводилось на нет тем, что их привлечение к судебной ответственности ставилось в зависимость от решения вышестоящего начальства, т.е. от людей, в подчинении которых эти лица находились. Но, как показывает постсоветский опыт, реализация права может блокироваться и будучи узаконенным.
частные интересы предпринимателей стимулировали формирование в их среде универсальных правовых ценностей, что открывало перспективу превращения бизнес-класса в опорный социальный сегмент для продвижения от протогосударственной культуры к государственной. Эта тенденция отчетливо обозначилась сначала в малом и среднем предпринимательстве, более всего угнетенном чиновничьими поборами, а потом – ив бизнесе крупном: выход на международные рынки обусловливал его возраставшее стремление адаптироваться к принятым на них правилам. Только при его экономической силе и самодостаточности данная тенденция могла вырваться за пределы предпринимательского сознания и реализоваться в практическом поведении. И такой прорыв наметился.
Первопроходцем на этом пути стала крупнейшая нефтяная компания «ЮКОС», которая начала целенаправленно осуществлять курс на прозрачность своей финансово-экономической деятельности. По мере же реализации этого курса у руководителей компании возникало ощущение независимости от бюрократии, что, как казалось, открывало возможность для независимого от нее субъектного позиционирования, причем не только экономического. ЮКОС спонсировал многочисленные проекты в области образования, поддерживал гражданские организации, лоббировал законопроекты в Государственной думе и даже финансировал оппозиционные Кремлю политические партии. Возможно, будущим историкам масштаб событий, связанных с ЮКОСом, не покажется столь значительным, каким он видится нам с близкого расстояния. Возможно, они не усмотрят в этих событиях той исторической развилки, какую усматриваем мы. Заметим, однако, что наш угол зрения определяется не только огромным общественным резонансом, которым сопровождалось в стране и мире «дело ЮКОСа». Мы рассматриваем его в исторической ретроспективе, а именно – в контексте многовековой отечественной традиции взаимоотношений между политической властью, бюрократией И бизнесом.
ЮКОС бросил вызов этой традиции, поставив власть перед выбором: либо искать новый, нетрадиционный для страны баланс сил между бюрократией и деловым классом, легитимируя субъектность последнего и опираясь на обозначившийся в нем запрос на правовой порядок (при законодательном ограничении его притязаний, если они кажутся чрезмерными и деструктивными), либо пресечь наметившуюся тенденцию и вернуть претендентов на общественную субъектность в их старую «объектную» нишу24. Предпочтение отдали второму варианту: руководители ЮКОСа в 2003 году оказались в тюрьме, а потом на скамье подсудимых и были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Тем самым власть продемонстрировала верность отечественной государственной традиции. Могла ли она сделать иной выбор и каковы были бы его последствия, страна уже никогда не узнает. Последствия же принятого решения выглядят достаточно очевидными.
О юридической стороне «дела ЮКОСа» мы судить не беремся. Полагаем, однако, что в направлении правовой государственности оно страну не продвинуло. Закон и в данном случае был применен избирательно: правонарушения, вмененные в вину руководителям компании, в 1990-е годы прошлого века в российском бизнесе были повсеместными, что не отрицается и самими предпринимателями. С этой точки зрения, «дело ЮКОСа» стало еще одним, быть может, самым выразительным подтверждением доминирования в постсоветской России политики над правом.
Что касается проблемы очищения «вертикали власти» от коррупционных наростов, то ее решение в результате не только не облегчилось, но, скорее, затруднилось. Зависимость напуганного репрессиями бизнеса от бюрократии возросло, их коррупционно-теневой союз укрепился. Это значит, что укрепилась и ситуативная бюрократическо-авторитарная государственность. Но едва ли не главная особенность такой государственности заключается в том, что ее усиление еще больше ослабляет ее стратегический потенциал. Потому что оно означает замораживание общества в атомизированном «объектном» состоянии, лишенном источников и стимулов инноваций и исключающем трансформацию протогосударственной культуры в государственную. А это, в свою очередь, означает, что блокируется и становление нации, т.е. решение задачи, которая встала перед Россией после распада советской империи, а вместе с ней – и «новой исторической общности», каковой в СССР был объявлен советский народ.
Без консолидирующих население общих ценностей, в том числе и государственных, коллективное «мы» современных гражданских
24 О том, что для власти это была именно ситуация выбора между разными вариантами развития, свидетельствовала добровольная отставка бывшего руководителя президентской администрации Александра Волошина, последовавшая после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Отставка показывала и то, что соотношение сил в высшем руководстве страны было в пользу отечественной традиции властвования, а не в пользу разрыва с ней.
наций не возникает. Между тем в протогосударственной культуре (она же культура протонации) не может сложиться и закрепиться даже объединяющий людей образ желательного государства, что мы и наблюдаем в постсоветском российском обществе. Социологические опросы фиксируют в нем четыре большие группы. Одна часть россиян хотела бы видеть в стране государство западного типа, другая отдает предпочтение советскому варианту, третья полагает, что оно должно быть принципиально новым, аналогов в прошлом и настоящем не имеющим, а у четвертой какой-либо образ предпочитаемой государственности не сложился вообще25. Это – не воспроизведение старого социокультурного раскола. Раскол означает непримиримый конфликт ценностей, между тем как в данном случае правомерно говорить лишь о несовпадении абстрактных представлений, возникающих на основе позитивных или негативных реакций массового сознания либо на современный зарубежный политический опыт, либо на опыт отечественный – нынешний и прошлый.
Строго говоря, в протогосударственной культуре вообще не может быть противостояния государственных идеалов и ценностей (либерально-демократических, советско-социалистических и любых других) во всей полноте их институционального наполнения. Отсюда – отмечаемая многими социологическими службами размытость, фрагментарность политико-идеологического сознания постсоветского человека: в этом сознании могут сосуществовать
25 По данным одного из социологических опросов, 34% респондентов хотели бы видеть в России «государство с рыночной экономикой, демократическим устройством и соблюдением прав человека, подобным странам Запада», 21% – «социалистическим государством с коммунистической идеологией типа СССР», 15% – «государством с совершенно особым устройством и особым путем развития, какого в мире еще не было», а 26% опрошенных выбрали позицию «мне не важно, каким государством будет Россия, мне важно, как буду жить я и моя семья». Образ досоветской государственности («империя, монархия, подобная той, что была в России до 1917 года») из современного массового сознания почти полностью вытеснен – на него ориентируется менее 2% респондентов. Показательно, что подавляющее большинство опрошенных не соотносят свои представления о желательном типе государства с тем, которое формируется в постсоветской России: 80% из них заявили, что вообще не знают, в каком направлении оно развивается и каким будет. Так реагирует на имитационность общественное сознание. Данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного в рамках широкомасштабного исследования «Самоидентификация россиян в начале XXI века» группой социологов в составе Т.И. Кутковец (автор исследования), А.И. Гражданкина, И.М. Клямкина и И.Г. Яковенко. Опрос проводился осенью 2001 года по общероссийской репрезентативной выборке 1600 человек на базе ВЦИОМ (ныне – Аналитический центр Юрия Левады).
самые разные установки, в том числе и взаимоисключающие. Скажем, общая ориентация на советско-социалистический вариант государственности может сочетаться с неприятием коммунистической однопартийной системы и признанием преимуществ рыночной экономики и демократии западного образца, а ориентация на государство западного типа – с неприятием разделения властей, признанием законности экспроприации собственности в советскую эпоху, приверженностью идее «особого пути» России и предрасположенностью к голосованию за политиков откровенно антизападной ориентации. Но такое фрагментированное сознание не в состоянии самостоятельно выработать осознанную альтернативу имитационно-правовой и имитационно-демократической государственности – по той простой причине, что в нем нет критериев для распознания имитационности. Отсутствует в нем, соответственно, и установка на противостояние бюрократическо-авторитарной модели властвования, использующей имитационность как идеологический инструмент своей легитимации.
Так ситуативное государство воссоздает ситуативное общество, а ситуативное общество позволяет воспроизводить ситуативное государство. Ситуативность же того и другого будет неизбежно проявляться в постепенной трансформации различий политико-идеологических представлений, пока еще размытых и фрагменти-рованных, в новый социокультурный раскол. На этот раз – между формирующейся культурой гражданства с его установкой на приоритет личности по отношению к государству и культурой подданства с его ориентацией на верховенство государства над личностью, патерналистскую опеку над ней. При этом в многонациональной стране обе культуры скорее всего будут искать опоры в этнических, а, быть может, и конфессиональных идентичностях. В таком случае Россию ждет судьба СССР или утверждение радикально-националистического политического режима, апеллирующего к амбициям и фобиям этнического большинства, что лишь отсрочит ее распад.
Как показал опыт XX века, раскол догосударственной и государственной культур в индустриальном обществе сопровождается утверждением коммунизма, а раскол внутри протогосударственной культуры – утверждением фашизма и нацизма. Упредить такое развитие событий может только российская элита, если сумеет консолидироваться, но – не ради сохранения и упрочения ситуативного государства, а ради его исторического преодоления на основе демократически-правового базового консенсуса. Вопрос лишь в том, соответствует ли масштаб ее личностных ресурсов стоящим перед страной задачам.
Развитие постсоветской России выявило масштабы и качество личностных ресурсов людей, инициировавших и проводивших преобразование коммунистической системы. В свою очередь, осуществлявшиеся ими перемены меняли и их самих, одновременно расширяя их круг, вовлекая в него более широкие слои населения. Ход событий, однако, показал, что совокупный личностный ресурс, которым располагала страна, для утверждения государства, альтернативного прежнему имитационно-правовому и имитационно-демократическому, оказался недостаточным, и этот тип государства был воссоздан на новой основе. Его ситуативная природа и очевидная неэффективность рано или поздно сделают его трансформацию неизбежной. Но какой она будет, зависит именно от того, каково качество человеческого капитала, накопленного страной в постсоветский период, и в каком направлении оно эволюционирует под оболочкой бюрократическо-авторитарной государственности.
Глава 23 Личностные ресурсы посткоммунистической трансформации
Смена властной элиты, происшедшая в стране в 90-е годы XX века не была столь радикальной, как во времена Ивана Грозного, Петра I или в советскую эпоху. Отличалась она и от смены «верхов» в Восточной Европе. Посткоммунистическая Россия не пошла по пути тех восточноевропейских стран, где были приняты законы о люстрации, запрещавшие представителям бывшей коммунистической элиты занимать ответственные государственные посты. Показательно, что в новый российский правящий слой попали в основном люди, состоявшие ранее в коммунистической партии, как показательно и то, что руководителем страны стал Борис Ельцин – выходец из верхнего эшелона КПСС. Тем не менее, в сравнении с советским периодом, включая его заключительный «перестроечный» этап, обновление элиты было весьма существенным.
Горбачев, как мы уже отмечали, проявил немалую активность и решительность в кадровой политике: персональный состав руководителей в центре и в регионах претерпел при нем значительные изменения. Но эта трансформация номенклатуры осуществлялась исключительно за счет наличных человеческих ресурсов номенклатурного коммунистического «боярства»: за шесть с половиной лет правления Горбачева на ответственных политических должностях так и не появилось деятелей, которые не были бы выходцами из советского управленческого слоя26. В данном отношении Ельцин пошел гораздо дальше инициатора перестройки. Во власть пришли люди, не прошедшие курса практического обучения в школе партийно-государственного управления и ориентированные не на перестройку коммунистической системы, а на ее полный демонтаж
26 Единственным исключением из этого правила стал академик-экономист Леонид Абалкин, назначенный заместителем председателя правительства. Это не означало, что в правящую элиту представители других слоев не привлекались вообще. Но они привлекались лишь на роли советников и экспертов в партийно-государственный аппарат, призванный осуществлять политико-идеологическое обслуживание перестройки и ее инициатора.
и создание на ее месте системы западно-капиталистического типа. Но их совокупные личностные ресурсы для осуществления такого преобразования оказались недостаточными.
Этих ресурсов хватило лишь на то, чтобы начать разгосударствление экономики, запустить рыночные механизмы хозяйствования, устранить институциональные остатки прежней политической системы в виде советов и заложить конституционные основы новой властной монополии в лице президента. Что касается противостояния приватизации государства и превращению его в имитационно-демократическое и имитационно-правовое под конституционной оболочкой демократического и правового, то таких способностей новая элита не обнаружила. Более того, подобных задач она перед собой и не ставила. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что их не ставил перед ней и президент Ельцин. Поэтому вовсе не исключено, что если бы даже личностные ресурсы, необходимые для строительства государства демократического и правового, у новобранцев правящего класса наличествовали, то они вряд ли были бы востребованы. Но ресурсы эти, похоже, попросту отсутствовали. Во всяком случае, в новой элите не наблюдалось ни желания противодействовать установлению президентской политической монополии, ни намерений реформировать бюрократический аппарат, без чего реальное продвижение к демократически-правовому порядку было невозможно.
Развитых и консолидированных субъектов, способных стимулировать трансформацию протогосударственной культуры общества в культуру государственную, советская эпоха после себя не оставила. Их не было в новом депутатском корпусе, куда в ходе относительно свободных «перестроечных» выборов пробилось немало энергичных и амбициозных людей, сделавших ставку на Ельцина как символ антикоммунизма и мобилизованных им в президентские, правительственные и региональные властные структуры. Их не было и в реформаторски ориентированной части экспертно-академической среды, в которой в годы горбачевской перестройки сформировался слой экономистов, осознавших несостоятельность концепции «социалистического рынка» и готовых идти дальше, чем мог позволить себе Горбачев. Их личностные ресурсы тоже были мобилизованы Ельциным во власть. Но сформированная им правительственная команда во главе с Егором Гайдаром ориентировалась главным образом на реформирование советской экономики, а не на строительство демократическо-правовой государственности.
Не обнаружилось для этого необходимых личностных ресурсов и в старой советской бюрократии – административной и хозяйственной, к услугам которой Ельцин тоже неоднократно прибегал во время своего правления, привлекая ее представителей на высшие государственные должности27.
Если же говорить о посткоммунистическом правящем классе в целом, то изначально он обнаружил еще меньшую готовность вырабатывать консолидированное представление об общем интересе и соответствующей ему реформаторской стратегии, чем правящий класс начала XX века. Во времена Столыпина этому препятствовал социокультурный раскол. В посткоммунистической России главной преградой оказалось качество элиты и ее личностных ресурсов. Она, как и все население, унаследовала советскую протого-сударственную культуру, а потому, строго говоря, элитой, формирующей общезначимые ценностные ориентиры и подчиняющей им свое поведение, не являлась. При сравнении России со странами Восточной Европы это выглядит достаточно очевидным.
В большинстве из них посткоммунистическая трансформация начиналась с демократических парламентских выборов и создания демократических политических систем, в которых и воплощалось достигнутое исходное согласие национальных элит относительно общего интереса и общей стратегии развития28. В России такого согласия на выходе из советской эпохи достигнуто не было, а началась, наоборот, непримиримая внутриэлитная борьба частных и групповых интересов за политическое доминирование, т.е. за монопольное право представлять интерес общий. И разгосуда-
27 Выходцы из советской номенклатуры почти на всем протяжении ельцинского периода занимали должности руководителей правительства. С декабря 1992по 1998 год его главой был Виктор Черномырдин, сменивший так и не утвержденного съездом народных депутатов Егора Гайдара, а в 1998-1999 годах – Евгений Примаков. Это лишний раз свидетельствует о нерадикальном характере смены элиты в постсоветской России – в значительной степени речь шла не столько о смене, сколько об адаптации старой элиты к новым условиям. В первые годы правления Ельцина выходцы из советского номенклатурного слоя составляли около 75% в высшем руководстве страны и более 82% среди региональных руководителей. Отличие от горбачевских времен заключалось в том, что люди с неноменклатурной биографией в элите все же стали появляться, а также в том, что представители верхнего эшелона советской номенклатуры были из элиты вытеснены представителями более низких ее уровней (Крыштановская О.В. Трансформация старой номенклатуры в новую элиту // Общественные науки и современность. 1995. №1. С. 65).
28 См.: Ослунд А. Строительство капитализма: Рыночные трансформации стран бывшего советского блока. М., 2003. С. 645.
рствление экономики здесь предшествовало формированию новой государственности, что довело противоборство до неразрешимого конфликта. Результатом стало силовое восстановление традиционной для страны властной монополии без воспроизведения ее былой сакральности, что исключало и реанимацию идеологии «беззаветного служения» общему интересу и его персонифактору.
При таких обстоятельствах конституционно узаконенная в лице президента политическая монополия вынуждена была для обеспечения своей устойчивости задействовать личностные ресурсы тех элитных групп, которые готовы были поддерживать ее в обмен на возможность приватизировать не только государственную собственность, но и само государство. Реально это означало мобилизацию их энергии и предприимчивости на создание коррупцион-но-теневого союза политической власти, бюрократии и бизнеса. В таком союзе государственная идея общего блага пустить корней не могла. Нельзя сказать, что в годы правления Ельцина проистекавшие отсюда проблемы не осознавались вообще. Необходимость «укрепления государства» декларировалась чуть ли не во всех посланиях президента Федеральному собранию. Но при крайнем дефиците личностных ресурсов, пригодных для решения такого рода задач, и невостребованности даже тех, что имелись в наличии, декларации эти никаких шансов воплотиться в жизнь не имели.
Путин, в отличие от Ельцина, сразу после избрания его президентом сделал лозунг «укрепления государства» основой своей практической политики. Для этого ему потребовались новые люди, которых он нашел в спецслужбах и других силовых структурах29. Однако их личностный потенциал был достаточен лишь для осуществления консервативной стабилизации уже сложившейся государственной системы, а не для продолжения незавершенной социально-политической модернизации. Такого рода стабилизации, как свидетельствует исторический опыт Павла I, Николая I, Александра III, Леонида Брежнева, позволяют устранять давление на «вертикаль власти» извне, т.е. из общества, но не гарантируют от приватизации этой «вертикали» изнутри, т.е. частными интересами бюрократии. Немаловажно и то, что при проведении таких стабилизации востребованными оказываются только личностные ресурсы тех, кому
29 По данным исследователей, изучающих эволюцию постсоветской элиты, доля военных в ее составе, по сравнению с ельцинским периодом, возросла при Путине в два с лишним раза (с 11,2 до 25,1%), а доля ученых в 2,5 раза уменьшилась (Крыштановская О.В- Анатомия российской элиты М, 2004. С. 269).
отводится роль «стабилизаторов». В результате на всех этажах властной иерархии, кроме самого верхнего, ресурсы эти замораживаются культивированием бюрократической лояльности и исполнительности, что обеспечивается предоставлением чиновникам широких коррупционно-теневых возможностей для обслуживания их частных интересов под видом «беззаветного» или договорно-контрактного служения интересу общему. Но подобные государственные системы модернизации не поддаются по причине отсутствия в них субъектов в модернизации заинтересованных: ведь и среди «стабилизаторов», опирающихся на коррумпированную бюрократию, бессребренники встречаются не часто. На протяжении отечественной истории это наблюдалось не раз, как наблюдалось и то, что авторитарно-бюрократические (при сакральных самодержцах) и бюрократическо-авторитарные (при отсутствии оных) «вертикали власти» не способны стимулировать интенсивное общественное развитие в целом, т.е. создавать благоприятные условия для инноваций.
В прежние времена дефицит последних восполнялся неисчерпанными возможностями развития экстенсивного. В постсоветской России из всех них остались лишь природные ресурсы, что ставит страну в зависимость от мировых цен на сырье, предельно обостряя стоящие перед ней проблемы. Считаясь с ними, консервативная стабилизация Путина изначально предполагала укрепление авторитарной модели властвования как политического инструмента экономической и технологической модернизации. Но для ее осуществления необходимы не столько демобилизованные личностные ресурсы чиновников, сколько мобилизованные ресурсы реформаторов, обладающих достаточно высокой степенью свободы – как административной, так и политической. Ведь та же модернизация Александра III могла быть относительно успешной лишь потому, что осуществлявшему ее Сергею Витте была предоставлена широкая самостоятельность. При Путине такого реформатора не появилось и не могло появиться по той простой причине, что конституционно-выборное самодержавие, в отличие от наследственного, наличия относительно самостоятельных политических фигур типа Витте или Столыпина не предполагает: само их присутствие в бюрократическо-авторитарной «вертикали власти» было бы противоестественным отступлением от ее системной природы.
Природа же этой вертикали такова, что даже люди, попадающие в нее на роль модернизаторов, должны руководствоваться чиновничьей логикой, которая, в свою очередь, блокирует реализацию их личностного реформаторского потенциала. Поэтому осуществленная Путиным консервативная стабилизация реальной социально-политической и технологической модернизацией не сопровождалась, а попытки ее осуществления (например, административная реформа) при сохранении системных устоев и с учетом системных ограничителей оказались малорезультативными, что, в свою очередь, подталкивало власть к еще большему укреплению этих устоев и ограничителей (например, к отмене выборности руководителей регионов населением). О том, будут ли такого рода меры содействовать модернизации, напишут будущие историки. Мы же ограничимся констатацией, что при ретроспективном взгляде на эволюцию постсоветской России это представляется сомнительным. Потому что при таком взгляде обнаруживается жесткая зависимость между бюрократизацией управления и оттоком из управленческого слоя необходимых для модернизации личностных ресурсов или их стерилизацией.
Но ретроспективный взгляд на развитие посткоммунистической России позволяет уловить и нечто большее. Именно он позволяет утверждать, что страна лишена сегодня тех возможностей, которые позволяли хотя бы частично компенсировать отсутствие или слабость субъектов инноваций в последние десятилетия правления Романовых. Тогда таким субъектом могла выступать политическая власть, осуществлявшая технологическую модернизацию сверху посредством реализации государственных программ и целенаправленного привлечения иностранного капитала. Участие отечественного частного бизнеса, настороженно относившегося к шедшим сверху инициативам, в реализации модернизационных проектов было незначительным и в то время. Но в современных условиях, как мы уже отмечали, государство не в состоянии исполнять роль, которую исполняло прежде. Поэтому в постсоветской России оно на нее и не претендует. Но поэтому же оно неизбежно оказывается перед дилеммой: либо способствовать созданию делового климата, стимулирующего инновационную активность частного бизнеса, либо укреплять бюрократическую «вертикаль власти», которая способствует не столько мобилизации личностных ресурсов предпринимательского класса и его становлению как субъекта модернизации, сколько их демобилизации посредством навязывания бизнесу коррупционно-теневого союза с бюрократией.
Таков был выбор и одновременно вызов, перед которыми оказалась Россия при президенте Путине. «Дело ЮКОСа» показало, что выбор был сделан в пользу «вертикали власти» и, соответственно, в пользу бюрократии30. Но это означало, что личностный потенциал, накопленный к тому времени в отечественном бизнесе, государством оказался невостребованным.
К концу правления Ельцина в возрожденном российском предпринимательстве обозначились две тенденции.
С одной стороны, оно тяготело к сращиванию с политической и административной властью и укреплению своих позиций в коррупционно-теневом союзе с ней, что заметнее всего обнаружилось в феномене ельцинских «олигархов». При такой установке энергия и предприимчивость бизнесменов проявлялись главным образом в подковерной борьбе за распределение еще неприватизированной государственной собственности и получение должностей во властных структурах, что увеличивало их шансы на успех в этой борьбе и обеспечивало конкурентные преимущества их бизнесу. Понятно, что после попадания во властную элиту или сближения с ней предприниматели претендовали на роль субъектов социально-политической и технологической модернизации страны еще меньше, чем другие элитные группы. Движение к правовому порядку, формирование конкурентной среды и делового климата, стимулирующего инновации, с их непосредственными интересами не сочетались и не соотносились.
30 Характеризуя особенности возникшей при Ельцине и стабилизированной при Путине государственной системы, Г. Явлинский пишет: «Это в первую очередь преобладающая или, во всяком случае, очень большая роль, которую в качестве регулятора экономической жизни играют неформальные отношения, существующие и действующие вне рамок официального права ‹…› Правовая система регулирования административных отношений на практике не действует ‹…› Права контроля над теми или иными прибыльными сферами, особенно на региональном уровне, открыто распределяются узким кругом лиц, обладающих фактической властью ‹…› Государство фактически устранилось от функции гаранта исполнения контрактного права ‹…› Административная власть, со своей стороны, активно использует свой властный ресурс для участия в предпринимательской деятельности ‹…›, соединяя в ее рамках государственные возможности и частный высокорентабельный бизнес, что позволяет им (чиновникам. – Авт.) выводить себя и подконтрольный им бизнес из сферы действия законов конкуренции ‹… › В сфере собственно бизнеса не существует единых для всего экономического пространства и документально оформленных правил ведения операций, которых бы придерживалось подавляющее большинство хозяйствующих субъектов» (Явлинский ГА. Периферийный капитализм: Лекции об экономической системе России на рубеже ХХ-ХХI веков. М., 2003. С. 78-80). Эти констатации во многом подтверждаются эмпирическим материалом (см.: Клямкин ИМ., Тимофеев Л.М. Теневая Россия. М., 2000; Власть, бизнес и гражданское общество. М., 2003).
С другой стороны, в российском бизнес-классе постепенно вызревали и иные установки. Несмотря на то, что приобретение собственности в ходе приватизации, как правило, не было обусловлено особыми личностными качествами и предпринимательскими талантами приобретателей, эффективные собственники в стране появились. Это произошло прежде всего в отраслях, обслуживающих массового потребителя (например, в пищевой), а также в тех, продукция которых пользуется спросом на мировых рынках (главным образом в сырьевых и в металлургии). Иными словами, на развалинах экстенсивной советской экономики стали возникать анклавы интенсивного рыночного хозяйствования, оснащенные западными технологиями и современным менеджментом, а нередко и при участии иностранного капитала.
Можно сказать, что в данном отношении постсоветская Россия тоже восстанавливала преемственную связь с Россией досоветской. В том и другом случае речь идет о мобилизации личностных ресурсов предпринимательского класса на интенсификацию хозяйственной деятельности и технологическую модернизацию. Но в том и другом случае мы сталкиваемся с частичной интенсификацией и локальной модернизацией посредством заимствованных зарубежных инноваций при отсутствии в стране инновационной среды и стимулов для ее возникновения и развития. Причина – одна и та же. Она – в традиционных взаимоотношениях российского бизнеса и российского государства, при которых первый выступает инструментом в руках второго и на роль самостоятельного субъекта, не говоря уже о социальном лидерстве, претендовать не может. В постсоветской же России ситуация усугубляется еще и наследием коммунистической эпохи, доведшей огосударствление экономики до предела и разрушившей юридически-правовые механизмы, которые начали складываться в России Романовых и в определенной степени ограничивали произвол бюрократии по отношению к бизнесу.
Неудивительно, что именно та часть современного предпринимательского класса, которая ощутила готовность и способность быть самодостаточным игроком на рынке, начала тяготиться навязанным коррупционно-теневым союзом с бюрократией и испытывать потребность в правовом порядке. Однако в логику консервативной стабилизации этот запрос не вписывался. Пресекая первую из отмеченных нами тенденций («олигархические» притязания бизнеса, его стремление приватизировать государство), «стабилизаторы» заблокировали и вторую (установку части бизнесменов на освобождение от опеки бюрократии и желание не допустить ее превращения в монопольного и бесконтрольного собственника государства). Но это и означало, что накопленные в предпринимательской среде личностные ресурсы, необходимые для социально-политической и технологической модернизации, не были востребованы.
Таким образом, субъектом инноваций российскому бизнесу в обозримом будущем стать не суждено: при отсутствии правового порядка и сопутствующем дефиците доверия к государству он не будет вкладывать деньги и предпринимательскую энергию в развитие ни тех отраслей, что остались с советских времен, ни новых производств, которых в стране еще нет. Поэтому по-прежнему будет сохраняться устаревшая производственно-отраслевая структура экономики, равно как и слабая конкурентоспособность последней31. Если учесть, что время государственных модернизаций «сверху» в постиндустриальном мире стало навсегда прошедшим, то демобилизация личностного потенциала предпринимательского класса предстанет неосознанным отказом от модернизации как таковой.
Консервативная стабилизация Путина восстанавливала отечественную государственную традицию, в которой частному бизнесу отводилась вспомогательная роль и в которой его статус был заведомо ниже по сравнению со статусом дворянства и бюрократии. Его социальное, а тем более политическое лидерство этой традицией исключалось уже потому, что означало разрыв с ней. Сформировавшаяся при таких обстоятельствах отечественная буржуазия оказалась неготовой к тому, чтобы направить страну по буржуазному, т.е. западному пути развития после обвала самодержавной государственности в феврале 1917 года. Но тогда этому препятствовала и догосударственная, общинно-вечевая культура крестьянского большинства, отторгавшая саму идею частной собственности. В постсоветской урбанизированной России такого рода препятствия отсутствуют, о чем свидетельствует уже то, что
31 Эксперты констатируют, что конкурентоспособность России на мировых рынках поддерживается в основном нефтью, газом, металлами и вооружениями, а внутренняя конкурентоспособность имеет место главным образом на рынке продовольственных товаров (Ясин Е., Яковлев А. Указ. соч. С. 18, 21). При этом экспорт новейших продуктов, например, вычислительной техники, составляет настолько незначительную долю, что официальная статистика, как правило, даже их не выделяет (Там же. С. 14). Исследователи отмечают также, что «низкие темпы модернизации обусловлены недостатком не столько финансовых ресурсов, сколько стимулов деловой активности» (Там же. С. 50).
представители бизнеса даже выигрывали региональные выборы и становились губернаторами. Однако после отмены этих выборов личностные ресурсы предпринимательского класса если и будут востребованы бюрократически-авторитарной «вертикалью власти», то лишь на предписанных ею условиях, т.е. на условиях содействия ее дальнейшему укреплению, а не ее модернизации. Тем более что и выборные руководители регионов вынуждены были к «вертикали» адаптироваться, а влиять на ее трансформацию не могли. В свою очередь, при ее сохранении и укреплении личностные ресурсы не могут быть мобилизованы и на модернизацию экономики. И речь идет не только о ресурсах бизнес-класса, но и о личностном потенциале широких слоев населения.
Едва ли не самое выразительное подтверждение этого – слабое развитие отечественного малого предпринимательства. В данном отношении страна существенно отстает не только от Запада, но и от Восточной Европы: в одной Варшаве, например, столько же малых предприятий, сколько во всей России32. Искать причины такого положения вещей в особенностях национальной культуры россиян, в якобы присущей им органической «нестяжа-тельности» было бы неверно и потому, что около миллиона малых предприятий в России все же существует, и потому, что влияние культуры на поведение людей в разных странах можно зафиксировать только при идентичности условий, в которых им приходится действовать. Между тем условия эти в современной России, в отличие от той же Восточной Европы, таковы, что массовой экономической самодеятельности населения они не благоприятствуют.
Для ведения малого, как и любого другого, бизнеса в России требуются не только личная энергия и предприимчивость, но и капитал неформальных связей с государственным аппаратом. Или, говоря иначе, готовность вступать в коррупционно-теневой союз с его представителями, что увеличивает издержки и создает дополнительные риски, блокирующие развитие малого предпринимательства, приток в него новых людей. О том, что дело обстоит именно так, свидетельствует и вызревший запрос на правовой порядок у многих из тех, кто к сложившимся обстоятельствам сумел приспособиться. Но в бюрократическо-авторитарной системе запрос этот
32 Малое предпринимательство в России: Прошлое, настоящее и будущее / Под общ. ред. Е.Г. Ясина, А.Ю. Чепуренко, В.В. Буева, О.М. Шестоперова. М., 2004. С. 18.
не может получить удовлетворения, а потому и идущие от политической власти заявления о важности для экономики малого бизнеса и призывы к его развитию не могут найти в обществе заинтересованного отклика33.
При таких взаимоотношениях государства и бизнеса невостребованными оказываются и личностные ресурсы большинства наемных работников. И дело не только в том, что отсутствие инновационного климата и экономического роста, за исключением некоторых экспортных отраслей, исключает появление широкого спроса на потенциал высококвалифицированных специалистов-при том уровне оплаты труда, на который они могут претендовать в России, многие из них предпочитают уезжать за рубеж. Дело и в том, что бюрократическая «вертикаль власти» для выполнения своих социальных функций и поддержания своей устойчивости вынуждена облагать бизнес непосильными для него налогами и ограничивать права предпринимателей по отношению к работникам – прежде всего в вопросах найма и увольнения. Тем самым блокируется формирование на предприятиях конкурентной среды и возникает положение, при котором работодатель вынужден законодательные установления обходить и при котором «действительный институциональный фундамент российского рынка труда составляют не столько законы и контракты, сколько различные неформальные связи и практики»34. А это, в свою очередь, означает, что коррупционно-теневой порядок из элитных групп перемещается на нижние этажи общества и становится всепроникающим. Это
33 Политическое руководство страны неоднократно демонстрировало понимание и роли свободного бизнеса, в том числе и малого, в развитии экономики, и тех препятствий, которые стоят на пути этого развития. В выступлениях президента Путина подчеркивалось, что «успех страны в огромной степени зависит от успеха предпринимателя» (Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2003.19 мая), что «у предпринимательства в целом – а малого в особенности – огромное количество претензий, связанных с неоправданным административным давлением», что «коррупция – это ‹…›прямое следствие ограничения экономических свобод» и что «задача государства -создать условия для развития экономических свобод» (Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета.2002.19 апреля). Проблема же, повторим, в том, что бюрократически-авторитарная система к такого рода политическим сигналам невосприимчива, она их отторгает – подобно тому, как отторгала призывы к интенсификации система советская.
34 Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда: мы не как все // Какой рынок труда нужен российской экономике? Перспективы реформирования трудовых отношений. М, 2003. С. 26.
означает, говоря иначе, что протогосударственная имитационно-Правовая культура, унаследованная постсоветской Россией от СССР, консервируется во всех слоях населения и во всех сферах его жизнедеятельности35. Опыт правового поведения, обусловленного соблюдением формально-контрактных принципов и норм, в таких условиях появиться не может, а без него «едва ли возможен не только эффективный рынок труда, но и, шире, – полноценное и работоспособное гражданское общество»36.
Консервативная стабилизация в данном отношении ничего изменить не в состоянии уже потому, что именно эту систему отношений она и укрепляет, замораживая личностные ресурсы развития и в управленческом слое, и в бизнес-классе, и в других общественных группах. Таким образом, после очередной попытки воплотить в жизнь европейский либерально-демократический идеал Россия вернулась на привычный для нее «особый путь». Но такие возвращения никогда не бывают буквальными повторениями. Существенные коррекции имели место и в данном случае, и выше мы попытались некоторые из них зафиксировать. Однако коррекции эти не могли не сказаться и на выборе цивилизационной стратегии – независимо от того, насколько сознательно и последовательно он осуществляется.
35 «Неправовые практики в сфере труда, – отмечает М. Шабанова, – это всего лишь часть неправового пространства, тесно взаимосвязанная с неправовыми отношениями в экономике и политике» (Какой рынок труда нужен российской экономике? С. 119).
36 Капелюшников Р. Комментарий к дискуссии // Там же. С. 121.
Глава 24 На цивилизационном перепутье
Едва ли не отчетливее всего беспрецедентная новизна вызовов и проблем, перед которыми оказалась постсоветская Россия, проявляется в трудностях ее цивилизационного самоопределения. Инициированный еще при Ельцине всероссийский поиск «национальной идеи» можно рассматривать как попытку, скорее всего неосознанную, восстановить давнюю традицию самобытного цивилизационного проектирования, как очередную заявку на обретение цивилизационной самодостаточности. Но уже одно то, что такую идею сформулировать так и не удалось, свидетельствует о глубине переживаемого страной кризиса идентичности. Если прежние отечественные цивилизационные проекты выявляли свою стратегическую нежизнеспособность после того, как выдвигались и начинали реализовываться, то теперь неразрешимые проблемы обозначились уже на стадии самого проектирования.
Конституция 1993 года, независимо от замыслов ее авторов, документировала новую цивилизационную стратегию. От прежних комбинаций силы, веры и закона, воплощенных в соответствующих институтах, в ней не осталось и следа. Она не только декларировала универсализм закона и равенство перед ним, что при отсутствии свойственных советским конституциям ограничительных оговорок блокировало произвольное применение силы. Провозгласив неотчуждаемость и природную первичность человеческих прав и свобод по отношению к государству и одновременно расширив их границы до права избирать главу государства, Конституция лишила прежней политико-идеологической роли и веру. Отбрасывая ее атеистическо-коммунистический вариант, Россия отказывалась и от использования ее религиозной формы в качестве источника легитимации власти. А если учесть, что после многовекового подчинения государству церковь стала от него независимой, то принципиальная новизна постсоветского цивилизационного выбора страны станет очевидной. Отсюда, однако, еще не следует, что остался в прошлом поиск ею своей цивилизационной особости и самобытности. Попытки сформулировать «национальную идею» свидетельствуют о нежелании от такого поиска отказываться. Неудачи же на этом пути лишь обозначили сложность и неподатливость проблемы. Отложив ее решение при Ельцине и продолжая откладывать при Путине, Россия остановилась на цивилизационном перепутье.
Страны Восточной Европы и бывшие советские республики Прибалтики с подобными проблемами не сталкивались. Они изначально ориентировались на интеграцию в современную западную цивилизацию и ее институты – иные «национальные идеи» всерьез не обсуждались уже потому, что не выдвигались. Поэтому многие из них довольно быстро оказались в составе НАТО и Европейского союза, а другие готовят себя к тому же и ждут своей очереди. Постсоветская Россия тоже сделала несколько шагов в этом направлении. Речь идет не только о статусном членстве в «Большой семерке» – клубе семи наиболее развитых стран мира, превращенном после принятия туда России в «восьмерку», но и о вступлении в Совет Европы, а также о признании Москвой обязательными относящихся к ней решений Европейского международного суда по правам человека. Тем самым вектор цивилизационного развития был обозначен достаточно отчетливо. Страна двинулась в западную цивилизацию второго осевого времени, самим этим движением подтверждая, что притязания этой цивилизации на осевой, т.е. глобальный, статус отнюдь не безосновательны. Но то не было и отказом от поиска самобытной альтернативы, который, однако, конкретного воплощения в новом цивилизационном проекте так и не получил.
Этот поиск стимулировался и стимулируется тем, что постсоветская Россия была признана мировым сообществом законной и единственной правопреемницей СССР. Она унаследовала от него статус великой ядерной державы, а вместе с ним – и право на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Это значит, что сохранились предпосылки для воспроизведения прежней державной идентичности. Но последняя, как мы неоднократно отмечали, нуждается в постоянной подпитке военными победами и территориальными приобретениями. Поэтому распад СССР и последующие военные неудачи в Чечне в сочетании с неспособностью государства противостоять идущим из нее террористическим угрозам не могли не сопровождаться и размыванием этой идентичности с сопутствующим ослаблением ее консолидирующего потенциала. Кроме того, сама по себе она никогда, даже во времена военных триумфов, не была равнозначна идентичности цивилизацион-ной, конструирование которой всегда сопровождалось в России, за исключением разве что «греческого проекта» Екатерины II, попытками синтезирования военной силы и веры – религиозной либо светской.
Многие современные российские почвенники убеждены в том, что иного пути у России нет, что она может существовать и развиваться только как православная имперская держава. Однако в современных условиях такой проект даже обосновать непросто, не говоря о возможности его реализации. Ведь предпосылки его воплощения в наши дни еще менее благоприятны, чем в XIX – начале XX века, когда он обнаружил свою стратегическую несостоятельность.
Во-первых, имперско-державная и православная формы государственной идентичности в те времена не были столь ослаблены, как после распада советской империи, успевшей за время своего существования навязать стране атеизм и лишить церковь ее традиционной функции: источником легитимации верховной власти она быть перестала и вернуть ей эту роль в светском конституционном государстве не представляется возможным.
Во-вторых, исчезла прежняя историческая перспектива, даже гипотетическая, лидерства России во всем православном мире как преемницы Византии в результате освобождения единоверцев от турецкого господства и завоевания Константинополя как символического цивилизационного центра. Османское владычество осталось в прошлом, а большинство православных народов ориентированы сегодня на интеграцию в западную цивилизацию и в лидерстве России и опеке с ее стороны потребности не испытывает.
В-третьих, после освобождения от российского (советского) военно-державного влияния славянских стран Восточной Европы и их вхождения в НАТО и Европейский союз лишилась жизненных корней идеология панславизма, призванная в последние десятилетия правления Романовых на помощь идеологии православной. В 1914 году данный проект втянул страну в мировую войну, которая – несмотря на поддержку Англии и Франции – обернулась обвалом государства. Постсоветская же Россия не может вернуться на этот путь в принципе. И потому что никаких предпосылок для цивилизационного единства ни в славянском, ни в частично пересекающемся с ним православном мире сегодня не просматривается. И потому, что военная сила России после распада советской империи заведомо уступает совокупной силе объединенного Запада. Как показали события 1999 года в Югославии, Москва ничего, кроме политико-идеологической риторики, противопоставить ему не в состоянии37.
Сказанное означает, что адаптация прежних самобытных цивилизационных проектов к изменившимся обстоятельствам наталкивается на труднопреодолимые препятствия. Более того, обращение к западному проекту и заимствование его базовых принципов – верховенства закона и первичности прав и свобод граждан по отношению к государству- свидетельствуют о глубоком кризисе самой идеи самодостаточной и альтернативной Западу цивилизации. Потому что недостаточность старых элементов (силы и веры) для цивилизационного проектирования конституционными декларациями о демократическом и правовом государстве отнюдь не компенсируются. Если помнить о том, что фактически российское государство функционирует как имитационно-демократическое и имитационно-правовое, то вывод об отсутствии у России какого-либо цивилизационного проекта вряд ли может быть аргументировано оспорен. Феномен конституционно-выборного президентского самодержавия восполнить это отсутствие не может тоже: оно связывает постсоветскую Россию с Россией советской и досоветской, но уже сам факт его выборности свидетельствует о невозможности воспроизводить традиционную легитимацию единоличной власти комбинированием силы, веры и добавленного к ним с петровских времен, а в советский период снова отброшенного, юридического узаконивания. Если же это невозможно, то тем самым исключается и восстановление ее, власти, былого сакрального статуса.
Размытость цивилизационного качества и неопределенность цивилизационного вектора обнаруживают себя не только во внутренней, но и во внешней политике российского руководства, которая при Ельцине лишь нащупывалась, а при Путине обрела
37 Во время натовских бомбардировок в Югославии, вызвавших резкую и обоснованную критику со стороны официальной Москвы, Ельцин счел нужным напомнить тогдашнему президенту США Клинтону, что Россия – великая ядерная Держава, способная заставить с собой считаться. Однако при сложившемся после распада СССР соотношении сил никаких последствий подобные заявления иметь не могли, как и консолидировавшие большинство российского политического класса призывы принять Югославию в межгосударственный союз России и Белоруссии. В конце XX века православно-славянская цивилизационная альтернатива объединившемуся Западу, в отличие от начала этого столетия, реальное внешнеполитическое воплощение могла получить, повторим, только в риторике.
вполне отчетливые очертания. Она включает в себя сохранение и упрочение военнодержавия и, соответственно, роли России как одного из мировых центров влияния, доминирование ее на большей части постсоветского пространства как лидера экономической и военно-политической интеграции стран СНГ, что должно способствовать и решению первой задачи, при одновременно ориентации на интеграцию в европейское сообщество38. Но им но потому, что политика эта продиктована главным образом прагматическими соображениями и лишена цивилизационной определенности, она оказывается уязвимой и с прагматической точки зрения.
Дело не только в том, что имитационно-демократическая и особенно имитационно-правовая природа постсоветской российской государственности блокирует экономическую интеграцию в Европу. Дело и в том, что сохраняющееся влияние России на постсоветском пространстве оказывается возможным главным образом постольку, поскольку на большей его части утвердились государственные формы аналогичного типа. Но такое влияние может быть лишь ситуативным и не может быть стратегически устойчивым по причине отсутствия у него цивилизационного измерения. Последнее же не сводится к наличию ядерного оружия и к превосходству в военной силе вообще. Оно предполагает либо дополнение силы последовательно проведенным принципом законности, что означает отказ от самобытного цивилизационного проектирования и вхождение вслед за Западом во второе осевое время, либо компенсацию невоплощенности этого принципа верой. Однако над-конфессиональная коммунистическая вера, идеологически скреплявшая советскую империю, успела иссякнуть, а досоветское доминирование православия сегодня невозможно официально санкционировать даже в границах Российской Федерации, не говоря уже о его распространении на другие постсоветские государства.
38 Эти внешнеполитические установки неоднократно провозглашались президентом Путиным. Ссы лаясь на «весь наш исторический опыт», он говорит о том, что «такая страна, как Россия, может жить и развиваться в существующих границах, только если она является сильной державой». Не вызывает у него сомнений и то, что «важнейший внешнеполитический приоритет» России находится в постсоветском пространстве («мы рассматриваем пространство СНГ как сферу наших стратегических интересов»). Вместе с тем «наш с вами исторический выбор» президент видит «в широком сближении и реальной интеграции в Европу» (Послание Президент Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2003. 19 мая).
Современный вызов российскому великодержавию – это вызов именно цивилизационный. И пока ответ на него не найден (а он не найден), зона международного влияния России будет сужаться. Ее политическое столкновение с консолидировавшимся Западом в 2004 году во время президентских выборов в Украине было в первую очередь столкновением цивилизационных принципов и лишь во вторую – геополитических амбиций. Точнее говоря, то был конфликт инерционной державно-имперской установки, которая впервые в отечественной истории предстала неоформленной в какой-либо цивилизационный проект, и установки западной цивилизации на универсальность, т.е. на превращение в глобальную цивилизацию второго осевого времени. Киевская «оранжевая революция», направленная против бюрократической имитации демократическо-правовой избирательной процедуры, обнаружила предрасположенность значительной части не только украинского политического класса, но и украинского общества к тому, чтобы в эту цивилизацию интегрироваться. Тем самым оно заявило и о своей готовности двигаться от протогосударственной культуры к государственной, от протонации – к современной гражданской нации, от имитационно-демократической и имитационно-правовой государственности – к демократической и правовой.
Российское общество такой готовности не демонстрирует. Это позволяет его политическому классу сохранять традиционную державно-имперскую ориентацию, которая, в свою очередь, позволяет ему мыслить и действовать в логике альтернативного Западу цивилизационного проекта даже при невозможности его внятно артикулировать. Поэтому в моменты, когда западное цивилизационное пространство начинает расширяться за счет территорий бывшей советской империи, цивилизационная логика вытесняется геополитической. Так было в конце правления Ельцина, когда в ответ на очередное расширение НАТО с включением в него прибалтийских государств тогдашний министр иностранных дел, а впоследствии премьер-министр Евгений Примаков выдвинул идею тройственного пакта Москва – Пекин – Дели, призванного противостоять «однополярному миру». Так было и во время политического противоборства с Западом по поводу событий на Украине, когда с той же идеей выступил президент Путин. Однако подобного рода геополитические проекты, выдвигаемые против проекта цивилизационного, реализацию которого продолжает осуществлять Запад, заинтересованного отклика у предполагаемых партнеров не находят и лишь оттеняют трудности именно цивилизационного самоопределения России.
Эта ситуация неопределенности, в которой пребывает страна, не позволяет нам говорить об исторических результатах постсоветского периода, как мы делали это в предыдущих частях книги по отношению к другим периодам. Постсоветская эпоха уже имеет собственную историю, но это – история незавершенной современности, и подведение каких-либо итогов, даже предварительных, исключает по определению. Незавершенная современность не задает углов зрения для оценки глубины противоборствующих в ней тенденций. Ретроспективный взгляд позволяет уловить ее своеобразие и новизну по сравнению с предшествовавшим ей прошлым, равно как и ее преемственную связь с ним. Такой взгляд дает также возможность охарактеризовать различные тенденции, наблюдаемые в настоящем, как стратегически перспективные или тупиковые. Но о том, какая из них реально возобладает, смогут рассказать лишь будущие историки.
Российская история и российские почвенники (полемическое заключение)
Вопрос, вынесенный в заглавие книги, может показаться риторическим. С распадом СССР история старой России, ориентировавшейся на расширение и сохранение имперского пространства, завершилась. Поэтому правомерно говорить и о «новом начале» этой истории. И тем не менее вопрос существует. Потому что «новое начало», если оно не сопровождается появлением нового исторического качества, способного обеспечить консолидацию и развитие страны, может оказаться началом временно отложенного дальнейшего распада, накопления его предпосылок.
Такой вариант не исключен, если становление российской государственности будет восприниматься как воспроизведение ее прежних моделей и, соответственно, прежних форм государственной идентичности – православной и имперско-державной – посредством их сочетания. Мы предприняли наш экскурс в отечественное прошлое, чтобы напомнить не только об общепризнанных достижениях России на ее уникальном историческом пути, позволивших ей обрести и поддерживать статус великой державы, но и о том, что впечатляющие успехи на этом пути чередовались с государственными катастрофами, последняя из которых обернулась территориальным распадом. Мы хотели напомнить и о том, что православная и державно-имперская формы идентичности, которые в наши дни пытаются идеологически синтезировать представители российского почвенничества, в реальной истории органичному синтезированию не поддавались; это – апелляция к традиции, в действительности не существовавшей, ее конструирование задним числом. Постсоветские почвеннические проекты, стимулируемые государственно-патриотической идеей «возрождения великой России», кажутся нам бесперспективными в том числе и потому, что даже в прошлом державное величие страны следствием реализации таких проектов никогда не было.
Православной идентичности, консолидировавшей Русь во времена татарского владычества, последняя обязана и освобождением от него, и созданием московской государственности, и расширением контролировавшегося Москвой пространства, и патриотическим сплочением против иноверцев в период первой русской смуты. Однако державно-имперский статус для Московии Рюриковичей оказался недостижимым, в этом отношении «Третьим Римом» она не стала, а попытки Ивана Грозного двигаться в данном направлении закончились разгромом в четвертьвековой Ливонской войне. Не принесли желаемых результатов и опыты первых Романовых по пересадке в отечественную почву военно-технологических достижений Запада при одновременном административно-принудительном укреплении православной идентичности и придании ей имперского звучания посредством унификации богослужения и церковных книг в соответствии с византийским каноном. Православная идентичность ответила на это религиозным расколом. Поэтому трудно понять, что же именно имеют в виду постсоветские почвенники, предлагающие возрождать российскую имперскую державность на духовно-религиозном фундаменте допетровской «Святой Руси».
Показательно, что многие из нынешних идеологов держав-ничества предпочитают отмежевываться от Петра I и Сталина. Этих идеологов можно понять: названные правители утверждали в России не религиозно-православную, а светскую государственность, причем второй из них – откровенно атеистическую. Поэтому и апелляции к их деяниям неизбежно вызывают вопросы, на которые заведомо не может быть убедительных ответов. Но ведь никуда не деться и от того, что именно при Петре I и Сталине были осуществлены беспрецедентные по срокам и методам военно-технологические модернизации и что в истории российской имперской дер-жавности оба они вправе претендовать на ключевые роли. Что касается синтезирования возникшей в петровскую эпоху имперско-державной идентичности с идентичностью православной, то попытки такого рода в XIX и начале XX века вряд ли можно считать успешными с точки зрения поддержания и укрепления великодержавного статуса. После поражения в Крымской войне Россия проиграла еще две – Русско-японскую и Первую мировую, – в результате чего обвалилась в смуту и восстановила утраченные международные позиции уже не благодаря православию, а отказавшись от него в пользу коммунистической идеологии. Так что нашим православным державникам, выступающим от имени отечественной государственной традиции, полезно было бы пояснять, какую традицию и каких ее конкретных персонификаторов они имеют в виду. Мы же видели одну из своих задач в том, чтобы показать историческую беспочвенность этой разновидности постсоветского почвенничества.
Более последовательной, на первый взгляд, выглядит позиция тех его представителей, которые усматривают единственный путь к сохранению страны и ее идентичности в реализации нового «мобилизационно-идеократического проекта» и открыто признают преемственную связь своих политико-идеологических построений с державным пафосом и государственным опытом первого российского императора и первого коммунистического генерального секретаря. Но и в этом случае, как мы уже говорили, возникают безответные вопросы, причем не только относительно прошлого, но и о его соотносимости с современными вызовами.
Во-первых, петровский прогрессизм и сталинский авангардизм плохо сочетаются – по указанной выше причине – с апелляциями к православной идентичности, которую приверженцы данной версии почвенничества тоже закладывают в основу выдвигаемых ими идеологических проектов. В реальной истории, повторим, державно-имперская идентичность возникала поверх религиозно-православной и независимо от нее, как при Петре I, или даже вопреки ей, как при Сталине.
Во-вторых, военно-технологические модернизации Петра и Сталина осуществлялись посредством милитаризации жизненного уклада элит и населения, т.е. организации повседневности по военному образцу. Первый из них завершил большой милитаризаторский цикл, истоки которого восходят к московским Рюриковичам, а второй прервал почти законченную послепетровскую демилитаризацию и ввел страну в новый такой цикл, сменившийся после смерти Сталина новой демилитаризацией. Если опыт принудительных модернизаций можно повторить и в современных условиях, если мыслим третий милитаризаторский цикл, то его возможность нуждается в обосновании, которого постсоветские державники пока не представили. Если же это всего лишь идеологическая дань прошлому, то данная разновидность почвенничества утрачивает какой-либо актуальный смысл, а значит – и проектное содержание.
В-третьих, петровская и сталинская модернизации не преодолевали отечественную традицию экстенсивного развития, а лишь переводили ее на новый технологический уровень. Это были форсированные разовые заимствования зарубежных достижений, позволявшие ликвидировать военно-техническое отставание от Запада, но не создававшие благоприятной среды для стимулирования инноваций внутри страны, а потому не страховавшие от новых отставаний. Особенность же переживаемого сейчас исторического момента заключается в том, что прежними методами очередное отставание, ставшее очевидным еще в советскую эпоху, ликвидировать нельзя. Поэтому за последние полвека ни нового Петра, ни нового Сталина на отечественной политической сцене не появилось. Острота проблемы несколько вуалируется наличием ядерного оружия, гарантирующего безопасность и государственный суверенитет, и сырьевыми ресурсами, обеспечивающими выживание населения. Но на современные стратегические вызовы ракеты с ядерными боеголовками и нефтегазовые запасы ответить не позволяют, а чем могут помочь в данном отношении призывы постсоветских почвенников к возрождению российской державно-государственной традиции и что конкретно оно означает, остается неясным. Потому что речь идет о традиции экстенсивного развития (другой не было), потенциал которого был исчерпан еще во времена СССР, что и стало одной из главных причин его распада.
Мы попытались показать, как эта традиция возникла и модифицировалась на протяжении столетий, какими достижениями обязана ей страна и какие она давала сбои. Мы попытались показать также, что инерция экстенсивности тем сильнее, а ее последствия – тем катастрофичнее, чем значительнее ее возможности. Потому что эти возможности блокируют формирование не только хозяйственной культуры, ориентированной на инновации, но и культуры политической, ориентированной на рациональность и эффективность государственных решений. Они не стимулируют ни осознание общего интереса (кроме интереса защиты от внешних военных угроз), консолидирующего верховную власть, элиту и население, ни создание правовых механизмов, упорядочивающих отношения между ними и позволяющих сочетать индивидуальную свободу с государственной дисциплиной и ответственностью.
Экономический и культурный взлет Киевской Руси наглядно продемонстрировал, как благоприятные возможности экстенсивного развития могут быть использованы, а ее распад, начавшийся задолго до монгольского нашествия, свидетельствовал о том, что при таком способе развития государственность оказывается беспомощной, когда эти возможности иссякают. В данном отношении история той эпохи все еще поучительна: проблема, оказавшаяся неразрешимой для древнего Киева, не была решена ни допетровской Москвой, ни петровским и послепетровским Петербургом, ни Москвой советской, доставшись по наследству современной России. При почвенническом взгляде на отечественное прошлое, сосредоточенном главным образом на достижениях страны и ее былом величии, эта проблема не фиксируется вообще. Мы же полагаем, что без ее решения величие России рискует навсегда былым и остаться. Поэтому она и предопределила в значительной степени наш угол зрения на российскую историю.
Установка на экстенсивность, доминировавшая в киевский период, еще больше укрепилась в результате освоения московскими князьями монгольского опыта. Другой установке взяться было неоткуда – Золотая Орда, как и Киевская Русь, ее после себя не оставила. Новая централизованная государственность, сложившаяся под монгольским патронажем, увеличив ала политические возможности экстенсивного развития и, вместе с тем, сама эволюционировала под его непосредственным воздействием. Будучи развитием за счет приращения территории и населения, экстенсивность означает в пределе перманентную войну, ее превращение в обыденное состояние. Война же, в свою очередь, может быть успешной только при жесткой «вертикали власти» с единоначальником на ее вершине. Если учесть, что после освобождения от монгольской опеки Москва была озабочена не только присоединением новых территорий, но и защитой от внешних угроз тех, что уже находились под ее контролем, то феномен отечественного самодержавия не покажется всего лишь следствием политической невменяемости и аномального властолюбия Ивана Грозного, а предстанет закономерным проявлением вполне определенной исторической логики. Поэтому многие досоветские отечественные почвенники, в отличие от большинства постсоветских, находили в себе мужество относиться к инициатору опричнины с почтением, а такие державники, как Петр I и Сталин, считали его своим предшественником.
При последовательно экстенсивной модели развития субъектность элит и населения не укрепляет, а ослабляет государственность. Свободная игра частных интересов и их противоборство лишают ее устойчивости, что предопределяет стремление правителей к монополизации власти. Домонгольская эпоха с ее княжескими междоусобицами, боярско-дружинными вольностями, противостоянием князей и вечевых институтов и обозначившимися на этом политическом фоне самодержавными амбициями Андрея Боголюбского – наглядное тому подтверждение. Авторитарно-православный государственный идеал, вызревший под монгольским владычеством, обладал гораздо большим консолидирующим потенциалом, чем авторитарно-вечевой идеал Киевской Руси. Но оставшийся для нее камнем преткновения вопрос о сочетании индивидуальной свободы и государственной дисциплины был снят в Московии не посредством правового упорядочивания свободы, а посредством ее полного свертывания. Он был снят благодаря тому, что частные интересы утратили легитимность, будучи всецело подчиненными персонификатору интереса общего – и идеологически («беззаветное служение» государю-отцу как земному наместнику Бога), и силовым устрашением
Современная почвенническая мысль, ищущая точки опоры в российской истории, этой крепостнической тенденции, пустившей глубокие корни во времена Московской Руси, внимания обычно не уделяет. Постсоветским почвенникам важно лишь то, что к тем временам восходит формирование отечественной государственной идентичности. Нас же интересовали не только исторические результаты данного периода (хотя и они тоже), но и заложенные в нем предпосылки будущих исторических тупиков, выбраться из которых стране не удалось до сих пор.
Русское православное самодержавие было столь же закономерным продуктом экстенсивности, как и турецкий мусульманский султанизм, влияние которого на московских князей у историков не вызывает сомнений. И, подобно султанизму же, оно могло воспроизводить и укреплять себя только при условии, что установка на экстенсивное развитие успешно реализуется в военных победах и, соответственно, в новых территориальных приобретениях. Отличие же последующих судеб России и Османской империи было предопределено тем, что первая раньше столкнулась с идущим из Европы вызовом в виде военно-технологических инноваций, которые при замо-роженности личностных ресурсов элиты и населения, неизбежной в условиях несвободы, в необходимых масштабах страна оказалась не в состоянии даже заимствовать. Авторитарно-православный идеал и сопутствовавшие ему механизмы «беззаветного служения» были приспособлены для обслуживания исторической инерции, а не потребностей исторической динамики. Ответом на этот новый вызов и стала уникальная петровская модернизация, сопровождавшаяся сменой авторитарно-православного государственного идеала религиозно нейтральным авторитарно-утилитарным.
Государственный утилитаризм Петра вывел страну из прежних тупиков экстенсивности, а российскую государственность – из средневекового состояния, придав ей светские формы. Но то не был прорыв к органическому интенсивному саморазвитию – петровское самодержавие, обновленное и укрепленное заимствованными достижениями Запада, оказалось для этого столь же мало приспособленным, как и допетровское. То был, повторим, перевод экстенсивности на более высокий технологический уровень. Поэтому политическое наследие Петра, как и его последователя Сталина, принадлежат истории, а не современности. Нам кажется устаревшей не только их почвенническая апологетика (потому что их опыт форсированного принудительного державостроителъства в нынешних условиях невоспроизводим), но и их почвенническая критика (потому что разрушенные ими традиции невосстановимы). Актуально сегодня не то, что и как они делали и сделали, а то, что происходило после них. Происходило же после них одно и то же – демилитаризация жизненного уклада, в результате чего мирная жизнь обретала самостоятельную ценность и переставала уподобляться военной, и трансформация государственных идеалов, в которых появлялись либеральные и демократические составляющие. Происходила, говоря иначе, европеизация самих этих идеалов.
Постсоветские почвенники склонны интерпретировать послепетровские и послесталинские трансформации и их неудачи как эмпирическое подтверждение беспочвенности либеральных и демократических проектов в России. Однако трудно понять, в чем именно они находят историческую и современную почву для реализации более близких им православно-державных, державно-имперских, православно-языческих, евразийских и других идей, альтернативных либеральным и демократическим.
Единственной такой идеей, получившей в стране воплощение за последние три столетия, была коммунистическая: все остальные либо продвигали Россию по пути европеизации, либо приостанавливали это движение политическими подмораживаниями и идеологическими коррекциями в старомосковском духе, не отменяя, однако, общего европейского вектора. В свою очередь, радикальный коммунистический поворот и в самом деле стал следствием неукорененности или, если угодно, беспочвенности в культурном коде народного большинства тех идеалов индивидуальной свободы и защищаемых законом прав личности, в том числе и права собственности, которые начали входить в русскую жизнь со времен Петра III и Екатерины II. Они были отторгнуты народной «почвой», потому что последняя долгое время консервировалась в догосударственном состоянии: европейские идеалы элиты накладывались на архаичный общинно-вечевой идеал крестьянских низов, не находя с ним точек соприкосновения и доводя до крайних пределов проходящий через всю отечественную историю раскол между государственной и догосударственной культурами.
Понять причины, предопределившие отторжение Россией либерально-демократического проекта, – это, повторим, сегодня важно и актуально. Однако их понимание, на наш взгляд, не предоставляет весомых доводов для обоснования проектов, ему альтернативных. Потому что жизненную почву, питавшую такие проекты XX век оставил в прошлом.
Русские славянофилы XIX столетия, искавшие идеал в допетровской старине и имевшие перед глазами ее конкретные проявления в виде общинного жизненного уклада русских крестьян, хорошо представляли себе, на какой социальной почве возводились их идеологические конструкции. Большевики представляли себе это намного хуже, но и их идеал безгосударственного будущего сомкнулся на время с догосударственной вечевой традицией, выплеснувшейся на политическую поверхность в виде советов. Что касается постсоветских почвенников, то социокультурная реальность, на которую они опираются, пока остается тайной. Поэтому, возможно, они и ограничиваются указаниями на беспочвенность либерально-западнического проекта в России, не обременяя себя доказательствами почвенности и жизнеспособности собственных идей.
Под каким бы углом зрения эти идеи ни рассматривались, они выглядят и внеисторичными, и внесовременными. Они внеисторичны, потому что догосударственная культура крестьянской России, питавшая прежние проекты самобытного «особого пути», перемолота коммунистической индустриализацией и урбанизацией. Они внесовременны, потому что не содержат ответов на вызовы информационной эпохи. В российском прошлом, к которому обращена почвенническая мысль, такие ответы найти невозможно. Доминировавшая в нем установка на экстенсивность себя исчерпала, а вопросом о том, как соединить отечественную государственную традицию, к данной установке приспособленную, с переходом к интенсивной модели развития, нынешние почвенники даже не задаются.
Их идеологический пафос – это не пафос конструктивных стратегических решений, а негативный пафос отторжения либерально-демократического проекта, что закономерно привело к очередному конструированию образа внутреннего врага: иным способом «конкретизировать» почвеннические абстракции невозможно. Да, либерально-демократический проект в его постсоветском воплощении, как и в досоветском, заинтересованного и благодарного отклика у большинства населения не нашел. Но эта эмпирическая данность сама по себе не делает почвеннический пафос более жизненным. Дело в том, что между двумя историческими воплощениями либерально-демократического проекта есть существенная разница, принципиально важная для понимания и оценки перспектив дальнейшей эволюции страны. Разница заключается в том, что про-тогосударственная городская культура, унаследованная постсоветской Россией от коммунистического периода, альтернативы европейскому политическому идеалу, в отличие от догосударственной культуры сельских локальных миров, уже не содержит. Противостоять выхолащиванию этого идеала в результате подмены свободы и регулирующей ее правовой законности их имитациями она оказалась не в состоянии. Но имитации – это не альтернатива тому, что они имитируют, а свидетельство ее отсутствия.
Протогосударственная городская культура является прото-либеральной и протодемократической, абстракции законности и права в ней уже закрепились, с чем любая власть, претендующая на легитимный статус, вынуждена считаться. Однако долговременно устойчивую государственность такая культура создать не позволяет, а позволяет выстроить лишь государственность ситуативную, когда бюрократически-авторитарная (и уже по одной этой причине неизбежно коррумпированная) «вертикаль власти» возводится посредством административного и пропагандистского блокирования либерально-демократических интенций общества при сохранении идеологического контакта с ним с помощью либерально-демократической риторики. Но это и есть ни что иное, как почвеннический проект, адаптированный к особенностям протогосударственной культуры. Поэтому многие нынешние почвенники относятся к нему и его реализации благосклонно. Есть, правда, среди них и его критики, отдающие себе отчет в уязвимости и бесперспективности создаваемой в соответствии с данным проектом государственности. Но чем конкретно заменить ее в городской стране с разрушенной традиционной культурой, они не говорят, а нередкие в их среде ссылки на опыт послевоенной Японии или современного Китая, где такая культура сохранилась, позволяют предполагать, что сказать им в общем-то и нечего.
Мы же со своей стороны находим достаточно оснований утверждать, что стратегической альтернативой нынешней ситуативной государственности может быть только современная правовая государственность либерально-демократического типа, подконтрольная гражданскому обществу. Мы полагаем также, что любая другая будет удерживать страну в исторической колее экстенсивности, равнозначной в XXI веке стагнации и деградации. Но ориентация на правовую государственность – это ориентация на обретение и закрепление новой цивилизационной идентичности. Речь идет о сознательном выборе в пользу европейской или, шире, западной цивилизации второго осевого времени.
Такой выбор не означает ни утраты государственного суверенитета, ни подчинения интересам Запада, чем пугают себя и других постсоветские почвенники. Он не означает даже непременного вступления в международные структуры типа НАТО или Европейского союза. Строго говоря, интеграция в европейское (западное) цивилизационное целое предполагает всего-навсего последовательное жизневоплощение тех правовых принципов, которые записаны в действующей российской Конституции. Если данную задачу не считать приоритетной, если на первый план выдвигать поиск каких-то других «национальных идей», призванных обеспечить России особое место и особый статус в современном мире, то эффект, в конечном счете, окажется (и уже оказывается) прямо противоположным: система, которая не следует провозглашенным ею принципам, а лишь имитирует их соблюдение, стимулов для развития не имеет. Геополитическая логика, подчиняющая себе мышление почвенников39, вуалирует беспрецедентную остроту вопроса о цивилизационном самоопределении, с которым столкнулась Россия. Но при его игнорировании «нового начала», понимаемого как обретение конкурентоспособного исторического качества, ожидать не приходится.
Формирование европейской идентичности не означает и девальвации ее прежних отечественных форм – ни религиозной, ни державной, хотя с утратой последней ее имперской компоненты придется примириться. Интеграция Греции в европейское сообщество не помешала грекам сохранить их православную идентичность.
39 Это проявляется и в отношении к истории, о чем свидетельствует позиционирование идеологов почвенничества в период, предшествовавший празднованию 60-летия Победы. Все они обнаружили неготовность отделить победу СССР над гитлеровской Германией от послевоенной сталинской геополитики, рассматривая то и другое в одном ряду.
Не помешает это и русским. Более того, утверждение в многоконфессиональной России европейской цивилизационной идентичности и европейских цивилизационных стандартов помогло бы консолидировать населяющие ее народы, не прибегая ни к реанимации давно исчерпавших себя прежних методов (провозглашение православия доминирующей государственной религией), ни к идеологическому новаторству (русский этнический национализм). Реализация такого рода проектов, все больше воодушевляющих постсоветских почвенников, – это «новое начало», ведущее к углублению трещин раскола по конфессиональным и этническим линиям, а тем самым и к очередной катастрофе. Что же до державной идентичности, сохраняющейся благодаря ядерному статусу и ресурсной самодостаточности страны, то освоение европейского цивилизационного качества ее не ослабит. Напротив, открываемые этим качеством возможности интенсивного развития создадут дополнительные условия для ее укрепления.
Правда, это будет уже державная идентичность внутри западной цивилизации, не претендующая на самобытную альтернативу ей. Но ведь такая претензия, которая при отсутствии собственного цивилизационного стандарта заведомо нереализуема, России ничего не дает и привлекательности в глазах других народов, в том числе на постсоветском пространстве, не добавляет. Скорее, все происходит наоборот. Потому-то и трудно понять, на каком основании нынешние почвенники считают себя более озабоченными судьбой страны и ее величием и более достойными называться патриотами и «государственниками», чем приверженцы либерально-демократических идеалов и ценностей.
Таким основанием может быть только осознанное или неосознанное, проговариваемое вслух или умалчиваемое представление о том, что государство и его международный вес являются высшей и первичной ценностью, а личность с ее правами и свободами – производной и вторичной. Это представление вполне соответствует отечественной государственной традиции, к которой апеллирует почвенническая мысль. Но данная традиция была продуктом и инструментом экстенсивного развития, а вопросом о том, как ее совместить с переходом к интенсивной модели, наши почвенники, повторим, предпочитают не задаваться. Между тем вопрос этот давно уже стал достоянием массового сознания, трансформировавшись в нем в недоумение относительно того, почему в такой богатой стране, как Россия, люди остаются такими бедными.
Не проявляют почвенники заметного интереса и к тому, что на протяжении последних полутора досоветских столетий российская политическая традиция претерпевала существенные изменения: идея самоценности государства постепенно, не без откатов и попятных движений, дополнялась идеями гражданских прав и свобод и верховенства закона. Главные вехи на этом пути – Указ Петра III о вольности дворянства40, жалованные грамоты Екатерины II, Манифест об освобождении крестьян и другие преобразования Александра II, Октябрьский Манифест 1905 года, созыв Государственной думы и столыпинские реформы. Это не значит, что досоветская Россия стала Европой, в которую сегодня предстоит лишь «вернуться». Это значит, что имела место ее европеизация, со временем углублявшаяся, но не успевшая завершиться. Поэтому и обретение европейской идентичности представляет собой не разрыв с прошлым, не начало нового цикла с нулевой исторической отметки, а восстановление преемственной связи с вполне определенной и отчетливо обозначившейся тенденцией.
Однако такое восстановление не может быть сведено к простому перекидыванию словесных идеологических мостов из настоящего в прошлое и обратно. Оно предполагает развитое историческое сознание, в котором присутствует не только установка на преемственность с указанной тенденцией, но и понимание того, как и почему она возникла, на какие традиции накладывалась и насколько органично с ними сочеталась. Равным образом в этом сознании должно быть отфиксировано и понимание причин, обусловивших обрыв в 1917 году актуализируемой тенденции, а также причин ее возрождения в современных условиях. Наконец, важно составить ясное представление о том, чем эти условия отличаются от прежних, стали ли они более благоприятными, чем были, для утверждения европейской идентичности и какова природа нынешних препятствий ее укоренению – тоже в отличие от прошлых.
40 Искать истоки отечественной либеральной традиции в более ранних временах не кажется нам продуктивным по той простой причине, что до Указа Петра III узаконивания сословных и индивидуальных прав Россия не знала. Вместе с тем демократическая традиция на Руси зародилась гораздо раньше, но утверждалась либо в локальном пространстве (вече), либо в форме совещательных институтов при московских государях (Боярская дума, Земские соборы). Идеологи почвенничества имеют все основания указывать на самобытные особенности демократии в Московской Руси. Мы же не хотели бы забывать и о том, что ее самобытность заключалась в ее управляемости.
Наше путешествие в отечественную историю продиктовано желанием внести свой посильный вклад в формирование такого сознания. И один из основных выводов, к которому мы пришли, заключается в том, что трудности реализации либерально-демократического проекта в России сегодня обусловлены уже не столько ее культурно-типологическими отличиями от Запада, как это было в начале XX века, сколько стадиальным отставанием от него при непринципиальности сохранившихся отличий. В протогосудар-ственной городской культуре нет тех барьеров, которые блокировали европеизацию и ее распространение на народное большинство в культуре догосударственной. Если же либерально-демократический проект конца XX века был населением снова отторгнут, то причины надо искать не столько в «неготовности народа», сколько в особенностях постсоветской элиты, пытавшейся удерживать общество в атомизированном «объектном» состоянии. Ведь реализация политического проекта, ориентированного не просто на демонтаж коммунистического режима и плановой экономики, а на утверждение либерально-демократической правовой государственности, в постсоветской России даже не начиналась. Резкий поворот от коммунистического огосударствления к легитимации частных и групповых интересов не сопровождался, как и в начале XX века, согласованным движением к осознанию общего интереса не как альтернативы им, а как их равнодействующей. Решение застарелой российской проблемы снова оказалось отложенным.
В результате протогосударственная культура никаких импульсов для трансформации в государственную не получила, а стремление различных элитных групп опереться на нее в борьбе за приватизацию общего интереса, подменяя политику политтех-нологиями, не могло не сопровождаться ее архаизацией и разложением. Но государственность, опирающаяся на подобную «почву», обречена оставаться ситуативной – по крайней мере в краткосрочной перспективе. Вместе с тем ее неизбежная неэффективность рано или поздно обусловит ее трансформацию, направление которой будет зависеть от того, как далеко зайдет разложение культурной «почвы». Социологи фиксируют, в частности, заметный рост националистических настроений среди русского большинства, что может сопровождаться выбросом на политическую авансцену лидеров радикально-популистского толка, апеллирующих не к европейской, а к этнической идентичности. Историческая цена, которую платят народы за такие эксперименты, хорошо известна, как известны и их исторические результаты. К тому же в условиях информационной эпохи и экономической глобализации они уже нигде не повторялись в силу их бессмысленности. Поэтому есть основания полагать, что неизбежная негативная реакция на ситуативную государственность будет сопровождаться распознанием ее имитационной природы и возрождением, а не отторжением тех либерально-демократических идеалов, приверженность которым эта государственность имитирует. Вопрос лишь в том, как быстро сложится в стране соответствующая этим идеалам и консолидированная ими политическая элита.
Обретение Россией европейской идентичности, ее интеграция в западное цивилизационное целое соответствует ее стратегическим интересам не меньше, чем интересам самого Запада. Его цивилизационный проект, претендующий на универсальность, т.е. выступающий как проект второго осевого времени, по мере своей реализации сталкивается с контрвызовами со стороны незападного мира, в котором проживает пока большинство человечества. И хотя реальных конкурентов после самоисчерпания альтернативного коммунистического проекта у него не осталось, с идеологической альтернативой в лице исламского фундаментализма, адаптирующего к современным условиям религиозный универсализм первого осевого времени, он уже столкнулся.
Ответа на этот новый вызов Запад пока не нашел, а попытка превентивного силового насаждения демократии в Ираке не получила консолидированной поддержки даже внутри самого западного сообщества, так как явилась отступлением от его цивилизацион-ных принципов и ценностей. Новизна мировой ситуации, ставшая очевидной после сентябрьских террористических актов 2001 года в Вашингтоне и Нью-Йорке и еще более рельефно проявившаяся в ходе иракского конфликта, делает Запад предельно заинтересованным в интеграции такой страны, как Россия. Но при нынешнем качестве ее государственности интеграция невозможна, а вопрос о готовности самой России осознать смену этого качества как собственный стратегический интерес, остается открытым. Более того, ее столкновение с Западом во время президентской избирательной кампании 2004 года в Украине свидетельствует о доминировании в российской политической элите геополитической логики над цивилизационной. Или, говоря точнее, о доминировании геополитической логики, лишенной какого бы то ни быяо цивилизацион-ного измерения вообще.
Эта логика консолидирует и все течения постсоветской почвеннической идеологии. В поисках аргументации ее разработчики и приверженцы имеют возможность апеллировать не только к имперской государственной традиции и ее самобытности. В их распоряжении – богатое интеллектуальное наследство, оставленное предшествующими поколениями отечественных почвенников, указывавших на несовершенство западной цивилизации и прогнозировавших кризисы, с которыми ей не справиться. В их распоряжении, помимо этого, и мнения крупных современных западных мыслителей, полагающих, что уже в XXI веке Запад исчерпает ресурсы саморазвития. Возможно, эти прогнозы не беспочвенны. Но признание их таковыми ставит Россию перед дилеммой: либо начать, упреждая закат Запада, поиск иной, более перспективной модели развития, либо интегрироваться все-таки в западную цивилизацию, внутри нее встречать ее грядущие кризисы и преодолевать их вместе с ней и на основе ее достижений, а не при их отсутствии.
Второй вариант представляется нам более надежным. Хотя бы потому, что первый, будучи уже неоднократно опробованным, собственное цивилизационное качество обрести России так и не помог. Нам кажется, пришло время подвести итоги и задуматься о перспективности дальнейшего движения по историческим маршрутам, на которых даже добытые дорогой ценой выдающиеся победы не страхуют от последующих катастроф. Задумавшись же об этом, мы и написали книгу о российской истории.


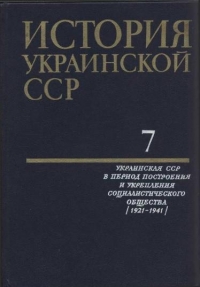

Комментарии к книге «История России: конец или новое начало?», Игорь Григорьевич Яковенко
Всего 0 комментариев