Россия в войне 1941-1945
Корреспондент газеты «Санди таймс» и радиокомпании ВВС (Би-би-си) А. Верт находился в СССР с июля 1941 по 1946 год, а потом по собственным впечатлениям, документам и другим первоисточникам написал эту, по его словам, «человеческую историю». Впервые книга вышла в США в 1964 г., затем в Англии, Франции, ФРГ и других странах. Как там считали, она «открыла глаза» западным читателям на подлинные события, происходившие на Восточном фронте и в России. «Я делал все, что было в моих силах, чтобы рассказать Западу о военных усилиях советского народа», - отмечал Верт, имея в виду свою корреспондентскую деятельность. Эти слова можно отнести и к его книге.
На русском языке она выходила в 1967 г, небольшим тиражом и с того времени не переиздавалась, стала библиографической редкостью.
Авторизованный перевод с английского.
Александр Верт
Авторизованный перевод с английского.
Alexander Werth. RUSSIA AT WAR 1941-1945
Предисловие к русскому изданию
Всю Великую Отечественную войну советского народа я провел в Советской стране, поэтому, когда мне исполнилось шестьдесят лет, я острее, чем когда-либо, почувствовал, что должен написать эту книгу - прежде всего как долг и выражение признательности советскому народу. Именно советский народ вынес на себе основную тяжесть Второй мировой войны; именно он потерял в ней 20 миллионов[1] людей. Надо напомнить об этом Западу - ведь у многих там память коротка. К их числу относится, например, президент США Джонсон: в своей речи по случаю 20-й годовщины победы союзников над Германией он даже не упомянул о жертвах, которые принес для общей победы Советский Союз. А если говорить только о человеческих жертвах, то Америка потеряла во Второй мировой войне в сорок раз меньше людей, чем Советский Союз.
У его предшественника, Кеннеди, память была лучше. 10 июня 1963 г. он сказал:
«Во всей истории войн еще не было страны, которая выстрадала бы больше, чем Россия во время Второй мировой войны.
Не меньше двадцати миллионов людей было убито. Многие миллионы домов и крестьянских дворов были сожжены или разграблены. Третья часть (европейской) территории страны, включая почти две трети ее основных промышленных районов, была превращена в пустыню».
Нечего и говорить, что столь тяжкие потери оставили глубокий след в жизни Советского Союза и именно они, нравится это западным политикам или нет, определяли курс внешней политики Советского правительства после войны. Недоверие советских людей к Германии и к любой стране, которая помогает ей снова стать великой военной державой, остается очень сильным. Ведь в СССР нет, пожалуй, ни одной семьи, которой фашистское нашествие не коснулось бы самым непосредственным и чаще всего самым трагическим образом. Память о 1941-1945 гг. и теперь свежа в каждом советском человеке старшего возраста, а молодому поколению постоянно рассказывают и напоминают в книгах, кинофильмах, радио- и телевизионных передачах о том, что выстрадала страна и какую борьбу пришлось ей вынести для того, чтобы сначала выстоять, а потом завоевать победу.
Было бы пустым занятием строить сейчас догадки, что произошло бы с СССР, Англией и США в 1941-1945 гг., если бы они не объединились в своей решимости сокрушить нацистскую Германию. Может быть, это и был «странный союз» (а именно так и назвал его в конце войны генерал Джон Р. Дин, возглавлявший военную миссию США в Москве), может быть, после того, как дело было сделано, он и должен был неизбежно распасться, несмотря на официальный договор о двадцатилетнем союзе, который СССР и Англия подписали в 1942 г., и другие благие решения военного времени. Но что бы члены «Общества Джона Берча» и другие политические психопаты ни болтали сегодня насчет того, что мы-де сражались «не на той стороне», мы до сих пор должны говорить: «Слава тебе, Господи, за этот “странный союз”».
В 1940-1941 гг., в течение года, Англия боролась с Гитлером почти без посторонней помощи. И также почти без посторонней помощи воевал и СССР в период с июня 1941 до конца 1942 г. Для каждой из этих стран угроза нацистского завоевания была огромной. Англия выстояла в 1940-1941 гг., Советский Союз выстоял в 1941-1942 гг. Но даже много месяцев спустя после Сталинграда Сталин по-прежнему заявлял, что нацистскую Германию можно разгромить не иначе как общими усилиями Большой тройки.
Еще одна причина, по которой я взялся за эту книгу, заключается в том, что молодое поколение на Западе очень мало знает о тех днях. Французское радио провело опрос среди некоторой части молодежи на тему о Второй мировой войне, и довольно многие ответили, например: «Гитлер? Не знаю, кто это». Когда несколько лет назад я преподавал в одном американском университете, то убедился, что многие студенты-первокурсники имеют лишь очень смутное представление о Гитлере, Сталине и Черчилле. Но имеет ли даже большинство взрослого населения на Западе достаточно ясное представление о том, как, какой ценой была достигнута победа над нацистской Германией? Естественно, что англичане интересуются главным образом военными усилиями Англии, американцы - военными усилиями Соединенных Штатов и интерес этот поддерживается в них множеством выходящих в свет мемуаров английских и американских генералов. Но в целом авторы этих мемуаров склонны затушевывать тот важный факт, что не кто иной, как русские, говоря словами Черчилля, сказанными в 1944 г., «выпотрошили германскую армию». В силу исторических и географических причин случилось так, что действительно именно Советский Союз вынес самое тяжелое бремя в войне против нацистской Германии и что именно благодаря его борьбе были спасены миллионы жизней англичан и американцев. И во время войны как Америка, так и Англия отчетливо это сознавали. «Англия охвачена волной национальной признательности [к СССР]», - говорил в 1942 г. английский историк Бернард Пэре. Аналогичные чувства открыто высказывались и в более официальных кругах. Так, 21 июня 1942 г. Эрнест Бевин заявил:
«Вся помощь, какую мы смогли оказать, невелика, если сравнить ее с титаническими усилиями советского народа. Наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать о прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа».
Теперь я сомневаюсь, что даже дети современников Бевина, не говоря уже о внуках, испытывают подобные чувства. И я надеюсь, что этот мой «учебник истории» напомнит им о некоторых вещах, которые имел в виду Бевин.
Надо добавить, разумеется, что советские люди во время войны прекрасно отдавали себе отчет в том, что члены Большой тройки несут «неравные жертвы». «Малый второй фронт» (высадка в Северной Африке) был открыт только в конце 1942 г., а «большой второй фронт» - лишь летом 1944 г. Эти с примесью холодка чувства, которые народные массы СССР испытывали во время войны по отношению к союзникам, являются одной из тем, к которой я не раз буду возвращаться в своей книге.
Что представляет собой эта книга? Ее ни в коем случае нельзя назвать официальной историей войны. И это тем более не военная история, не история военных операций. Правда, поскольку тема книги - Советский Союз в годы войны, читатель найдет в ней, конечно, ряд глав, посвященных важнейшим военным операциям. Но, рассказывая об этих операциях, я по мере возможности избегал касаться подробностей военных действий, которые могут интересовать только военных специалистов, а старался нарисовать общую картину драматического развития военных событий, концентрируя зачастую внимание лишь на таких деталях, которые оказывали прямое моральное воздействие на войска обеих сторон, например на таких фактах, как огромное превосходство немцев в авиации и в автоматическом оружии в 1941-1942 гг., или превосходство советских войск в артиллерии и минометах под Сталинградом, или, наконец, появление в Красной Армии со второй половины 1943 г. сотен тысяч американских автомашин. Я старался также рассматривать все важнейшие военные события на советско-германском фронте в их общем значении как для СССР, так и для всей международной обстановки, потому что ход войны очень заметно влиял не только на моральное состояние Советской страны, но и на межсоюзнические отношения. Не случайно, например, мы наблюдали активизацию советской внешней политики после Сталинграда, так же как не случаен и тот факт, что Тегеранская конференция состоялась не до, а после советской победы под Курском, которая с военной точки зрения была настоящим поворотным пунктом в войне - даже в большей степени, чем битва под Сталинградом, которая, по словам немецкого историка Вальтера Герлица, имела скорее характер «политико-психологического поворотного пункта».
Эта книга представляет собой в гораздо меньшей степени историю военных действий, чем человеческую историю, а отчасти также и политическую историю войны. Мне кажется, что одним из главных обстоятельств, которые давали мне основание написать книгу, было то, что я там был. За исключением лишь первых месяцев 1942 г., я находился в Советском Союзе весь период Отечественной войны, и что меня интересовало больше всего, так это поведение, реакция советского народа перед лицом как поражения, так и победы. В страшные дни 1941-1942 гг. и на протяжении следующих двух с половиной лет тяжело и дорого доставшихся побед меня никогда не покидало ощущение, что то была подлинно народная война. Сначала это была война народа, поднявшегося против намного превосходящих сил врага (а в 1941-м, так же как отчасти и в 1942 г., немцы обладали страшной ударной силой), чтобы отстоять свою родину и собственное существование, а потом - война неагрессивного в душе народа, но теперь разъяренного и решившего доказать врагу свое военное превосходство. Сознание того, что это была их собственная война, было в общем одинаково сильно как у гражданского населения, так и у солдат. Несмотря на то что жизненные условия были очень тяжелы в течение всей войны, а в некоторые периоды - поистине ужасны, люди работали так, как никогда прежде им не приходилось работать; работали иной раз до того, что падали и умирали. Несомненно, и в армии, и среди гражданского населения бывали моменты паники и деморализации - я расскажу и об этом. И тем не менее дух подлинной патриотической преданности и самопожертвования, проявленный советским народом за эти четыре года, имеет мало подобных примеров в человеческой истории, а история осады Ленинграда (и в меньшем масштабе Севастополя) является вообще единственной в своем роде.
На Западе некоторые спрашивали иногда у меня, как Россия могла вести и выиграть эту титаническую народную войну в условиях жесткой власти Сталина. Но народ сражался, и он сражался прежде всего, чтобы защитить «самого себя», то есть свою родину; а у Сталина было достаточно здравого смысла, чтобы с самого начала понять, что это прежде всего война отечественная. В трудные дни 1941 г. он не только прямо провозгласил, что народ сражается в этой войне за Россию и за свои национальные традиции, пробудив тем самым в советских людях чувство национальной гордости и чувство задетого национального самолюбия, но и сумел добиться того, что его признали национальным вождем. Было бы, разумеется, слишком большим упрощением считать (как считают некоторые), что это была «национальная» или даже «националистическая» война, и ничего больше. Нет, в этой национальной, народной войне советские люди сражались также за свою, советскую власть.
Я достаточно жил на свете, чтобы помнить Первую мировую войну: там, с одной стороны, тоже можно было видеть патриотизм солдат, но царский режим, с другой стороны, был и в экономическом, и в организационном отношении совершенно бессилен и не мог одержать победу, хотя тогдашняя германская армия, сражавшаяся на двух огромной протяженности фронтах (в России и во Франции), представляла для России куда меньшую опасность, чем гитлеровские захватчики, бросившие в 1941 г. на Восток всю свою военную мощь и фактически державшие ее там вплоть до 1944 г. Промышленность в России 1914-1917 гг. была не в состоянии снабдить армию всем необходимым, и русские войска несли несравненно более крупные людские потери, чем германские.
Конечно, и Красная Армия в 1941 г. (а иной раз и в 1942 г.) ощущала кое в чем страшные нехватки, но советский строй за период, прошедший с 1928 г., создал мощную промышленную базу для ведения войны, и те две с половиной пятилетки, которые СССР успешно выполнил, позволили ему организовать оборону против чужеземного захватчика. Правда, огромной важности промышленные районы в европейской части Советского Союза в 1941 г. были оккупированы немцами, но опять-таки советский строй, Советское государство, партия совершили в этих условиях великолепнейший организаторский подвиг, сумев в разгар германского вторжения эвакуировать значительную часть промышленности на Восток. Без мощной промышленной базы на Востоке и без этой эвакуации промышленности СССР потерпел бы поражение. Очень характерно также то, что, хотя Германия и подвластные ей страны производили во время войны больше угля, стали и других важнейших материалов, чем Советский Союз, советский строй, советская организация обеспечивали лучшее использование имеющихся ресурсов, чем это было у немцев[2].
Отношение к советской власти и к Сталину во время войны представляет собой, конечно, лишь одну из многочисленных сторон психологии советского народа, о которых я буду говорить в этой книге. Я старался также установить путем наблюдений, как советский народ относился к немцам и к западным союзникам. Отношение к немцам определялось отчасти непосредственным опытом, отчасти же пропагандистскими установками, которые партия и правительство давали на различных этапах войны. В ходе изложения я расскажу о накапливавшейся в народе ярости против гитлеровцев, о специфически антинемецкой (скорее, чем антифашистской) пропаганде Эренбурга и других (пропаганде, которая сразу прекратилась в апреле 1945 г., когда Красная Армия вела боевые действия на территории Германии) и о том, как гитлеровская оккупация вызвала еще большую ненависть к врагу как у населения оккупированных территорий, так потом и у победоносной Красной Армии, когда она стала освобождать эти территории. И все же в отношении к немцам и к каждому из них в отдельности у советских воинов не было никакой национальной, ни тем более «расовой» ненависти. Даже в Сталинграде, помню, один сержант так отозвался о двух немецких военнопленных, находившихся у него под охраной: «Да ничего, люди как люди…» Вспоминаю также, с каким спокойным достоинством толпы москвичей смотрели в июле 1944 г. на проходивших по улицам города пленных немцев - их было 57 тысяч.
Отношение к западным союзникам также было весьма неодинаковым. Недоверие к Западу было настолько велико, что у советских людей вырвался вздох облегчения в 1941 г., когда стало известно, что Англия не пошла на сговор с Гитлером. Но когда дела на Восточном фронте стали идти все хуже и хуже, скоро начали раздаваться требования об открытии второго фронта, а летом и осенью 1942 г. они сопровождались бранью по адресу союзников. В большой мере эта ярость подогревалась советской прессой. Хотя и без этого, впрочем, ярость вспыхнула бы. Красная Армия терпела на фронте большие неудачи, а союзники «ничего не делали». К лету 1943 г., особенно с прибытием на фронт крупных поставок по ленд-лизу, настроения заметно изменились, и в советской авиации в особенности западные союзники приобрели явную популярность. На советских летчиков большое впечатление производили, например, массированные налеты на Германию англо-американских бомбардировщиков. Они понимали также, что авиация Англии и США сковывает значительную часть немецкой авиации на Западе. Тем не менее даже в лучшие времена русские очень болезненно реагировали на факт «неравенства жертв».
Я пробыл в СССР все военные годы и почти каждый день записывал в свой дневник обо всем, что видел и слышал. Среди иностранных корреспондентов я, можно сказать, находился в привилегированном положении; я родился в Петербурге и говорю по-русски, как на родном языке. Поэтому я мог свободно и неофициально беседовать с тысячами людей, военных и гражданских. Я находился в особом положении еще и потому, что был не только корреспондентом крупной английской газеты «Санди таймс», но, что самое главное, корреспондентом Би-би-си, которая каждое воскресенье передавала мри «Русские комментарии», собиравшие у приемников рекордное число - 12 или 13 миллионов слушателей в Англии, не считая еще многих миллионов в оккупированной Европе и в других странах; я делал все, что было в моих силах, чтобы рассказывать Западу правду о военных усилиях советского народа[3].
Я был рад оказывать эту услугу советскому народу, и советские власти ценили мою работу, а потому создавали исключительно хорошие условия, чтобы я мог посещать фронтовые районы, освобожденные территории и встречаться как можно с большим числом людей. Бывало, что организовывались поездки небольшими группами по пять-шесть корреспондентов, в которых, естественно, принимал участие и я, но я часто ездил и один. К числу таких поездок, самых достопамятных для меня, было мое пребывание в Ленинграде во время блокады, поездка в Воронеж сразу после его освобождения, неделя, которую я провел на Украине в марте 1944 г. с войсками 2-го Украинского фронта, которыми командовал Маршал Советского Союза И.С. Конев. Я был на Смоленском фронте в сентябре 1941 г., в районе Сталинграда в январе и в самом Сталинграде в феврале 1943 г., потом в Харькове (дважды в 1943 г.), в Орле (в августе 1943 г.), в Киеве, Одессе и Севастополе после их освобождения в 1944 г., в Румынии и Польше тоже в 1944 г. и, наконец, снова в Польше и в Германии в 1945 г. Я не говорю уже о поездках в тыловые районы - в Тулу, Горький и другие города.
Во время этих поездок я имел возможность встречаться со многими знаменитыми генералами, в том числе с генералом В.Д. Соколовским в Вязьме трагической осенью 1941 г.; с генералами В.И. Чуйковым и Р.Я. Малиновским в районе Сталинграда; с К.К. Рокоссовским в Польше и, наконец, с маршалом Г.К. Жуковым в Берлине.
И потом - жить в Москве все эти военные годы было тоже исключительно интересно. Как на фронте, так и в Москве я пользовался каждой возможностью, чтобы поговорить с людьми. Так, разговаривая с солдатами, рабочими, интеллигентами и другими, я мог видеть, как менялись настроения в народе от некоторой растерянности 1941-1942 гг. к оптимизму и ликованию 1943 г. и дальше, несмотря на многочисленные личные потери, лишения и огромные трудности, которые испытывало большинство населения. В Москве я познакомился со многими представителями советской интеллигенции - с писателями К.М. Симоновым, А.А. Сурковым, И.Г. Эренбургом, М.А. Шолоховым, А.А. Фадеевым, Б.Л. Пастернаком; композиторами С.С. Прокофьевым и Д.Д. Шостаковичем; знаменитыми кинорежиссерами В.И. Пудовкиным, С.М. Эйзенштейном и А.П. Довженко и многими другими… Естественно, во время войны я имел также возможность встречаться с высшими руководителями партии и правительства, а в сентябре 1946 г. состоялось мое известное интервью со Сталиным.
Все эти контакты позволяли мне составлять широкую картину советского общественного мнения - в Москве, на фронте, в только что освобожденных районах, - и я думаю, мне не нужно извиняться за то, что я уделил такую большую часть этой книги моим личным наблюдениям за жизнью и настроениями в Советском Союзе в годы войны.
Приступая к написанию этого рассказа о Советском Союзе в годы войны, было бы, однако, совершенно недостаточно полагаться только на мои личные наблюдения, как бы богаты они ни были, и на материалы прессы этого времени. В первые месяцы германского нашествия можно было догадываться об очень многих вещах, но дать точное объяснение, почему через два месяца немцы были уже на подступах к Ленинграду, а за три с половиной месяца дошли до окрестностей Москвы, было практически невозможно. В эти месяцы, когда, по выражению Пастернака, «осень шагом испытаний шла», я разделял это общее оцепенение и растерянность, охватившие советский народ. Много было такого, что оставалось неясным во время войны, но немало таких темных мест было освещено потом, в огромном количестве книг, которые вышли в Советском Союзе, особенно после XX съезда партии. Всю доступную мне литературу я внимательно изучил, и она мне во многом помогла. В первую очередь я должен назвать шеститомную «Историю Великой Отечественной войны Советского Союза». Первый том этого издания лучше всякого другого источника объясняет, например, многие военные, экономические, политические и психологические причины неподготовленности Красной Армии к отражению германского нападения 22 июня 1941 г. Я широко использовал также ряд прекрасно написанных личных воспоминаний некоторых советских военачальников, таких, как А.И. Еременко, И.В. Болдина, И.И. Федюнинского и других, давших описание трагических первых дней войны. Огромное количество фактического материала как о начальном периоде войны, так и о ее последующих этапах я почерпнул из сотен других книг, которые прочел, в частности из многих книг о партизанах и о советском подполье в оккупированных районах. Или возьмем Ленинград, эту беспримерную эпопею города, в котором почти третья часть трехмиллионного населения умерла от голода, но который не сдался врагу. В своей книге «Ленинград» («Leningrad», London, 1944) я дал по-человечески правдивый, полный и точный отчет о том, что происходило там во время голода. Но тогда я, конечно, не мог располагать точными статистическими данными, скажем, о количестве продовольствия, которое имелось в городе к началу германской блокады, или о его количествах, доставленных в разные периоды в город по льду Ладожского озера. Сейчас точные сведения об этом можно найти в таких исключительно ценных работах, как книги Д.В. Павлова и А.В. Карасева о блокаде Ленинграда. С какой бы меркой к ним ни подходить, это первоклассные исторические документы. Использовал я и еще десятки книг, посвященных другим важным эпизодам войны - трудному лету 1942 г., севастопольской трагедии, Сталинградской битве, партизанским операциям в различные периоды войны, освобождению Польши, битве за Берлин и др. Большую познавательную ценность имеют также некоторые недавно опубликованные романы. «Живые и мертвые» Симонова - это фактически лучший, хотя и запоздавший, репортаж о трагических первых месяцах войны из всех, какие были написаны.
Я довольно подробно касаюсь также дипломатической истории войны, так как некоторые эпизоды ее я имел возможность наблюдать непосредственно. Мои частые беседы со Стаффордом Криппсом в 1941 г. и с Кларком Керром в более поздний период войны очень мне пригодились для уяснения англо-советских отношений. Встречался я во время войны и со многими американскими дипломатами, а из французов самыми ценными для меня собеседниками были Роже Гарро, представитель генерала де Голля в Москве, и генерал Э. Пети, французский военный атташе, оба искренние друзья Советского Союза. Вообще же, как увидит читатель, отношение дипломатов к Советскому Союзу было самое различное. Даже в американском посольстве были люди, которые симпатизировали Советскому Союзу (генерал Филипп Фэймонвил, например) и всегда, даже в самые трудные моменты, верили в конечную победу Красной Армии, но были и «пессимисты», только и занимавшиеся предсказанием всяких «катастроф». Так, один американский военный «эксперт» (генерал Микела) расценил окружение 6-й германской армии под Сталинградом как… «гениальный стратегический ход» немцев!
Эта книга уже вышла во многих странах и на многих языках. Впервые опубликованная в Англии и США в конце 1964 г., она потом была издана во Франции, в Западной Германии, Японии, Италии, Голландии, Мексике, Бразилии и других странах. Всюду она встретила горячий прием у читателей. Только в Западной Германии комментарии были кисло-сладкие, а некоторые неонацисты пришли в настоящую ярость от того, что я якобы возвел «клевету» и «ложь» на вермахт.
Но я особенно счастлив тем, что моя книга - горячая и искренняя дань признательности героическому советскому народу теперь будет опубликована в Советском Союзе. Хочу также поблагодарить генерал-майора Е.А. Болтина, с которым я впервые познакомился еще в страшное лето 1941 г., за долгие часы труда, которые он посвятил редактированию и подготовке к печати русского издания книги…
Александр Верт
Париж, июль 1966 г.
(обратно)Часть первая. Прелюдия войны
Глава I. Гитлер у власти. Мюнхенский сговор
Последний президент Веймарской республики, престарелый фельдмаршал фон Гинденбург 30 января 1933 г. назначил 43-летнего фашистского демагога Адольфа Гитлера канцлером Германской империи. Несмотря на личную антипатию, которую Гинденбург, прусский юнкер и старый солдат, питал к этому австрийскому выскочке и авантюристу, ему пришлось-таки назначить его главой правительства, так как Гинденбурга понуждало к этому его ближайшее окружение, выражавшее замыслы и желания юнкеров и крупных промышленников. Назначению Гитлера канцлером предшествовала сложная закулисная борьба между различными кликами, добивавшимися власти в Германии, которая разгорелась после выборов в рейхстаг в ноябре 1932 г. Хотя с 1930 г. нацистская партия неуклонно набирала силы и укрепляла свои позиции, ноябрьские выборы 1932 г. явились первым признаком того, что влияние нацистов начало наконец падать. Они по-прежнему оставались крупнейшей партией в Германии, но на этот раз потеряли на выборах 2 миллиона голосов - общее число проголосовавших за них избирателей уменьшилось с 13 до 11 миллионов. Вскоре после выборов канцлер фон Пален, занимавший этот пост с середины 1932 г., был по ряду причин смещен, а на его место назначен министр обороны генерал фон Шлейхер. Но это назначение не устраивало ни нацистов, ни германские монополии. Во-первых, Шлейхер попытался расколоть нацистскую партию, оторвав от нее «фракцию Штрассера»; во-вторых, он начал заигрывать с социал-демократами и профсоюзами, что не на шутку встревожило господ - хозяев крупной промышленности; наконец, он решил немного пошантажировать юнкеров и самого Гинденбурга, использовав для этого такое средство, как разоблаченный скандал по делу о «помощи Востоку» (о невозвращенных государственных субсидиях, которые были выплачены терпевшим банкротство юнкерским поместьям в Восточной Германии), - скандал, в котором был непосредственно замешан сын президента Оскар фон Гинденбург. На последнем этапе своего недолгого пребывания на посту канцлера Шлейхер, видимо, носился также с мыслью об установлении военной диктатуры.
Но из всех этих противоречивых планов Шлейхера ничего не вышло. Хотя после ноябрьских выборов нацисты довольно пессимистично смотрели на свое будущее, руку помощи подал им соперник Шлейхера Франц фон Папен, который не только был видным представителем западногерманских монополий, но и пользовался очень большим доверием лично Гинденбурга. После выборов нацисты крайне нуждались в деньгах и Папен добился у крупных капиталистов согласия восполнить их обедневшую казну. Судьба Шлейхера была решена, когда Папен и Гитлер встретились в Кёльне, в доме банкира Курта фон Шредера, который еще раньше оказывал финансовую помощь нацистам.
Итак, по инициативе Папена Гитлер был назначен канцлером. Он возглавил правительство, в котором из одиннадцати членов только трое были нацисты: сам он, канцлер, министр внутренних дел Фрик и министр без портфеля Геринг. Папен стал вице-канцлером и в этой роли всячески убеждал Гинденбурга, что назначение Гитлера главой правительства ничего, кроме хорошего, не даст; ведь фактически он будет «пленником» консервативных министров - ставленников крупной индустрии. Но если пост Фрика был, пожалуй, чисто декоративным, то министр без портфеля Геринг был одновременно назначен министром внутренних дел Пруссии и таким образом получил в свое распоряжение прусскую полицию. А она стала очень опасным орудием в его руках.
Заботясь лишь о том, чтобы власть была распределена между нацистами и ими самими «в должной пропорции», германские консерваторы, такие, как Папен и Гутенберг (министр экономики), совершенно сбросили со счетов то психологическое воздействие, которое оказало на значительную часть немецкого народа назначение Гитлера главой правительства. Так как «посвятил» его на пост канцлера сам Гинденбург, этот не пользовавшийся хорошей репутацией и легко впадавший в истерику демагог теперь в глазах немцев стал «респектабельной» фигурой.
Уже с 1929 г. Германия переживала острый экономический кризис. Все надежды на то, что Веймарская республика сможет разрешить экономические проблемы страны (а в ней все еще насчитывалось свыше 6 миллионов безработных), окончательно испарились; ни при одном из трех правительств - Брюнинга, Папена и Плейхера - никаких серьезных экономических улучшений не произошло, а те едва заметные признаки экономического выздоровления, которые в последнее время начали появляться (и которые, кстати, и явились причиной потери нацистами голосов на ноябрьских выборах), еще не стали настолько явственными, чтобы ослабить народное недовольство в сколько-нибудь значительной степени. Назначение канцлером Гитлера возымело огромный психологический эффект. Людям казалось, что для Германии началась совершенно новая эра. Нацисты уже много лет вели свою ядовитую пропаганду, и немецкий народ в общем был уже хорошо знаком с главными темами гитлеровской «Майн кампф».
Первые три месяца 1933 г. мне случилось провести в Берлине, где я временно замещал корреспондента «Манчестер гардиан» Ф.А. Войта. Помню тот день, когда я впервые увидел Гитлера в штаб-квартире нацистов в отеле «Кайзергоф», помню выражение торжества на его лице. А вечером в тот же день я стал свидетелем массовой истерии - не только многих тысяч штурмовиков, когда они маршировали в своих коричневых рубашках, с зажженными факелами, а Гитлер, выбросив руку вперед, приветствовал их с балкона, но и, пожалуй, даже еще более шумной массовой истерии сотен тысяч немцев, громкими криками приветствовавших своего «фюрера». В разговорах многих немцев, особенно из мелкой буржуазии, можно было услышать смехотворные эпитеты, вроде «величайший человек в мире» или «германский Мессия», которые, однако, произносились со всей серьезностью.
В какого рода режим выльется гитлеровское «коалиционное правительство», ждать пришлось недолго. Став прусским министром внутренних дел, Геринг создал гестапо, и короткий переходный период «нормального» правления длился при Гитлере всего какой-нибудь месяц. В конце февраля произошел поджог рейхстага и нацистский террор приобрел гигантские масштабы.
На выборах после поджога рейхстага - а проводились они в атмосфере террора и запугивания - нацисты собрали 17 миллионов голосов, но даже и эта цифра составляла еще только 44 процента общего числа избирателей. У социал-демократов все еще было свыше 7 миллионов голосов, а у коммунистов - около 5 миллионов (они потеряли 1 миллион, и это было очень немного, если учесть, что нацистский террор обрушился в первую голову на них). Вместе со своими союзниками из партии Немецкий национальный союз нацисты уже имели в рейхстаге простое большинство, но для отмены конституции требовалось большинство в две трети (Гитлер пока делал вид, что он действует в рамках конституции). Но, воспользовавшись декретом о чрезвычайном положении, который Гинденбург подписал сразу же после поджога рейхстага, Гитлер сумел обеспечить себе в рейхстаге и абсолютное большинство, просто арестовав всех депутатов-коммунистов, а также и некоторых других, главным образом социал-демократов из тех, что были более строптивы. Многие социал-демократы, еще остававшиеся в рейхстаге (а он заседал теперь в опере Кролль), пытались вначале оказывать какое-то сопротивление, но уже через два месяца, 19 мая, присоединились к нацистам, одобрив лицемерную речь Гитлера по вопроса внешней политики. Но это пресмыкательство им не помогло; их партия была разогнана, как и все другие партии, в том числе даже Немецкий национальный союз, который привел Гитлера к власти, и 14 июля национал-социалисты провозгласили себя единственной законной партией в Германии. Профсоюзы нацисты тоже прибрали к своим рукам. Меньше чем через год «унификация» («Gleichschaltung») Германии была завершена. В самой нацистской партии оставалось еще «радикальное», «антикапиталистическое» крыло, которое возглавлял Рем, но в июне 1934 г. нацисты с обычной для них жестокостью расправились над его руководителями и оно было ликвидировано.
Как смотрел на Германию внешний мир в 1933 г.? Пожар рейхстага, последовавший за этим террор, бойкот еврейских магазинов, объявленный (1 апреля) по всей стране, - небольшое начало, которое привело потом к Освенциму и другим лагерям смерти как средству «окончательного решения» еврейского вопроса, - все это произвело тяжелое впечатление на внешний мир. Именно поэтому, дав втайне, за закрытыми дверями, самые твердые заверения офицерскому корпусу в том, что он скоро перевооружит Германию, Гитлер в то же время попытался вначале «успокоить» другие страны, демагогически предложив им полностью разоружиться, но опять выдвинув при этом принцип полного равенства Германии с другими странами. В то время его, видимо, не могла не беспокоить большая озабоченность, которую установление нацистского режима в Германии создало и на Востоке и на Западе; известно, что Пилсудский сначала предложил Франции, пока не поздно, начать превентивную войну против Германии. Возможно, что Гитлер знал об этом.
Мое собственное впечатление, которое я вынес о Германии в эти месяцы истерии непосредственно до и после пожара рейхстага, было таково, что эта объятая фанатизмом страна скоро, очень скоро вырастет в угрозу для международного мира. Хотя Гитлер вел себя вначале осторожно в отношениях с другими странами, тема о том, что Германия должна «сбросить с себя версальские кандалы», уже изо дня в день варьировалась в германской прессе; всем стало ясно, что впереди ремилитаризация Германии и пересмотр (мирным или другим путем) ее «версальских» границ. Следует отметить, разумеется, что «пересмотр» Версальского договора был начат еще до Гитлepa. В 1930 г., задолго до срока, установленного договором, французские войска были эвакуированы из Рейнской зоны, а при правительствах Папена и Шлейхера Германии были сделаны особенно важные уступки. Германия фактически прекратила выплату репарационных платежей, а в пресловутой резолюции от 11 декабря 1932 г., которую Франция подписала под нажимом Англии и США, был наконец провозглашен принцип «равноправия» Германии, означавший, само собой разумеется, и военное равенство. Хотя в эту декларацию и был включен ряд «гарантийных» пунктов, главное было в том, что принцип равенства получил в ней официальное признание, а это как раз очень помогло Гитлеру, когда, придя на смену Шлейхеру, он стал добиваться для Германии права перевооружиться. Чтобы обеспечить себе полную свободу рук, поскольку Франция и Англия стали теперь оказывать некоторое сопротивление ее политике, нацистская Германия в октябре 1933 г. покинула конференцию по разоружению в Женеве и вышла из Лиги наций. Характерно, что менее чем через год Советский Союз, наоборот, вступил в Лигу наций.
Хотя пожар рейхстага, нацистский террор, разгул антисемитизма и «легальная» отмена демократического режима в Германии создали довольно-таки тревожные настроения за границей, я нашел Францию (куда я возвратился из Германии в мае 1933 г.) в исключительно благодушном расположении духа. Несомненно, в том, что произошло, премьер Даладье видел потенциальную опасность, но он уже тогда стал подумывать об установлении личного контакта с Гитлером. Для начала он послал на свидание с ним одного из своих доверенных лиц - Фернана де Бринона (в будущем откровенного коллаборациониста и предателя). Результатом этой встречи было появившееся в «Матэн» интервью Гитлера Бринону - восторженно «пацифистское» заявление, полное заверений в самой горячей дружбе к Франции. Это интервью, опубликованное по указанию Даладье, произвело успокаивающее - если не сказать полностью дезориентирующее - воздействие на французское общественное мнение, которое до тех пор с крайним подозрением смотрело на все, что происходит в Германии.
Гитлеризм к этому времени уже пустил корни и в самой Франции. Если фашистский режим Муссолини в Италии, существовавший уже более 10 лет, не оказал большого влияния на внешний мир, то этого нельзя сказать о гитлеризме. Во Франции не только среди правых, но даже и среди «левых» начали возникать всякого рода полуфашистские или фашиствующие организации и группы. Летом 1933 г. была создана отколовшаяся от социалистической партии Блюма так называемая неосоциалистическая партия, лидеры которой Деа и Марке выбросили девиз: «Порядок, власть, нация». Еще ранее созданная группировка «Аксьон франсэз» в 1933 г. становилась все более крикливой в своей пропаганде и все более откровенно фашистской. Активизировались и другие такого же сорта организации, как, например, «Огненные кресты» полковника де ля Рока. Эти и некоторые другие, более мелкие профашистские организации 6 февраля 1934 г. выступили открыто, воспользовавшись крупными «антипарламентскими» беспорядками, которые вызвало разоблачение аферы Ставиского. Но французский народ дал тогда решительный отпор этим вылазкам доморощенных фашистов, и в результате в 1935 г. был создан Народный фронт. Характерно, однако, что из всех этих фашистских и профашистских партий и лиг только две были открыто прогитлеровскими: небольшая организация «франсистов» и более крупная, так называемая Французская народная партия (ППФ), лидером которой являлся бывший коммунист, ренегат Жак Дорио; эта последняя, впрочем, усилилась и стала более активной несколько позже, в 1937-1938 гг. Но уже тогда во всех этих партиях и группировках можно было распознать «предтеч» будущей вишистской идеологии («Аксьон франсэз», «Огненные кресты» и др.) и прямых пособников нацистов в годы войны - коллаборационистов («франсисты», ППФ Дорио, «неосоциалисты» Деа).
Как относились правительства Англии и Франции к нацистской Германии? Можно сказать, что в период с 1933 г. до начала войны в 1939 г. на Западе был только один государственный деятель, который правильно понял природу гитлеризма и готов был пойти на решительные меры для предотвращения угрозы. Это был французский националист старой школы Луи Барту, занимавший с февраля 1934 г. пост министра иностранных дел Франции. Но в октябре того же года он вместе с югославским королем Александром был убит в Марселе. Барту уже в то время намечал фактически создание «великой коалиции» против Германии, участниками которой, кроме Франции, должны были стать ее друзья и союзники в Восточной Европе, а также, что самое главное, Советский Союз. Первоначально Барту предложил создать так называемое «Восточное Локарно», но Германия и Польша отказались в нем участвовать. Также по инициативе Барту тридцать членов Лиги наций пригласили Советский Союз вступить в Лигу наций. Советские руководители, так же как и Барту, прекрасно понимали, какую опасность представляет нацистская Германия, и они энергично поддерживали Барту. К несчастью, Барту натолкнулся на препятствия, которые создавала не только Англия, где его планы создания коллективной безопасности расценивались как попытка «окружить», а значит, «спровоцировать» Германию, но также и Польша, где Пилсудский начал уже идти на сближение с Гитлером. Тем не менее планы Барту могли воплотиться в жизнь, если бы он не пал жертвой гитлеровских наемников - участников хорватской националистической фашистской организации усташей. В подготовке убийства Барту активную роль играл германский военный дипломат в Париже Шпейдель.
После убийства Барту министром иностранных дел Франции Стал Пьер Лаваль. Вскоре после того, как он вступил на этот пост, мне удалось однажды встретиться и побеседовать с ним. Мне хотелось узнать, намерен ли он, подобно своему предшественнику, добиваться принятия и проведения в жизнь плана коллективной безопасности при участии Советского Союза. Это была памятная встреча. «Все это очень хорошо, - раздраженным тоном сказал он мне, - все эти разговоры о Лиге наций, о коллективной безопасности, но (и тут он, повернувшись к карте Европы, ткнул пальцем в большое коричневое пятно в середине - Германию) как вы можете рассчитывать на мир в Европе, если мы не договоримся сначала вот с ними?»
Как уже было сказано, Германия демонстративно вышла из Лиги наций осенью 1933 г. И Англия, и Франция прореагировали на это исключительно вяло. Может быть, больше всего поражала примирительная позиция таких «левых» английских газет, как «Дейли геральд» и «Ньюс кроникл», чьи ведущие обозреватели У.Г. Юэр и Верной Бартлетт (последний выступал также по Би-би-си) рекомендовали терпение и вообще доказывали, что Германия имеет полное право требовать равенства и возможности перевооружиться[4]. Найдя в этом - и многом другом - себе поощрение, Германия продолжала нарушать военные статьи Версальского договора и в конце концов открыто их отвергла. Это произошло в марте 1935 г. В начале того же года состоялся Саарский плебисцит и Лаваль (чего не сделал бы Барту) решил ничем не препятствовать тому, чтобы Германия добилась нужных для нее результатов голосования; в итоге, не без помощи нацистских угроз, 90 процентов участников плебисцита высказались за воссоединение с Германией. После этого Гитлер заверил Францию, что у него больше нет никаких притязаний на французскую территорию, и, хотя тут сквозил намек, что. у него есть зато притязания на Востоке, Лаваля это вполне удовлетворило.
После передачи Саара Германии Англия и Франция настолько уверовали в «мирные заверения» Гитлера, что очень слабо реагировали на изданный Гитлером 16 марта 1935 г. декрет о введении в Германии всеобщей воинской повинности, на создание им полумиллионной армии (для начала), а также военно-воздушных сил.
Обе они заявили несколько пустопорожних протестов, и на этом дело кончилось. На состоявшейся вскоре после этого конференции в Стрезе с участием Англии, Франции и Италии Муссолини тоже «осудил» Гитлера; этой дешевой ценой он купил себе свободу рук в Эфиопии, которую тогда же предоставили ему Англия и Франция. А потом, без предварительной консультации с Францией и не сообщив об этом Лиге наций, английское правительство заключило с Германией военно-морское соглашение, по условиям которого последняя могла иметь военно-морской флот общим тоннажем до 35 процентов тоннажа английского флота. Так Англия в одностороннем порядке отменила и военно-морские ограничения, которые налагал на Германию Версальский договор. Более того, по этому же договору Германии разрешалось строить подводные лодки - что Версальский договор полностью ей запрещал - общим тоннажем до 45 процентов тоннажа английского подводного флота.
Это англо-германское военно-морское соглашение, подписанное за спиной Франции, неблагоприятно отразилось потом на англо-французских отношениях, и, когда после вторжения войск Муссолини в Эфиопию Англия высказалась за принятие санкций против Италии, Франция, заботясь о сохранности «единого фронта», сколоченного в Стрезе, не поддержала этого благого намерения Англии спасти престиж Лиги наций.
После гибели Барту ни Англия, ни Франция не проявляли большой заинтересованности в улучшении отношений с Советским Союзом. Тем не менее 2 мая 1935 г. в Париже был подписан договор о взаимопомощи между Советским Союзом и Францией. Вскоре после этого Лаваль решился наконец и на поездку в Москву, где состоялись переговоры и было подписано советско-французское коммюнике. Но было совершенно ясно, что сделал он это со многими задними мыслями; для Лаваля это отчасти был предвыборный трюк, и поэтому к договору не было приложено никакой военной конвенции. Лаваль не спешил с передачей пакта на ратификацию в парламент, и это было сделано лишь после падения правительства Лаваля в январе 1936 г. Только 27 февраля, при правительстве Сарро, франко-советский пакт был окончательно ратифицирован. Гитлер же только и ждал этого предлога, чтобы после этого фактически разорвать Локарнский договор, предусматривавший демилитаризацию Рейнской зоны.
7 марта 1936 г. германские войска вступили в Рейнскую зону. Франция никак не ответила на эту кражу того, что она считала самой надежной гарантией своей безопасности и поистине краеугольным камнем всей своей системы союзов, и этот факт означал начало конца ее роли ведущей в Европе военной державы. Старик Сарро, премьер-министр, выдавил из себя несколько смехотворных угроз, что Франция, мол, не потерпит, чтобы германские пушки были нацелены на Страсбургский собор, но, вместо того чтобы предпринять что-то дельное, он спешно направил своего министра иностранных дел Фландена в Лондон для консультаций с английским правительством. По Локарнскому договору англичане обязаны были выступить в поддержку Франции в случае такого вопиющего нарушения Версальского договора, каким была ремилитаризация Рейнской зоны, но вместо этого они стали советовать Франции воздержаться от какой-либо военной акции. Гитлер продолжал клясться в своей вечной дружбе к Франции в речах и интервью, которые он давал представителям французской прессы, а та всегда была готова ему услужить[5]. Французское правительство, в большинстве не желавшее что-либо предпринимать независимо от Англии, ограничилось платоническими протестами и подачей жалобы в Совет Лиги наций. Французский генеральный штаб, в котором мнения тоже разделились, разъяснил правительству, что если оно хочет пойти на военное вмешательство в Рейнской зоне, чтобы выбросить из нее германские войска, то для этого потребуется частичная мобилизация. Французское правительство не готово было идти так далеко.
Во Франции были в то время некоторые военные эксперты и политические деятели (как, например, Поль Рейно), которые уже давно доказывали, что у Франции нет армии, которая соответствовала бы ее внешней политике. Среди них был и будущий генерал Шарль де Голль. В 1934 г. де Голль, в то время полковник, опубликовал книгу под названием «За профессиональную армию» (на которую из широкой публики мало кто обратил внимание), в которой он выступал за сформирование мощных танковых ударных частей, доказывал, что французская армия, состоявшая из плохо обученных призывников, малопригодна для будущей войны и будет вряд ли способна оказать помощь французским друзьям и союзникам в Восточной Европе (Чехословакии, Польше, Югославии, Румынии, а потом и Советскому Союзу), и вообще осуждал оборонительную стратегию Франции, возлагающую все надежды на линию Мажино, которую, как он, кстати, подчеркивал, немцы смогут просто-напросто обойти, совершив прорыв через Бельгию. Сейчас нет смысла строить догадки о том, что произошло бы, будь у Франции в то время, в марте 1936 г., мощная танковая армия, вроде той, какую предлагал де Голль и за которую ратовали также такие политики, как Поль Рейно. Но возможно, что в этом случае весь ход дальнейшей истории был бы иным. Он также был бы иным, если бы французская армия даже с тем, что у нее было, вторглась тогда в Рейнскую зону.
Как бы то ни было, но с того дня, когда правительство Сарро не решилось выступить независимо от англичан в защиту самых жизненных интересов Франции, роль Франции как военной державы, с которой должна была считаться вся Европа, начала катастрофически снижаться. Как ни странно, французское общественное мнение очень вяло реагировало на случившееся. До всеобщих выборов оставалось меньше двух месяцев; помню, во время предвыборной кампании я совершил большую поездку по различным районам Франции. Предстояли выборы, на которых одержали победу партии Народного фронта. Предвыборная кампания проходила оживленно; все левые круги остро сознавали растущую угрозу фашизма, однако на предвыборных митингах и собраниях вопроса о Рейнской зоне касались немногие. Похоже было, что французы просто не отдавали себе отчета о всех последствиях, которыми было чревато занятие немцами Рейнской зоны. Даже рядовые коммунисты, несмотря на серьезные предупреждения, с которыми выступали их депутаты в парламенте, такие, как Габриэль Пери, казалось, гораздо больше интересовались тем, победит ли на выборах Народный фронт, чем рейнской проблемой.
Несомненно, что последствия Первой мировой войны, в которой Франция потеряла полтора миллиона человек, все еще ощущались в стране очень остро и перспектива всякой военной акции со стороны Франции, даже для осуществления такой жизненно важной задачи, как предотвращение ремилитаризации нацистами Рейнской зоны, вызывала у французов глубокое отвращение. Помню, как Марсель Деа, который был в кабинете Сарро министром авиации, а потом стал предателем и коллаборационистом, заметил мне однажды с типичной для него безответственностью: «Во всяком случае, раз мы ничего не сделали в Рейнской зоне, мы будем иметь два или три года мира, а это уже большой выигрыш. Поговорите с французами - большинство из них скажет вам то же самое».
Здесь мы лишь очень коротко можем коснуться зловещих событий трех последующих лет. В июле 1936 г. после антиправительственного мятежа генерала Франко началась война в Испании. После победы во Франции Народного фронта левые круги страны были решительно настроены в пользу того, чтобы оказать помощь законному правительству Испании. В частности, коммунисты развернули широкую кампанию за поставку самолетов Испании. К несчастью, во главе правительства Народного фронта оказался лидер социалистов Леон Блюм, а он, так же как до него Сарро, боялся действовать независимо от Англии. А консервативное правительство Англии, не желавшее вмешиваться в войну в Испании, особенно на стороне республиканцев, оказывало сильнейший нажим на Блюма, чтобы тот не вздумал помогать испанским республиканцам, и в конце концов добилось своего. После этого Блюм, сколько ни ломал себе руки, сколько ни произносил жалких слов для выражения своих «симпатий» к республиканцам, в конце концов согласился на проведение жульнической политики невмешательства, в соответствии с которой Англия и Франция воздерживались от посылки оружия Испании, в то время как Германия и Италия оказывали очень широкую военную помощь франкистским мятежникам. Фактически единственную помощь извне, особенно в 1937 г., республиканцы получали от Советского Союза. В 1938 г. французы возобновили было кое-какие поставки, но вскоре после этого Чемберлен сердито потребовал у Блюма закрытия каталонской границы «для того, чтобы война скорее закончилась».
Без малого три года продолжали испанские республиканцы свою героическую борьбу, которая становилась все более неравной, и прекратили ее только в начале 1939 г. Одной из причин поражения республиканцев было то, что различным группировкам, на которые они делились - а среди них были и буржуазные либералы, и социалисты, и коммунисты, и анархисты, и ПОУМ (троцкисты), - сильно не хватало единства, сплочения. Кроме того, почти всю войну республиканская Испания испытывала серьезные трудности с продовольствием. По моим личным впечатлениям об Испании, где я провел несколько недель в конце 1937 г., самым дисциплинированным элементом среди республиканцев были коммунисты, но их было не так уж много.
Для меня, особенно с момента оккупации гитлеровцами Рейнской зоны, было совершенно ясно, что Гитлер готовится к войне; я подозревал об этом все время начиная с 1933 г., а та дерзость, с которой Германия совершила свой прыжок за Рейн в марте 1936 г., и нежелание Англии и Франции что-либо сделать, чтобы этому помешать, не оставили у меня почти никаких сомнений в отношении того, что предпримет Германия дальше. Хотя в 1937 г. военные действия в Европе ограничивались пока одной Испанией, было ясно, что Гитлер готовится в самом ближайшем будущем, как только он продвинет дальше свою программу ремилитаризации страны, пойти на новые захватнические шаги. Можно было предполагать также, что, захватив Рейнскую зону, немцы теперь лихорадочно ее укрепляли. Характерно, что вскоре после германского «прыжка за Рейн» Бельгия порвала союз с Францией и объявила о своем нейтралитете.
В конце 1937 г. Ивон Дельбос, исполненный добрых намерений, но слабый министр иностранных дел в правительстве Народного фронта, предпринял большую поездку по союзным с Францией странам Восточной Европы. Он посетил Варшаву, Бухарест, Белград и Прагу. Характерно, что в Москву во время своего турне он не заехал, несмотря на то, что существовал франко-советский договор о взаимной помощи, к тому времени уже должным образом ратифицированный. Но хотя Дельбос и был на своем пути свидетелем ряда дружественных Франции демонстраций, он скоро понял, что друзья и союзники Франции в Восточной Европе в большой мере утратили веру во Францию после того, как она не сумела предотвратить занятия немцами Рейнской зоны. Только бедные чехи продолжали наивно верить, что в случае нападения Германии Франция придет к ним на помощь, и никак не хотели расстаться с этой иллюзией. В Польше, Румынии и Югославии уже мало кто заблуждался на этот счет. Политические лидеры этих стран, особенно Бек в Польше и Стоядинович в Югославии, уже тесно сотрудничали со странами «оси». В Румынии пробирался к власти другой прогитлеровец, генерал Антонеску.
Через три месяца после визита Дельбоса в страны Восточной Европы немецкие войска вступили в Австрию и был объявлен «аншлюсе». Чемберлен всего за три недели до этого открыл туда Гитлеру «зеленую улицу»:
«Если я прав, а я уверен, что я прав, говоря, что Лига… не способна обеспечить коллективную безопасность для кого бы то ни было, то нам незачем пытаться убаюкивать малые и слабые нации мыслью, что Лига защитит их против агрессии, и толкать их на соответствующие действия, в то время как они знают, что рассчитывать на это они ни в коем случае не могут».
Чемберлен заявил это в палате общин 22 февраля, через два дня после того, как Иден в знак протеста против чемберленовской политики «умиротворения» Гитлера везде и всюду вышел из состава правительства. Было ясно, что у Гитлера нет никаких оснований беспокоиться насчет того, как ответит Англия на оккупацию Австрии; вмешательства Франции, особенно после такого заявления Чемберлена, можно было тоже не опасаться. Тем не менее это заявление Чемберлена вызвало во Франции сильные протесты и в ходе внешнеполитических прений в палате депутатов, вращавшихся вокруг последней германской угрозы Австрии - ультиматума, который Гитлер предъявил Шушнигу, - Фланден, ярый защитник политики поворота «лицом к [колониальной] империи», как он сам ее называл, подвергся резким нападкам не только левых, но также правых и центра (особенно сильно критиковал его депутат-католик Пезе). Фландена называли «представителем Чемберлена» во Франции и указывали также на то, что германские газеты и радио с особенным удовольствием цитируют его пораженческие речи.
Однако Франция вряд ли могла предложить что-нибудь очень серьезное для спасения Австрии, кроме, может быть, обращения к Муссолини или проведения в самой Австрии плебисцита под международным контролем. Один только Поль Рейно сказал, что Франция должна действовать или она окажется в полной изоляции. Министр иностранных дел Дельбос, усталый и обескураженный человек, поддержал доводы Рейно о том, как важно спасти независимость Австрии, но о том, как Франция может помочь Шушнигу в его трудном положении, ничего ясно не сказал; зато он в очень категорическом тоне заявил, что Франция должна будет лояльно выполнить свои обязательства перед Чехословакией. Было попутно отмечено, что оккупация немцами Австрии сильно ослабит стратегические позиции Чехословакии, но только и всего. Премьер-министр Шотан, юркий, с бегающими глазами человечек, который все время был сторонником «политики невмешательства» в Испании любой ценой и который потом, в сентябре следующего года, станет одним из заядлых мюнхенцев, приняв благородную позу, тоже говорил о том, что Франция вернет себе свободу действий в Испании, если другие не будут соблюдать соглашения о невмешательстве, и изрекал всякие банальности насчет того, что Франции-де никак нельзя оставить Центральную Европу на произвол судьбы. Оба эти заявления были пустой болтовней.
Фактически это было в последний раз перед войной, когда значительная часть депутатов французского парламента все еще открыто восставала против политики предоставления Германии «свободы рук» в Центральной Европе; но, хотя коммунисты и кричали по адресу Фландена: «Зейс-Инкварт!» и «Поезжай в Берлин!», значительной части правых его речь насчет поворота «лицом к империи» с бесконечными цитатами из Чемберлена продолжала нравиться. Дух мюнхенского пораженчества еще не успел распространиться на французские левые круги, но по мере приближения мюнхенского кризиса зараза быстро охватит и их - исключение составят только коммунисты.
После захвата Гитлером Австрии Советское правительство, глубоко озабоченное будущей судьбой Чехословакии, настаивало на созыве конференции в составе Англии, Франции, Советского Союза и США для рассмотрения ситуации, возникшей в результате последней агрессивной акции Гитлера, но это предложение не получило ответа. Чемберлен отнесся к нему враждебно.
Для 1938 г. были особенно характерны два явления, оба не новые, правда. Во-первых, когда в апреле 1938 г. премьер-министром Франции стал Даладье, а министром иностранных дел - Боннэ, страна поставила свою внешнюю политику в полную зависимость от Англии. Решать спор между Чехословакией и Германией Франция фактически целиком передоверила правительству Чемберлена. На Франции лежало прямое обязательство оказать военную помощь Чехословакии. Англия такого обязательства не имела. Англия добивалась, чтобы Франция не выполняла этого своего обязательства, поскольку в конечном счете это могло вовлечь Англию в войну. Со своей стороны французское правительство не имело особого желания воевать за Чехословакию, а потому оно и обратилось к Чемберлену с просьбой урегулировать все это дело так, чтобы Франция была как-нибудь освобождена от своего обязательства.
Вспоминается очень характерный эпизод. В июле 1938 г., в последний день визита английской королевской четы в Париж, во французском министерстве иностранных дел был устроен большой прием. В углу одной из комнат, залитой ярким светом хрустальных люстр, Галифакс долго о чем-то беседовал с глазу на глаз с Фланденом. Разговор наконец закончился, и я видел, какая довольная усмешка была при этом на лице у Фландена - как у кота, только что проглотившего мышь. Рассказал же ему Галифакс о том, что, оказавшись в безвыходном положении, чехословацкое правительство только что согласилось на приезд в Чехословакию лорда Ренсимена в качестве «арбитра» по урегулированию спора из-за Судетской области. Фланден прекрасно знал: то, что предложит Ренсимен, будет означать раздел Чехословакии.
И Чемберлен (а не кто-либо из французов) вылетел в разгар кризиса, 15 сентября, в Берхтесгаден, чтобы запродать Чехословакию Гитлеру. Смешно вспоминать сейчас, какие восторги изливал в этот день Леон Блюм по поводу «благородной миссии» Чемберлена. А спустя две недели тот же Блюм встретил Мюнхенское соглашение с таким чувством, которое он сам назвал «смесью трусливого облегчения и стыда».
Вторым характерным для этого «мюнхенского года» явлением была твердая решимость Англии и Франции держать Советский Союз в стороне от всего этого дела. Эго было не ново. Еще в 1934 г. Англия вынашивала план заключения пакта четырех держав, который, хотя и противоречил принципу коллективной безопасности, очень нравился Рамсею Макдональду; Мюнхен же, можно сказать, очень близко отвечал духу такого четырехстороннего пакта, одной из главных целей которого было лишить Советский Союз - а заодно и малые страны Европы - всякого голоса при урегулировании европейских проблем. Мюнхенское соглашение было заключено в обход Советского Союза, и даже сама Чехословакия не была допущена к столу конференции.
В течение всех предыдущих лет контактов на высшем уровне между западными державами и Советским Союзом было немного. После подписания в Париже советско-французского договора о взаимопомощи в Москву приезжал Лаваль, но без военной конвенции цена этого пакта была сомнительной. В 1935 г. побывал в Москве и Иден, но Болдуин, Саймон и тем более Чемберлен отнеслись к этому визиту не очень-то благоприятно. Антисоветскую позицию Чемберлена разделяли и некоторые французские политические деятели, и не последним из них был Боннэ, занимавший пост министра иностранных дел в роковой период с апреля 1938 г. до начала войны в сентябре 1939 г. Как писал и неоднократно повторял в 1937-1938 гг. Роберт Делл, женевский корреспондент «Манчестер гардиан», «Советский Союз - это единственная держава, которая все еще хочет верить в Лигу наций и коллективную безопасность; другие великие державы саботируют их, а малые государства все больше перестают в них верить».
Хорошо характеризует «дух Мюнхена» и то, как правительства Англии и Франции уговаривали чехословацкое правительство не просить помощи у СССР по советско-чехословацкому договору о взаимопомощи. Этот пакт, как мы знаем, предусматривал вмешательство Советского Союза на стороне Чехословакии, но при условии, что Франция тоже придет на помощь этой стране. Инспирируемая правительствами Англии и Франции пресса с удовлетворением подчеркивала, однако, что Красная Армия не сможет оказать помощь Чехословакии, поскольку между Советским Союзом и Чехословакией нет общей границы.
Чтобы прийти на помощь Чехословакии, русским пришлось бы нарушить границу с Польшей или Румынией или вторгнуться в их воздушное пространство, а это было «невозможно». Другой, часто повторявшийся западной пропагандой довод состоял в том, что Красная Армия очень-де слаба, особенно после широких чисток среди ее высшего командования и офицерского корпуса вообще.
Глава II. После Мюнхена. Германия наносит удар на запад
После похабного Мюнхенского соглашения Чемберлен, возомнивший себя великим героем, который «спас мир для нынешнего поколения», начал и вовсе игнорировать своего французского союзника и в совместном англо-германском заявлении, которое он и Гитлер опубликовали на следующее утро после Мюнхенского соглашения, заложил основу для «будущих» двусторонних англо-германских переговоров. Французам это не понравилось, поэтому, воспользовавшись первой представившейся возможностью, Даладье и Боннэ пригласили Риббентропа в Париж для двусторонних франко-германских переговоров. Но нельзя сказать, что Германия стала лучше относиться к Франции после Мюнхена. Уже 9 октября, выступая с речью в Саарбрюкксне, Гитлер ни словом не обмолвился о Франции, хотя говорил, находясь всего в нескольких километрах от французской границы. Но он подчеркнул зато, что линия Зигфрида будет укреплена еще надежней, и тем ясно дал понять, что полон решимости не допустить какого-либо вмешательства Англии и Франции в восточноевропейские дела. Новым явлением было также то, что Гитлер наложил фактически свое вето на участие в английском правительстве врагов «умиротворения» - Черчилля, Идена и Дафф Купера. Одна французская газета, очевидно инспирируемая Боннэ, приписывала также Гитлеру слова, что, «пока во главе французского правительства стоят Даладье и Боннэ, опасности конфликта между Германией и Францией не будет». Это заискивание перед Гитлером, эта позиция «что прикажете?» была типичной для англо-французских руководителей в период непосредственно после Мюнхена. Полушутя-полусерьезно люди начали называть Боннэ и Чемберлена гитлеровскими «гаулейтерами» во Франции и в Англии.
Во Франции меж тем начались события, предвещавшие недоброе. Палата депутатов одобрила Мюнхенское соглашение - против голосовали только коммунисты и один правый депутат, известный журналист Анри де Кериллис. Даладье и Боннэ старались нажить себе на этом политический капитал, говоря, что они добились «почетного мира», что Чехословакия осталась суверенной, независимой страной и что коммунисты - это почти единственные из французов, кто хочет ввергнуть Францию в войну. В правительственной и фашистской прессе началась разнузданная кампания против коммунистов. Даладье, теперь усвоивший диктаторские замашки, становился все более оголтелым в своем антикоммунизме и всячески подчеркивал, что с Народным фронтом, как он считает, теперь навсегда покончено. В своей речи на съезде партии радикалов в Марселе он обрушился на коммунистов как на «агентов иностранной державы», которые хотят войны и которые, кроме того, «грубо оскорбляют г-на Чемберлена». Даладье решил, что он будет работать с правыми и центром, и отказался от сотрудничества не только с коммунистами, но и с социалистами. Через месяц после съезда в Марселе, в конце октября, Даладье сорвал и подавил всеобщую забастовку французских трудящихся.
«Доктрина» свободы рук для Германии на Востоке казалась теперь англо-французским правящим кругам все более привлекательной. Сразу же после Мюнхена инспирируемая Боннэ газета «Тан» заявила, что франко-советский договор и франко-польский союз «во многом утратили свое практическое значение»; своего кульминационного пункта эта кампания достигла в ноябре и декабре, накануне, во время и после визита Риббентропа в Париж, когда «Тан», «Матэн» и другие газеты предались настоящей оргии, исступленно требуя в своих статьях «свободы рук для Германии на Востоке». Нечто очень похожее происходило также в Англии и США, где «Дейли мейл» и херстовская пресса развернули кампанию за создание «великой Украины» путем «присоединения» всей Советской Украины к Закарпатской Украине. Эту «великую Украину» должны были «основать» под германской эгидой авантюристы такого сорта, как престарелый «гетман» Скоропадский, Бискупский и другие «лидеры украинских националистов», проживавшие в Берлине.
В Англии Чемберлен между тем упивался своей «славой» умиротворителя. «Политика умиротворения, как ее называют, - это такая политика, которой мое правительство хочет искренне посвятить себя», - заявил премьер-министр в своей речи 1 ноября. Четыре державы, сказал он, могут плодотворно сотрудничать, несмотря на различия режимов. Будет совершенно естественно, продолжал Чемберлен, если Германия «займет господствующее положение в восточной и юго-восточной Европе». Он осторожно обошел вопрос, не придется ли в конце концов Англии поступиться и своими колониальными владениями для Германии, но эти его недомолвки вызвали настоящую бурю во Франции, где общественное мнение было настроено решительно против того, чтобы уступать Германии какие-либо французские колонии. Против этого протестовали не только деловые круги и французская армия, но также и депутаты от французских территорий в Африке, которые никак не хотели, чтобы их страны попали когда-нибудь под власть такого человека, как Гитлер, объявивший всех чернокожих «полуобезьянами».
Как только Чемберлен добился от Гитлера в Мюнхене заверения, что «между нами войны не будет», Боннэ решил в свою очередь заполучить у немцев такое же обещание в отношении Франции. 22 ноября он торжественно объявил, что договоренность насчет такого заявления достигнута и что для его подписания в Париж приедет Риббентроп. В своей книге «Франция и Мюнхен» (A. Werth, France and Munich, London, 1939) я рассказал о необычной атмосфере, которая окружала этот странный визит. После загадочного убийства одного германского дипломата, служившего в германском посольстве в Париже, которое совершил 7 ноября какой-то молодой еврей, по Германии прокатилась широкая волна еврейских погромов, а это только усилило антинацистские настроения во Франции. Правительство опасалось демонстраций против Риббентропа - из-за этих погромов, а также из-за Мюнхена. Поэтому Риббентроп и его жена находились под усиленной полицейской охраной всюду, где бы они ни появлялись: на вокзале, где их встречали, в отеле «Крийон», где они остановились и где для них был отведен особый, находившийся под сильной охраной вход, у Триумфальной арки, где Риббентроп возложил на могилу Неизвестного солдата венок, украшенный лентами с фашистской свастикой. В Париже воцарилась прямо-таки нацистская атмосфера. Так, например, «дорогим» гостям устроили два приема - один Даладье и другой Боннэ и «неарийцев» из состава французского правительства, а их было двое, Зэ и Мандель, ни на один не пригласили. Одну часть французской прессы Боннэ различными средствами приструнил и вынудил к полному послушанию, другая же ее часть «вела себя, как надо», потому что кормилась германскими субсидиями (а субсидии немцев на фашистскую пропаганду во Франции выросли, говорят, в 1938 г. до 10 миллионов долларов). Одним из излюбленных занятий некоторых насквозь продажных французских борзописцев, таких, как Жюль Зауэрвейн из «Пари-суар» или редакторы «Матэн», стало доказывать, что Франция больше не имеет интересов в Восточной Европе и что ее обязательства перед Польшей и Советским Союзом утратили силу. Как уже было сказано, именно примерно в это время пресса подняла страшную шумиху вокруг идеи создания «великой Украины» под властью Скоропадского и других германских марионеток. Хотя с виду франко-германская декларация о дружбе была довольно безобидной - в ней даже говорилось, что она не затрагивает «особых отношений обеих стран с третьими державами», - Риббентроп во время переговоров намекнул, что если теперь интересы Франции и Германии не противоречат друг другу, то это означает, что у Франции нет больше «интересов» в Восточной Европе. Кроме того, несколько дней спустя, выступая во внешнеполитической комиссии палаты депутатов, Боннэ (по словам Кериллиса, который был членом этой комиссии) заявил, что он «не убежден в том, что Россия, Польша и Румыния способны обороняться против Германии» и он рассчитывает на то, что Германия сумеет добиться ряда «мирных» завоеваний в Восточной Европе. Только если эти страны докажут, что они сильны в военном отношении, Франция может подумать о своих военных обязательствах перед ними; отсюда следовал вывод, что если они окажут сильное сопротивление Германии, то тогда, возможно, и Франция сочтет своим долгом выступить в их защиту, в противном же случае она это делать не намерена. Другими словами, Франция считает, что лучше будет, если эти страны согласятся на кое-какие «мирные» завоевания Германии, то есть уступят ей, например, Данциг и Польский коридор. Все подобные интонации в переговорах Боннэ с Риббентропом звучали в высшей степени подозрительно, так же как и кампания в прессе за создание «великой Украины» и т.п. Я в то время много писал об этом, и Боннэ чуть было не выслал меня из Франции.
Еще никогда в Париже так не пахло фашизмом, как в эти четыре месяца после Мюнхена. Политика умиротворения и предоставления Германии «свободы рук на Востоке», шедшая нога в ногу с истерической кампанией против коммунистов в самой Франции, достигла своего апогея. Между тем трагедия испанских республиканцев близилась к своему завершению. В январе 1939 г. Франко захватил Барселону и французское правительство поспешило установить дипломатические отношения с правительством Франко, направив к нему своим послом Петена. Даладье пытался поднять немного свой личный престиж, отправившись в турне по Южной Франции и Северной Африке, где он, особенно не опасаясь за последствия, дал отпор Муссолини и итальянским фашистам, носившимся с лозунгом «Тунис, Корсика, Ницца». Немцы, видимо, не поддерживали Муссолини в этом вопросе, и Даладье мог позволить себе быть дерзким с итальянцами! В действительности эта поездка Даладье на Средиземноморское побережье и в Северную Африку имела тоже прямое отношение к политике «свободы рук для Германии на Востоке». Даладье как бы хотел подчеркнуть: пусть в Европе происходит что угодно, а для Франции важно лишь сохранить за собой свои средиземноморские и африканские владения; в этом был своего рода отголосок фланденовской политики «поворота лицом к империи».
Тревожная послемюнхенская зима подходила к концу, когда 15 марта 1939 г. гитлеровские войска полностью оккупировали Чехословакию. Обещанный Чемберленом «мир для нынешнего поколения» кончился, и вся лживость и лицемерие мюнхенской политики вскрылись меньше чем за полгода.
Можно задать вопрос: каковы же были истинные мотивы, толкнувшие Англию и Францию на позорную мюнхенскую капитуляцию? Слишком упрощать это дело не следует. Несомненно, что люди вроде Чемберлена и Боннэ подсознательно чувствовали, что Гитлер почти наверняка не удовольствуется захватом только Австрии и Судетской области. Но они думали, что есть, может быть, какой-то маленький шанс и на то, что он не потребует большего. Они лелеяли план создания в Европе «директората четырех держав», коалиции, из которой Советский Союз был бы исключен и в решениях которой малые страны не принимали бы никакого участия. Франция, в частности, была связана прочным военным союзом с Чехословакией. Она знала, что соединенная военная мощь Франции, Чехословакии и Советского Союза почти наверняка заставила бы Гитлера отказаться от своих притязаний на Судетскую область. И все же какое-то сомнение насчет того, как будет реагировать Гитлер, у нее оставалось. Что же касается Чемберлена, то для него главной заботой было не иметь никакого дела с Советским Союзом. Не прошли даром и старания профашистской пропаганды, которая и во Франции, и в Англии на протяжении нескольких месяцев вдалбливала людям мысль, что теперь, когда Гитлер захватил Австрию, «чешский бастион», этот краеугольный камень французской системы союзов, более или менее утратил уже свое значение. Очень много шумела эта пропаганда и на такую тему, что «какое, дескать, Франции (или Англии) дело до того, что три миллиона немцев Судетской области хотят быть немцами?». Кроме того, правительства Франции и Англии всеми силами старались сыграть на глубоко укоренившихся в обеих странах пацифистских настроениях и страхе перед войной, - страхе не только перед войной, в которой они могли бы потерпеть поражение, но и перед войной вообще. Большое место занимала в этой пропаганде мощная линия Зигфрида, которая, дескать, чрезвычайно затруднит военный прорыв в Германию и потребует больших человеческих жертв. Был и еще один аргумент в пользу мюнхенской политики: говорилось, что как Англия, так и Франция должны еще выиграть время на свое перевооружение, что у обеих стран (а особенно у Франции) авиация пока очень слаба, а пресса «пораженцев» этому подпевала, всячески раздувая леденящие кровь угрозы Геринга послать в случае чего германскую авиацию на Париж.
Политика Франции и Англии в отношении Советского Союза продолжала в течение всего этого периода оставаться враждебной. Когда после «аншлюсса» Советский Союз предложил провести консультации с Англией, Францией, США и Чехословакией, Чемберлен отклонил это предложение, как «несвоевременное». В мае М.М. Литвинов предложил Боннэ начать переговоры между генеральными штабами обеих стран, но не получил на это никакого ответа. Ни в июле, когда английское правительство послало в Чехословакию Ренсимена, ни в последующие недели, когда оно продолжало оказывать давление на чехословацкое правительство, оно не сочло нужным консультироваться с СССР. В сентябре на предложение Литвинова французскому поверенному в делах в Москве о немедленных консультациях между обоими правительствами, переговорах между генеральными штабами и демарше перед Лигой наций не последовало никакого ответа. Аналогичные предложения советского посла в Англии Галифаксу 7 сентября постигла такая же судьба. 23 сентября Литвинов заявил английскому представителю в Женеве, что Советский Союз готов прийти на помощь Чехословакии, и предложил немедленно начать военные переговоры. Никакого ответа.
Хотя пораженческая пропаганда на Западе только и твердила, что «русские ничего не делают» и что, во всяком случае, если даже они предложат свою помощь Чехословакии, о проходе советских войск через Румынию не может быть и речи, мы теперь знаем, что в Киевском военном округе были в то время сосредоточены крупные силы советских сухопутных войск и авиации и что Советский Союз пришел бы на помощь Чехословакии, если бы та обратилась к нему с такой просьбой и особенно если бы Запад что-то предпринял для этого со своей стороны. Правда, 24 сентября французская армия и английский флот были приведены в боевую готовность, но уже по прошествии трех дней французский посол в Берлине Франсуа Понсе дал ясно понять Гитлеру, что ничего очень серьезного в этом нет и что на самом деле французское правительство готово фактически уступить всем его требованиям. Почетная роль «миротворца», предложившего созвать мюнхенскую конференцию, досталась Муссолини.
Горькая и унизительная правда была в том, что в Англии и Франции широкая публика встретила Мюнхен вздохом облегчения. Чехов жаль, конечно, но зато мир в Европе спасен. Как мы говорили выше, во Франции только коммунисты и еще один человек голосовали против Мюнхенского соглашения. В Англии реакция была чуточку острей - там Черчилль, Иден и Дафф Купер открыто выразили свое неодобрение, а Дафф Купер в знак протеста вышел из правительства, но, как показали дополнительные выборы в Оксфорде, Чемберлен пользовался (пока) довольно большой поддержкой в стране.
«Доктрину», гласившую «предоставим Германии свободу рук на Востоке», начали открыто пропагандировать не до, а скорее после Мюнхена, особенно когда стало ясно, что Гитлер скоро потребует новых жертв. Чемберлену хотелось, чтобы его «творение», искалеченная Мюнхеном Чехословакия, была оставлена в покое; он надеялся также, что Гитлер не тронет и Польшу. Вот почему в Англии лелеяли мысль, что если Гитлер захочет чего-то еще, пусть он это получит, развивая свою экспансию в юго-восточном направлении; отсюда бредовые планы создания «великой Украины» и отсюда же заявления Чемберлена о том, что на Востоке и Юго-Востоке Европы (то есть на Балканах) Германия должна занять «господствующее положение».
Как бы то ни было, Гитлер стал действовать вразрез тому, на что надеялся Чемберлен. 15 марта он захватил Чехословакию и принялся за Польшу. Вторжение германских войск в Чехословакию поставило Чемберлена в исключительно смешное положение, и, как догадывался французский посол в Берлине Робер Кулондр, такой плохо продуманный английский шаг, как гарантии Польше, был подсказан отчасти личным чувством раздражения и разочарования, охватившим Чемберлена. В палате общин такие ораторы от оппозиции, как Ллойд Джордж, Арчибальд Синклер и Хью Дальтон, резко критиковали это решение правительства, заявляя, что оно может оказаться ловушкой, если Англия не заручится поддержкой Советского Союза.
18 марта между Англией, Францией и Советским Союзом фактически были начаты переговоры и с тех пор все время продолжались, однако никакие советские предложения не принимались и Чемберлен старался лишь добиться односторонних гарантий СССР для Румынии и других стран. 21 марта английское правительство, отклонив сначала более эффективный советский план, выступило с предложением, чтобы Англия, Франция, Польша и СССР опубликовали четырехстороннюю декларацию о взаимных консультациях; но это предложение было в свою очередь отклонено польским правительством, которое не хотело иметь никаких дел с Советским Союзом, опасаясь, по словам Бека, только «спровоцировать» этим Гитлера. Вместо этого он, как мы видели, вырвал у Чемберлена знаменитые английские «гарантии». Наконец, после еще нескольких столь же неконструктивных предложений англичан Советское правительство предложило 17 апреля заключить прямой англо-франко-советский военный союз. По этому договору три державы обязались бы оказывать друг другу всяческую помощь, включая и военную, в случае агрессии в Европе против любой из трех договаривающихся сторон, а также оказать аналогичную помощь всем восточноевропейским странам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с Советским Союзом. Но это «предложение, о котором мы даже не смели мечтать», как назвал его Кулондр, было снова отклонено английским правительством.
Только после этого Сталин, очевидно, решил, что в отношении внешнего мира Советскому Союзу нужна более гибкая политика. В своей речи на XVIII съезде партии 10 марта он выразил почти одинаковое недоверие и к «агрессивным государствам» (Германия, Италия, Япония), и к государствам, стоящим на позиции «невмешательства» (Англия и Франция), и предупредил советский народ, что надо соблюдать осторожность и не дать провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками, втянуть в конфликты Советский Союз. Несмотря ни на что, Литвинова сочли человеком, расположенным в пользу Англии и Франции и против Германии. Молотов, сменивший его на посту наркома иностранных дел, относился к обеим группам держав почти с одинаковым недоверием, и это было, пожалуй, неудивительно после всего того, что произошло в Испании, и особенно после Мюнхена.
Очевидно, однако, что, несмотря на большое недоверие, с которым СССР относился к Англии и Франции, эти три державы могли в то время сплотиться против Гитлера, если бы а) они поторопились заключить между собой не только союз, но и военную конвенцию, в которой было бы точно предусмотрено, что и как каждая страна будет делать в различных чрезвычайных обстоятельствах; и б) сумели разрешить такие щекотливые вопросы, как проход Красной Армии через польскую территорию. Но было совершенно ясно, что Чемберлен, хотя ему и хотелось вызвать «психологический шок» у Гитлера заключением «союза с Россией», явно не торопился пойти на прямое военное соглашение с СССР. Здесь нет необходимости подробно рассказывать о бесплодных переговорах между Англией и Советским Союзом летом 1939 г.; но насколько в действительности Чемберлен боялся связать себя с Советским Союзом взаимными, точными и определенными военными обязательствами, видно было из того, какую опереточную «военную миссию» он направил в Москву в самый последний момент, когда немцы уже вот-вот готовы были начать вторжение в Польшу. Миссию возглавлял какой-то престарелый адмирал, не имевший к тому же полномочий на подписание какого-либо соглашения. А отказ Чемберлена перед этим послать в Москву Идена или Галифакса тоже очень хорошо характеризует его позицию. Я был этим летом в Англии, и мне вполне было ясно, что происходит. Все, что рассказал потом об этом странном поведении английского правительства И.М. Майский в своей книге «Кто помогал Гитлеру», было правдой, которую трудно было опровергнуть. Даже проникшие в Англию и Францию слухи о секретных переговорах между Советским Союзом и Германией, которые будто бы происходили летом 1939 г., не заставили Чемберлена ускорить переговоры с Советским Союзом, чтобы добиться какого-то результата.
Можно было сомневаться в этих условиях, что русские по-настоящему верили в эффективность союза с Англией и Францией, и, может быть, показателен факт, что советская печать тем летом не раз упоминала о линии Зигфрида. И если в конце концов Советский Союз пошел на заключение пакта о ненападении с Германией, то причиной такого шага было отчасти и понимание того, что, если Гитлер ринется на Восток, Запад не пойдет дальше «странной войны», свидетелями которой мы как раз и стали во время германского вторжения в Польшу. В самом деле, разве не писал потом де Голль: «У Англии вряд ли были какие-нибудь сухопутные силы… Что касается Франции, то у нее была армия, не соответствовавшая ее внешней политике. Ее военная политика была в основном оборонительной. Если бы Германия, захватив Польшу, напала на Россию, то не было бы абсолютно никакой уверенности в том, что французская армия сможет чем-нибудь помочь России; она просто отсиживалась бы за линией Мажино».
У русских наверняка были такого рода соображения, а это как раз и объясняет, почему и советские руководители, и советский народ смотрели на перспективу заключения союза с Францией и Англией без большого энтузиазма.
Но вернемся еще на какой-то момент к Чемберлену. В биографии этого деятеля, написанной Фейлингом, ясно говорится, что он никак не хотел союза с СССР, а в его окружении были люди, которые даже на этой поздней стадии продолжали надеяться на «умиротворение» Гитлера. Летом 1939 г. велись переговоры между Хадсоном и Вольтатом, а в конце июля с довольно-таки любопытной «миссией мира» в Германию отправился лорд Кемсли, который был принят Гитлером, беседовал с Розенбергом, назвав его потом «чарующей личностью», и Геббельсом, «очень умным и разносторонне образованным человеком», по его словам[6].
Тем не менее, когда 1 сентября нацистские войска вторглись в Польшу, Чемберлену ничего не оставалось, как объявить войну Германии. Французское правительство без большой охоты последовало его примеру.
Нечего и говорить о том, какая буря негодования разразилась в английской и французской прессе, когда был подписан советско-германский пакт о ненападении. Раздавались вопли о «предательстве» и об «ударе ножом в спину». Но, пристально наблюдая за всеми маневрами Чемберлена этим летом, я не был так уж удивлен случившимся. Странно было, конечно, видеть, что крупнейшая в мире антифашистская держава подписала пакт с Гитлером; но я знал, что у русских не было другого выбора, и потому был убежден, что этот пакт так или иначе не будет долговечным. Помню, в то время я охарактеризовал его на страницах «Манчестер гардиан» как своего рода новый Тильзит.
Приехав в 1941 г. в Советский Союз, я спрашивал многих советских граждан, как они реагировали на советско-германский пакт; они все соглашались, что он был «неприятен», но что другого выхода не было. А французский корреспондент в Москве Жан Шампенуа говорил мне, что, по мнению многих русских, этот пакт воздал Англии и Франции по заслугам за все их грязные проделки, которые они годами творили в отношении Советского Союза.
Гораздо более спорной, однако, была советская линия, согласно которой война между Англией и Францией, с одной стороны, и Германией, с другой, была «империалистической войной». Французских коммунистов, например, это поставило в очень трудное положение. Для них, как и для несчетного множества других людей во Франции и в Англии, война против Гитлера была справедливой войной, и я сам помню, с каким чувством облегчения я узнал, что Англия и Франция объявили войну нацистской Германии; наконец-то, думал я, шантажу Гитлера положен конец и ни Польше, никакому другому государству теперь не будет грозить новый «Мюнхен».
Германское вторжение в Польшу представляло собой вполне «современную» войну, первый настоящий блицкриг со всеми его жестокостями и зверствами. «Польская кампания» явилась демонстрацией огромного военного превосходства Германии. Это, вероятно, не могло не встревожить руководителей Советского Союза. В середине сентября, когда Красная Армия вступила в Западную Украину и Западную Белоруссию, для всех стало очевидным, что Советский Союз решил воспользоваться пактом с Германией не только для того, чтобы воссоединить украинские и белорусские земли, но и чтобы отодвинуть свои границы как можно дальше на запад. В общем это никак нельзя было назвать признаком того, что СССР очень верит в «дружбу» с Гитлером.
На Западе ничего не было сделано, чтобы помочь Польше. Но вступление Красной Армии на польскую территорию вызвало в западноевропейских странах большое возмущение. И надо сказать, что речь Молотова 31 октября, в которой он приветствовал исчезновение Польского государства, «этого уродливого детища Версальского договора»[7], и заявил, что теперь не Германия, а Англия и Франция являются «странами-агрессорами», не поправила дело. Правда, левые круги в Англии и Франции считали, что все это не больше как дипломатическая хитрость, рассчитанная на то, чтобы не рассердить Германию, потому что в этот момент русские ничего так не опасались, как того, что гитлеровская Германия и западные державы могут пойти на мировую и заключить между собой какую-нибудь грязную сделку за счет Советского Союза. Молотов высмеял далее военные цели Англии и Франции; поскольку, сказал он, несмотря на все их «гарантии», они ничего не сделали для спасения Польши, они решили теперь объявить целью войны «уничтожение гитлеризма». «Получается, - про должал он, - …что-то вроде идеологической войны, напоминающей старые религиозные войны». Он осудил такого рода войну, поскольку любую идеологию, нравится она кому или нет, нельзя уничтожить силой. Англия и Франция прикрывают также войну флагом борьбы за «демократию», но о какой демократии может идти речь, если во Франции коммунистическую партию запрещают, а коммунистических депутатов арестовывают и бросают в тюрьмы?
Но даже в этой речи, произнесенной в момент, когда советско-германское мирное сосуществование находилось, можно сказать, в зените, Молотов также сказал:
«Наши отношения с Германией… улучшились коренным образом… Договор о ненападении обязывал нас к нейтралитету… Мы последовательно проводили эту линию… Наши войска вступили на территорию Польши только после того, как Польское государство распалось… Оставаться нейтральными к таким фактам мы, разумеется, не могли, так как в результате этих событий перед нами встали острые вопросы безопасности нашего государства, К тому же Советское правительство не могло не считаться с… положением… населения Западной Украины и Западной Белоруссии, которое… оказалось брошенным на произвол судьбы» (курсив мой. - А. В.).
О том, что уже тогда советские руководители не исключали возможности конфликта с Германией в недалеком будущем, свидетельствовала и их решимость исправить границу с Финляндией, проходившую всего приблизительно в 30 километрах к северо-западу от Ленинграда. Вначале Советское правительство попросило передвинуть эту границу лишь немного далее на север и предложило за это Финляндии территориальную компенсацию в других районах, но после двух месяцев бесплодных переговоров и имевшего место пограничного инцидента советские войска 30 ноября перешли границу и двинулись в глубь Карельского перешейка. Англия и Франция реагировали на эту советскую «агрессию» против «демократической Финляндии» очень бурно. Спустя немного времени они разыграли фарс исключения Советского Союза из Лиги наций. Все самые реакционные и профашистские элементы, какие только были в этих странах, стали открыто высказывать надежду на превращение войны против Германии в войну против Советского Союза. В «либеральных» и «антигитлеровских» кругах самую бредовую идею подал Ф.А. Войт, заявивший на страницах журнала «Найнтинс сенчури энд афтер», что в стратегических интересах Англии воевать и против Германии, и против России! Прошло немного времени, и правительства Англии и Франции, которые по-прежнему продолжали «странную войну» вдоль линии Мажино (настоящая война против Германии происходила только на море), начали отправлять в Финляндию оружие и «добровольцев».
Для меня - а я находился тогда во Франции - было совершенно ясно, что исправление границы к северу и северо-западу от Ленинграда было жизненной необходимостью для Советского Союза ввиду возможности (и даже вероятности) нападения на него с этой стороны. Ленинград легко можно было подвергнуть обстрелу с финской границы. Вопрос осложнило создание Москвой «народного правительства Финляндии», которое обосновалось в г. Териоки. Это обстоятельство очень ухудшило дело, и когда я разговаривал с людьми и указывал на уязвимость Ленинграда, обычно слышал в ответ: «Что ж, может быть, насчет Ленинграда они и правы, но зачем они создали правительство в Териоках?» По-моему, это было большой ошибкой. По-видимому, то, что создание «правительства в Териоках» было ошибкой, вскоре признала и сама советская сторона, ибо когда после трехмесячных тяжелых боев, особенно на линии Маннергейма, Финляндия запросила мира, о «народном правительстве» уже никто больше в СССР не упоминал. По-моему, это было одним из самых крупных дипломатических просчетов Сталина.
Теперь в Советском Союзе признают - да это было очевидно и в то время, - что, как показала эта зимняя война, у Красной Армии было немало слабых мест. Именно после финской войны был проведен ряд очень важных мероприятий по реорганизации Красной Армии. Долгое время военные «эксперты» в Англии и Франции только и разглагольствовали на все лады о «слабости» Красной Армии, в то время как прогитлеровские элементы видели в финской войне хорошую возможность для того, чтобы «свернуть» войну с Германией и уговорить ее «повернуть на Восток». Поэтому, когда в начале марта Финляндия заключила мир с Советским Союзом, это явилось для всех таких людей в Англии и Франции большим разочарованием.
Говоря о «слабости» Красной Армии, западные комментаторы, конечно, сознательно ее преувеличивали. Прорыв линии Маннергейма (а обойти ее было нельзя) был при всех обстоятельствах делом очень нелегким; а сильные морозы и озерно-лесистая местность (причем СССР не хватало лыжных войск) создали дополнительные трудности. Но то, что в армии обнаружились организационные неполадки, впоследствии признали сами советские военные.
В то время как отношения Советского Союза с Англией и Францией все обострялись, его отношения с Германией в течение всей советско-финской войны оставались внешне корректными. Гитлер и Риббентроп послали даже поздравления Сталину ко дню его 00-летия, 21 декабря 1939 г.; особенно «горячие чувства» изливал в своей телеграмме Риббентроп. Сталин поблагодарил их.
А потом, 9 апреля, немцы начали свое молниеносное вторжение и Данию и Норвегию. Хотя советская печать и ссылалась вначале на «нарушения Англией и Францией суверенитета Норвегии», эта новая гитлеровская агрессия встревожила Москву: война подходила слишком близко к советскому дому. В изданной после войны советской «Истории войны» сказано со ссылками на дипломатические документы, что Швеция избежала германской оккупации только благодаря советским демаршам[8]. В то же время русским было очевидно, что англичане и французы ведут военные действия в Норвегии совершенно недостаточными силами и как-то уж очень бестолково.
10 мая гитлеровские войска ринулись на Запад.
Как я уже указывал выше, в годы войны я многим в Советском Союзе задавал два таких вопроса: «Что вы думали о советско-германском пакте?» и «Когда пакт еще находился в силе, в какой момент вы начали серьезно сомневаться насчет его?»
На первый вопрос мне почти всегда отвечали примерно следующее: «Каждый, конечно, понимал, что тошно и неприятно делать вид, будто мы друзья с Гитлером; но уж такое положение сложилось в 1939 г., что нам любой ценой надо было выиграть время, а другого выбора у нас не было. Мы не думали, чтобы и самому Сталину очень нравилась эта идея, но мы глубоко верили в его правоту; если он решил заключить с Гитлером пакт о ненападении, значит, он наверняка знал, что другого выхода нет. И не забывайте также, что нам в то время грозила и японская агрессия; нам пришлось драться на Халхин-Голе как раз в то же время».
А ответ на второй вопрос неизменно следовал в таком приблизительно духе: «Мы начали действительно нервничать, когда увидели, что Гитлер сумел за какой-нибудь месяц, если не меньше, разгромить французскую армию. Мы питали довольно большое доверие к французской армии, и мы многое также слышали о линии Мажино, а потому - будем говорить прямо - рассчитывали, что война во Франции продлится долгое время и что в результате немцы будут сильно ослаблены. Эгоисты? Да, мы были эгоистами, а кто ими не был? О том, какое впечатление произвел разгром Франции, вы можете судить по той поспешности, с которой начали осуществляться мероприятия по укреплению обороноспособности СССР. Мы никогда не ожидали, что немцы так внезапно нападут на нас, а главное, что они сумеют захватить у нас такую огромную территорию, но мы чувствовали, что должны готовиться к очень тяжелой борьбе, если Гитлер спятит с ума настолько, что полезет на нас».
Был также и дополнительный вопрос, который я задавал с интересом: «Между разгромом Франции и нападением Германии на Советский Союз происходила война между Германией и Англией - что вы о ней думали?» Тут ответы становились неопределенными, но в общем они сводились к следующему: «К Англии у нас относились совершенно по-разному. Знаете, сама жизнь научила нас быть против англичан - после этого Чемберлена, Финляндии и всего прочего. Но постепенно, как-то очень незаметно мы начали восхищаться англичанами, потому, очевидно, что они не склонились перед Гитлером. В наших газетах много писали о бомбардировках Лондона, Ковентри и других английских городов. И мы начали также сочувствовать английскому народу - начали думать, что рано или поздно нам тоже суждено будет испытать нечто подобное. Особенно болела за англичан наша интеллигенция. У многих уже тогда начала складываться мысль, что война Англии против Гитлера - это «справедливая война». Но потом, в мае, в Англию вдруг прилетел Гесс, и мы вновь стали смотреть на Англию с опаской и подозрением».
Здесь нет необходимости рассказывать о трагедии Франции 1940 г. Скажу только, что мне довелось быть во Франции в то время, после чего я описал эту трагедию в своей книге «Последние дни Парижа» («The Last Days of Paris»). Главное, что надо сказать об этой великой национальной катастрофе Франции, заключается вкратце в следующем. Глупая пропагандистская линия, которой придерживались правительство и пресса вплоть до 10 мая, когда гром грянул, заключалась в том, что Франция защищена-де линией Мажино, а потому немцы не посмеют напасть на Запад. Значительная часть буржуазии, чье мнение отражали всякие правые и профашистские политические деятели, надеялась, что вот-вот что-нибудь случится, что позволит Франции заключить мир с гитлеровской Германией. В Англии члены правительства Чемберлена, хотя и не считали возможным компромиссный мир с Германией, тоже лелеяли надежду, что Германия не нападет на Запад, Англия же тем временем будет продолжать бомбить Германию и «через два или три года» сумеет поставить ее на колени[9]. А когда 10 мая немцы все-таки обрушились на Запад, и особенно через несколько дней, когда они прорвались во Францию, заняли Седан и устремились к Ла-Маншу, вся Франция была совершенно ошеломлена и ее быстро охватили пораженческие настроения. Миф о неприступности линии Мажино, которым все эти годы убаюкивали французский народ, вдруг рассыпался в прах.
Уже 16 мая в Париже началась паника и сотни тысяч людей бросились бежать на юг. Но вместо того чтобы двинуться на Париж, германские войска направили свой удар на Дюнкерк и на англо-французские силы, запертые в Бельгии. Вскоре Бельгия капитулировала, а потом пал Дюнкерк. Наибольшая часть английских войск сумела эвакуироваться, оставив Францию буквально в полком одиночестве сражаться с превосходящими силами немцев. За некоторыми заметными исключениями, моральное состояние французских войск, особенно офицеров, упало очень низко.
После Дюнкерка в стране усилились антианглийские настроения, поскольку Англия и раньше-то не послала во Францию достаточного количества своих войск, а теперь поспешно отвела и те, которые были. Скоро стало известно, что английское правительство решило также эвакуировать из Франции фактически всю свою авиацию, а это ясно говорило о том, что новый премьер Черчилль считает битву за Францию проигранной. В воцарившемся хаосе, когда все дороги были забиты машинами, я 11 июня выехал из Парижа вслед за правительством Рейно, которое днем раньше уже перебралось в Тур. В этой сумятице и неразберихе немецкая «пятая колонна» во Франции либо сами немцы предприняли любопытную «психологическую операцию»: они начали распространять слухи, будто «Россия объявила войну Германии», для того чтобы французы загорелись отчаянной надеждой, что, может быть, их страну спасут русские, а потом впали в еще большее уныние, когда узнали бы, что это неправда. Но характерно, с какой радостью французский народ ловил тогда эти слухи; это значит, что он тогда уже сознавал, что только вступление в войну Советского Союза может принести победу.
Было интересно изучать потом, какую реакцию война на Западе вызывала в Советском Союзе и как это отражалось в советской прессе; в самом деле, потребовалось немного времени, чтобы в Советском Союзе поняли, что французская армия, имевшая в глазах русских такую высокую репутацию, оказалась столь же неспособной противостоять немецкому блицкригу, как и польская армия. Потери немцев на Западе были незначительны. Если Франция потеряла 112 тысяч человек убитыми (не считая раненых и 2 миллионов, взятых немцами в плен), то германские потери составляли только 30 тысяч убитых.
Советско-германский пакт продолжал существовать. Но главным образом под неблагоприятным впечатлением, какое произвели на него решительные победы Германии на Западе, Советское правительство приняло ряд новых мер предосторожности, таких, как принятие суровых трудовых законов и включение в состав Советского Союза Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины.
Несомненно, что в Москве ощущалось некоторое беспокойство при мысли, что Англия может тоже капитулировать. В конце «французской кампании» советская печать многозначительно указывала, что, хотя Франция, очевидно, и потерпела поражение, исход войны еще отнюдь не решен, поскольку две сильные группировки держав (Германия и Италия с одной стороны и Англия, «которой помогают Соединенные Штаты Америки» - с другой) еще продолжают войну. Речи Черчилля, в которых он говорил, что Англия продолжает войну, советская печать публиковала с чувством явного удовлетворения, так же как и сообщения о налетах английской авиации на Германию, а немного позже - сообщения о разного рода помощи, которую Америка оказывает Англии.
Германская воздушная война против Англии, начавшаяся со всей серьезностью в начале сентября, несомненно, действовала на воображение советского народа. В свое время в советской печати лишь очень коротко сообщалось о бомбардировках германскими самолетами Польши и Голландии, Бельгии и Франции, однако о воздушных налетах на Лондон (а позднее на Ковентри и другие города) она стала рассказывать несколько более подробно. Особенно примечательным было появившееся 5 октября сообщение корреспондента ТАСС в Лондоне Эндрю Ротштейна, в котором он рассказывал о своем посещении одной из зенитных батарей в окрестностях Лондона. Из этого отчета очень хорошо было видно, что германская авиация стала наталкиваться на возросшее сопротивление англичан (в сообщениях печати говорилось, что за истекший месяц она понесла очень крупные потери в воздушных боях над Англией) и что для английского народа это была справедливая, народная война, в которой решительно и упорно дрались также и рабочие, включая коммунистов. Это сообщение, напечатанное в «Правде» и других газетах, произвело глубокое впечатление на советский народ, так же как и другие сообщения о воздушных налетах на Лондон. Как раз в те дни поэт Николай Тихонов написал стихотворение, которое было опубликовано позднее:
Сквозь ночь, и дождь, и ветер, щеки режущий,
Урок суровый на ходу уча,
Уходит лондонец в свое бомбоубежище,
Плед по асфальту мокрый волоча.
В его кармане - холодок ключа
От комнат, ставших мусором колючим,
…Мы свой урок еще на картах учим,
Но снится нам экзамен по ночам[10].
Это стихотворение отражало нараставшее у советских людей предчувствие, что избежать войны с нацистской Германией, пожалуй, не удастся: «Снится нам экзамен по ночам…» Во многих мемуарах, написанных после войны, как, например, в воспоминаниях адмирала Н.Г. Кузнецова (Октябрь. 1965…№ 9, 11), говорится, что многие советские военные руководители, особенно к концу 1940 г., пришли к убеждению, что нападение Германии на Советский Союз стало неизбежным. Кузнецов доказывает, что немцы не попытались в 1940 г. вторгнуться в Англию потому, что у них не было достаточно сильного флота. Несомненно также, что Гитлер не решался начать генеральную атаку на Англию, покуда на востоке, у него в тылу, находился могущественный Советский Союз.
Визит Молотова в Берлин в ноябре 1940 г., конечно, еще больше обострил в советских людях сознание грозящей со стороны Германии опасности. Хотя Молотов (дважды встречавшийся с Гитлером) говорил с ним главным образом о том, что беспокоило Советский Союз больше всего, - о проникновении Германии в Румынию и на Балканы, об отправке германских войск в Финляндию и пр. - Гитлер в ответ делал ему нелепые предложения насчет присоединения СССР к «тройственному пакту» Германии, Италии и Японии, чтобы он мог потом принять участие в разделе Британской империи и распространить сферу своего влияния в направлении Персидского залива и Индийского океана. Советский представитель осторожно замечал на это, что Англия еще не проиграла войну, а потом не выдержал и сказал Риббентропу в бомбоубежище, куда их загнал очередной налет англичан: «Если вы так уверены, что с Англией покончено, то почему мы сейчас сидим в этом бомбоубежище?»
Хотя Гитлер еще в июле 1940 г. приказал готовить планы вторжения в Советский Союз, окончательное решение начать «операцию Барбаросса» было принято им лишь 18 декабря 1940 г.
Англия тем временем зашла в своего рода тупик. Воздушные бои над Британскими островами в сентябре она выиграла, и немцы, не сумев уничтожить английскую авиацию, сочли, что главное предварительное условие для попытки вторжения осталось невыполненным. Бомбардировки Лондона и других городов, последовавшие за воздушными боями в сентябре, причинили серьезные разрушения и довольно большие человеческие жертвы, но английская промышленность пострадала мало и даже людские потери Англии были невелики по сравнению с теми, что были нанесены бомбовыми рейдами англо-американцев на германские города в позднейший период войны. В Дрездене в 1945 г. за одну ночь было убито 135 тысяч человек. Максимальное число убитых в Лондоне даже во время сильнейших налетов никогда не превышало 2 тысяч за одну ночь. Для города с 8-миллионным населением это было «терпимо». Бомбардировки такого масштаба не могли серьезно подорвать моральное состояние гражданского населения. На море Англия тоже несла хотя и серьезные, но не катастрофические потери, и положение с продовольствием, хоть и не столь уж хорошее, никогда не доходило до отчаянного.
Но на вопрос, как выиграть войну, Англии было по-прежнему очень трудно ответить. Налеты германской авиации возбудили патриотические чувства в английском народе, и дух национального сопротивления был очень высок. Старые мюнхенцы притихли, а Черчилль своим красноречием хорошо передавал подлинные настроения английского народа. Данная им Гитлеру характеристика, «кровожадный подонок», точно соответствовала мнению английского народа о бесноватом «фюрере». Но все-таки как же выиграть эту войну? Помню мою интересную беседу с генералом де Голлем, лидером «свободных французов» в Лондоне, в январе 1941 г. Он развивал свои доводы так: «Англичане воображают, что если они будут все сильней и сильней бомбить Германию, они в конце концов ее победят. Но это очень маловероятно. Немцы умеют играть в эту игру тоже. Надо что-то совсем другое. Сейчас мы - и Англия, и «Свободная Франция» - в тупике. Но так продолжаться не может. Поверьте, мы с вами только в начале очень большой войны».
И он намекнул мне, что и США, и Советский Союз рано или поздно будут втянуты в эту войну и что это-то и будет иметь решающее значение.
(обратно)Глава III. Советский Союз в последние дни мира
В Советском Союзе трагический 1941 год начался в атмосфере официального оптимизма. Новый год был отпразднован весело: устраивались грандиозные новогодние праздники для детей; в миллионах домов люди, встречая Новый год, обменивались поздравлениями и лучшими пожеланиями. Пресса подчеркивала, что у Советского Союза есть все основания быть довольным минувшим 1940 годом, что в дело обучения и воспитания личного состава Красной Армии и Военно-Морского Флота внесены коренные улучшения. Писалось, что, вступая в четвертый год третьей пятилетки, «советский народ смотрит в будущее радостно и уверенно». Через несколько дней было опубликовано сообщение о заключении нового советско-германского торгового соглашения «на период от 11 февраля 1941 года по 1 августа 1942 года». Но уже через три дня после этого стало ясно, что не все идет хорошо: было сообщено, что немцы начали перебрасывать свои войска в Болгарию, и ТАСС категорически отрицал, что это будто бы происходит «с ведома и согласия СССР»; наоборот, заявлялось, что это делается «без ведома и согласия СССР»[11].
Газеты поместили подробный отчет о речи Гитлера 30 января, в которой он предрекал новые победы над англичанами и заявлял, что Соединенные Штаты, помогая Англии, только «тратят даром время». Но, что больше всего поразило русских, в речи не было никакого упоминания о Советском Союзе. Более того, в конце речи стояла такая маленькая, но зловещая фраза: «Я учел всякую возможность, какая только мыслима».
В Советском Союзе все больше и больше стали уделять внимания военной и профессиональной подготовке, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, подготовке кадров промышленных рабочих в школах ФЗУ, насчитывавших 600 тысяч учащихся, и других трудовых резервов. Слова «мобилизационная готовность» вновь и вновь повторялись в устной пропаганде и в печати. В День Красной Армии, 23 февраля, «Правда» опубликовала статью генерала Г.К. Жукова (незадолго до того вступившего на пост начальника Генерального штаба), пожалуй, менее оптимистичную, чем его речь два месяца назад. Он писал, что 1940 год был годом перелома, «перестройки системы обучения и воспитания войск», но давал понять, что реорганизация продолжается и что положение дел еще далеко от совершенства. Со времени финской войны, отмечал он, в армии уже произошли большие перемены, например «укреплено единоначалие», но многое еще остается сделать и «зазнаваться и успокаиваться на достигнутом» не надо. Статья выдавала некоторое чувство беспокойства и наталкивала на вывод, что происходящие в Красной Армии «большие перемены» вряд ли будут завершены до 1942 г.
Росло беспокойство и у других военных и военно-морских командиров, как это мы знаем теперь, например, из воспоминаний адмирала Н.Г. Кузнецова «Перед войной». 25 февраля Гитлер выступил с новой речью, в которой опять предсказывал новые крупные победы над Англией и опять ничего не упоминал о Советском Союзе. 3 марта Вышинский заявил, что Советское правительство «не может разделить мнения» болгарского правительства, что ввод в Болгарию германских войск «преследует мирные цели на Балканах». Напротив, сказал он, эта мера, по мнению СССР, «ведет не к укреплению мира, а к расширению сферы войны», вследствие чего Советское правительство не может «оказать какую-либо поддержку болгарскому правительству в проведении его нынешней политики».
Германские войска стояли теперь в Венгрии, Болгарии и Румынии. Но в Белграде 27 марта вспыхнуло народное восстание против превращения Югославии в германского сателлита при потворстве ее правителей. Группа офицеров во главе с генералом Симовичем организовала переворот. Это произошло через два дня после того, как премьер Цветкович со своим министром иностранных дел с благословения регента, принца Павла, подписали в Вене соглашение о присоединении Югославии к тройственному пакту между Германией, Италией и Японией. Переворот Симовича вызвал огромный энтузиазм среди сербских народных масс и ярость Гитлера.
Стремясь остановить надвигавшуюся угрозу немецкой агрессии на Балканах и, вероятно, еще не зная о том, что Гитлер решил вторгнуться в Югославию, Советское правительство поспешило заключить договор о дружбе и ненападении с новым югославским правительством. Характерно, однако, что оно не предложило Югославии пакт о взаимопомощи, который обязал бы СССР предпринять немедленные военные действия в случае германского нападения.
Договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией был торжественно подписан в Москве 5 апреля 1941 года. А меньше чем через двадцать четыре часа немцы ворвались в Югославию, и их авиация сбросила тысячи бомб на беззащитный Белград. 7 апреля «Правда» на последней странице напечатала сообщение ТАСС из Берлина о том, что Германия объявила войну Югославии и Греции и что германские войска начали военные операции против обеих этих стран. Про массированную бомбардировку Белграда - месть Гитлера на «неслыханное оскорбление», какому он подвергся, - советские газеты умолчали, хотя, как выяснится со временем, героическое восстание и трагическое сопротивление югославов, по счастью, на несколько недель отсрочили германское нападение на СССР.
Немецкая оккупация Югославии не встретила никакой официальной реакции в Советском Союзе. Все, чем ограничился Наркомат иностранных дел в ближайшие несколько дней, - это поручил Вышинскому сообщить венгерскому посланнику, что «Советское правительство не может одобрить» того, что «Венгрия начала войну против Югославии».
11 апреля в советской печати появился отчет о речи Черчилля, в которой он сказал, что за последние несколько месяцев немцы сосредоточили крупные танковые и другие войска в Болгарии, Венгрии и Румынии. Но пресса воздержалась от каких-либо комментариев и в ближайшие несколько недель продолжала сообщать в стандартной и «объективной» манере об успехах немецких войск в Югославии, Греции и на Крите.
Трагическая судьба Югославии, сосредоточение немецко-фашистских войск в странах Юго-Восточной Европы, сопредельных с СССР, - все это были слишком явные признаки приближения военной бури к советскому дому. Схватка с Гитлером казалась теперь неизбежной.
В советских романах и кинофильмах, выпущенных как во время, так и после войны, сообщение о германском вторжении 22 июня 1941 г. часто представляется как совершенная неожиданность. «Жизнь была такой мирной и счастливой, мы собирались поехать в отпуск, и вдруг в этот солнечный воскресный день…»
Как ни странно, именно так и было с очень многими простыми советскими гражданами, которые были уверены, что Гитлер никогда не осмелится напасть на СССР. Другие, более умудренные опытом реагировали подобно герою романа Симонова «Живые и мертвые»: «Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно». Но политически мыслящие люди в Советском Союзе с некоторых пор уже должны были знать, что опасность войны огромна.
Вот уже несколько месяцев, как Кремль получал на этот счет особые и серьезные предупреждения. В начале февраля, после своего визита в Анкару, Стаффорд Криппс сообщил советскому Комиссариату иностранных дел, что немцы готовятся вторгнуться на Балканы и что в «недалеком будущем» они планируют также нападение на Советский Союз. Примерно в это же время Самнер Уэллес передал аналогичную информацию советскому послу в Вашингтоне Константину Уманскому. В апреле последовало знаменитое послание Черчилля Сталину. Эти предупреждения воспринимались с подозрительностью, как «не беспристрастные»; несомненно, советские руководители опасались, что англичане и американцы стремятся втравить русских в войну и превратить их в «английскую пехоту». Однако в послевоенной советской «Истории войны» утверждается, что и советская разведка в Польше, Чехословакии и даже в Германии давала правительству обширную информацию о происходящем.
Как бы то ни было, можно наверняка сказать, что Сталин и Молотов оба полностью сознавали угрозу нападения Германии, но все еще надеялись, что они могут отсрочить роковой час - по крайней мере до осени, когда немцы, быть может, не решатся напасть; а потом, к 1942 г., СССР сможет лучше подготовиться к войне.
Договор, заключенный СССР с Югославией, не напугал и не остановил Гитлера. Правда, перед этим был проведен ряд маленьких и субтильных «антигерманских» демонстраций - кое-какие булавочные уколы в прессе, как мы видели, и еще несколько небольших демонстраций, таких, как присуждение в марте 1941 г. Сталинской премии яро антинемецкому фильму Эйзенштейна «Александр Невский», а также некоторым другим произведениям, выдержанным в определенно патриотическом духе и направленным против захватчиков, таким, как роман Алексея Толстого «Петр Первый», оратория Шапорина «На поле Куликовом» и роман Сергеева-Ценского об обороне Севастополя. Что касается закулисных разговоров, то в конце марта заместитель председателя Исполкома Коминтерна Д. 3. Мануильский заявил, что, по его мнению, «войны с нацистской Германией теперь вряд ли избежать». Эти его слова обошли всю Москву. Больше того, в марте группа советских офицеров из окружения маршала С.К. Тимошенко пригласила на вечер английского военного атташе. Разговоры велись сдержанно и осторожно, пока атмосфера не потеплела, и дело кончилось тем, что некоторые советские командиры стали пить за «победу над нашим общим врагом». Они не скрывали своей глубокой озабоченности общей обстановкой и особенно положением на Балканах[12].
Официально, конечно, советские власти не выражали никакого беспокойства. После подписания советско-югославского договора югославский посланник в Москве Гаврилович (как он мне сам потом об этом рассказывал) спросил у Сталина: «А что будет, если немцы повернут против вас?» На что Сталин ответил: «Что ж, пусть попробуют!»
13 апреля - в день падения Белграда - был подписан пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Это была сомнительная гарантия, но. все же какая-то гарантия, которой русские заручились перед лицом растущей германской угрозы. Все в Москве были поражены тем, как исключительно любезен был Сталин с Мацуокой, японским министром иностранных дел, который приехал из Берлина в Москву для подписания пакта.
Сталин даже совершил такой беспрецедентный жест, что лично явился на вокзал проводить Мацуоку. На перроне он обнял его и сказал: «Ведь мы тоже азиаты, а азиаты привыкли держаться вместе!» Заручиться в этих условиях нейтралитетом Японии, взять с Японии обещание не нападать на СССР независимо от каких-либо обязательств, подписанных ею с «третьими сторонами», было действительно немалым достижением. Пока Япония будет верна своему слову, Советскому Союзу не будет грозить война на два. фронта в случае нападения Германии. Сталин был в необычно веселом настроении во время этих проводов и, расхаживая под руку с Мацуокой по перрону, даже обменивался рукопожатиями с железнодорожными служащими и пассажирами, которые случайно попадались ему навстречу.
Правда, он также обхватил рукой за шею и германского военного атташе полковника фон Кребса, который тоже пришел проводить Мацуоку, сказав: «Мы и с вами тоже останемся друзьями, не правда ли?» Но что для Сталина было важнее всего в этот день, так это пакт с Японией. В отношении немцев Сталин больших иллюзий не питал. Характерно, что в конце апреля он позвонил Илье Эренбургу и сказал, что его антинацистский роман «Падение Парижа» теперь можно будет опубликовать. (Эренбург по этому телефонному звонку заключил, что война с Германией стала теперь, по мнению Сталина, неизбежной.)
В день Первого мая состоялся весьма внушительный парад на Красной площади, в котором участвовали моторизованные части, много новых танков KB и Т-34, сотни самолетов. В Москве ходили слухи, что все эти войска прямо из Москвы пойдут в Минск, Ленинград и на польскую границу. Посол граф Шуленбург записал 2 мая, что в Москве сгущается напряженная атмосфера и что слухи о предстоящей советско-германской войне становятся все более настойчивыми. В этот день Гитлер выступил с речью о войне на Балканах; как и в двух предыдущих речах, он опять ничего не сказал о Советском Союзе.
5 мая в Кремле был устроен прием для сотен молодых офицеров, выпускников военных академий. На приеме выступил с речью Сталин. Официально об этой речи ничего не сообщалось сверх того, что на следующий день было напечатано в «Правде». Статья в «Правде» была озаглавлена: «Торжественное собрание в Большом Кремлевском дворце, посвященное выпуску командиров, окончивших военные академии». В ней было написано:
«Товарищ Сталин в своем выступлении отметил глубокие изменения, происшедшие за последние годы в Красной Армии, и подчеркнул, что на основе опыта современной войны Красная Армия перестроилась организационно и серьезно перевооружилась. Товарищ Сталин приветствовал командиров, окончивших военные академии, и пожелал им успеха в работе. Речь товарища Сталина, продолжавшаяся около 40 минут, была выслушана с исключительным вниманием».
Ясно, что за 40 минут он сказал гораздо больше, чем только это.
Указом Президиума Верховного Совета от 6 мая 1941 г. Сталин, бывший до тех пор «только» Генеральным секретарем ЦК партии, был назначен Председателем Совета Народных Комиссаров, то есть главой Советского правительства. Молотов стал заместителем Председателя СНК, оставаясь в то же время наркомом иностранных дел.
Широкая публика, естественно, увидела сигнал опасности в этом назначении Сталина главой правительства; ведь если бы условия были более нормальные, этого не произошло бы. Одним из тех, на кого эти перемены в правительстве произвели наибольшее впечатление, был германский посол граф Шуленбург, который в ряде своих депеш в Берлин утверждал, что Сталин решительно против всякого конфликта с Германией. Но в Берлине не очень-то прислушивались к его рекомендациям проводить умеренную политику; Гитлер уже давно решил напасть на СССР, и его мало интересовало, что думал или что советовал делать Шуленбург, сторонник традиционной бисмарковской «Ostpolitik» («восточной политики»).
В ближайшие после этого несколько недель мы были свидетелями ряда таких странных на первый взгляд шагов Советского правительства, как закрытие посольств и миссий стран, которые были теперь оккупированы немцами, таких, как Бельгия, Греция и Югославия, что означало признание - если не де-юре, то де-факто - их захвата Германией. С другой стороны, в мае 1941 г. было официально признано недолговечное антианглийское правительство Рашида Али в Ираке - стране, с которой Советский Союз не имел ранее дипломатических отношений.
В довершение всего военным властям в пограничных и других районах были вновь даны строжайшие указания ни в коем случае не сбивать немецкие самолеты, совершавшие многочисленные разведывательные полеты над советской территорией.
Также в мае, через несколько дней после назначения Сталина главой правительства, Москва была озадачена и встревожена сенсационной новостью о полете Гесса в Англию. 12 мая ТАСС сообщал из Берлина, что, по словам немцев, Гесс «сошел с ума»; но в телеграммах ТАСС из Лондона об этом ничего не говорилось, и сразу же возникло подозрение о готовящейся англо-германской сделке - за счет русских, разумеется.
Однако советская печать очень мало писала про Гесса и этот его шаг. Это была щекотливая тема в момент, когда все внимание надо было уделять состоянию отношений с нацистской Германией. Все делалось, чтобы не раздражать Гитлера. В частности, полным ходом продолжались поставки нефти и других дефицитных товаров Германии, тогда как последняя не торопилась с отправкой в СССР промышленного оборудования в соответствии с соглашением.
В то время как Шуленбург продолжал сохранять дружественный тон в своих беседах с Молотовым, германское правительство ровно никак не отвечало на дружественные экономические и дипломатические жесты советских властей. Представляется поэтому, что не иначе как с целью зондажа Сталин - точно за неделю до германского вторжения - решил опубликовать знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня - документ, которому суждено будет занять видное место во всех советских трудах по истории войны. Вот текст этого знаменитого сообщения ТАСС:
«Еще до приезда английского посла в СССР г. Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о «близости войны между СССР и Германией». По этим слухам: 1) Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения между ними; 2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР; 3) Советский Союз в свою очередь стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска у границ последней.
Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны.
ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо».
Советская «История войны», критикуя Сталина за это сообщение ТАСС, конечно, вполне права, когда заявляет, что в этот день было уже слишком поздно «прощупывать» намерения Германии; но, с другой стороны, она, как мне кажется, преувеличивает усыпляющее действие этого сообщения ТАСС на советский народ.
Советские люди к тому времени уже достаточно привыкли читать правительственные сообщения между строк, чтобы не увидеть косвенного намека в такой фразе: «переброска германских войск… связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям». Очень многие русские, которых это сообщение ТАСС далеко не успокоило, следующие несколько дней с тревогой ожидали, какова будет «реакция» на него Берлина. По словам бывшего румынского посланника в Москве Гафенку, тысячи людей сидели в эти дни за своими радиоприемниками, ожидая новостей из Берлина. Но они так ничего и не услышали. Германское правительство никак не ответило на это сообщение ТАСС и даже не опубликовало его. Когда вечером 21 июня Молотов вызвал к себе Шуленбурга, было уже слишком поздно.
Шуленбург, видимо, ничего не зная о планах Гитлера, не мог дать никакого ответа на тревожные вопросы Молотова о «причинах недовольства Германии», а когда он возвратился в посольство, там его ждали уже инструкции Риббентропа - посетить Молотова и, «не вступая с ним ни в какие дискуссии», зачитать ему переданный с этой же телеграммой документ, набор обычных для Гитлера грубых ругательств, который был фактически объявлением войны. С болью в душе посол направился, когда уже забрезжил рассвет, обратно в Кремль и зачитал документ Молотову. По словам Шуленбурга, Молотов молча выслушал его, а потом сказал с горечью: «Это война. Как вы думаете, неужели мы этого заслужили?»
Вопрос, почему Сталин дал «застигнуть себя врасплох», остается темой продолжающихся споров в советской исторической литературе последнего времени. Одни советские авторы выдвигают теорию, что Сталин питал столь патологическую подозрительность к Англии и Америке, что любую исходившую от них информацию неизбежно рассматривал как «провокацию», как попытку втянуть Советский Союз в войну с Германией. Я думаю, что это слишком упрощенное объяснение. Помимо «подозрительных» сообщений из Англии и Америки, у Сталина были собственные источники информации. Но он надеялся чуть не до самого последнего момента, что ему удастся предотвратить столкновение, если он не будет давать немцам абсолютно никакого повода для нападения. Как я сказал выше, сообщение ТАСС от 14 июня он опубликовал, видимо, с целью зондажа, все еще надеясь получить какой-то ясный ответ от Германии. Сталин, очевидно, знал, что Германия нападет, но он надеялся «дипломатическими» средствами отсрочить его хотя бы на несколько недель. Кстати, 1 августа Гитлеру было бы уже слишком поздно начинать решающую кампанию 1941 года.
Хочется добавить здесь несколько слов о моем собственном отношении к тому, что произошло. На страшно переполненном судне для «беженцев» я вернулся из Бордо в Англию 22 июня 1940 г., то есть ровно за год до нападения Гитлера на Советский Союз.
Весь этот год я провел в Лондоне, отдежурив около 50 ночей в пожарной охране, когда мне не раз приходилось тушить зажигательные бомбы на крыше здания редакции газеты «Манчестер гардиан» на Флит-стрит в Лондоне. Это был мой скромный вклад в оборону Англии. Должен сказать, что в то время общая атмосфера в Англии, которая с июня 1940 по июнь 1941 г. боролась с Гитлером один на один, была какая-то приподнятая.
Английский народ был настроен бодро и воинственно, и не наблюдалось ничего похожего на «пораженчество». Если, как указывал потом де Голль, в Англии и были кое-какие кандидаты на роль лавалей и петенов, они всю эту осень и зиму вели себя очень тихо. После того как англичане одержали победу в крупных воздушных боях августа - сентября 1940 г., в этой «битве за Англию», когда Гитлер не сумел побороть и сломить английские военно-воздушные силы, в них родилось большое чувство национальной гордости и веры в свои силы, подорвать которое не смогли никакие бомбардировки Лондона; наоборот, эти налеты на Лондон только разожгли в англичанах еще большую злость против гитлеровцев[13]. Я был настолько поглощен весь этой борьбой Англии против Гитлера, что в течение нескольких месяцев вообще мало думал о том, что творится во внешнем мире. В начале 1941 г. стало ясно, что США будут оказывать Англии все большую помощь, и это тоже хорошо повлияло на моральное состояние англичан.
То, что Гитлер начинал все больше действовать на нервы Советскому Союзу, можно было хорошо видеть по многим признакам, о которых я говорил выше. Отчетливо было видно также, что Черчилль не считает Советский Союз «союзником Гитлера», как его называли обычно антисоветские газеты. После падения Франции он направил послом в Москву Стаффорда Криппса. И хотя к тому времени ничего определенного об этом еще не было слышно, тем не менее усиливалось впечатление, что «дружба» между Советским Союзом и Германией не очень-то велика и прочна. А потом появился ряд интересных сообщений, исходивших главным образом от американских корреспондентов в Берлине, о том, что визит туда Молотова в ноябре проходил в очень напряженной атмосфере.
Еще позднее, в начале 1941 г., стало ясно, что Советский Союз очень сильно встревожен германским проникновением на Балканы, и заключение договора о дружбе между СССР и Югославией произвело огромное впечатление на всех.
Слухи о готовящемся германском нападении на Советский Союз начали широко распространяться примерно с апреля 1941 г.
Несмотря на «умиротворительные» жесты Сталина, продолжали поступать все более авторитетные сообщения о том, что немцы собираются напасть на Советский Союз. Помню, 20 июня я беседовал с членом английского правительства Р.А. Батлером, который категорически мне заявил, что 22 июня германские войска вторгнутся в Советский Союз. Здесь я должен сознаться, что как журналист допустил тогда ошибку. Я был дипломатическим корреспондентом «Санди таймс» и вечером 21 июня оказался перед трудной дилеммой. Должен ли я написать: «Вторжение неминуемо»? Я воздержался по очень простой причине.
В отличие от чуть ли не всех англичан, которые считали, что, если Гитлер нападет на СССР, он быстро и легко одержит над ним победу, я был убежден, что, если Гитлер решится на это, он проиграет войну, а я все еще сомневался, сошел ли уже Гитлер с ума в такой степени, чтобы пойти на этот отчаянный риск. Поэтому в конце концов, хотя я и написал для своей газеты, что Гитлер, возможно, нападет на Россию (поскольку было уже такое множество доказательств, что он это сделает), я все же указал, что шансов на это половина на половину, поскольку такой шаг был бы чреват для Германии огромной опасностью. Я оказался неправ. Но в конечном счете мой «журналистский инстинкт» меня не обманул… Были в то время в Англии люди - правда, их было очень немного, - которые с самого начала считали, что Гитлер потерпит поражение (к ним относились, например, Бернард Шоу и историк Бернард Пэре).
Но официальные военные эксперты предполагали, что Гитлер выиграет эту войну за несколько недель или месяцев. Мне с самого начала было ясно, что советский народ ведет народную, отечественную войну, и я соглашался с Пэрсом, что она имеет много общего с войной 1812 г., что это такая же Великая Отечественная война…
После визита к сохранявшему сдержанный оптимизм И.М. Майскому (у которого я часто бывал эти последние два-три года и который теперь собственноручно подписал мою визу) я 2 июля вылетел из Лондона через Архангельск в Москву.
И хотя некоторые говорили мне: «Будем надеяться, что ты попадешь в Москву раньше Гитлера», я вылетел туда в общем-то в бодром и оптимистическом настроении, полный желания узнать неизведанное. 4 июля я был в Москве. Гитлера там не было, и я все время, что там провел, ни разу не сомневался, что ему туда так и не попасть. Но в тот момент я, возможно, еще недооценивал, с какими огромными трудностями Советскому Союзу придется столкнуться в этом роковом 1941 году.
(обратно) (обратно)Часть вторая. От начала вторжения до битвы под Москвой
Глава I. Неподготовленность СССР к войне в июне 1941 г.
Рано утром 22 июня 1941 г. немцы приступили к выполнению «плана Барбаросса», над которым Гитлер и его генералы работали предшествующие полгода. А русские недостаточно подготовились к отражению их нападения. Немецкое наступление, начатое в трех направлениях (на Ленинград на севере, Москву в центре и Украину и Кавказ на юге) и ставившее конечной целью занять в короткий срок фактически всю территорию европейской части СССР вплоть до линии от Архангельска до Астрахани, потом провалилось. Но первые недели - по существу, первые три с половиной месяца войны - были для русских почти полной катастрофой. Основные силы советской авиации были уничтожены в первые же дни; были потеряны тысячи танков; сотни тысяч, а может быть, и миллион советских солдат попали в плен в результате ряда операций по окружению, осуществленных немцами за первые две недели войны; и ко второй неделе июля некоторые германские генералы уже считали войну фактически выигранной.
Почему это оказалось возможным? Согласно объяснению, данному Сталиным (которое много лет потом оставалось официальной версией), эти первоначальные неудачи были вызваны тем, что немцам в огромной степени помог элемент внезапности. Правда, впоследствии Сталин сам признал, что со стороны СССР были допущены «некоторые ошибки», но вначале об этих ошибках не упоминалось, и единственным объяснением, которое приводилось в июле, были «внезапность и вероломство» германского нападения.
Это объяснение не вполне удовлетворило советский народ в то время: многие годы ему столько говорили о колоссальной мощи Красной Армии, что безостановочное, неодолимое продвижение немцев, сумевших за первые три недели войны дойти до Смоленска, окрестностей Киева и подступов к Ленинграду, явилось для него страшным ударом. Многие задавались мучительным вопросом, как это могло случиться. Однако перед лицом страшной угрозы, нависшей над Советским Союзом, было не до анализа причин случившегося. Некоторые, правда, потихоньку ворчали, но как бы там плохо ни было и какие бы ошибки ни были совершены, единственное, что оставалось, - это сражаться с захватчиками. Очень скоро в сознание советских людей глубоко проникла идея Великой Отечественной войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Слова об «Отечественной войне», прозвучавшие в знаменитом выступлении Сталина по радио 3 июля, произвели на всех такое глубокое впечатление именно потому, что они отразили мысли, которые в тех трагических обстоятельствах народным массам хотелось услышать в четкой и ясной формулировке. Потрясенная и ошеломленная страна получила наконец конкретную программу действий.
Это не меняет того факта, что вначале СССР оказался совершенно не подготовленным к отражению германского нападения.
При жизни Сталина не делалось серьезных попыток вскрыть и проанализировать многочисленные коренные и ближайшие причины военных неудач 1941 г., и фактически только после XX съезда КПСС в 1956 г. советские военные историки принялись объяснять, что же произошло в действительности.
Объяснения поражений 1941 г. многочисленны и затрагивают очень широкий круг вопросов. Из главных коренных причин одни являются историческими (например, чистки 1937 г. в Красной Армии), другие - психологическими (постоянная пропаганда тезиса о непобедимости Красной Армии), третьи - профессиональными (отсутствие у Красной Армии настоящего опыта ведения войны по сравнению с немцами и во многих случаях низкий уровень боевой подготовки) и, наконец, четвертые - экономическими (несмотря на передышку, предоставленную советско-германским пактом, советская военная промышленность не сумела превратить Красную Армию в хорошо оснащенную современную армию).
Одним из важнейших русских изданий последнего времени является труд «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», первый том которого вышел из печати в 1960 г. Этот труд с подкупающей откровенностью объясняет многие печальные события 1941 г. В частности, в нем довольно подробно анализируется плохая психологическая подготовка к будущей войне и Красной Армии, и советского народа в целом.
Так, 1-й том обращает особое внимание на тенденцию принимать желаемое за действительное, пронизывавшую пресловутый проект Полевого устава 1939 г.
Советская «История войны» резко критикует этот документ, как и другие военно-теоретические пособия, ходившие в Красной Армии до 1941 г.
«В принципе, - говорится там, - эти положения были правильными… Однако… указания проекта Полевого устава воспринимались слишком прямолинейно, догматически… Недооценивалась возможность вторжения вражеских войск на… советскую землю»[14], Советская теория стратегии отрицала эффективность «молниеносной войны», отвергая ее как однобокую буржуазную теорию. Советская военная теория базировалась в большой степени на принципе, что всякое нападение на Советский Союз завершится полным разгромом врага на его собственной территории.
Таким образом, советская военная теория делала весь упор на наступление, а неспособность Польши и Франции отразить нападение немцев слишком легко объяснялась: а) отсутствием организованного сопротивления и б) подрывной деятельностью «пятой колонны» во Франции и неоднородным национальным составом армии в Польше.
«Советская стратегия признавала оборону необходимым видом вооруженной борьбы, но подчеркивала ее подчиненную роль по отношению к наступлению. При этом вопросы обороны наша теория разрабатывала неполно. Она считала оборону возможной и необходимой на отдельных направлениях, но не на всем стратегическом фронте. В принципе стратегия считала возможным вынужденный отход, но только на отдельных участках фронта и как временное явление, связанное с подготовкой наступления. Не разрабатывался вопрос о выводе крупных сил из-под угрозы окружения…» (курсив мой. - А. В.)[15]
В «Истории войны» содержится ссылка на еще один важный момент, а именно «отрицательное влияние», которое оказывал на развитие советской военной науки культ личности Сталина.
«Культ личности вел к догматизму и начетничеству, сковывавшим инициативу военных исследователей. Он вынуждал ждать указаний одного человека, искать подтверждения теоретических положений не в самой жизни и практике, а в готовых формулах и цитатах… Отсутствовало такое решающее условие успеха научного творчества, каким является широкое обсуждение вопросов военной теории»[16].
Имелись и другие недостатки. Красная Армия обладала очень небольшим опытом ведения современной войны. Ее единственным большим опытом была гражданская война 1918-1920 гг., но она была очень мало похожа на современную войну. Правда, после этого была война в Испании, в которой русские принимали некоторое участие, но, как говорится в «Истории войны»:
«Своеобразный и ограниченный характер боевых действий в Испании был истолкован однобоко. Например, из опыта этой войны пришли к выводу о нецелесообразности существования крупных бронетанковых соединений, родиной которых являлась наша страна. На основе этого ошибочного вывода в 1939 г. были расформированы механизированные корпуса, которые в дальнейшем пришлось воссоздать уже непосредственно накануне Отечественной войны»[17].
В 1938-1939 гг. велись также успешные бои против японцев у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, но они тоже не были похожи на большую войну, начавшуюся в 1941 г. Кое-какие горькие уроки были, правда, извлечены из зимней войны в Финляндии, но их не успели достаточно широко претворить в практику. Что же касается вторжения немцев в Польшу и во Францию, то в Красной Армии существовала безответственная тенденция воображать, будто «у нас этого не может произойти» - по крайней мере на широком фронте.
Этот безответственный оптимизм и тенденция принимать желаемое за действительное нашли свое полное отражение в политико-воспитательной работе в Красной Армии в 1940 - 1941 гг. «История войны» сейчас признает, что в этой области был допущен ряд ошибок, особенно в вопросах, касающихся Германии. Под влиянием советско-германского пакта антинацистская пропаганда была почти сведена на нет. Не делалось ровно ничего, чтобы дать понять, что наиболее вероятным противником России в будущей войне является Германия. Значительная часть пропаганды как в армии, так и среди советского народа в целом была в 1940 г. и даже в 1941 г. проникнута в высшей степени инфантильным стремлением принимать желаемое за действительное.
«Большой вред воспитанию советского народа в духе преодоления трудностей возможной войны, - говорится в «Истории войны», - нанесли настроения легкой победы над врагом, распространявшиеся накануне войны… Такие настроения… культивировали, например… фильмы «Если завтра война» и др. Некоторые газеты, в том числе и армейские, давали этим неполноценным и легковесным произведениям положительную оценку, усугубляя наносимый ими вред.
Некоторые… авторы… считали, что при первых выстрелах войны любое империалистическое государство немедленно развалится. Они не придавали значения тем большим усилиям, которые предпринимались в фашистских странах для одурманивания народных масс, террористической расправы с непокорными, для создания личной материальной заинтересованности солдат и офицеров, а также их семей в военном грабеже»[18].
Таковы, согласно советской «Истории войны», главные причины психологической неподготовленности советского народа и Красной Армии к германскому вторжению в 1941 г.
Не менее серьезной, чем эта психологическая неподготовленность к войне против нацистской Германии, была военная неподготовленность Красной Армии как в смысле отвечавшего современным требованиям обучения ее личного состава, так и с точки зрения количества, а особенно качества ее снаряжения.
В этой связи встает важный вопрос: действительно ли Советское правительство полностью использовало 22-месячную передышку, предоставленную ему советско-германским пактом?
В настоящее время советские историки доказывают, что в 1940-1941 гг. Советский Союз имел очень прочную промышленно-экономическую базу, заявляют, что «трудно переоценить значение тех оборонных мероприятий, которые были проведены в СССР за неполных 22 месяца…»[19], но признают, что это не дало тех конечных результатов, на какие можно было рассчитывать. С одной стороны, верно, что, как говорится в «Истории войны»:
«Советская экономика располагала материально-технической базой, позволявшей… развернуть массовое производство всех видов современного вооружения и боевой техники и одновременно обеспечить… потребности Советских Вооруженных Сил и населения в условиях войны»[20].
Советский Союз имел крупнейшую в Европе машиностроительную промышленность; за три пятилетки в нем было построено около 9 тыс., новых крупных промышленных предприятий: 1500 за первую пятилетку, 4500 - за вторую и 3000 - за первые три года третьей пятилетки (то есть до 1941 г.). В 1940 г. в СССР было выплавлено 18,3 млн. т стали, добыто 31 млн. т нефти и 166 млн. т угля; в 1941 г. эти показатели предполагалось значительно увеличить. Военные расходы составляли в годы второй пятилетки только 12,7% бюджета, но с начала мировой войны они выросли до 26,4%. Начиная с сентября 1939 г. партией и правительством были приняты меры для расширения производственной мощности некоторых отраслей военной промышленности, в частности авиационной, по меньшей мере на 100% в ближайшие полтора-два года. Но одно дело - все эти планы, и совсем другое - достигнутые результаты. По признанию «Истории войны», к концу 1940 г. они все еще были крайне неутешительными; не стали они особенно значительными и к середине 1941 г. - моменту германского вторжения.
«Новые советские самолеты - истребители Як-1, МиГ-3 и бомбардировщик Пе-2 - стали выпускаться лишь в 1940 г. и в очень малом количестве. Так, например, самолетов МиГ-3 было произведено в 1940 г. 20, Як-1 - 64, а Пе-2 насчитывалось всего 1-2 машины. В первой половине 1941 г. положение улучшилось. Истребителей новых типов - МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1 - промышленность дала 1946, бомбардировщиков Пе-2 - 458 и штурмовиков Ил-2 - 249.
Однако это количество машин не могло изменить общего соотношения старых и новых самолетов в войсках…»[21]
Не лучших показателей добилась и танковая промышленность. В июне 1941 г. Красная Армия имела очень большое количество танков, но почти все они были устаревших типов.
Новые танки KB и Т-34, доказавшие впоследствии свое превосходство над германскими танками, в 1939 г. еще не были пущены в производство. В 1940 г. было произведено всего 243 танка KB и 115 танков Т-34; внушительное увеличение было достигнуто только в первой половине 1941 г., когда с конвейеров сошло 393 танка KB и 1100 танков Т-34.
«Недопустимо медленно» расширялось также производство пушек, минометов и автоматического оружия. Вину за это «История войны» возлагает на заместителей наркома обороны Г.И. Кулика, Л. 3. Мехлиса и Е.А. Щаденко; Кулика, в частности, критикуют за то, что он пренебрегал производством автоматов, важность которых он упорно отрицал и отсутствие которых поставило советскую пехоту в крайне невыгодное положение. Выпуск боеприпасов отставал в 1941 г. даже от производства пушек. Хотя первые специальные противотанковые ружья были изготовлены в России в 1940-1941 гг., к началу войны армия их еще не получила[22].
В очень слабое положение ставило Красную Армию также отсутствие в Советском Союзе развитой автомобильной промышленности; в июне 1941 г. в СССР имелось всего 800 тыс. автомашин, и значительную часть орудий приходилось передвигать на лошадях или совершенно не приспособленными для этого сельскохозяйственными тракторами.
С другой стороны, по мнению многих экспертов, советская артиллерия была лучше немецкой: в 1940-1941 гг. началось массовое производство реактивных снарядов, впервые примененных в финскую войну, а знаменитые «катюши» почти с самого начала приобрели исключительную популярность в Красной Армии. Впервые они были введены в действие под Смоленском примерно в середине июля.
Радар был в Красной Армии в зачаточном состоянии, и даже обычная радиосвязь между армейскими частями не являлась общим правилом. «Многие командиры не умели пользоваться радиосвязью… предпочитали ей проводные средства»[23]. В условиях высокомобильной войны такая связь зачастую оказывалась совершенно бесполезной.
Это только один из многих примеров, показывающих, что в 1941 г. солдаты и офицеры Красной Армии нередко уступали своим немецким противникам в профессиональном отношении; по оценке самих советских военных руководителей, их солдаты и офицеры в сущности только в 1943 г. сравнялись в профессиональном отношении с солдатами и офицерами германской армии и даже превзошли их.
В 1941 г. лишь у очень немногих офицеров и солдат был непосредственный опыт участия в войне; при этом среди них было много новых людей, только недавно подготовленных для «замены» тысяч офицеров, ставших жертвами репрессий 1937-1938 гг. Хотя в августе 1940 г. был вновь введен принцип единоначалия путем упразднения военных комиссаров, отношения между многими командирами и политработниками оставались не очень хорошими, хотя (в июле 1940 г.) 54% офицеров были членами или кандидатами партии, а 22% - комсомольцами. Как мы увидим, офицеры полностью вступили в свои права только осенью 1942 г.
Серьезные упущения имелись и в подготовке специализированных войск, в частности танковых экипажей и летного состава. В «Истории войны» содержатся поразительные признания на этот счет. В день нападения немцев в приграничных районах не только не хватало современных танков и самолетов, но ощущался и серьезный недостаток хорошо подготовленных летчиков и танкистов.
«Танки Т-34 и KB начали поступать в приграничные округа лишь в апреле - мае 1941 г., и к началу войны во всех пяти военных приграничных округах их насчитывалось всего 1475, в том числе KB - 508, Т-34 - 967. Правда, в войсках имелось значительное количество танков старых типов (БТ-5, БТ-7, Т-26 и др.)…
Генеральный штаб СССР исходил из предположения, что эти войска будут полностью укомплектованы за те несколько дней, которые пройдут между мобилизацией и фактическим началом военных действий.
«Вся организация обороны государственной границы исходила из предположения, что внезапное нападение противника исключено, что решительному наступлению с его стороны будет предшествовать либо объявление войны, либо фактическое начало военных действий ограниченными силами, после чего советские войска смогут выдвинуться к своим оборонительным позициям и занять их… Не была создана оперативная и тактическая группировка сил для отражения вражеского удара»[24].
Далее в «Истории войны» приводится таблица, показывающая, что в главных районах вторжения немцы обладали несомненным численным превосходством над советскими войсками, но к этому превосходству добавлялось также большое качественное превосходство, так как среди советских солдат в приграничных районах имелось много новобранцев, не обладавших ни знаниями, ни опытом.
Трагична история о том, как были уничтожены, по большей части в первый же день вторжения, современные самолеты русских, сосредоточенные в западных районах.
Для новых скоростных самолетов требовалось удлинить взлетные полосы, поэтому летом 1941 г. в приграничных округах сооружалась новая аэродромная сеть. Строительство новых аэродромов и переоборудование старых находились в руках НКВД. Здесь в «Истории войны» имеется намек на безответственность и ошибки бериевской организации. Не считаясь с предостережениями военных, Берия принялся одновременно строить и переоборудовать большое количество аэродромов в приграничных округах.
«В результате… истребительная авиация скопилась на ограниченном количестве аэродромов, что лишило ее маневра, затруднило маскировку и рассредоточение. Кроме того, некоторые аэродромы… были придвинуты чрезмерно близко к границе, что делало их крайне уязвимыми в случае внезапного нападения авиации противника. Отсутствие готовой аэродромной сети к 22 июня 1941 г., скученное расположение авиационных частей на немногочисленных аэродромах мирного времени, многие из которых были хорошо известны противнику, явились одной из причин тяжелых потерь, понесенных нашей авиацией в первые дни войны»[25].
Тяжелым было положение в приграничных военных округах в тот день, 22 июня. Пропускная способность железных дорог в новых приграничных районах, вошедших в состав СССР начиная с 1939 г., была в три-четыре раза ниже, чем на германской стороне. Строительство укреплений вдоль новых границ также находилось в июне 1941 г. лишь в начальной стадии. Летом 1940 г. был разработан план укрепления западной границы, но он был рассчитан на несколько лет. Укрепления на старой границе (1938) были демонтированы, на новой же к началу войны было построено только несколько сот долговременных огневых точек и орудийных позиций. План строительства противотанковых рвов и других противотанковых и противопехотных препятствий был выполнен лишь на 25%. Немцы, конечно, прекрасно знали об этих укреплениях, аэродромах и т.п. «История войны» упоминает не только о засылке немцами начиная с 1939 г. многочисленных разведывательных групп на территорию СССР, но и о более чем 500 нарушениях советского воздушного пространства германской авиацией, из которых 152 имели место в первую половину 1941 г. Во избежание осложнений с Гитлером пограничные войска, согласно «Истории войны», получили строгий приказ не сбивать германские разведывательные самолеты над советской территорией.
В советской «Истории войны» делается многозначительный вывод, что у советского Генерального штаба имелись совершенно разумные планы, согласно которым граница должна была стать гораздо менее уязвимой к концу 1941 - началу 1942 г., но что в условиях угрозы со стороны Германии в 1941 г. все делалось слишком медленно и слишком поздно. Далее следует утверждение, что ни Генеральный штаб, ни Наркомат обороны не проявили бы такой некомпетентности, если бы не совершенно необоснованные репрессии «в отношении руководящих командных и политических кадров в 1937-1938 гг.».
Упоминание о Тухачевском и других жертвах чистки, разумеется, дает крайне неполное представление о действительном положении: следует учесть, что временно или окончательно было устранено не менее 15 тыс. офицеров, то есть около 10-15%, но среди старшего и высшего командного состава этот процент был еще более высоким.
Положение по советскую сторону границы составляло, конечно, разительный контраст с тем, что происходило на германской стороне. Здесь с середины 1940 г., то есть еще до того даже, как «план Барбаросса» был окончательно принят (он был принят 18 декабря 1940 г.), немцы тщательно готовили почву для возможного нападения на Советский Союз. В течение года, предшествовавшего вторжению, были построены шоссейные дороги, в том числе автострады, железные дороги и широкая сеть аэродромов; в течение этого же периода немцы построили или усовершенствовали в Польше не менее 250 аэродромов и 50 взлетно-посадочных полос для своих смертоносных «хейнкелей», «дорнье» и «мессершмиттов».
По словам немецкого хроникера, «в июне 1941 г. миллионы немецких солдат ворвались в Россию без энтузиазма, но со спокойной уверенностью в победе»[26].
Глава II. Вторжение
Так для народов СССР начался ужасный год - самый ужасный из всех, какие они когда-либо знали. За несколько дней и недель волна разрушения и смерти захлестнула обширные территории страны. В приграничных районах и на территориях, лежавших значительно глубже, немцы массированными ударами разгромили, взяли в плен или дезорганизовали противостоявшие им части Красной Армии; авиация в западных районах была фактически уничтожена в первый же день вторжения. Через пять дней после начала войны немецкие войска уже захватили столицу Белоруссии Минск. Ненамного больше времени понадобилось германским армиям и для того, чтобы занять все районы, вошедшие в состав Сойотского Союза начиная с 1939 г.: Западную Белоруссию, Западную Украину, Литву, Латвию и Эстонию. На севере финны прорвались к старой границе 1939 г., проходившей немного северо-западнее Ленинграда. 8 июля немцы уже кричали, что война в России «фактически» выиграна.
Эти первоначальные страшные поражения, несомненно, ошеломили советский народ, и все же почти с первого дня стало ясно, что это отечественная война[27]. Страну охватил ужас, но к нему примешалось чувство национальной непокорности и опасение, что это будет долгая, упорная и отчаянная борьба.
Всe понимали, что погибнут миллионы людей, и все же, казалось, лишь очень немногие думали о возможности полного военного поражения и завоевания страны немцами. В этом отношении контраст с Францией во время германского вторжения 1940 г. был разительным.
Такая уверенность была характерной чертой русского народа и значительного большинства украинцев и белорусов; но ее не существовало в Литве, Латвии, Эстонии: «установление Советской власти незадолго до начала войны… не означало, что классовый враг в этих районах сложил оружие»[28].
Какими были первые дни войны в приграничных районах, захваченных немцами? Мемуары некоторых русских военных, опубликованные за последние годы, в особенности воспоминания генералов Федюнинского и Болдина, рисуют потрясающую картину событий того времени.
В апреле 1941 г. Федюнинский (которому суждено было сыграть впоследствии заметную роль в войне, особенно во время прорыва блокады Ленинграда) был назначен командиром 15-го стрелкового корпуса, который был дислоцирован в Киевском особом военном округе и штаб которого находился в западно-украинском городе Ковеле, примерно в 50 км к востоку от границы между Советским Союзом и оккупированной немцами Польшей, на главном направлении на Киев.
Генерал обнаружил, что войска в приграничных районах все еще находились на мирном положении и что реорганизация шла очень медленно. Новые самолеты и танки, которые должны были заменить устаревшие модели, прибывали очень медленными темпами. Офицеры старшего возраста, в том числе те, кому довелось служить в царской армии, серьезно опасались войны, но среди молодых офицеров и солдат, к сожалению, были распространены настроения самоуспокоенности.
Хотя сообщение ТАСС от 14 июня опровергало слухи об агрессивных намерениях Германии как «лишенные всякой почвы», Федюнинский повторяет, что «через несколько дней мы получили сведения, которые в корне противоречили сообщению ТАСС», и рассказывает, как 18 июня к русским перешел немецкий дезертир. Напившись пьяным, он ударил офицера и боялся, что его предадут военному суду и расстреляют. Он также утверждал, что его отец был коммунистом. Этот немецкий солдат заявил, что германская армия вторгнется в Россию в 4 часа утра 22 июня.
Федюнинский тут же позвонил командующему армией генералу танковых войск Потапову, но в ответ услышал, что это «провокация» и что вы «напрасно бьете тревогу». Два дня спустя Федюнинского посетил генерал Рокоссовский, который не разделял самоуспокоенности Потапова и был очень встревожен. Рано утром 22 июня Федюнинского вызвал к телефону Потапов, приказавший поднять войска по тревоге, но боеприпасы пока не раздавать.
15-й стрелковый корпус должен был удерживать участок шириной около 100 км.
«Развертываться и занимать оборону на широком фронте приходилось под сильным воздействием артиллерии и авиации противника. Часто нарушалась связь, порой боевые приказы и распоряжения поступали к исполнителям с опозданием… Командиры частей и подразделений проявили организованность, не допустили потери управления. Дивизии своевременно вышли на намеченные рубежи обороны, где уже с необычайным упорством вели неравный бой пограничные отряды.
Мужественными оказались жены командиров-пограничников. Они находились вместе со своими мужьями на линии огня, перевязывали раненых, подносили боеприпасы, воду для пулеметов. Некоторые сами стреляли по наступающим фашистам.
Ряды пограничников таяли, силы их слабели. На заставах горели казармы и жилые дома, подожженные артиллерией врага. Но пограничники стояли насмерть. Они знали: за их спиной в предрассветном тумане к границе спешат войска, подтягивается артиллерия».
В течение всего первого дня войска Федюнинского сдерживали натиск немцев, но немцы вводили в бой все новые и новые силы, и к вечеру части корпуса, понеся очень тяжелые потери, начали отходить. Обстановка осложнялась высадкой в тыл немецких десантов и многочисленными ложными сообщениями о десантах, распространявшимися «вражескими агентами». В Ковеле вели подрывную деятельность шайки бандеровцев, игравшие роль немецкой «пятой колонны»; они нападали на советские военные машины, взрывали мосты и распространяли ложные слухи. Так как с северо-запада по шоссе Ковель - Брест к Ковелю приближались крупные танковые силы немцев, было решено эвакуировать город. 15-й стрелковый корпус продолжал бои частью сил, будучи уже окружен немцами. Несмотря на это, за три дня боев главные силы корпуса были оттеснены от границы всего на 20-30 км. Тем не менее Ковель пришлось оставить и занять новые оборонительные рубежи восточнее города.
Это отступление было типичным для многих подобных отступлений в июне 1941 г. Немцы полностью господствовали в воздухе, и потери от бомбежек были очень велики. Кроме того, диверсанты всячески тормозили отступление советских войск, взрывая мосты. «Вражеской авиацией и диверсионными группами были выведены из строя узлы и линии связи. Радиостанций в штабах не хватало, да и пользоваться ими мы еще не привыкли… Приказы и распоряжения доходили до исполнителей с опозданием или не доходили вовсе… Связь с соседями нередко отсутствовала, причем зачастую никто и не стремился ее устанавливать. Противник, пользуясь этим, просачивался в тыл наших подразделений, нападал на штабы частей… Несмотря на господство противника в воздухе, плохо соблюдались меры маскировки на маршах. Часто на узких дорогах образовывались скопления войск, автомашин, артиллерийских орудий, походных кухонь. По таким «пробкам» фашистские самолеты наносили весьма чувствительные удары… Были случаи, когда бойцы не рыли окопов… из-за нехватки шанцевого инструмента. Положение с шанцевым инструментом было так плохо, что в некоторых подразделениях солдаты пользовались вместо лопат касками».
Все же, несмотря на ужасные потери, понесенные советскими войсками, боевой дух оставался довольно высоким. «Было бы ошибкой утверждать, - пишет Федюнинский, что в частях корпуса вовсе не имелось случаев малодушия и трусости. Но встречались они довольно редко, а главное, их удавалось преодолевать прежде всего огромной силой воздействия здорового, боеспособного коллектива, крепко сцементированного партийными организациями».
Любопытно, что, рассказав эту драматическую историю об отступлении 15-го стрелкового корпуса и о двух полках, вырвавшихся из окружения после восьмидневных тяжелых боев, Федюнинский останавливается на том впечатлении, которое произвело на войска выступление Сталина по радио 3 июля.
«Трудно описать, с каким огромным воодушевлением и патриотическим подъемом был встречен этот призыв. У нас словно прибавилось сил.
В частях, там, где позволяла обстановка, собирались короткие митинги. В ротах и взводах были проведены беседы, в которых агитаторы разъясняли солдатам обстановку на фронтах, рассказывали о том, что по зову партии на священную Отечественную войну поднимается весь советский народ. Подчеркивалось, что борьба будет упорной и трудной, что предстоит много испытаний, много лишений и жертв, но никогда фашистским захватчикам не победить нашего могучего, трудолюбивого народа».
Но отступление продолжалось, и к 8 июля войска Федюнинского отошли к Коростенскому укрепленному району на Украине, уже в пределах «старых» границ Советского Союза. 12 августа, после дальнейшего отступления в направлении Киева, Федюнинский был вызван в Москву, и генерал Василевский приказал ему немедленно вылететь в Ленинград, где складывалась еще более серьезная обстановка, чем на юге.
Еще более яркое и трагическое, чем у Федюнинского, описание первых дней войны содержится в воспоминаниях генерала И.В. Болдина, который зимой 1941 г. приобрел известность как командующий, которому была поручена оборона Тулы.
О предстоящем германском вторжении он узнал вечером 21 июня в минском Доме офицеров, где он вместе с другими командирами присутствовал на представлении «Свадьбы в Малиновке».
«Неожиданно в нашей ложе показался начальник разведотдела штаба Западного Особого военного округа полковник С.В. Блохин. Наклонившись к командующему генералу армии Д.Г. Павлову, он что-то тихо прошептал.
- Этого не может быть, - послышалось в ответ.
- Чепуха какая-то, - вполголоса обратился ко мне Павлов. - Разведка сообщает, что на границе очень тревожно. Немецкие войска якобы приведены в полную боевую готовность и даже начали обстрел отдельных участков нашей границы.
Затем Павлов слегка коснулся моей руки и, приложив палец к губам, показал на сцену…»
Но пьеса больше не интересовала Болдина: он размышлял о тревожных известиях, поступавших в последние дни, например о сообщениях из Гродно от 20 июня, что немцы сняли проволочные заграждения у дороги Августов - Сейни, что в лесу в этом районе слышался шум многочисленных моторов и что русское воздушное пространство нарушило несколько разведывательных самолетов с подвешенными бомбами.
21 июня поступили сообщения о сосредоточении в различных пунктах крупных сил немцев с тяжелыми и средними танками. Болдин был озадачен «олимпийским спокойствием» командующего.
Это спокойствие сохранялось недолго. Рано утром Болдину был передан по телефону взволнованный приказ Павлова немедленно явиться в штаб.
Пятнадцать минут спустя он был уже там.
«- Случилось что? - спрашиваю генерала Павлова.
- Сам как следует не разберу. Понимаешь, какая-то чертовщина. Несколько минут назад звонил из третьей армии Кузнецов. Говорит, что немцы нарушили границу на участке от Сопоцкина до Августова, бомбят Гродно, штаб армии. Связь с частями по проводам нарушена, перешли на радио. Две радиостанции прекратили работу - может, уничтожены… Звонил из десятой армии Голубев, а из четвертой - начальник штаба полковник Сандалов. Сообщения неприятные. Немцы всюду бомбят…
Наш разговор прервал телефонный звонок из Москвы. Павлова вызывал нарком обороны Маршал Советского Союза С. К, Тимошенко. Командующий доложил обстановку.
Вскоре снова позвонил Кузнецов, сообщил, что немцы продолжают бомбить…
Поступают все новые и новые донесения. Сила ударов гитлеровских воздушных пиратов нарастает. Они бомбят Белосток и Гродно, Лиду и Цехановец, Волковыск и Кобрин, Брест, Слоним и другие города Белоруссии. То тут, то там действуют немецкие парашютисты.
Много наших самолетов погибло, не успев подняться в воздух. А фашисты продолжают с бреющего полета расстреливать советские войска, мирное население. На ряде участков они перешли границу и, заняв десятки населенных пунктов, продолжают продвигаться вперед…
Наконец, из Москвы поступил приказ немедленно ввести в действие «Красный пакет», содержавший план прикрытия государственной границы. Но было, уже поздно… Фашисты уже развернули широкие военные действия… на ряде направлений враг уже глубоко вклинился на нашу территорию!»
Несколько часов спустя с разрешения Тимошенко Болдин вылетел в Белосток. В Белостоке царил хаос, на железнодорожной станции подвергся бомбардировке состав, забитый эвакуируемыми женщинами и детьми, сотни людей были убиты.
Наконец к вечеру Болдин добрался до штаба 10-й армии, переехавшего из Белостока в небольшой лес на некотором расстоянии от города. Там находился генерал Голубев с группой штабных офицеров. Ему не удалось связаться со штабом фронта, так как проводная связь была нарушена, а передачи радиостанции постоянно забивались противником. Голубев доложил Болдину:
«- На рассвете три вражеских армейских корпуса при поддержке значительного количества танков и бомбардировочной авиации атаковали мой левофланговый пятый стрелковый корпус. Дивизии корпуса в первые же часы боя понесли большие потери…
И по лицу, и по голосу генерала чувствуется, что он сильно переживает. Попросив разрешения, он вынул из кармана коробку с папиросами, закурил, а затем, водя карандашом по карте, продолжал:
- Чтобы предотвратить охват армии с юга, я развернул на реке Курец тринадцатый механизированный корпус, но, сами знаете, Иван Васильевич, танков в дивизиях корпуса мало. Да и что можно требовать от Т-26? По воробьям из них стрелять…»
Далее из его доклада следовало, что как самолеты, так и зенитная артиллерия корпуса разбиты и что агенты, очевидно, информировали немцев о расположении армейских складов с горючим, так как все они были уничтожены бомбардировкой в первые же часы вторжения.
В этот момент была восстановлена связь с Минском, и генерал Павлов начал отдавать Болдину категорические приказы о контрнаступлении, которое 10-я армия должна была предпринять этой ночью. Болдин возразил, что 10-я армия фактически уничтожена.
Остальная часть этой трагической главы в книге Болдина посвящена попыткам организовать в течение 23 июня контрнаступление, использовав остатки 10-й армии, некоторые другие части и танковый корпус под командованием генерала Хацкилевича, находившийся еще в сравнительно хорошем состоянии. Но на протяжении всего дня войска и штаб армии подвергались налетам авиации противника. Один из генералов был убит; танкисты Хацкилевича мужественно сражались, но у них кончилось горючее. Болдин, которому не удалось установить связь со штабом фронта, послал в Минск два самолета с просьбой прислать по воздуху горючее в штаб 10-й армии. Но оба самолета были сбиты.
Окруженные со всех сторон, подобно другим войскам, оказавшимся в знаменитом «белостокском мешке», не имея боеприпасов, генералы, офицеры и солдаты под командованием Болдина разделились на небольшие группы и двинулись наудачу на восток… Небольшой группе Болдина, постепенно обраставшей людьми за время своего 45-дневного перехода по лесу, в конечном счете (когда их насчитывалось уже 2 тыс. человек) удалось перейти фронт под Смоленском и соединиться с основными силами русских.
Многие другие части, которым не так повезло, как группе Болдина, были уничтожены немцами или вынуждены сдаться. Болдин признает, что в первые дни перехода настроение у некоторых его солдат было неважное, особенно из-за того, что немцы сбрасывали листовки, в которых говорилось: «Москва капитулировала. Дальнейшее сопротивление бесполезно. Сдавайтесь победоносной Германии». Но большинство испытывало не отчаяние, а злость.
Рассказы очевидцев - генералов Федюнинского и Болдина - подтверждают, что Сталин и Главное Командование армии, видимо, до последней минуты надеялись избежать войны. Только в ночь накануне вторжения в войска были посланы срочные приказы тайно занять огневые точки на границе, рассредоточить авиацию, сконцентрированную на приграничных аэродромах, и привести в боевую готовность войска и противовоздушную оборону.
Никаких других мер принимать не предлагалось, и даже эти приказы поступили слишком поздно.
Так, генерал Пуркаев вспоминает, что он начал перебрасывать свои войска к границе только через несколько часов после начала войны. Другой командующий, генерал армии Попов, пишет, что налеты немецкой авиации на Брест-Литовск явились полнейшей неожиданностью. Полк, брошенный к границе из Риги, был перехвачен превосходящими силами немцев и фактически уничтожен.
В «Истории войны» признается, что во многих приграничных районах немцы быстро сломили всякое сопротивление. Многие советские части шли в бой совершенно неподготовленными, и немцы без труда прорвали пограничные укрепления. Советская авиация была почти вся уничтожена на широком пространстве. В течение первого дня войны германские бомбардировщики нанесли удары по 66 аэродромам, особенно там, где были сосредоточены наиболее современные самолеты. К полудню 22 июня было уничтожено 1200 самолетов, в том числе 800 - на земле. Самые тяжелые потери понес Западный фронт, где было выведено из строя 528 самолетов на земле и 210 в воздухе.
В приграничных районах никаких резервов фактически не было. Телефонная и телеграфная связь была нарушена в первые же часы войны. Части потеряли связь друг с другом. Некоторые командиры не обладали необходимой оперативно-тактической подготовкой и опытом руководства крупными соединениями в условиях войны. В первые часы войны командование и штабы фронтов и многих армий не могли составить достаточно ясного представления о происходивших событиях.
Первая директива народного комиссара обороны, отданная в 7 час 15 мин утра 22 июня, отражает незнание им действительной обстановки, и, когда рассматриваешь ее теперь ретроспективно, ее абсолютная нереальность совершенно очевидна:
«1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить.
2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100-150 км, разбомбить Кенигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать»[29].
Этот приказ, отданный после того как советская авиация понесла тяжелые потери, естественно, не мог быть выполнен. К исходу 22 июня левый фланг германской группы армий «Центр» уже продвинулся далеко за Каунас, где разгромил 11-ю армию советских войск, теперь в беспорядке отступавшую от Каунаса к Вильнюсу.
Несомненно, местами сопротивление советских войск было успешным; так было, например, с окруженной со всех сторон Брестской крепостью, цитадель которой более месяца, до 24 июля, держалась под непрерывной бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Когда немцы наконец захватили цитадель, большинство ее защитников было убито или тяжело ранено. Однако главные силы немцев в этом районе обошли Брест и в первый же день войны продвинулись на 55 км к востоку.
Оперативная сводка Генерального штаба на 10 часов вечера 22 июня, вероятно, была рассчитана на то, чтобы изобразить положение на фронте как относительно благополучное и не вызывающее тревоги.
«Германские регулярные войска в течение 22 июня вели бои с погранчастями СССР, имея незначительный успех на отдельных направлениях. Во второй половине дня, с подходом передовых частей полевых войск Красной Армии, атаки немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника»[30].
То, что и сам Генеральный штаб не очень ясно разбирался в обстановке, подтверждается второй директивой войскам в приграничном районе. Юго-Западному фронту предлагалось начать на следующий же день крупное наступление, которое должно было привести 24 июня к захвату Люблина, расположенного примерно в 50 км к западу от советской границы! В это же время Северо-Западному фронту предлагалось захватить Сувалки, и, кроме того, трем фронтам было приказано окружить все германские силы, проникшие на советскую территорию.
При всей неисполнимости этого приказа была сделана попытка выполнить его: в ряде пунктов советскому командованию удалось сосредоточить еще имевшиеся у него в приграничных районах танки, но из-за отсутствия прикрытия с воздуха они были уничтожены германскими бомбардировщиками.
Немецкое наступление развивалось почти безостановочно. Крупные силы советских войск были окружены в «белостокском мешке» и 11 дивизий - в районе Минска. К 28 июня немцы уже подошли к Минску, глубоко продвинулись на территорию Прибалтийских республик и приближались к Пскову на прямом пути в Ленинград.
Несколько дней спустя два крупных танковых соединения немцев вышли на Березину, имея против себя лишь остатки 16 советских дивизий; в этих условиях организовать новую линию обороны протяженностью 350 км было немыслимо. Однако советские войска с большим мужеством вели сдерживающие бои на отдельных участках, в частности восточнее Минска, под Борисовом, где они бросили в бой много танков, хотя в большинстве своем устаревших конструкций. Эти сдерживающие бои в какой-то степени помогли выиграть время, чтобы подтянуть резервы и организовать оборону в глубину на главном смоленско-московском направлении.
Советские войска вели также с самоотверженным мужеством ряд менее крупных сдерживающих боев против германской группы армий «Юг». Задержанные в районе Ровно, немцы, не будучи в состоянии продолжать наступление на Киев, повернули на север и увязли на некоторое время в так называемых «боях местного значения». Однако к 9 июля немцы прорвались к Житомиру, захватили его и создали угрозу прорыва к Киеву и окружения главных сил советских войск в Северной Украине. Но и здесь, в районе Бердичева, русские ввели в бой некоторое количество танков, и почти неделю вокруг Бердичева шли тяжелые бои.
(обратно)Глава III. Призыв к всенародной войне
Только спустя несколько часов после вторжения немецко-фашистских войск в Советский Союз в 12 часов дня 22 июня Советское правительство обратилось к народу по радио с заявлением о начале войны. «Сегодня, в 4 часа утра, - говорилось в этом заявлении, - без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей».
Затем в заявлении наркома иностранных дел В.М. Молотова говорилось, что в 5 час 30 мин утра его посетил германский посол граф Шуленбург, уведомивший его, что решение Германии напасть на Советский Союз вызвано сосредоточением русских войск на границе.
Подчеркнув, что ни в одном пункте наши войска и авиация не допустили нарушения границы, Молотов заклеймил как «ложь и провокацию» переданное утром по румынскому радио сообщение, что советская авиация обстреляла румынские аэродромы, и заявление Гитлера, «пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта». Но теперь, когда немцы напали на Советский Союз, Советское правительство приказало своим войскам отразить нападение и выбросить немцев за пределы территории СССР.
«Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией… а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегии), Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы».
Советское правительство выражало уверенность, что Советские Вооруженные Силы выполнят свои долг и разгромят агрессора. Заявление напоминало о том, что Россия уже подвергалась вторжениям, что в Великую Отечественную войну 1812 г. весь русский народ поднялся как один человек, чтобы сокрушить Наполеона. «То же будет и с зазнавшимся Гитлером…»
«Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом».
Правительство призывало граждан и гражданок Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг большевистской партии и Советского правительства.
Заявление содержало несколько метких фраз, которые врезались людям в память и стали ходячими. Таковы были слова о том, что это новая «Отечественная война», подобная войне 1812 г., а также заключительные фразы: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Некоторым утешением для советских людей, читавших противоречивые и сдержанные военные сводки, явилось выступление Черчилля по радио вечером 22 июня, меньше чем через сутки после начала германского вторжения.
Отдельные места этой речи произвели особенно сильное впечатление. «За последние 25 лет, - признавал Черчилль, - не было более последовательного противника коммунизма, нежели я. Я не возьму назад ни одного своего слова, сказанного против коммунизма». Но дальше он сказал так, как мог сказать только он один:
«Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли… Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся - да, ибо бывают времена, когда молятся все, - о безопасности своих близких… Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина… Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся, подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу…»
Далее следовало заверение, что Англия никогда не пойдет на сделку с Гитлером, что она окажет поддержку СССР, и в заключение выражалось убеждение, что «он (Гитлер) хочет сломить русскую мощь, ибо надеется, что, если это ему удастся, он сможет бросить главные силы своей армии и авиации на наш остров…»
Почти все комментарии, которые я слышал от русских, сводились к следующему: «Мы слышали насчет Гесса, и мы подозревали, что между Англией и Германией существует какой-то сговор. Мы помнили о Мюнхене и об англо-франко-советских переговорах летом 1939 г. Мы глубоко переживали бомбежки Лондона, но мы все время испытывали чувство недоверия по отношению к Англии. Когда Германия напала на нас, одной из наших первых мыслей было, что, может быть, она сделала это по договоренности с Англией. А что Англия станет нашей союзницей, - да, союзницей, - это превзошло все наши ожидания».
Прошло 12 невероятно долгих и тревожных дней, прежде чем к советскому народу обратился по радио сам Сталин.
Он выступил рано утром 3 июля. Это было поразительное выступление. Причем наиболее сильное впечатление произвели вступительные слова: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Это было нечто новое. Никогда еще Сталин так не говорил. Но эти слова вполне подходили для атмосферы тех дней.
Вначале Сталин сказал, что нацистское вторжение продолжается, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии и несмотря на то, что «лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений». Преуменьшая уже понесенные территориальные потери, Сталин сказал, что нацистским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии и часть Западной Украины. Германские самолеты бомбили Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу и Севастополь. «Над нашей Родиной нависла серьезная опасность».
Значит ли это, спрашивал Сталин, что немецко-фашистские войска непобедимы? Конечно, нет! Армии Наполеона и Вильгельма II тоже считались непобедимыми, однако они были в конце концов разбиты. То же будет и с гитлеровской армией. «Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление». То, что «часть нашей территории» все же оказалась захваченной, объясняется главным образом тем, что война началась в условиях, выгодных для немцев и невыгодных для Красной Армии.
«Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей».
Затем Сталин привел доводы в оправдание советско-германского пакта.
«Могут спросить: как могло случиться, что Советское Правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское Правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии - если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом».
Сталин сказал, что пакт дал Советскому Союзу время подготовиться к отражению германского нападения, если бы нацистская Германия решила напасть на него.
«В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом - германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией… В бой вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов… Вместе с Красной Армией на защиту Родины подымается весь советский народ…
Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель… захват нашего хлеба и нашей нефти… Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры… народов Советского Союза… их превращение в рабов немецких князей и баронов…
Необходимо… чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей».
Упомянув о Ленине, Сталин далее заявил:
«Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага… Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села… Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.
Мы должны… обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов… Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими… дезертирами, паникерами… уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов… Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, не взирая на лица».
А затем шли знаменитые инструкции по проведению тактики «выжженной земли»:
«При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться».
Далее следовали инструкции насчет «партизанской войны»:
«В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды… создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной или телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу…»
По словам Сталина, эта война не была обычной войной между двумя армиями: это была война всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной войны являлась не только ликвидация опасности, нависшей над Советским Союзом, но и помощь всем народам Европы, стонущим под германским игом. В этой войне, говорил Сталин, советский народ будет иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, включая германский народ, порабощенный его заправилами. Борьба советского народа за свободу своего отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за свою независимость и демократические свободы.
«В этой связи историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, - являются вполне понятными и показательными».
И, наконец, следовало заключение:
«Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к со зданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение…
Все силы народа - на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!»
Эта речь, обращенная к встревоженным, а нередко испуганным и растерявшимся людям, оказала очень большое воздействие. Своим сравнительно коротким выступлением по радио Сталин не только создал надежду на победу, если не уверенность в ней, но и сформулировал в скупых, выразительных словах целую программу поведения всей нации в военное время. Он также апеллировал к национальной гордости, к патриотическим чувствам народа. Это был великий призыв взять себя в руки и быть готовым к тяжелым жертвам.
Замечательное описание действия речи Сталина содержится в известном романе Константина Симонова «Живые и мертвые». В данном случае речь слушают в полевом госпитале.
«Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцентом. Один раз, посредине речи, было слышно, как он, звякнув стаканом, пьет воду. Голос у Сталина был низкий, негромкий и мог показаться совершенно спокойным, если б не тяжелое, усталое дыхание и не эта вода, которую он стал пить во время речи…
И в несоответствии этого ровного голоса трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удивляла: от Сталина и ждали ее.
Его любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любуясь, и побаиваясь; иногда даже не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто. А как раз эти два качества и казались сейчас необходимей всего в человеке, стоявшем во главе воевавшей страны.
Сталин не называл положение трагическим: само это слово было трудно представить себе в его устах, - но то, о чем он говорил, - ополчение, оккупированные территории, партизанская война, - означало конец иллюзий… Правда была горькой, но она была наконец сказана, и с ней прочней стоял ось на земле.
А в том, что Сталин говорил о неудачном начале этой громадной и страшной войны, не особенно меняя привычный лексикон, - как об очень больших трудностях, которые надо как можно скорее преодолеть, - в этом тоже чувствовалась не слабость, а сила»[31].
Этот отрывок тем более замечателен, что он был написан в то время, когда общее отношение к Сталину уже стало весьма критическим. Но Симонов явно не хотел искажать историю в этом важнейшем вопросе. Огромное значение речи Сталина от 3 июля признают все без исключения работы, написанные в конце 50-х годов, даже если некоторые из них и не называют его по имени.
Главным, что осталось в сознании людей после речи Сталина, было напряженное ожидание перемен к лучшему.
(обратно)Глава IV. Смоленск: первая неудача нацистской Германии в ходе «молниеносной войны»
Государственный Комитет Обороны, о создании которого Сталин объявил в своей речи от 3 июля, отвечал не только за ведение войны, но и за «быструю мобилизацию всех сил страны». Многие решения, принятые им в те критические дни, имели огромное значение. Они затрагивали всю область организации экономики военного времени, включая мобилизацию и эвакуацию целых отраслей промышленности, а также перестройку вооруженных сил.
В военной области Государственный Комитет Обороны решил несколько децентрализовать систему командования, разделив огромный фронт на три главных сектора, каждый со своим командованием. К.Е. Ворошилов был назначен главнокомандующим войсками Северо-Западного направления с подчинением ему Северного и Северо-Западного фронтов, а также Северного и Балтийского флотов, С.К. Тимошенко - Западного направления с подчинением ему Западного фронта и Пинской военной флотилии и С.М. Буденный - Юго-Западного направления с подчинением ему Юго-Западного и Южного фронтов и Черноморского флота. Членами Военных советов направлений были назначены соответственно А.А. Жданов, Н.А. Булганин и Н.С. Хрущев.
16 июля был восстановлен институт военных комиссаров. Эту меру поддерживал начальник Управления политической пропаганды Красной Армии Л.3. Мехлис.
На практике военные комиссары оказались источником трений, и осенью 1942 г. их снова упразднили.
В конце июня было также решено мобилизовать в армию членов партии и комсомола в качестве политбойцов. Каждому обкому или крайкому вменялось в обязанность мобилизовать в течение трех дней от 500 до 5000 коммунистов и передать их в распоряжение Наркомата обороны. Таким способом было мобилизовано 95 тыс. политбойцов, причем 58 тыс. из них были посланы в действую щук армию в первые три месяца войны.
Далее было решено создать в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Макеевка, Горловка и другие промышленные центры, народное ополчение. В дальнейшем части народного ополчения широко использовались для заполнения брешей не фронте, в частности при обороне Москвы, Ленинграда и Одессы.
Помимо ополчения в городах и деревнях создавались и другие формирования, такие, как боевые группы, которые без отрыва от производства изучали военное дело; были отданы приказы об организации противовоздушной обороны.
«Все граждане - мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины от 18 до 50 лет - в обязательном порядке привлекались к работе в группах самозащиты, формируемых на предприятиях, в учреждениях и домоуправлениях. Подготовка населения к противовоздушной и противохимической обороне возлагалась на Осоавиахим»[32].
Ряд важных постановлений, принятых в конце июня, касался организации партизанской борьбы в тылу врага, но, хотя сам принцип имел существенное значение, широкое партизанское движение в тылу у немцев развернулось значительно позже.
Пока Государственный Комитет Обороны разрабатывал эти планы и закладывал основы коренной перестройки экономики страны, положение на фронте оставалось катастрофическим. В начале июля в линии фронта образовались огромные бреши. Части «первого эшелона» Красной Армии понесли в первые недели вторжения такие ужасающие потери, что уже вряд ли могли считаться реальной силой. Надежда удержать новый оборонительный рубеж (который западная печать именовала «линией Сталина»), проходивший от Нарвы на Финском заливе через Псков, Полоцк и затем по Днепру до Херсона на Черном море, не оправдалась. Хотя людские резервы еще имелись, Красная Армия испытывала острый недостаток в вооружении всех типов.
В этой обстановке советское командование было вынуждено определить очередность задач, и оно решило приложить в первую очередь всемерные усилия, чтобы задержать врага на смоленско-московском направлении.
Смоленское сражение, если рассматривать его в перспективе, ознаменовало собой начало новой стадии войны, и с этих пор борьба между нацистской Германией и Советской Россией приняла совершенно другой характер. В районе Смоленска советским войскам впервые удалось остановить молниеносное наступление немцев хотя бы только на два месяца. Но тем самым маневренная свобода германского верховного командования, притом на направлении главного удара, нацеленного прямо на Москву, была сильно скована, а установленные им сроки, имевшие первостепенное значение, сорваны.
16 июля передовые части фон Бока достигли пригородов Смоленска, где натолкнулись на небывало сильное сопротивление. До сих пор они встречали лишь отдельные очаги сопротивления и сравнительно небольшие части, героически и самоотверженно отстаивавшие каждую пядь земли. На этот раз они натолкнулись на решительное сопротивление на сплошном и относительно широком фронте.
Командование Красной Армии было полно решимости не пускать врага дальше. Оно ввело резервы на широком фронте от Великих Лук до Мозыря, которые своими контратаками успешно задержали наступление немцев. Хотя сам Смоленск пал, в районе города продолжались тяжелые бои, и всю вторую половину июля и весь август немцам не удавалось прорвать фронт, прочно стабилизировавшийся примерно в 30-40 км восточнее Смоленска, по линии Ярцево - Ельня - Десна.
Немецкие и советские источники расходятся в вопросе о том, какая сторона имела численное превосходство в людях и в технике во время Смоленского сражения. Генерал Гудериан, например, ссылается на «большое численное превосходство русских в танках». Учитывая тяжелые потери, ранее понесенные русскими, это представляется весьма маловероятным, хотя надо иметь в виду, что после такого глубокого и быстрого продвижения по вражеской территории многие немецкие танки, возможно, вышли из строя. В какой-то мере должен был сказаться износ техники, и, кроме того, коммуникации к этому времени были настолько растянутыми (да еще в стране с плохими дорогами), что запасные части и горючее, возможно, прибывали на фронт слишком медленно или в недостаточном количестве.
Во всяком случае, такие количественные сравнения зачастую вводят в заблуждение (делаются ли они в разгар боев или задним числом), и мы не видим нужды подробно разбирать здесь противоречивые утверждения обеих сторон. Однако в период Смоленского сражения в пользу русских действовали три фактора. Во-первых, боевой дух советских войск был теперь гораздо выше, чем раньше: мысль, что они сражаются не в далекой Белоруссии, а буквально на дороге в Москву, оказала важное психологическое воздействие. Во-вторых, советская артиллерия, являвшаяся почти единственным оружием, с помощью которого Красная Армия могла сражаться как с танками, так и с авиацией, была значительно лучше немецкой. В-третьих, огромное военное, а еще больше психологическое значение имело появление в советских войсках сокрушительных минометов - «катюш». Маршал А.И. Еременко писал впоследствии:
«Новое оружие мы испытали под Рудней… 15 июля во второй половине дня непривычный рев реактивных мин потряс воздух. Как краснохвостые кометы, метнулись мины вверх. Частые и мощные разрывы поразили слух и зрение тяжким грохотом и ослепительным блеском. Эффект одновременного разрыва многих десятков мин превзошел все ожидания. Солдаты противника в панике бросились бежать. Попятились назад и наши солдаты, находившиеся на переднем крае вблизи разрывов (в целях сохранения тайны никто не был предупрежден о намеченном использовании этого оружия)»[33].
Советское командование также ввело в бой некоторое количество современных самолетов, поэтому превосходство немцев в воздухе уже не было таким полным, как в первые три недели войны. Но независимо от численного превосходства той или другой стороны главное было в том, что Красной Армии удалось замедлить, а потом и остановить германский блицкриг восточнее Смоленска, а это имело ряд важных последствий.
С точки зрения русских, это были отчаянные арьергардные бои, но достаточно большого масштаба и достаточно затяжные, чтобы дать передышку Советскому Главнокомандованию. «Смоленская линия» была щитом, позволившим советским армиям перегруппироваться и подтянуть резервы для обороны Москвы.
С точки зрения немцев, сопротивление русских в районе Смоленска впервые нарушило планы их командования, а вызванная этим задержка поставила перед ним серьезную стратегическую проблему.
4 августа, когда тяжелые бои вокруг Смоленска продолжались уже около трех недель, Гитлер созвал совещание в ставке группы армий «Центр» в Новом Борисове. По словам присутствовавшего на этом совещании Гудериана, Гитлер считал главной задачей захват Ленинграда. Он еще не решил, что будет на очереди потом - Москва или Украина, но склонен был как будто бы выбрать последнюю… Он надеялся овладеть Москвой и Харьковом к началу зимы. Но в тот день никаких решений принято не было[34].
В течение следующих 20 дней в районе Смоленска шли тяжелые бои с переменным успехом, но, когда 23 августа Гитлер созвал новое совещание, предложение Гудериана сосредоточить все силы для наступления на Москву было отклонено. Гитлер окончательно решил нанести основной удар по Украине и Крыму, заявив, что сырье и сельское хозяйство Украины имеют жизненно важное значение для продолжения войны. Что касается Крыма, то это был «советский авианосец для нанесения ударов по румынским нефтепромыслам», и поэтому его надо было ликвидировать. «Мои генералы, - заявил он, - ничего не смыслят в экономических аспектах войны». Но хотя Гитлер по-прежнему считал, что и по этому новому плану Москва может быть захвачена до наступления зимы, Гудериан понимал, что теперь это было почти невозможно, и потому был очень недоволен решением Гитлера - по крайней мере так он говорил после войны. Позже он назвал «роковой ошибкой» решение Гитлера двинуть две армии и танковую группу на юг, вместо того чтобы предпринять концентрированное наступление на Москву.
Хотя советские источники отвергают как фантастические утверждения немцев, будто в ходе Смоленского сражения они захватили 384 тыс. пленных, более 3 тыс. танков и более 3 тыс. орудий, все же Красная Армия понесла, несомненно, тяжелые потери. В «Истории войны» говорится, что со стороны советских войск 32 тыс. человек пропало без вести и что они потеряли 685 танков и 1178 орудий[35]. Тем не менее Смоленское сражение явилось одним из поворотных пунктов войны. Красная Армия остановила германский блицкриг и заставила Гитлера изменить свои планы. Кроме того, оно оказало большое воздействие на боевой дух Красной Армии. Если вначале на советских солдат производила ошеломляющее впечатление мощь германской армии, и особенно количество танков, то к концу июля многие бойцы научились применять против танков такое оружие, как гранаты и бутылки с горючей смесью, и панический страх все больше уступал место здоровой ненависти к фашистам. Очень способствовали поднятию боевого духа первые награждения медалями и орденами, хотя и не такие щедрые, как впоследствии. После Смоленского сражения около тысячи человек были награждены орденами и медалями, а семи присвоено звание Героя Советского Союза.
(обратно)Глава V. Москва в начале войны
Я приехал в Советский Союз 3 июля 1941 г., через двенадцать дней после начала германского вторжения. Маршрут моей поездки из Лондона в Москву был таков, какой возможен только в военное время: вместе со второй партией сотрудников английской военной миссии я вылетел и Инвернесс, затем на Шетландские острова и оттуда на летающей лодке «Каталина» - в Архангельск, преодолев все расстояние за один 16-часовой скачок. Последние несколько часов мы летели над обширной необитаемой тундрой Кольского полуострова. Потом, пролетев над Белым морем и портом Архангельск, мы сели на реке Двине, в нескольких километрах южнее Архангельска. В составе этой второй партии военной миссии (первая, во главе с генералом Мейсоном Макферланом, вылетела в Москву несколькими днями ранее) были два сотрудника министерства внутренних дел в мундиpax полковников, специалист по борьбе с пожарами, который вез в Москву переносный насос - распылитель для тушения зажигательных бомб, и специалист по бомбоубежищам.
Нас принимали на борту парохода полковник и два очень любезных майора, а потом в течение вечера к нам присоединились и другие офицеры. Некоторые упоминали о выступлении Сталина по радио в тот самый день и выражали мнение, что война будет очень долгой и трудной, но что СССР в конце концов победит. Один из майоров заверял меня, что противовоздушная оборона Москвы настолько хороша, что город, вероятно, никогда не подвергнется бомбардировкам, и что то же самое можно сказать о Ленинграде.
Все они живо интересовались Англией. Любопытно, что и полковник и оба майора проявляли особый интерес к Рудольфу Гессу, который, как видно, их несколько беспокоил. Они читали речь Черчилля и говорили, что она очень обрадовала русских, хотя им известно, что Черчилль был одним из главных «вдохновителей интервенции» во время гражданской войны. Но при всем том, спросил один из майоров, вполне ли я уверен, что предложения Гесса отклонены? Очевидно, сами они еще сомневались в намерениях Англии и Америки.
За окном по-прежнему стояла белая ночь. В сумерках рисовались силуэты елей на крутых песчаных берегах реки. Комаров было видимо-невидимо. Мы поспали часа два, после чего нас доставили на моторных лодках на некоторое расстояние вверх по реке и затем машиной до аэродрома. В 6 часов утра солнце стояло уже высоко в небе. Мы шли к самолету по колышемой ветром траве и полевым цветам. Это был большой «Дуглас», и в течение трех-четырех часов мы летели, казалось, над сплошным, нескончаемым лесом. Затем в Рыбинске мы пересекли Волгу и, пролетев еще некоторое время над более густонаселенной местностью, достигли пригородов Москвы.
Москва выглядела, как обычно. На улицах толпился народ, в магазинах все еще было полно товаров. По всей видимости, недостатка в продуктах питания не ощущалось: в первый же день я зашел в большой продовольственный магазин на Маросейке и был удивлен широким выбором конфет, пастилы и мармелада. Люди все еще покупали продукты свободно, без карточек. Молодые москвичи в летних костюмах отнюдь не выглядели бедно одетыми. На большинстве девушек были белые блузки, на юношах - белые, желтые или голубые спортивные майки или рубашки на пуговицах и с вышитыми воротниками. Люди жадно читали наклеенные на стенах плакаты, которых, надо сказать, было множество: советский танк, давящий гигантского краба с усами Гитлера; красноармеец, загоняющий штык в горло огромной крысы с лицом Гитлера. «Раздавить фашистскую гадину!» - гласила подпись под этим плакатом. Потом - обращение к женщинам: «Женщины, идите в колхозы, замените ушедших на фронт мужчин!» На многих домах были вывешены полосы «Правды» и «Известий» с полным текстом речи Сталина, и повсюду толпы людей перечитывали ее.
Москва была охвачена настоящей шпиономанией, возможно, что это отчасти объяснялось содержавшимся в речи Сталина предостережением против шпионов и «диверсантов». Казалось, что люди всюду видели шпионов и парашютистов. Ехавшие со мной из Архангельска сержанты английской армии в первый же день пережили очень неприятное приключение. С аэродрома они отправились в Москву на грузовике с багажом миссии. На углу одной из улиц их остановила милиция. Вокруг собралась толпа, удивленная незнакомой английской формой, и кто-то воскликнул: «Парашютисты!», после чего толпа стала волноваться и кричать. В результате сержантов отправили в отделение милиции, откуда их в конце концов вызволил один из сотрудников посольства.
По разным поводам производилась проверка документов, и было совершенно необходимо иметь их в порядке, особенно после полуночи, когда для хождения по городу требовался специальный пропуск. Нерусская речь немедленно вызывала подозрение.
Особую бдительность проявляли женщины из вспомогательной милиции. Как-то вечером я шел по улице Горького вместе с Жаном Шампенуа[36], как вдруг женщина-милиционер закричала на него: «Вы почему курите?!» - и приказала немедленно потушить сигарету: она вообразила, что он, может быть, подает сигнал немецкому самолету!
Весь день по улицам проходили, обычно с песнями, солдаты. Формирование ополчения было в полном разгаре. В эти первые дни июля десятки тысяч людей, в том числе много пожилых, являлись добровольно на сборные пункты (один такой пункт помещался в Хохловском переулке, напротив дома, где я жил) с узелками или чемоданами. Там добровольцев сортировали - причем некоторых отвергали - и направляли в учебные лагеря.
В остальном в Москве было довольно спокойно. Люди на улицах иной раз шутили и смеялись, хотя, что весьма показательно, лишь очень немногие открыто говорили о войне.
Мавзолей Ленина я нашел закрытым, и двое часовых с винтовками без лишних слов велели мне проходить мимо. Внешне жизнь, казалось, шла обычным порядком. Четырнадцать действовавших театров были, как всегда, переполнены; в ресторанах и гостиницах людей было по-прежнему набито битком.
При всем том Москва готовилась к воздушным налетам. Уже 9 июля вдоль трамвайных путей начали разъезжать грузовики, с которых производилась раздача мешков с песком. На этой неделе я написал статью о налетах на Лондон и о принятых англичанами мерах предосторожности. Она была сразу же напечатана в «Известиях», вызвала большие толки и даже некоторую полемику о том, следует ли тушить зажигательные бомбы водой, что я считал неправильным. Мой рассказ о воздушных налетах на Лондон обсуждался тем более широко, что в период действия советско-германского договора советская печать мало писала о бомбардировках, которым подвергалась Англия.
Со второй недели июля в связи с ожидавшимися налетами германской авиации началась массовая эвакуация детей из Москвы. Многим женщинам было предложено поехать на работу в колхозы. Вокзалы были переполнены людьми, получившими разрешение уехать из Москвы. Многие женщины, которых я видел вечером 11 июля на Курском вокзале - откуда они отправлялись в Горький, - плакали, боясь, что им еще не скоро удастся вернуться в Москву.
Англо-русские отношения быстро улучшались. В течение второй недели июля Стаффорд Криппс, к которому русские относились очень холодно до самого начала нацистского вторжения, имел две встречи со Сталиным, а 12 июля в Кремле состоялось торжественное подписание Молотовым и Криппсом англо-советского соглашения в присутствии И.В. Сталина, адмирала Н.Г. Кузнецова, маршала Б.М. Шапошникова, генерала Мейсона Макферлана и главы английской торговой миссии Лоренса Кэдбери. Сталин через переводчика довольно долго беседовал с Мейсоном Макферланом.
На другой день на пресс-конференции С.А. Лозовского русские все еще удивлялись подписанию соглашения, которое предусматривало взаимную помощь и содержало обещание не заключать сепаратного мира с Германией. Сам Лозовский был, видимо, приятно удивлен и сказал, что это наносит сильнейший удар по Гитлеру, так как опрокидывает его план воевать с Востоком и Западом поочередно. На вопрос, можно ли считать США молчаливым партнером этого соглашения, Лозовский смело сказал: «США слишком великая страна, чтобы молчать».
В первые недели войны положение представителей иностранной печати в Москве было очень странным. Единственными официальными источниками информации были советская печать с ее сводками военных действий и военными очерками и упомянутые пресс-конференции Лозовского, проводившиеся три раза в неделю.
Газетные очерки были посвящены главным образом отдельным героическим подвигам русских, хотя время от времени, особенно в газете «Красная звезда», появлялись полезные обзоры. Сводки носили обычно осторожный характер и зачастую давали только смутное представление, где в тот момент шли бои, но люди скоро научились читать между строк. Сообщение о боях на «Минском направлении» или на «Смоленском направлении» обычно означало, что эти города уже сданы, а изучение лексикона сводок позволяло представлять себе масштабы неудач советских войск. Так, выражение «тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника» означало, что части Красной Армии терпели поражение на данном участке. Это было худшее из всех выражений, встречавшихся в сводках.
Общей тенденцией пресс-конференций Лозовского было внушить мысль, что все неудачи СССР являются временными; что, несмотря ни на какие территориальные потери, немцы не победят; что Москва и Ленинград, во всяком случае, не будут сданы; что советские потери, бесспорно, велики, но немцы потеряли еще больше (это был самый сомнительный из доводов Лозовского); что отношения между Германией и ее сателлитами крайне натянутые (это также представлялось весьма сомнительным летом и осенью 1941 г.). Иногда он сообщал важные факты, например о разрушении Днепрогэса или о высылке на восток всего населения автономной республики немцев поволжья - что-то около полумиллиона человек. О таких крупных катастрофах, как захват немцами многих сотен тысяч пленных и колоссальные потери советской авиации, вообще не упоминалось. В то же время Лозовский был склонен преувеличивать количество действовавших на фронте немецких танков и самолетов: так, он говорил, что в боях принимало участие 10 тыс. немецких танков.
Лозовский был старый большевик, отличавшийся внешним лоском; он принадлежал к первой эмиграции, много лет жил в Женеве и Париже, знал Ленина, хорошо говорил по-французски и своей бородкой и элегантными костюмами напоминал скорее завсегдатая бульваров, которого легко было представить себе на террасе кафе «Наполитэн» в «прекрасную эпоху». После революции он работал в Профинтерне - красном Интернационале Профсоюзов, а затем стал заместителем наркома иностранных дел. Как старый большевик, он, должно быть, пережил немало тревожных минут во время чисток. Однако Лозовский уцелел, хотя по своим личным качествам он не слишком подходил к окружению Сталина. В 1943 г. он стал одним из руководителей Еврейского антифашистского комитета, что его в конце концов и погубило: в 1949 г. Лозовский был расстрелян.[37]
В 1941 г. Лозовского, возможно, ошибочно считали одним из уцелевших представителей литвиновской когорты в наркомате иностранных дел; предполагалось, что он относился к Западу с большей симпатией, чем Молотов. Тем не менее однажды Лозовский совершенно недвусмысленно отмежевался от Литвинова. Это был любопытный инцидент: как раз за два дня до подписания соглашения Криппс - Молотов Литвинов должен был выступить по Московскому радио. Но выступил он только на заграницу и притом на английском языке. На следующее утро советская печать опубликовала несколько выдержек из этого выступления. Опустив слова о том, что «прошлое нужно предать забвению» и что «мы все делали ошибки», газеты сосредоточили внимание на утверждениях Литвинова, что немцы являются общим врагом и что «на Западе не должно быть фактического перемирия». На вопрос, какую роль Литвинов будет играть в дальнейшем, Лозовский нехотя ответил, что «г-н Литвинов, может быть, будет еще выступать по радио»[38].
Источники информации, доступные советской общественности, были весьма скудными. В самом начале войны населению было предложено сдать радиоприемники. Исключение было сделано для иностранных дипломатов, журналистов и некоторых советских ответственных работников. Все остальные могли слушать только программу, транслировавшуюся по московской городской радиосети. Конечно, было бы весьма нежелательно допустить распространение германской пропаганды.
Впрочем, известия далеко не радовали и без этих германских комментариев. К 11 июля уже стало известно, что немцы подходят к Смоленску и что захвачена большая часть территории Прибалтийских республик. К 14 июля было объявлено о боях на «Островском направлении», что говорило о быстром продвижении немцев к Ленинграду с юга. К 22 июля поступили известия, что финны ведут бои на «Петрозаводском направлении», а к 28 июля - что немцы продвигаются к Киеву. Но когда к середине июля немцы, по всей видимости, застряли под Смоленском, в Москве это вызвало бурную радость, чувство, что худшее, пожалуй, позади, хотя как с Ленинградского фронта, так и с Украины продолжали поступать удручающе плохие известия.
Первый воздушный налет на Москву был совершен в ночь на 22 июля. Особенно внушительное впечатление произвел мощный заградительный огонь: шрапнель зенитных снарядов барабанила по улицам, точно град. Десятки прожекторов освещали небо. В Лондоне мне не приходилось ни видеть, ни слышать ничего подобного. В широких масштабах была организована борьба с пожарами. Позже я узнал, что многие из тех, кто тушил пожары, получили тяжелые ожоги от зажигательных бомб, иногда по неопытности. Мальчишки первое время хватали бомбы голыми руками!
Вскоре стало известно, что вокруг Москвы было три полосы противовоздушной обороны и что во время первого налета прорвалось едва 10-15 самолетов из двухсот. Иногда можно было услышать взрывы тяжелых фугасных бомб, но их было очень немного. На следующее утро многие стекла оказались разбитыми, кое-где виднелись воронки от бомб, в том числе одна на Красной площади; возникло несколько пожаров, быстро потушенных, но в общем ничего особенно серьезного не произошло. В ночь на 23 июля состоялся второй налет, также причинивший небольшой ущерб. Единственным серьезным случаем была гибель ста с лишним человек в результате прямого попадания в большое бомбоубежище на Арбатской площади. Но, как и в первую ночь, прорвалось только небольшое количество самолетов.
Воздушные налеты продолжались все последние дни июля и большую часть августа. В выпущенных в конце июля инструкциях уже говорилось, что зажигательные бомбы нужно тушить песком, но тем не менее продолжали применять и воду.
В целом Москва в эти первые два месяца войны являла зрелище спокойствия. Официальный оптимизм более или менее подогревался печатью. Исключительно большое значение придавалось остановке немцев под Смоленском, хотя с других участков фронта продолжали поступать в высшей степени зловещие известия. Но, по крайней мере, продвижение немцев уже было не таким быстрым, как в две первые страшные недели.
Условия в Москве становились более трудными. Если в начале июля еще ни в чем не ощущалось сколько-нибудь значительного недостатка и особенно много было продуктов питания и папирос (продавались даже красивые коробки шоколадных конфет с надписью «Изготовлено в Риге, Латвийская ССР», теперь уже находившейся в руках у немцев), то все же люди все время понемногу запасались товарами, и к 15 июля нехватка продовольствия стала очень заметной. Горы папирос, продававшихся почти на каждом углу, быстро исчезли. 18 июля было введено строгое нормирование продуктов; население разделили на три категории. Правда, продолжали торговать колхозные рынки, но цены быстро росли. В магазинах еще продавались кое-какие потребительские товары; в конце августа я даже умудрился купить себе пальто из меха белой сибирской лайки в магазине в Столешниковом переулке, где по-прежнему был довольно широкий выбор оленьих полушубков и т.п. Я заплатил за свою «собачью доху» 335 рублей, что было дешево. Но другие магазины, как я обнаружил, быстро распродавали свои запасы обуви, галош и валенок.
Однако рестораны работали, как и прежде, и в таких больших гостиницах, как «Метрополь» и «Москва», а также в ресторанах вроде знаменитого «Арагви» на улице Горького еще подавали хорошие блюда. Переполнен был и коктейль-холл на улице Горького. Работали кинотеатры и 14 театров. Многие из них ставили патриотические пьесы и спектакли на злободневные темы. Большой театр был закрыт, но его филиал на Пушкинской улице действовал, и молодежь, как обычно, толпилась у входа, спрашивая лишние билеты, а в зрительном зале устраивала бурные овации при каждом выступлении Лемешева и Козловского. В Малом театре шла пьеса Корнейчука «В степях Украины», и зрители встречали громом аплодисментов слова одного из действующих лиц:
«Возмутительнее всего это, когда вам не дают достроить крышу вашего дома. Нам бы еще лет пять! Но если начнется война, мы будем драться с такой яростью и ожесточением, каких еще свет не видывал!»
В кино всякий раз, когда в журналах появлялся Сталин, люди начинали громко аплодировать, что они вряд ли стали бы делать в темноте, если бы действительно не испытывали таких чувств. Авторитет Сталина не вызывал никаких сомнений, особенно после его речи по радио 3 июля. Все верили, что он знает, что делает. Но при всем том люди чувствовали, что дела идут очень скверно, а многих чрезвычайно удивляло, что СССР вообще подвергся вторжению.
В театрах ставились патриотические пьесы, вроде шедшей в Камерном театре «Очной ставки» (где немецкий агент в конце концов в отчаянии сдавался, убедившись в полном единстве русского народа), пьесы о победоносных русских полководцах Суворове и Кутузове. По воскресеньям в саду «Эрмитаж» по-прежнему толпилась штатская и военная публика. Здесь в переполненном зале Буся, Гольдштейн исполнял скрипичный концерт Чайковского, а в одном из театров шли сатирические скетчи, высмеивавшие Гитлера, Геббельса, немецких солдат, немецких генералов, немецких парашютистов, которых неизменно удавалось перехитрить патриотически настроенным колхозникам. Зрителям это нравилось, и они смеялись.
Поэты сочиняли патриотические стихи, а композиторы слагали военные песни; по улицам проходили солдаты, распевавшие довоенный «Синий платочек», «Катюшу», «В бой за родину» или же новую, торжественную «Священную войну» Александрова, остававшуюся своего рода полуофициальным гимном на протяжении всей войны.
Однако наряду с этим многие театры сохранили старый репертуар. В Московском Художественном театре шли «Три сестры», «Анна Каренина» и «Школа злословия»; сезон Большого театра открылся в конце сентября балетом «Лебединое озеро» с участием Лепешинской. Это было всего за несколько дней до начала генерального наступления немцев на Москву.
Английское и американское посольства проявляли в эти дни большую активность. Криппс и Штейнгардт стали привычными фигурами в Москве, и их часто показывали в кинохронике. В конце июля были восстановлены дипломатические отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне, хотя вскоре это привело к первым осложнениям. Через один-два дня после подписания И.М. Майским и Сикорским соглашения от 30 июля я спросил у Лозовского, началось ли освобождение польских военнопленных и принимаются ли меры к сформированию польской армии в СССР. Он дал уклончивый ответ, что такие меры принимаются, но в связи с тем, что поляки «разбросаны по всему Советскому Союзy», предстоит еще решить много практических вопросов.
Были восстановлены также дипломатические отношения с эмигрантскими правительствами Югославии, Бельгии и Норвегии. Важное значение имело англо-советское решение оккупировать Иран.
Вершиной дипломатической активности в то мрачное лето был визит Гарри Гопкинса, за которым последовал визит Бивербрука. Все это, и особенно приезд Гопкинса, ободряло русских. Конечно, в то время не сообщалось о точной цели визита Гопкинса и строились только предположения, что американцы намерены «помогать». Нечего и говорить, что в народе уже ходило много разговоров о необходимости второго фронта: почему бы англичанам не высадиться но Франции? Официально пока что об этом говорилось очень мало, но печать явно распространяла мысль, что это имело бы очень важное, если не решающее значение. Для поднятия духа усиленно подчеркивалось значение налетов английской авиации на Германию, хотя все, по-видимому, чувствовали, что этого недостаточно… Но советской публике еще ничего не было известно об уже начавшейся оживленной переписке между Черчиллем и Сталиным, принимавшей подчас характер пререканий.
Как Стаффорд Криппс, так и глава английской военной миссии генерал Мейсон Макферлан доброжелательно относились к русским, хотя Криппсу пришлось вытерпеть немало унижений во времена советско-германского пакта. Летом и в начале осени я часто виделся с ними обоими. Оба считали положение на Восточном фронте серьезным, но вовсе не безнадежным и были твердо убеждены, что Красную Армию не удастся сломить, какой бы отчаянный оборот ни принимали события иной раз: в самом начале, потом после захвата немцами Киева и форсирования Днепра и, наконец, когда они подошли к Ленинграду и начали свое «последнее» наступление на Москву. Однако Криппс и Макферлан неизменно считали СССР постоянным и решающим фактором в борьбе против нацистской Германии. На обоих большое впечатление произвел Сталин с его знанием деталей. Особенное впечатление произвел на Криппса тот факт, что в своих переговорах с англичанами и американцами Сталин всегда, за исключением, возможно, одного случая, исходил из перспективы длительной войны. В частности, просьба о поставках алюминия была воспринята Криппсом как свидетельство того, что Сталин заглядывал далеко вперед.
Некоторые из молодых английских и американских дипломатов и журналистов были, однако, склонны думать, что Советский Союз потерпит катастрофу. Одна американская журналистка рассчитывала остаться в Москве в качестве «нейтральной», чтобы посмотреть из окна своего номера в гостинице «Националь», как немцы пройдут по Красной площади. Но в основном журналисты испытывали по отношению к русским чувства доброжелательности и восхищения.
(обратно)Глава VI. Осенняя поездка на смоленский фронт
В конце августа - начале сентября советские войска успешно провели ряд наступательных операций в районе севернее, юго-восточнее Смоленска и освободили от немецких захватчиков город Ельню. Августовские бои не были крупным сражением советско-германской войны, и, однако, нужно было пережить страшное лето 1941 г., чтобы понять, какое огромное значение имел этот небольшой успех для поднятия морального духа советских войск. Весь август и часть сентября советская печать уделяла большое внимание наступательным действиям в районе Смоленска, хотя это не соответствовало ни их тогдашнему, ни конечному значению. И все же это была не просто первая победа Красной Армии над немцами, но и первый кусок земли во всей Европе - каких-нибудь 150-200 квадратных километров, быть может, - отвоеванный у гитлеровского вермахта. Странно думать, что в 1941 г. даже это считалось огромным достижением.
Хотя до тех пор иностранных корреспондентов не пускали на фронт, победа под Ельней была таким событием, которое надо было предать международной огласке, и поэтому двенадцать или тринадцать журналистов были отправлены на машинах в недельную поездку по фронту, начавшуюся 15 сентября[39].
Оглядываясь назад, поражаешься прежде всего трагизму всей обстановки. Трагичен был город Вязьма, подвергавшийся непрестанным воздушным налетам с близлежащих германских аэродромов. Еще трагичнее были молодые летчики на небольшом аэродроме для истребителей под Вязьмой, совершавшие по семь-восемь вылетов в день и постоянно выполнявшие почти самоубийственные задания. Трагичной была вся полностью разрушенная территория Ельнинского выступа, где все города и деревни были уничтожены, а немногие уцелевшие жители ютились в погребах и землянках.
Вязьма, куда мы прибыли к вечеру, выглядела почти обыкновенно, несмотря на большое число солдат и разбомбленные дома. Это был тихий маленький городок с учрежденческими зданиями на центральной площади, ветхими церквами и памятником Ленину. В остальном же он состоял из тихих провинциальных улиц с деревянными домами, с палисадниками и рядами грубо сколоченных деревянных заборов. В палисадниках росли высокие подсолнухи и георгины, у ворот судачили старухи в платках. Вряд ли город особенно изменился со времен Гоголя.
Наша беседа в ту первую ночь в Вязьме с генералом В.Д. Соколовским, тогда начальником штаба Западного фронта, была в тех условиях успокаивающей. Тихим ровным голосом он рассказывал, ч ого русские добились на этом центральном участке в течение недель. Он придавал величайшее значение тому факту, что продвижение немцев остановлено за Смоленском, утверждал, что за минувший месяц было разгромлено «несколько германских армий» и что только в первые дни сентября немцы потеряли 20 тысяч человек. На этом же участке за последние недели было сбито несколько сот самолетов. Блицкриг как таковой, сказал Соколовский, кончился, а теперь по-настоящему начался процесс «перемалывания» германской военной машины, и Красной Армии даже удалось отвоевать на этом участке порядочный кусок территории. Чтобы остановить советское контрнаступление, немцам пришлось в последние дни подтянуть подкрепления.
Соколовский считал, что действовавшие в тылу противника партизаны причиняли серьезный ущерб германским коммуникациям. Советская артиллерия, по его мнению, значительно превосходила немецкую, хотя он признавал, что немцы все еще обладали значительным превосходством в авиации и танках. Он также отметил то важное обстоятельство, что Красная Армия обеспечена полушубками и другим зимним обмундированием и что советские войска могут выдерживать сильные морозы, которые не в силах выдержать немцы. Показательно, что генерал В.Д. Соколовский уже тогда придавал величайшее значение той роли, которую вскоре предстояло сыграть зиме. Потом, подумав, он добавил, что может говорить только о Центральном фронте и не компетентен судить о делах на севере и юге, где в то время положение было крайне серьезным.
На вопрос, считает ли он, в связи с тем что он сказал, новое германское наступление на Москву невозможным, Соколовский ответил: «Конечно, не считаю. Они всегда могут сделать последнюю отчаянную попытку или даже несколько «последних отчаянных» попыток. Но я не думаю, - добавил он твердо, - что они дойдут до Москвы».
На закате мы подъехали к небольшой базе истребителей под Вязьмой. Подъезжая, мы услышали гул моторов, и, несмотря на сгущавшуюся тьму, советский истребитель спикировал и мягко сел на аэродром.
К нему бросилась толпа летчиков. Приземлившийся самолет был истребитель, но с отсеком для бомб… Молодой пилот, выбравшись из кабины, внимательно осматривал одно из крыльев, пробитое зенитным снарядом. Летчик сбросил бомбы на германский аэродром под Смоленском, где его встретил довольно сильный огонь зенитной артиллерии. Он поджег ангар и был, видимо, очень доволен результатом. Летчику не было еще и двадцати, но он уже немало летал. На вопрос, сколько вылетов в день он делает, летчик ответил: «Отсюда до германских линий - пять, шесть, семь вылетов в день. На это уходит всего час в оба конца». Там же я увидел другого, белокурого молодого летчика и я спросил у него, как ему нравится эта опасная жизнь. «Я ее люблю, - ответил он. - Возможно, она и опасная, но зато каждая минута волнует. Это самая лучшая жизнь. Только так и стоит жить». («Неужели он действительно так думает?» - спрашивал я себя.)
Позже нам показали в действии реактивную мину, которую эти самолеты применяли против танков. И все же что-то трогательно-жалкое было в этих тихоходных старых самолетах, которые использовались как истребители-бомбардировщики и, вероятно, с очень небольшим эффектом, но ценой тяжелых потерь летного состава.
Эта неделя, проведенная на Смоленщине, подействовала на меня в известной мере ободряюще, но в то же время оставила впечатление трагедии. Исторически то была одна из стариннейших русских земель, чуть не самое сердце древней Руси. Старинный город Смоленск уже был у немцев, а фронт проходил в 30-40 км восточнее него. Мы проезжали через деревни, где немцев еще не было. В этих деревнях почти не осталось мужчин - только женщины, дети да несколько стариков. Многие женщины волновались, предчувствуя плохое. Многие из деревень прифронтовой полосы подвергались бомбежке и пулеметному обстрелу. Некоторые деревни и небольшие города были полностью уничтожены германскими бомбардировщиками, и поля ржи и льна вокруг них стояли неубранные.
Затем были встречи с солдатами. Мы посетили много полковых штабов, иногда расположенных всего в 1,5-2 км от линии фронта, и вокруг часто падали снаряды. В течение последнего месяца эти люди наступали, хотя и дорогой ценой. Многие из офицеров - как, например, полковник Кириллов, встретивший нас на лесистой возвышенности, с которой просматривались германские линии по другую сторону узкой лощины, - казались толстовскими персонажами: храбрые, грубоватые, принимавшие войну как нечто обычное. Некоторые из этих людей отступали сотни километров, но теперь были счастливы, что остановились и даже потеснили немцев. Кириллов усыновил и сделал «сыном полка» маленького 14-летнего мальчика, чьи отец и мать погибли во время бомбардировки одной из ближних деревень.
Один раз мы ночевали в полевом госпитале, состоявшем из нескольких больших палаток; в двух из них еще лежали тяжелораненые, которых нельзя было перевозить, - потерявшие оба глаза или обе ноги. Всего неделей раньше в этих палатках лежали сотни раненых. Все медсестры были студентки Томского медицинского института, все до одной молодые и на редкость хорошенькие, какими обычно бывают сибирячки. Медицинский персонал состоял из семи хирургов, шести терапевтов и этих 48 сестер, и всего неделю назад им приходилось обрабатывать по 300 раненых в день. Палатка, в которой разместилась операционная, была хорошо оборудована, снабжена рентгеновским аппаратом и аппаратурой для переливания крови. До сих пор, сказал нам главный хирург, москвич, они не испытывали недостатка в медикаментах.
Но, пожалуй, оптимизм военных был больше показной. Однажды я беседовал с капитаном из Харькова, изучавшим историю и экономику в Харьковском университете. В минувшем месяце капитан участвовал в тяжелых боях под Киевом, откуда его полк был переброшен под Смоленск. Он был настроен мрачно. «Незачем делать вид, что все хорошо, - сказал он. - Размахивание флагами и ура-патриотизм хороши в пропагандистских целях, для поддержания духа. Но здесь можно перегнуть палку, как это иногда и бывает. Нам понадобится большая помощь из-за границы.
Я знаю Украину, знаю, какое огромное значение она имеет для всего нашего народного хозяйства. Сейчас мы потеряли Кривой Рог и Днепропетровск, а без криворожской руды промышленности Харькова и Сталино, если мы не потеряем и их, будет трудно работать на полную мощность. Ленинград с его квалифицированным рабочим классом также почти изолирован. К тому же мы просто не знаем, как далеко еще продвинутся немцы; теперь, когда их войска заняли Полтаву, мы вполне можем потерять и Харьков. Мы уже несколько недель слышим об экономической конференции, которая должна собраться в Москве; говорят, что лорд Бивербрук находится в пути, - не знаю, что это даст…»
Он продолжал: «Это очень тяжелая война. И вы не представляете, какую ненависть немецкие фашисты пробудили в нашем народе. Вы знаете, мы беспечны и добродушны, но, заверяю вас, они превратили наш народ в злых мужиков. Злые мужики - вот кто мы сейчас в Красной Армии; мы - люди, жаждущие отомстить. Никогда раньше я не испытывал такой ненависти. И для этого есть все основания. Подумайте обо всех этих городах и деревнях, - продолжал он, указывая на красное зарево над Смоленском. - Подумайте о муках и унижении, которые терпит наш народ. - В глазах его сверкнул огонек лютой злобы. - А я не могу не думать о своей жене и десятилетней дочери в Харькове. - Он помолчал, овладевая собой и барабаня пальцами по колену. - Конечно, - сказал он наконец, - существуют партизаны. Это по меньшей мере личный выход для тысяч оставшихся там людей. Терпению людей бывает конец. Они уходят в лес, надеясь, что когда-нибудь смогут убить немца. Зачастую это равносильно самоубийству; часто они знают, что рано или поздно их наверняка схватят и подвергнут всем истязаниям, на какие способны фашисты».
Остановившись затем на вопросе о партизанах вообще, он высказал мнение, что они играют важную роль, хотя и не такую важную, какую могли бы играть. Но если Красная Армия будет по-прежнему отступать, партизаны потеряют связь со своими источниками снабжения и начнут испытывать недостаток в вооружении. «Если бы мы только как следует подготовили партизанское движение, если бы создали тысячи складов с оружием в Западной России! Кое-что было сделано, но далеко не достаточно. На юге же, к несчастью, нет лесов…»
Во время этой поездки на фронт я впервые встретился с поэтом Алексеем Сурковым, который находился там в качестве военного корреспондента. Потом, на более поздней стадии войны, мы вспоминали с ним те дни. «Это было ужасное время, - говорил он. - Помните, мы хотели показать вам наши танки, - так вот, теперь я могу вам сказать, что ни черта их тогда у нас не было!»
Город Дорогобуж в верховьях Днепра, славившийся до войны своими сырами, - куда мы прибыли как-то ночью после многочасовой поездки по невероятно грязным и ухабистым дорогам, - подвергся германской бомбардировке, и теперь от него оставались только коробки каменных и кирпичных зданий да печные трубы деревянных домов. Из 10 тысяч жителей в городе оставалось не более сотни. В июле средь бела дня волны германских самолетов в течение целого часа сбрасывали на город фугасные и зажигательные бомбы. В то время там не было войск; погибли мужчины, женщины, дети - сколько именно, никто не знал.
Переночевав в армейской палатке за городом, мы на другое утро увидели человек пятьдесят - больше всего женщин, а также несколько бледных детей, - выстроившихся в очередь за продуктами у ларька военторга, разместившегося в одном из немногих не полностью разрушенных зданий. По уже «отвоеванной территории» мы поехали в Ельню. Там прошли тяжелые бои. Лес был разбит снарядами; там и сям попадались братские могилы с грубо раскрашенными деревянными обелисками; в могилах были похоронены сотни советских солдат. Деревня Ушакове, более месяца являвшаяся ареной особенно ожесточенных боев, была сровнена с землей, и только по голым участкам вдоль дороги можно было догадаться, где стояли дома. В другой деревне, Устиновке, неподалеку от Ушакова, соломенные крыши у большинства домов были сорваны взрывной волной. Жители бежали еще до прихода немцев, но сейчас здесь снова появились слабые признаки жизни. После занятия деревни советскими войсками туда вернулись старик крестьянин и два маленьких мальчика; они работали в пустом поле, выкапывая картофель, посаженный задолго до прихода немцев. Больше в деревне не было никого, кроме сумасшедшей слепой старухи. Она осталась в деревне и во время обстрела сошла с ума. Я видел, как она бродила по деревне босая, в грязных лохмотьях, таская с собой ржавое ведро и рваную овчину. Один из мальчиков сказал, что спит она в своей разбитой избе и что они приносят ей картошку, а иногда ей что-нибудь перепадает от проходящих солдат, хоть сама она никогда ничего не просит. Она лишь глядела на всех своими незрячими бельмами и ни разу не произнесла ни одного членораздельного слова, кроме «черти».
Мы ехали в Ельню через нескончаемые неубранные поля. Один раз мы свернули с дороги в лес, так как в небе показались три или четыре немецких самолета. В лесу мы заметили артиллерийские батареи и другие признаки деятельности военных. Ельня была полностью разрушена. Все дома, в большинстве деревянные, по обе стороны дороги, которая вела к центру города, были сожжены; от них остались лишь груды золы да остовы печей. Раньше это был город с населением 15 тыс. человек. Из всех зданий уцелела только каменная церковь. Большинство жителей, оставшихся здесь во время германской оккупации, теперь исчезли. Город был занят немцами почти неожиданно, и мало кто из населения успел уехать. Почти всех трудоспособных мужчин и женщин силой зачислили в рабочие батальоны и угнали в немецкий тыл. В городе было разрешено остаться только нескольким сотням стариков, старух и детей. В ночь, когда немцы решили уйти из Ельни - так как части Красной Армии приближались, угрожая окружением города, - жителям было приказано собраться в церкви. Они пережили ужасную ночь. Сквозь высокие церковные окна пробивался черный дым и виднелось пламя. Немцы обходили дома, забирали все, что можно было найти в них ценного, а потом поджигали дом за домом. Советские солдаты ворвались в город по горящим развалинам и успели освободить оставшихся без крова пленников.
Во время этой поездки на фронт мы беседовали с тремя немецкими летчиками - экипажем германского бомбардировщика, сбитого почти сразу после налета на Вязьму. Все трое держались нагло, хвастаясь тем, что бомбили Лондон, и были совершенно уверены, что Москва падет до наступления зимы. Они доказывали, что войну с Россией сделала неизбежной война с Англией: это была часть той же самой войны. Как только Россия будет разбита, Англию поставят на колени. «А как насчет Америки?» - спросил кто-то. «До Америки далеко» («Amerika, das ist sehr weit»). Они заявили также, что, для того чтобы сбить их «хейнкель», якобы, понадобилось пять советских истребителей…
(обратно)Глава VII. Наступление на Ленинград
В то время как Красной Армии удалось стабилизировать фронт восточнее Смоленска, обстановка на севере, а вскоре и на юге изменилась к худшему. Подробнее о не имеющей себе равных трагедии Ленинграда будет рассказано ниже, здесь же мы лишь кратко коснемся немецкого наступления на Ленинград. План немцев заключался в том, чтобы одним стремительным ударом прорваться через Псков, Лугу и Гатчину к Ленинграду и овладеть городом, причем с севера одновременно должны были ударить финны. Второе охватывающее движение немецкие войска предполагали осуществить в обход озера Ильмень и далее на Петрозаводск восточнее Ладожского озера, где они должны были соединиться с финнами.
Советские войска Северо-Западного фронта в конце июня - начале июля потерпели поражение в Прибалтике, после чего вермахт прорвался к Острову и древнему русскому городу Пскову, откуда до Ленинграда, лежавшего прямо на север, оставалось около 300 км. 10 июля немцы захватили Остров, а два дня спустя - Псков. Другая группа немецких войск, захватив Ригу и оккупировав всю Латвию, быстро продвигалась в Эстонию, а войска Красной Армии отступали в беспорядке к Таллину, столице Эстонии и одной из важнейших советских военно-морских баз на Балтийском море. Из 30 дивизий, насчитывавшихся первоначально в составе Северо-Западного фронта, лишь 5 были теперь полностью укомплектованы, а остальные имели не более 10-30% штатного состава и боевой техники[40]. К 10 июля положение здесь стало таким же катастрофическим, как на худших этапах отступления советских войск через Белоруссию. Немцы имели численное превосходство по пехоте в 2,4 раза, по орудиям - в 4 раза, по минометам - почти в 6 раз, не говоря уже о танках и авиации. Чтобы замедлить продвижение немцев к Ленинграду, использовались не только регулярные войска, но также только что быстро сформированные части народного ополчения, состоявшие из рабочих, студенческих и даже школьных батальонов, что было характерно для того массового подъема, который в Ленинграде оказался сильнее, чем в любом другом советском городе. Кроме того, в начале июля несколько сот тысяч граждан было мобилизовано на рытье трех линий траншей, противотанковых рвов и других простейших оборонительных сооружений на подступах к Ленинграду. «Внешний» рубеж обороны проходил по реке Луге.
Как в настоящее время открыто признают, в этой части России не было никаких укреплений, ибо, хотя Советское правительство было крайне озабочено безопасностью Ленинграда, до войны даже и голову никому не приходило, что Ленинграду может угрожать опасность с юга или с юго-запада.
Немцы безостановочно продвигались и вышли на реку Лугу задолго до окончания строительства оборонительных сооружений. Тем не менее к 10 июля значительный участок Лужской оборонительной полосы был занят так называемой Лужской оперативной группой в составе четырех стрелковых дивизий и трех дивизий ленинградского ополчения. Продвижение немцев было замедлено, но им удалось захватить несколько плацдармов на северном берегу Луги.
В это же время другая группа немецких войск наступала в Эстонии на западном берегу Чудского озера. Прорвавшись 7 августа к Кунда на побережье Финского залива восточнее Таллина, немцы отрезали советские войска, отходившие к эстонской столице. Еще до этого другая группа немецких войск продвинулась по восточному берегу Чудского озера к Кингисеппу, и угроза Ленинграду сильно возросла. Немцы форсировали реку Нарву и продвигались к бывшей русской столице не только из района Нарва - Кингисепп, где Красная Армия уже понесла потери в тяжелых боях, но и из Лужского района; они наступали также к юго-востоку от Ленинграда, севернее и южнее озера Ильмень, с явной целью изолировать Ленинград с востока и соединиться с финнами на восточном берегу Ладожского озера.
В июле финны также нанесли удары в двух направлениях: через Карельский перешеек к старой границе и восточнее Ладожского озера к Петрозаводску на берегу Онежского озера.
Особенно тяжелым эпизодом была попытка изолированных в Таллине советских войск эвакуироваться морским путем. Больше месяца они старались помешать немцам захватить Таллин с юга. В Таллине еще находилась значительная часть советского Балтийского флота, и, возможно, большее число войск предполагалось эвакуировать морем. Это был своего рода Дюнкерк, но без авиационного прикрытия, так как всю авиацию, какая у него была, советское командование Северо-Западного направления сосредоточило в районе Ленинграда, где обстановка стала уже в высшей степени критической.
В Таллине находилось 20 тыс. советских солдат, и вместе с Балтийским флотом они больше месяца сковывали значительные силы немцев в радиусе 15-30 км от города. 25 тыс. граждан было мобилизовано на строительство оборонительных укреплений южнее города.
Немцы начали широкое наступление на Таллин 19 августа, но советские войска при поддержке орудий береговой обороны и боевых кораблей почти неделю удерживали свои позиции. Однако 26 августа немцы ворвались в город, и Советское Верховное Главнокомандование отдало приказ об эвакуации Таллина, тем более что Ленинград сильно нуждался во всех войсках и кораблях, которые еще можно было спасти. Еще два дня в городе шли ожесточенные уличные бои, и затем транспортные суда и военные корабли покинули таллинский рейд. Немцы утверждали, что «ни одному кораблю» не удастся уйти из Таллина, но на самом деле большинство кораблей, включая лидер «Минск», прорвалось, несмотря на непрерывные атаки немецкой авиации и торпедных катеров и на плавающие мины, расставленные немцами по всему Финскому заливу. При проводке судов через минные заграждения было потеряно несколько эсминцев, сторожевых кораблей и тральщиков. В коночном счете большая часть кораблей с несколькими тысячами солдат на борту прибыла в Кронштадт или Ленинград.
Советские военно-морские гарнизоны Хиума, Сарема и других островов у побережья Эстонии держались до середины октября, когда 500 уцелевших защитников Хиума отплыли на полуостров Ханко.
В сущности, только когда советские армии отошли к самому Ленинграду после крушения Лужского рубежа, им удалось сдержать натиск противника на ближних подступах к городу. 11 сентября главнокомандующим Ленинградского фронта был назначен генерал армии Г.К. Жуков, сменивший растерявшегося К.Е. Ворошилова. Войска, оборонявшие подступы к городу, были в короткий срок перегруппированы, оборона Ленинграда началась по-настоящему энергично. Ей суждено было стать величайшей из всех русских великих повестей о человеческой стойкости. Никогда еще город, равный по размерам Ленинграду, не подвергался осаде на протяжении почты двух с половиной лет.
(обратно)Глава VIII. Бои на Украине
Тем временем, как мы видели, Гитлер решил полностью овладеть Украиной. Отказавшись на время от наступления на Москву, он перебросил часть войск на север, чтобы ускорить захват Ленинграда, а еще большие подкрепления послал на юг, намереваясь занять Правобережную Украину и Крым за несколько недель.
В начале июля советские войска добились на Украине кое-каких местных успехов; так, они остановили прорыв немцев к Киеву и 16-20 км от города. Но в конце июля и начале августа фашистское наступление возобновилось. 17 августа немцы взяли Днепропетровск и форсировали Днепр; советские войска были вынуждены отойти, несмотря на приказ Советского Главнокомандования удерживать линию Днепра любой ценой. Потом были захвачены Херсон, Николаев и центр добычи железной руды Кривой Рог.
На юго-западе румыны отрезали от советского «материка» Одессу. Одновременно севернее Киева немцы начали другое наступление в общем направлении на Конотоп, Полтаву. Таким образом, к началу сентября Киев стал оконечностью длинного, все время сужавшегося выступа, так как немцы прорвались далеко на восток как с севера, так и с юга от украинской столицы.
Здесь мы подходим к одному из крупных разногласий, возникших в ходе войны, причем в данном случае спор происходил не только между Гитлером и его генералами, но и между Сталиным и Военным советом Юго-Западного направления.
Поскольку на 9 сентября немцы продвигались с севера к Нежину, на юге другая группа германских армий проникла глубоко в излучину Днепра, а у советского командования не было резервов, чтобы остановить эти два немецких наступления, то Буденный и Хрущев решили отвести войска из Киевского выступа.
11 сентября они доложили Сталину, что его прежнее указание - послать из Киева две стрелковые дивизии, чтобы остановить продвижение немцев на севере, - не может быть выполнено, что советские армии на Украине крайне ослаблены после нескольких недель тяжелых боев и что, несмотря на возражения Ставки, они считают необходимым отход на новый тыловой рубеж.
В тот же день в разговоре с командующим Юго-Западным фронтом генералом Кирпоносом Сталин «категорически возразил против оставления Киева и отвода войск из Киевского выступа на рубеж реки Псел. Он приказал удерживать Киев любой ценой, перебросить на правое крыло фронта все силы, которые можно снять с других направлений и во взаимодействии с Брянским фронтом разгромить конотопскую группировку противника»[41]. Одновременно Сталин освободил Буденного от занимаемой должности и заменил его Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко, который 13 сентября приступил к исполнению своих обязанностей.
В этот день горловина между Лохвицей и Лубнами, по которой можно было отвести четыре армии Юго-Западного фронта, достигла в ширину не более 30-40 км. Два дня спустя немецкие танковые соединения закрыли эту горловину.
Здесь мы подходим к кульминационному моменту спора между Ставкой и командованием Юго-Западного направления.
«14 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор В.И. Тупиков счел своим долгом еще раз информировать начальника Генерального штаба Б.М. Шапошникова о катастрофическом положении войск фронта. «Начало понятной Вам катастрофы - дело пары дней». Начальник Генерального штаба назвал доклад генерал-майора В.И. Тупикова паническим, потребовал от командования направления и фронта сохранять хладнокровие и напомнил командующим: «Необходимо выполнять указания тов. Сталина, данные Вам 11.9»[42].
Но 16 сентября немцы закрыли горловину и четыре советские армии были окружены… Одна из них, 37-я, еще удерживала в районе Киева плацдарм радиусом примерно 25 км. Все эти войска, говорится в советской «Истории войны», уже понесшие большие потери, «были дезорганизованы и в значительной мере утратили боеспособность… Всего этого можно было бы избежать, если бы Ставка в свое время согласилась с предложениями С.М. Буденного и Н.С. Хрущева[43].
Поскольку Ставка не дала разрешения на общий отход, Военный совет Юго-Западного направления, как это утверждает «История войны», принял самостоятельное решение об оставлении Кие-па и выводе войск Юго-Западного фронта из окружения. Пока фронт противника на реке Псел был еще непрочен, это являлось единственным благоразумным выходом из создавшегося положения, хотя, несомненно, отход войск был связан с преодолением больших трудностей. «16 сентября это решение Военного совета Юго-Западного направления было передано генерал-полковнику М.П. Кирпоносу устно через начальника оперативного управления Юго-Западного фронта генерал-майора И. X. Баграмяна, прибывшего из штаба направления в Прилуки, где находился штаб Юго-Западного фронта.
Вместо немедленного выполнения этого решения генерал-полковник М.П. Кирпонос усомнился в его достоверности, поскольку оно противоречило приказу И.В. Сталина. После долгих колебаний командующий наконец запросил Ставку: выполнять или не выполнять указание Военного совета Юго-Западного направления»[44].
Только в 11 час 40 мин вечера 17 сентября Шапошников по поручению Ставки ответил, что Верховное Главнокомандование разрешает оставить Киев, но ничего не сказал о выводе войск на реку Псел. Таким образом, были потеряны два дня, в течение которых могли бы прорваться значительные силы советских войск. Вслед за этим начались неорганизованные попытки вырваться из окружения. Их неорганизованность усиливалась тем, что связь между штабами армий отсутствовала. Так, 37-я армия, отрезанная от других армий, еще два дня продолжала свою безнадежную борьбу за Киев и только после этого начала пробиваться с боями без всякой надежды на успех.
Лишь некоторым частям удалось прорваться - например отряду численностью 2 тыс. человек, которым командовал генерал Баграмян. Машины штаба фронта и Военного совета следовали за отрядом Баграмяна, но были окружены немецкими танками.
Завязался бой, в ходе которого генерал Кирпонос был смертельно ранен, а член Военного совета и секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины М.А. Бурмистенко, а также начальник штаба фронта генерал-майор В.И. Тупиков были убиты. Спаслись лишь несколько работников штаба. Десятки тысяч солдат, сотни офицеров и политработников погибли в неравном бою или были взяты в плен. Многие попали в плен ранеными[45].
Немцы утверждают, что во время окружения Киева вермахт захватил не менее 665 тыс. пленных. Согласно «Истории войны», к началу Киевской операции на Юго-Западном фронте имелось 677 085 человек. Из этого числа 150 541 человек избежали окружения. Окруженные войска вели бои в течение большей части сентября и понесли очень тяжелые потери, некоторым же из них удалось прорваться. При этом в плен попало не более одной трети первоначально окруженных войск[46]. Число пленных составило, следовательно, около 175 тыс. человек.
Остается вопрос, не был ли Сталин в конечном счете прав, стремясь во что бы то ни стало удержать Киевский выступ. В «Истории войны» высказывается мысль, что эта победа немцев на Украине в значительной степени поломала стратегические расчеты немецкого генерального штаба[47]. Это совпадает и с господствующей немецкой точкой зрения. По мнению некоторых ведущих германских генералов, время, потерянное на Киевскую операцию, в большой мере опрокинуло планы германского верховного командования достичь Москвы до наступления зимы. Так, Гальдер считал битву за Киев величайшей стратегической ошибкой во всей восточной кампании; это мнение разделял и Гудериан, который назвал битву за Киев крупным тактическим успехом, но сомневался, что из нее можно будет извлечь большие стратегические преимущества[48]. Некоторое, правда не очень большое, утешение Гудериан находил для себя в мысли, что, хотя «от запланированного штурма Ленинграда пришлось отказаться и перейти вместо этого к его осаде», теперь открылась хорошая перспектива захватить Донецкий бассейн и выйти к Дону. Не совсем ясно, однако, был ли он в то время полностью согласен с мнением главнокомандования немецкой армии, что «противник уже не в состоянии создать прочный оборонительный фронт или оказать серьезное сопротивление в районе действий группы армий “Юг”».
Как бы то ни было, однако немцы прорвали фронт на Украине на 300 с лишним километров в ширину, устремились в эту брешь и в последующие два месяца заняли всю Левобережную Украину, почти весь Крым и были отброшены несколько назад только после занятия ими Ростова.
Хотя Одесса была официально провозглашена одним из городов-героев, ее оборона в период с 5 августа по 16 октября силами Отдельной Приморской армии против одной немецкой и восемнадцати румынских дивизий была на самом деле лишь одним из эпизодов в общей картине военных действий 1941 г.
Выйдя в начале августа на побережье Черного моря, противник отрезал Одессу от «материковой» Украины, но эта советская военно-морская база в западной части Черного моря продолжала поддерживать связь по морю как с Крымом, так и с Кавказом. Черноморский флот и морская пехота сыграли важную роль в обороне Одессы, где в конце августа завязались исключительно тяжелые бои и потери в людях достигали в общем 40%, а в морской пехоте - 70-80%. Чтобы как можно дольше удерживать Одессу, поскольку она сковывала значительные силы противника, туда были направлены морем подкрепления, в том числе некоторое количество замечательных реактивных минометов («катюша»), массовое производство которых тогда только началось.
Характерно, что, несмотря на превосходство немцев в воздухе, им не удалось нарушить регулярные морские сообщения между Одессой и другими советскими портами на Черном море на протяжении всего периода осады города. Советским властям даже удалось эвакуировать морем на Кавказ 350 тыс. мирных граждан, то есть примерно половину населения Одессы, и около 200 тыс. т промышленного оборудования.
Когда почти весь Крым, за исключением Севастополя, был захвачен немцами, 80 тыс. советских солдат и много боевой техники были успешно переброшены по морю из Одессы в Севастополь и на Кавказ, несмотря на диверсии вражеских агентов, которые в разгар эвакуации подожгли многие портовые сооружения[49].
Одесса пала после двух с половиной месяцев крайне ожесточенных боев, в которых обе стороны понесли большие потери. По данным советских источников, румыны потеряли в Одессе 110 тыс. человек; само румынское командование заявляло, что с начала войны до 10 октября 1941 г. их армия потеряла 70 тыс. человек убитыми и 100 тыс. ранеными. Одесса и вся территория между Днестром и Западным Бугом были оккупированы Румынией и насильственно присоединены к ней под общим названием «Транснистрия». Как мы увидим дальше, румынский оккупационный режим заметно отличался от оккупационного режима немцев.
Сколько бы пленных ни было захвачено восточнее Киева - 175 или 600 тыс. - это одно дело; другое - что это означало с чисто человеческой точки зрения.
На протяжении всей войны советский Наркомат иностранных дел выступал с пространными нотами о плохом обращении с военнопленными или о зверствах, творимых немцами на оккупированных территориях Советского Союза. Но те, кто в 1941-1943 гг. читал их на Западе, верили в них в лучшем случае наполовину. Если не считать сообщений о зверствах немцев в сравнительно небольшом районе под Москвой, освобожденном зимой 1941/42 г., информация из первых рук о германской оккупации и даже об обращении немцев с военнопленными все еще была очень скудной. Истина начала обнаруживаться только после Сталинграда, когда советские войска стали освобождать огромные районы. И даже тогда узнавалась не вся истина. Всю чудовищность ее стали представлять себе лишь после освобождения Польши с ее гигантскими лагерями смерти и после оккупации Германии, когда наконец удалось точно выяснить, что случилось с советскими гражданами, угнанными, как рабы, на работу в Германию или захваченными в плен, в особенности в 1941-1942 гг.
Многие годы после войны о тех, кто был захвачен в плен в первые дни наступления, говорилось очень мало. Прошло много лет, прежде чем в СССР стали открыто обсуждать трагедию военнопленных. Бесспорно, самое яркое описание судьбы людей, попавших в окружение под Киевом, появилось только 20 лет спустя; это был рассказ, опубликованный в «Новом мире» в январе 1963 г. Несмотря на беллетризованную форму, достоверность этого рассказа о пережитом не вызывает ни малейшего сомнения.
На тридцати страницах рассказа - он назывался «Сквозь ночь» - автор его, Леонид Волынский, сумел воссоздать историю германского плена с впечатляющей силой.
(обратно)Глава IX. Эвакуация промышленности
Эвакуация промышленности, которую немецкое вторжение поставило под угрозу, была одной из главных забот Советского правительства почти с самого начала войны. В первые же дни войны были потеряны два крупных промышленных центра: Рига и Минск. Но в Литве, в остальной части Латвии, в Белоруссии и Западной Украине не было особенно важных промышленных предприятий. Важнейшими промышленными районами европейской части Советского Союза, оказавшимися под угрозой захвата или уничтожения бомбардировочной авиацией, были, во-первых, вся Центральная и Восточная Украина, включая районы Харькова, Днепропетровска, Кривого Рога, Никополя и Мариуполя, и Донбасс и, во-вторых, Московский и Ленинградский промышленные центры.
Считало или нет Советское правительство в первые недели войны возможным, что немцы дойдут до Ленинграда, Москвы, Харькова или Донбасса, оно совершенно правильно решило не рисковать и приняло принципиальное постановление об эвакуации на восток всех важнейших предприятий, и особенно военной промышленности. Оно с самого начала знало, что это будет для СССР вопросом жизни или смерти, в случае если немцы захватят большие районы Европейской России.
Эту эвакуацию промышленности во второй половине 1941 г. и начале 1942 г. и ее «расселение» на востоке следует отнести к числу самых поразительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза во время войны.
Чтобы резко увеличить военное производство и перестроить всю военную промышленность на новой основе, надо было быстро перебазировать тяжелую промышленность из западных и центральных районов Европейской России и Украины в глубокий тыл, где она была бы недосягаема не только для немецкой армии, но и для немецкой авиации. Уже 4 июля Государственный Комитет Обороны поручил председателю Госплана Н.А. Вознесенскому разработать подробный план создания на востоке основной военно-экономической базы СССР. Была поставлена задача организовать «использование ресурсов предприятий, существующих на Волге, в Западной Сибири и на Урале, а также ресурсов и предприятий, вывозимых е указанные районы в порядке эвакуации. При выработке плана учесть как основные предприятия, так и смежные, с тем чтобы можно было производить вполне комплектную продукцию».
Эвакуация промышленности на Урал, в Поволжье, Западную Сибирь и Среднюю Азию началась на очень ранней стадии войны, притом не только из тех промышленных центров, которым непосредственно угрожали немцы, но и из других районов. Так, уже 5 июля было принято постановление вывезти в Магнитогорск броне вой стан Мариупольского завода, хотя Мариуполь находился еще в сотнях километров от линии фронта. На следующий день Государственный Комитет Обороны, утвердив планы выпуска артиллерийского и стрелкового оружия на ближайшие месяцы, постановил перевести на восток 26 военных заводов из Ленинграда, Москвы i Тулы. В течение той же недели было решено отправить на восток часть оборудования, рабочих и инженерно-технический персона: дизельных цехов ленинградского Кировского завода и Харьковского тракторного завода. Другой крупный завод по производству танковых моторов переводился из Харькова на Урал, в Челябинск.
Одновременно было решено переключить ряд предприятий на военное производство; так, Горьковский автомобильный завод перешел на выпуск танковых моторов. Эти два постановления заложили основу для создания крупного Волжско-Уральского комплекса массового танкостроительного производства. Аналогичные меры были приняты в отношении авиационной промышленности.
С обострением угрозы для Восточной Украины было принято решение безотлагательно эвакуировать такие крупные предприятия, как сталеплавильные заводы Запорожья («Запорожсталь»), 7 августа было отдано распоряжение вывезти огромный трубопрокатный завод из Днепропетровска. Первый эшелон с заводским оборудованием был отправлен 9 августа, девятый эшелон прибыл в Первоуральск на Урале 6 сентября. 24 декабря завод уже начал давать продукцию.
В августе были вывезены и многие другие крупные предприятия. Демонтаж и погрузка оборудования производились круглые сутки непрерывно, часто под бомбардировками вражеской авиации. О масштабах операции можно судить по тому, что для эвакуации всего оборудования и запасов сырья одной только «Запорожстали» потребовалось 8 тыс. вагонов. Основная часть оборудования, общим весом 50 тыс. т. была использована на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Несколько менее успешно проходила эвакуация ряда предприятий Донбасса, который был захвачен немцами быстрее, чем это ожидалось; здесь широко применялась политика «выжженной земли». Днепрогэс также, по крайней мере частично, был разрушен отступавшими русскими. Все же многое удалось спасти: с июня по октябрь с Украины было вывезено в общей сложности 283 крупных промышленных предприятия и 136 небольших заводов.
Труднее было в сложных условиях первых недель вторжения вывезти промышленные предприятия Белоруссии, тем более что железные дороги подвергались постоянным бомбежкам. И все же из Белоруссии, главным образом из восточных ее районов (Гомель и Витебск), было эвакуировано более 100 предприятий (хотя и гораздо менее важных по сравнению с украинскими заводами).
Эвакуация ленинградских заводов и их рабочих началась в июле, после выхода немцев на реку Лугу. Но успели вывезти только 92 предприятия, специализировавшихся на военном производстве, а также некоторые цехи Кировского и Ижорского заводов; остальные, после того как немцы перерезали все железные дороги, застряли в Ленинграде.
Массовая эвакуация московской промышленности началась только 10 октября, когда немцы находились уже в районе Вязьмы. Но к концу ноября на восток было вывезено 498 предприятий и около 210 тыс. рабочих. Для их перевозки потребовалось не менее 71 тыс. вагонов. В эти же тяжелые зимние месяцы постарались вывезти как можно больше запасов продовольствия, а также оборудования многих предприятий легкой промышленности из таких районов, которым угрожала опасность, как Курская и Воронежская области и Северный Кавказ.
Это фантастическое переселение на восток заводов и людей совершалось не без значительных трудностей; на некоторых крупных узловых станциях, например в Челябинске, образовались гигантские пробки; следуя глубокой осенью и зимой на Урал, в Сибирь и Казахстан, эвакуируемые терпели в пути серьезные лишения.
В общей сложности с июля по ноябрь 1941 г. не менее 1523 промышленных предприятий, из них 1360 крупных заводов, было перебазировано на восток: 226 - в Поволжье, 667 - на Урал, 244 - в Западную Сибирь, 78 - в Восточную Сибирь, 308 - в Казахстан и Среднюю Азию. Всего по железным дорогам было перевезено 1,5 млн. вагонов «эвакуационных грузов».
Это перемещение промышленности на восток в разгар немецкого вторжения в 1941 г. было, конечно, единственным в своем роде достижением. В то же время было бы наивным предполагать, что все сколько-нибудь значительные промышленные предприятия были вовремя эвакуированы или приведены в негодность.
После войны Советское правительство официально заявило, что немцы и их союзники уничтожили в СССР 6 млн. жилых домов, оставив без крова 25 млн. человек, зарезали или угнали 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. свиней и т.д.; разрушили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 млн. рабочих; уничтожили или вывезли 239 тыс. электромоторов, 175 тыс. металлорежущих станков[50]. Эти цифры доказывают, что значительная часть промышленного оборудования не была вывезена.
В разгар боев под Москвой и после начала контрнаступления Красной Армии особенно советский рабочий класс с удвоенной энергией приступил к возведению на новых местах эвакуированных военных заводов. Огромная организаторская работа сочеталась с почти беспримерной самоотверженностью масс, ибо мужчинам и женщинам, которые вновь пускали эвакуированные военные заводы, приходилось работать зимой при весьма недостаточном питании и находиться в плохих жилищных условиях.
В октябре из Москвы в Куйбышев были эвакуированы многие государственные учреждения, в том числе наркоматы авиационной промышленности, танковой промышленности, вооружения, черной металлургии и боеприпасов. Председатель Госплана Н.А. Вознесенский был обязан представлять в Москву каждые 5-6 дней сводки о ходе работ по восстановлению и пуску предприятий оборонной промышленности. В Куйбышев была эвакуирована также часть аппарата ЦК партии, и его руководству «разрешалось давать… указания и распоряжения обкомам Поволжья, Урала, Средней Азии и Сибири “по вопросам организации промышленности в связи с эвакуацией предприятий в эти области, а также по вопросам сельскохозяйственных заготовок”»[51]. В таких промышленных центрах, как Горький, Куйбышев, Челябинск, Новосибирск, Свердловск, Магнитогорск, Ташкент и другие, были созданы специальные «эвакоприемные пункты».
Многие эвакуированные заводы слились с местными предприятиями; так, вывезенный с Украины крупный танковый завод, объединившись с рядом местных заводов, образовал большой комплекс, получивший название Уральского танкового завода имени И.В. Сталина, а Челябинский тракторный завод, слившись с эвакуированными Харьковским дизельным и ленинградским Кировским заводами, составил так называемый «Танкоград».
Некоторые «промышленные гиганты» невозможно было разместить в каком-нибудь одном городе, и их пришлось децентрализовать; так, например, часть Московского подшипникового завода была вывезена в Саратов, другая часть - в Куйбышев и третья - в Томск. Все это порождало ряд новых организационных проблем.
Во время войны я имел возможность беседовать со многими рабочими и работницами, эвакуированными глубокой осенью или в начале зимы 1941 г. на Урал или в Сибирь. Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей были вывезены на восток, как эти предприятия были в кратчайший срок, и в неслыханно трудных условиях восстановлены и как им удалось в огромной степени увеличить производство в течение 1942 г., - это прежде всего повесть о невероятной человеческой стойкости. В большинстве мест условия жизни были ужасающие, зачастую не хватало продовольствия. Люди работали, ибо знали, что это абсолютно необходимо, и они не отходили от станков по двенадцать, тринадцать, четырнадцать часов в сутки, они «жили на нервах», они понимали, что никогда еще их работа не была так нужна. Многие надорвались и умерли. Все эти люди знали, какие потери несут войска, и, находясь в «глубоком тылу», не очень роптали. В то время, когда солдаты подвергались таким страданиям и опасностям, гражданское население не имело права уклоняться даже от самой тяжелой, самой изнурительной работы. В разгар сибирской зимы некоторым приходилось ходить на работу пешком, иногда за пять, восемь, десять километров, потом работать по двенадцать часов или больше и опять возвращаться домой пешком - и так день за днем, месяц за месяцем.
Однако советская печать только изредка писала об особых трудностях, порожденных нехватками военного времени. Например, в постановлении правительства от 11 сентября 1941 г. подчеркивалась необходимость экономно расходовать сталь и железобетон и использовать их «лишь в тех случаях, когда применение других материалов технически недопустимо». Поэтому многие заводские корпуса особенно в 1941 г. строились из дерева.
«Эти здания не радовали глаз архитектурным оформлением, они были даже невзрачны… Большие корпуса из дерева возводились за 15-20 дней… Ночные работы производились при свете факелов и костров. Электрической энергии едва хватало на то, чтобы пустить смонтированные под открытым небом станки. Осветительная арматура прикреплялась к деревьям.
Зимой на одной из окраин Свердловска, где восстанавливался вывезенный из Киева завод «Большевик», можно было наблюдать такую картину. Под соснами, с которых свисали электрические лампы, работали станки…
В это же время в одном из городов Поволжья возводились новые корпуса крупнейшего авиастроительного предприятия страны… Еще над головой не было крыши, а станки уже действовали. Ударили сорокаградусные морозы, но люди оставались на своих рабочих местах. 10 декабря, на четырнадцатый день после прибытия последнего эшелона, завод выпустил первый истребитель МиГ, сопранный из привезенных заготовок. К концу месяца было произведено уже 30 самолетов этого типа и 3 штурмовика Ил-2.
Быстрыми темпами восстанавливался на Урале и Харьковский танковый завод. 19 октября последняя группа работников завода покинула Харьков, а уже 8 декабря харьковские танкостроители на привезенных с собой частей и узлов собрали первые 25 танков Т 34 и отправили их на фронт»[52].
Хотя значительная часть советской тяжелой и особенно военной промышленности была успешно вывезена на восток за четыре-пять месяцев, это сопровождалось неизбежным снижением производства. В сущности, почти год - примерно с августа 1941 г. по август 1942 г. - Красная Армия испытывала крайнюю нехватку вооружения и боеприпасов, а между октябрем 1941 г. и весной следующего года эта нехватка приняла чуть ли не катастрофический характер. Как мы увидим, это было одной из основных причин, почему Московское сражение увенчалось не полной, а только частичной победой советских войск. Этим же в значительной мере объясняются и тяжелые поражения советских войск летом 1942 г.
И все же сразу после немецкого вторжения был достигнут значительный рост военного производства. За весь 1941 г. советская авиационная промышленность выпустила около 16 тыс. самолетов всех типов, в том числе более 10 тыс. после начала войны, главным образом с июля по октябрь. Не менее поразительны цифры производства танков и других видов вооружений, а выпуск боеприпасов всех видов во второй половине 1941 г. почти втрое превышал уровень производства в первой половине этого года. Беда заключалась в том, что к октябрю этот рост фактически прекратился.
Перед советской военной промышленностью на востоке стояли огромные трудности. Не всех рабочих эвакуированных заводов удалось отправить на новые места одновременно с машинами; во многих случаях по ряду причин оборудование сопровождало только 40-50% рабочих. На первых порах ощущалась также очень серьезная нехватка некоторых видов сырья. Прежде качественные стали для броневого листа выплавлялись в основном в Восточной Украине; в связи с этим многим предприятиям на востоке пришлось коренным образом перестраивать производственные процессы. Эта перестройка вызвала временное снижение производительности доменных и мартеновских печей. Крайне не хватало молибдена и марганца. Большое количество марганца добывалось в районе Никополя, а он теперь был оккупирован немцами. Пришлось строить новые марганцевые рудники на Урале и в Казахстане, где условия почвы и климата создавали невероятные трудности. Никопольские горняки, доставившие на восток рудничное оборудование, приступили с помощью местных рабочих к добыче марганцевой руды в одном отдаленном районе Свердловской области, где незадолго перед войной было начато строительство марганцевого рудника. Позднее организацию выплавки ферромарганца на Кушвинском заводе, в Кузбассе и в Магнитогорске назвали «большой победой металлургов, равной по своему значению выигрышу крупного военного сражения». Столь же замечательным примером человеческой стойкости было строительство молибденовых рудников в безводной степи близ озера Балхаш в Средней Азии.
С захватом немцами Донбасса Советский Союз потерял более 60% добычи угля, поэтому пришлось увеличивать добычу угля на Урале, в Кузбассе и в Караганде. В декабре 1941 г. было решено в ближайшие три месяца ввести в действие 44 новые шахты. Прилагались также отчаянные усилия для увеличения добычи на востоке алюминия, никеля, кобальта, цинка, нефти, химикатов и пр.
Сложившаяся критическая обстановка ярко описана в «Истории войны».
«Глубокой осенью 1941 г. наша Родина переживала и в военном, и в экономическом отношении самые трудные дни. Фронт требовал все больше и больше боеприпасов и вооружения. Между тем в связи с эвакуацией число заводов и предприятий, выпускавших военную продукцию, сократилось. К концу октября 1941 г. не работал ни один из металлургических заводов юга. К этому времени из числа действовавших на 1 июня 1941 г. у нас оставалось 38,4 процента доменных печей, 52,6 процента мартеновских печей, 38,6 процента электросталеплавильных печей, 52,2 процента прокатных станов. Выплавка металла составляла: чугуна - 32,9 процента; стали - 42,3 процента; прокат достигал лишь 42,5 процента по сравнению с июнем 1941 г. Не действовал ни один конвертер. В декабре 1941 г. выплавка чугуна по сравнению с июнем уменьшилась более чем в 4 раза, выплавка стали и производство проката - в 3 с лишним раза.
Вышли из строя все шахты Донецкого и Подмосковного бассейнов. Производство проката цветных металлов снизилось в 430 раз, шарикоподшипников - в 21 раз.
Валовая продукция промышленности СССР с июня по ноябрь 1941 г. в целом сократилась в 2,1 раза. В последние два месяца 1941 г. уровень производства почти всех отраслей промышленности был самым низким за весь период Великой Отечественной войны.
С октября стало снижаться производство самолетов. Это совпало с периодом перебазирования авиационной промышленности… В ноябре 1941 г. было построено машин в 3,6 раза меньше, чем в сентябре… авиационная промышленность не восполняла больших потерь, которые нес Советский Военно-Воздушный Флот в ожесточенных боях под Москвой, Ленинградом и на других участках советско-германского фронта… Только мобилизация всего самолетного парка страны и сосредоточение его на важнейших направлениях дали возможность Советским Военно-воздушным силам вести активные боевые действия зимой 1941/42 г.
Большой недостаток ощущал фронт и в бронетанковой технике… К концу 1941 г. исключительно тяжелое положение сложилось в промышленности, производившей боеприпасы…, В очень тяжелом положении оказались предприятия, которым пришлось впервые выполнять военные заказы. Из 30 заводов Наркомата земледелия СССР, переведенных на производство боеприпасов, 21 предприятие совсем не имело нужного оборудования.
В промышленности боеприпасов остро ощущался недостаток ферросплавов, никеля и цветных металлов. Потребность в меди, а олове и алюминии по сравнению с довоенным временем возросла в несколько раз. Потеря Донбасса с его развитой химической промышленностью, эвакуация химических предприятий Москвы и Ленинграда привели к резкому снижению производства пороха и взрывчатых веществ.
К середине декабря 1941 г. из 26 предприятий и цехов химической промышленности, эвакуированных в восточные районы… на место прибыло оборудование лишь 8 заводов; из них было пущено в ход меньше половины.
С августа по ноябрь 1941 г. выбыло из строя 303 предприятия, изготовлявших боеприпасы…
Увеличилась диспропорция между числом произведенных орудий и числом выстрелов на одно орудие. Во втором полугодии 1941 г. фронт расходовал главным образом боеприпасы, накопленные еще в мирное время. Однако за шесть месяцев войны эти запасы были почти полностью исчерпаны. Продукция же, поступавшая от промышленности, составляла лишь 50-60 процентов количества, предусмотренного планом».
Помимо тяжелых потерь оборудования, советская промышленность испытывала также серьезную нехватку рабочей силы. Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве уменьшилась с 31,2 млн. человек в 1940 г. до 27,3 млн. человек в 1941 г. В ноябре эта цифра сократилась до 19,8 млн. человек. Часть рабочих осталась в оккупированных районах, а часть находилась в пути на восток. Но 9 ноября, когда немцы все еще предрекали неминуемое падение Москвы, Государственный Комитет Обороны утвердил точные планы увеличения производства на востоке, предусмотрев, в частности, выпуск в 1942 г. 22-25 тыс. боевых самолетов и свыше 22 тыс. тяжелых и средних танков.
К концу 1941 г. СССР стал зависеть от восточных районов в отношении поставок продовольствия почти так же сильно, как и в отношении промышленной продукции.
С началом войны производительность сельского хозяйства резко упала. Большинство мужчин в деревнях были призваны в армию, в том числе трактористы, которых мобилизовали в танковые части. Для нужд армии было реквизировано много лошадей, автомобилей и тракторов. Фактически в военное время все сельскохозяйственные работы выполняли женщины и подростки. Во многих колхозах пахота производилась самым примитивным способом, а к уборке урожая привлекалось также население городов. В качестве тягловой силы использовались лошади, где они еще были, а оставшиеся тракторы из-за отсутствия нефтепродуктов работали на газогенераторном топливе.
Территориальные потери 1941 г. тяжелейшим образом сказались на продовольственном положении страны. До войны территории, захваченные немцами к ноябрю 1941 г., давали 33% всей продукции зерновых, 84% сахара; здесь же содержалось 38% поголовья крупного рогатого скота и 60% поголовья свиней. К 1 января 1942 г. число коров в Советском Союзе (не считая оставшихся в оккупированных районах) сократилось с 27,8 млн. до 15 млн. голов, а поголовье свиней уменьшилось на 60 с лишним процентов.
«Продовольственной базой» Советского Союза на самый большой период войны стали Поволжье, Урал, Западная Сибирь и Казахстан. Посевные площади были значительно расширены; такие культуры, как сахарная свекла и подсолнух, продвигались в районы, где они раньше не выращивались. С потерей Дона и Кубани летом 1942 г. Советский Союз стал еще больше зависеть от «восточной продовольственной базы».
(обратно)Глава X. Начало битвы под Москвой
В заявлении, сделанном нам в Вязьме в середине сентября, генерал В.Д. Соколовский отметил три важных момента: во-первых, что, несмотря на страшные неудачи, Красная Армия постепенно «перемалывает» вермахт; во-вторых, что немцы, вполне вероятно, предпримут последнюю отчаянную попытку или даже «несколько последних отчаянных попыток» захватить Москву, но не сумеют это сделать и, и третьих, что Красная Армия хорошо обмундирована для зимней кампании.
Последующие недели подтвердили впечатление, что советское командование быстро усваивало различные уроки войны, что оно теперь отвергало как бесполезные некоторые довоенные теории, совершенно неприменимые в новой обстановке.
Первые месяцы войны явились прекрасной школой для офицеров Красной Армии; и именно из тех, кто отличился в операциях с июня по октябрь 1941 г., и вышла по большей части та блестящая плеяда генералов и маршалов, равных которым не было со времен «великой армии» Наполеона. В течение лета и осени генерал Новиков внес важные изменения в структуру Военно-воздушных сил, а генерал Воронов - в применение артиллерии. Жуков и Конев сыграли выдающуюся роль, задержав немцев у Смоленска; Рокоссовский, Ватутин, Черняховский, Ротмистров, Болдин, Федюнинский, Говоров, Мерецков, Еременко, Белов, Лелюшенко, Баграмян и многие другие, прославившиеся в битве под Москвой и в других важных операциях 1941 г., были все людьми, которые заслужили свои высокие звания и посты в тяжелых боях первых месяцев войны. Отныне критерием для Сталина при назначении на высшие командные посты в армии стали способности, проявленные на поле боя. Вполне прав Дж. Эриксон, заявляющий, что «летние и осенние бои (1941 г.) совершили среди командиров военную чистку в отличие от прежней политической чистки. К людям некомпетентным и бездарным стали относиться все более нетерпимо. Сила и замечательное свойство Советского Верховного Командования в том и заключались, что оно смогло выдвинуть из своей среды необходимый минимум командиров высшего класса, сумевших вывести Красную Армию из катастрофического положения».
23 июня была создана Ставка Советского Верховного Командования, а спустя несколько дней - Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством Сталина. 8 августа Ставка Верховного Командования была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования. 19 июля Сталин стал наркомом обороны, а 7 августа - Верховным Главнокомандующим.
Институт комиссаров был значительно укреплен; комиссары, как представители партии и правительства в Красной Армии, обязаны были организовывать и осуществлять политическое воспитание офицеров и солдат и несли наравне с командирами полную ответственность за поведение частей в бою. В их обязанность входило докладывать высшему командованию о всех случаях «недостойного поведения» офицеров или политработников. На практике в 1941 г. оказалось, что огромное большинство комиссаров полностью поддерживало командиров. Поскольку те и другие горели желанием сражаться до последних сил, поскольку им повседневно приходилось решать неотложные военные задачи, разногласий между командиром и комиссаром не возникало.
Тем не менее «двуначалие» имело свои отрицательные стороны, и в[53] период Сталинградского сражения функции комиссаров пришлось коренным образом изменить.
Была или не была сколько-нибудь серьезная необходимость ставить рядом с командиром специального представителя партии - несомненно, что военные комиссары сыграли свою роль. «Все первоначальные опасения, что войска не будут драться, вскоре рассеялись перед лицом упорного и ожесточенного сопротивления, оказанного немцам Красной Армией, которая, как заметил Гальдер, сражалась «до последнего человека» и применяла «вероломные методы», заключавшиеся в том, что русские не переставали стрелять, пока не падали замертво»[54].
Роль НКВД в военных операциях остается несколько неясной, хотя известно, что, помимо находившихся в его ведении пограничных частей, которые первыми встретили нападение немцев, войска НКВД еще в ряде важных случаев сражались как боевые подразделения, например в июне - июле 1942 г. под Воронежем, где они помогли предотвратить особенно опасный прорыв немцев. Но существовала другая сторона в этой связи НКВД с Красной Армией; так, не только отдельные военнопленные, которым удалось бежать от немцев, но и целые части, вырвавшиеся, как это часто бывало в 1941 г., из немецкого окружения, подвергались весьма суровому и пристрастному допросу в Особых отделах (00), подчиненных НКВД. В романе К. Симонова «Живые и мертвые» есть особенно тяжелый эпизод, основанный на действительном факте: после многодневных боев большая группа офицеров и солдат вырвалась из окружения. Они были тут же разоружены НКВД, но как раз в этот момент немцы начали наступление на Москву, и разоруженные бойцы, которых везли на проверочный пункт, подверглись нападению немцев и были попросту уничтожены, не имея возможности оказать какое-либо сопротивление.
Однако в остальном НКВД меньше вмешивался в действия Красной Армии, чем раньше. Грань между военными и «политическими» элементами в армии начала исчезать, и Сталин сам направлял этот процесс. Что он ни делал в прошлом, события лета и осени 1941 г. кое-чему его научили. Все в армии искренне поддерживали патриотическую линию «второй, после 1812 года, Отечественной войны». Были собраны все военные таланты, выявленные и испытанные в первых сражениях войны, а в некоторых случаях и раньше, на Дальнем Востоке; в бой были брошены все наличные резервы, включая отборные дивизии из Средней Азии и с Дальнего Востока, что стало возможным благодаря: пакту о нейтралитете с Японией, заключенному в 1941 г.
Какие бы неприятные воспоминания и недовольство ни таили в душе некоторые советские генералы, Сталин был необходимым объединяющим фактором в атмосфере октября-ноября 1941 г., которую лучше всего характеризовали слова «Отечество в опасности». Выбора не было. Немцы стояли под Ленинградом, продвигались через Донбасс к Ростову, а 30 сентября 1941 г. началось «окончательное» наступление вермахта на Москву.
Битву под Москвой можно в общем разделить на три больших этапа: первое германское наступление с 30 сентября до конца октября; второе германское наступление с 17 ноября по 5 декабря; контрнаступление и общее наступление советских войск, начавшееся 6 декабря и продолжавшееся до весны 1942 г.
30 сентября танковые части Гудериана на южном фланге группы армий «Центр» нанесли удар по Глухову и Орлу, который пал 2 октября, но были остановлены за Мценском, по дороге в Тулу, танковой группой под командованием полковника Катукова. Другие группы немецких войск предприняли широкие наступательные операции с юго-запада в районе Брянска и с запада - по шоссейной магистрали Смоленск - Москва. Крупные группировки советских войск были окружены южнее Брянска и в районе Вязьмы, прямо к западу от Москвы. Немцы намеревались блокировать окруженные в районе Вязьмы советские войска главным образом силами пехоты, чтобы тем самым высвободить свои танковые и моторизованные дивизии для молниеносного наступления на Москву. Но остатки 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий и группа генерала Болдина более чем на неделю сковали главные силы немецкой 4-й армии и 4-й танковой группы. Это сопротивление дало возможность Советскому Верховному Главнокомандованию перебросить больше вышедших из окружения войск на Можайский рубеж и подтянуть из тыла резервы[55].
К 6 октября немецкие танковые части прорвали оборонительный рубеж Ржев, Вязьма и начали продвигаться к Можайской линии укреплений, примерно в 100 км к западу от Москвы, - которая была наспех создана летом 1941 г. и проходила от Калинина к Калуге, Малоярославцу и Туле. Немногочисленные войска русских, оборонявшие этот рубеж, могли сдержать только передовые части группы армий «Центр», но не главные силы немцев.
В ожидании прибытия на Московский фронт пополнений из Средней Азии и с Дальнего Востока Ставка бросила в бой все наличные резервы. 9 октября сражавшиеся на этом участке пехотные соединения генералов Артемьева и Лелюшенко и танковые части генерала Куркина были переданы в непосредственное подчинение Советскому Верховному Главнокомандованию,. На следующий день командующим всего фронта был назначен генерал Г.К. Жуков.
Но немцы обошли Можайский рубеж с юга и 12 октября овладели Калугой. Спустя два дня, обогнув Можайский рубеж с севера, они ворвались в Калинин. 18 октября после тяжелых боев был оставлен Можайск. 14 октября ожесточенные бои шли уже в районе Волоколамска на полпути между Можайском и Калинином, примерно в 80 км к северо-западу от Москвы.
Создалось крайне серьезное положение. Сплошного фронта уже не существовало. В небе господствовала германская авиация. Немецкие танковые части, проникая глубоко в тыл, вынуждали Красную Армию отступать на новые позиции во избежание окружения. Вместе с армией уходили на восток тысячи советских граждан. Пешеходы, телеги, скот, машины двигались на восток непрерывным потоком по всем дорогам, еще больше затрудняя передвижение войск[56].
Несмотря на повсеместное упорное сопротивление, немцы приближались к Москве со всех сторон. Через два дня после падения Калинина, когда обозначилась явственная угроза немецкого прорыва от Волоколамска к Истре и Москве, острота положения достигла высшей точки. Это было 16 октября. По сей день рассказывают, что в это утро два немецких танка ворвались на северную окраину Москвы, в Химки, где были быстро уничтожены. Правда, пока ни один серьезный источник не подтвердил, что эти танки существовали не только в воображении некоторых перепуганных москвичей.
Что же произошло в Москве 16 октября? Многие говорили о панике, начавшейся в этот день. Хотя, как мы увидим, это было чересчур широкое обобщение, все же день 16 октября в Москве был действительно весьма тяжелым.
Прошло несколько дней, прежде чем население Москвы осознано, насколько серьезной угрозой является новое наступление немцев. В последние дни сентября и в первые дни октября все внимание было приковано к большому немецкому наступлению на Украине, к известиям о прорыве германских войск в Крым и к визиту в Москву Бивербрука, начавшемуся 29 сентября. На пресс-конференции 28 сентября Лозовский пытался говорить успокоительные слова; так, он заявил, что под Ленинградом немцы потеряли «тысячи убитых», но, сколько бы они ни потеряли еще, Ленинграда им не взять. Он также сказал, что «коммуникации (с Ленинградом) по-прежнему сохраняются» и что, хотя в городе и введена нормированная система снабжения, продуктов хватает. Далее он сообщил о тяжелых боях «за Крым», но отрицал, что немцы уже форсировали Перекоп.
Он, видимо, был уже готов к потере Харькова и Донбасса, хотя и не сказал об этом.
Только 4 или 5 октября жителям города стало очевидно, что началось наступление на Москву, но и тогда еще его размах не был ясен. Понятно, что в советских газетах ничего не было сообщено о речи Гитлера 2 октября, в которой он объявил об «окончательном» наступлении на Москву.
Однако на пресс-конференции 7 октября Лозовский коснулся этого вопроса. Он, казалось, был слегка встревожен, но заявил все же, что речь Гитлера показывает лишь, насколько тот близок к отчаянию.
«Он знает, что ему не выиграть войну, но ему надо как-то поддерживать хорошее настроение у немцев в течение зимы, а для этого ему необходимы какие-то крупные успехи как доказательство того, что определенная стадия войны закончилась. Второй причиной, побуждающей Гитлера добиваться чего-то большого, является англо-американо-советское соглашение, породившее чувство уныния в Германии. Немцы на худой конец могли переварить соглашение «большевиков» с Англией, но соглашения «большевиков» с Америкой они никак не ожидали». Лозовский добавил, что в любом случае захват того или иного города не отразится на исходе войны.
В вечернем сообщении 7 октября впервые было официально упомянуто о «тяжелых боях на вяземском направлении».
8 октября «Правда» и «Известия» постарались не высказывать беспокойства (передовая «Правды» была посвящена обычной теме - о труде женщин во время войны), но газета «Красная звезда» уже 7 октября забила тревогу. Она писала, что «под угрозой само существование Советского государства» и что каждый боец Красной Армии «должен стоять насмерть и драться до последней капли крови».
«Правда» подняла тревогу 9 октября, предостерегая народ против беспечности и благодушия и призывая его «мобилизовать все силы на отпор врагу». На следующий день она призвала советских граждан к бдительности, заявив, что, наступая на Москву, «враг пытается через свою агентуру дезорганизовать тыл и посеять панику». 12 октября «Правда» заговорила о «страшной опасности», угрожающей отечеству.
Но даже без помощи вражеских агентов «Правда» сообщала достаточно такого, что могло породить величайшую тревогу среди населения Москвы. 8 октября начались разговоры об эвакуации, и иностранные посольства, а также многие советские государственные учреждения и организации были предупреждены, что соответствующее решение последует в самое ближайшее время. Атмосфера становилась крайне напряженной. Более храбрые говорили о Москве как о «сверх-Мадриде», а менее храбрые спешили убраться из города.
К 13 октября положение в Москве стало весьма критическим. Большая группа немецких войск, скованная более недели операцией по окружению в районе Вязьмы, теперь высвободилась и смогла принять участие в последней атаке на Москву.
Не было абсолютно никакой уверенности, что немецкий прорыв удастся предотвратить, и 12 октября Государственный Комитет Обороны решил мобилизовать население Москвы на строительство оборонительных сооружений на дальних и ближних подступах к Москве и двух дополнительных оборонительных линий по внешнему и внутреннему Бульварному кольцу в самом городе.
Утром 13 октября секретарь ЦК и МГК ВКП(б) А.С. Щербаков выступил на партийном активе Москвы. «Не будем закрывать г лапа, - сказал он, - над Москвой нависла угроза». Щербаков призвал рабочих города направить все возможные резервы на фронт и на строительство оборонительных сооружений на подступах к Москве и в самом городе и резко увеличить производство оружия и боеприпасов.
Принятое московской партийной организацией решение требовало «соблюдения железной дисциплины, решительной борьбы с малейшими проявлениями паники, с трусами, дезертирами и распространителями ложных слухов».
Вечером 13 октября во всех первичных организациях столицы прошли партийные собрания, единодушно одобрившие решение партийного актива. Тут же на собраниях развернулась запись в коммунистические роты и батальоны, которые, подобно частям ополчения, сыграли важную роль в обороне Москвы. Через три дня около 12 тыс. таких добровольцев - в большинстве прошедших лишь краткосрочную военную подготовку и не имевших боевого опыта - были сведены в 25 отдельных рот и батальонов.
12 и 13 октября было решено немедленно эвакуировать в Куйбышев и другие города на востоке ряд государственных учреждении, в том числе многие наркоматы, часть партийного аппарата и весь дипломатический корпус Москвы. Эвакуации из Москвы подлежали также крупнейшие военные заводы. Фактически предполагалось вывезти и все научные и культурные учреждения, Академию наук, Университет и театры.
Но Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования и ядро административного аппарата оставались в Москве впредь до дальнейшего распоряжения. В столице продолжали выходить основные газеты: «Правда», «Красная звезда», «Известия», «Комсомольская правда» и «Труд».
За известиями об эвакуации последовало официальное сообщение, опубликованное утром 16 октября, которое гласило: «В течение ночи 14-15 октября положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону».
Говоря о серьезном кризисе в Москве в октябре 1941 г., необходимо различать три фактора. Во-первых, была армия, которая вела ожесточенную борьбу против превосходящих сил противника и отступала лишь очень медленно, хотя из-за своей сравнительно слабой маневренности она и не смогла предотвратить некоторые существенные местные успехи немцев, такие, как захват Калуги на юге 12 октября, Калинина на севере 14 октября или прорыв на так называемом Волоколамском участке, о котором упоминалось в сводке от 16 октября.
Существуют бесчисленные истории о том, как солдаты и даже ополченцы забрасывали немецкие танки ручными гранатами и бутылками с горючей смесью и совершали другие героические подвиги. Войска, несомненно, не дрогнули. Тот факт, что в бой все время вводились, хоть и в ограниченном количестве, свежие части, производил благотворное воздействие, поддерживая боевой дух в войсках, которые уже две недели сражались без передышки.
Во-вторых, существовал московский рабочий класс. В большинстве своем он готов был работать долгие сверхурочные часы на заводах, выпускать оружие и боеприпасы, строить укрепления, драться с немцами в Москве, если те прорвутся, или, если все будет потеряно, последовать за Красной Армией на восток. Однако были разные оттенки в решимости рабочих оборонять Москву любой ценой. Уже тот факт, что в разгар событии 13-16 октября только 12 тыс. человек добровольно вступили в коммунистические батальоны, представляется показательным. Чем это объяснялось? Тем ли, что многим рабочим эти импровизированные батальоны казались бесполезными в такого рода войне или же многие из них втайне думали, что Россия еще велика и что, быть может, выгоднее дать окончательное, решающее сражение где-нибудь на востоке?
В-третьих, была огромная и с трудом поддающаяся классификации масса москвичей, большинство которых было готово разделить судьбу родного города, но часть поддалась панике. Сюда входил кто угодно: от простых обывателей, собравшихся бежать от опасности, до низших, средних и даже высших ответственных работников, считавших, что раз Москва стала ареной действий армии, то гражданским людям в ней делать теперь нечего.
Эти люди искренне боялись оказаться под властью немецких оккупантов и поэтому, запасаясь законно или незаконно добытыми пропусками, а то и вовсе без пропусков, бежали на восток, подобно тому как парижане бросились на юг в 1940 г., когда немцы стали подходить к столице.
Позже многие из этих людей горько стыдились своего бегства, того, что они переоценили силу немцев и недостаточно твердо верили в Красную Армию. И все же разве не было оснований для паники, когда 10 октября начались все эти лихорадочные приготовления для эвакуации?
Интересные описания Москвы в разгар октябрьского кризиса можно найти не столько в исторических работах, сколько в беллетристике, например в уже цитировавшемся романе К. Симонова «Живые и мертвые». Там дана картина Москвы в то мрачное 16 октября и в последующие дни: забитые беженцами вокзалы; ответственные работники, уезжавшие без разрешения на собственных машинах; одетые во что попало ополченцы и бойцы коммунистических батальонов, которые маршировали по улицам, но без песен; завод «Серп и молот», круглосуточно изготовлявший тысячи противотанковых «ежей», доставлявшихся к внешнему Бульварному кольцу; запах гари от сжигаемой бумаги; быстрая смена воздушных налетов и воздушных боев над Москвой, в которых советские летчики зачастую самоотверженно таранили вражеские самолеты; деморализация одних и твердая решимость других защищать Москву и драться, если понадобится, в самом городе. К 16 октября многие заводы уже были эвакуированы. И все же под всей этой накипью паники и страха была и «другая Москва». Вот что пишет о ней К. Симонов:
«Конечно, не только перед Москвой, где в этот день дрались и умирали войска, но и в самой Москве было достаточно людей, делавших все, что было в их силах, чтобы не сдать ее. И именно поэтому она и не была сдана. Но положение на фронте под Москвой и впрямь, казалось, складывалось самым роковым образом за всю войну, и многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы поверить, что завтра в нее войдут немцы.
Как всегда в такие трагические минуты, твердая вера и незаметная работа первых еще не была для всех очевидна, еще только обещала принести свои плоды, а растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние вторых били в глаза. Именно это и было, и не могло не быть, на поверхности. Десятки и сотни тысяч людей, спасаясь от немцев, поднялись и бросились в этот день вон из Москвы, залили ее улицы и площади сплошным потоком, несшимся к вокзалам и уходившим на восток шоссе; хотя, по справедливости, не так уж многих людей из этих десятков и сотен тысяч была вправе потом осудить за их бегство история…»[57]
Симонов писал свой рассказ о событиях в Москве 16 октября 1941 г. спустя почти 20 лет, но эти строки звучат правдиво в свете того, что я услышал об этих мрачных днях в 1942 г., всего несколько месяцев спустя.
Мне также вспоминается история совсем другого рода, рассказанная комсомольской активисткой с известного текстильного комбината «Трехгорка», девушкой лет двадцати пяти, по имени Ольга Сапожникова, принадлежавшей к «династии» московских ткачей. Всех трех ее братьев призвали в армию: один из них был уже ранен, а другой «пропал без вести». Она была несколько полна и неуклюжа, с грубыми рабочими руками и коротко остриженными ногтями. При всем том она обладала осанкой и характером, и в ее бледном лице, спокойных серых глазах, твердом подбородке, красиво очерченных полных губах и белых зубах, сверкавших, когда она улыбалась, была своеобразная, сильная русская красота. Это был человек совершенно определенного типа: даже физически она принадлежала к рабочей аристократии. На формирование ее характера и внешнего облика наложили свой отпечаток хорошие традиции.
Ее рассказ, услышанный мною 19 сентября 1942 г., в одном отношении отличался от современных описании: от нее я узнал, что даже некоторые мужественные и решительные москвичи не были уверены, удастся ли спасти Москву и можно ли будет эффективно защищать ее в случае, если немцы прорвутся в город.
«Это были страшные дни. Все началось числа 12-го. Меня, как и большинство девушек с нашей фабрики, мобилизовали на трудовой фронт. Нас повезли за несколько километров от Москвы. Нас было очень много, и нам приказали рыть окопы. Все мы были очень спокойны, но растеряны и не могли понять, что происходило. В первый же день нас обстрелял на бреющем полете один фриц. Одиннадцать девушек были убиты и четверо ранены». Она сказала это очень спокойно, без всякой аффектации.
«Мы продолжали работать весь тот и весь следующий день. К счастью, фрицы больше не прилетали. Но я очень беспокоилась о своих родителях (оба они - старые рабочие «Трехгорки»), за которыми некому было приглядеть.
Я объяснила это нашему комиссару, и он отпустил меня в Москву. Эти ночи в Москве были очень странными: отчетливо была слышна артиллерийская стрельба. 16-го, когда немцы прорвались, я пошла на фабрику. Сердце у меня похолодело, когда я увидела, что фабрика закрыта. Многие директора уехали. Но Дундуков находился на своем месте; это был очень хороший человек, никогда не терявший головы. Он дал нам много продуктов, чтобы они не попали в руки немцам; я получила 125 фунтов муки, 17 фунтов масла и много сахара. Мне, как комсомолке, и к тому же активной комсомолке, не было смысла оставаться в Москве. На фабрике мне предложили эвакуировать родителей в Челябинск. Но куда бы ни отправить стариков, мне самой оставалось только одно: последовать за Красной Армией…
Я пошла поговорить с матерью. Она не хотела и слышать о Челябинске. «Нет, - сказал она. - Бог защитит нас и здесь, и Москва не падет». В ту ночь мы с мамой спустились в подвал. Мы захватили с собой небольшую керосиновую лампу и закопали всю муку, сахар, а также партбилет отца. Мы думали отсидеться в подвале в случае прихода немцев. Мы знали, что они не смогут остаться в Москве надолго. Возможно, я ушла бы с Красной Армией, но мне трудно было бросить отца и мать. В ту ночь мама заплакала и сказала: «Вся семья рассеялась, а теперь и ты хочешь бросить меня?» В ту ночь у нас было такое ощущение, что немцы могут появиться на улице в любой момент.
Но они не пришли в ту ночь. На следующее утро вся фабрика была минирована. Достаточно было нажать кнопку, и весь комбинат взлетел бы на воздух. А затем позвонили от председателя Моссовета Пронина и сказали: «Ничего не взрывать».
В тот же день было объявлено, что Сталин в Москве, и настроение сразу изменилось. Теперь мы были уверены, что Москва не будет сдана. Но все же население северных окраин переселяли в центр. Непрерывно раздавались сигналы воздушных тревог, падали и бомбы. Но 20-го фабрика снова заработала. Мы все почувствовали себя гораздо лучше и веселее…»
Действительно, 17 октября Щербаков объявил по радио, что (Сталин в Москве. В то же время он разъяснил москвичам «сложность» положения в связи с наступлением немцев на столицу. Он разъяснил также, почему понадобилось принимать все эти меры по эвакуации. Щербаков решительно опроверг слухи о готовящейся сдаче столицы, распространявшиеся, по его словам, вражеской агентурой. «За Москву, - сказал он, - будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови… Каждый из нас, на каком бы посту он ни стоял, какую бы работу ни выполнял, пусть будет бойцом армии, отстаивающей Москву от фашистских захватчиков».
Спустя два дня в Москве было введено осадное положение. В постановлении ГКО предписывалось «нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага… расстреливать на месте». Поддержание порядка в Москве было возложено на коменданта города и предоставленные в его распоряжение войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды. Вместе с армией, коммунистическими ротами и батальонами эти войска должны были защищать городские рубежи - оборонительные линии на подступах к Москве и в самом городе. Судя по тому, что мне рассказывали впоследствии, осадное положение окапало благотворное воздействие на моральный дух населения.
К концу октября из Москвы было официально эвакуировано более 2 млн. человек.
Многие из оставшихся в Москве потом гордились тем, что не потеряли голову и не утратили веры в то, что Москва будет спасена; они любили вспоминать о героической атмосфере полупустой Москвы во второй половине октября и в ноябре, когда недалеко от столицы продолжались бои, которые во второй половине ноября все приближались к ней. Но теперь уже чувствовалось, что советские войска контролируют положение и что внезапный прорыв немцев в Москву, казавшийся столь вероятным 16 октября, стал невозможным.
(обратно)Глава XI. Второй этап битвы под Москвой
Hемцы за первые 19 дней наступления дошли до Наро-Фоминска, лежащего менее чем в 80 км от Москвы, а в районе Волоколамска подошли к столице даже еще ближе. Но все это время сопротивление советских войск усиливалось, и к 18 октября их контратаки замедлили продвижение противника. Обе стороны несли очень большие потери, и с 18 октября до начала ноября немцы, у которых появились признаки растущей усталости, продвинулись вперед очень ненамного.
В немецких военных мемуарах подчеркиваются трудности вермахта в области снабжения, но совершенно ясно, что пресловутая «русская зима» отнюдь не играла решающей роли ни в октябре, ни в начале ноября. Напротив, некоторые трудности немцев были вызваны тем, что дороги еще не замерзли. Вот что пишет по этому поводу Гудериан:
«29 октября наши головные танки достигли пункта, расположенного примерно в трех километрах от Тулы. Попытки взять город штурмом провалились из-за сильной противотанковой и противовоздушной обороны противника. Мы потеряли много танков и офицеров… Тем временем дорога Орел - Тула пришла в такое скверное состояние, что мы вынуждены были распорядиться… о снабжении 3-й танковой дивизии по воздуху… Ввиду невозможности предпринять фронтальное наступление на Тулу генерал барон фон Гейр предложил обойти город, чтобы продолжать наше продвижение на восток… [Он] также считал, что моторизованные части невозможно использовать до наступления морозов»[58].
Утверждения Гудериана, что успеху первого германского наступления на Москву помешали дожди и грязь, кажутся неосновательными, так как русские страдали от этого не меньше, чем немцы. К тому же Гудериан сам признает, что захватить Тулу - эту ключевую позицию на дороге в Москву - ему помешала оборона Красной Армии, а не грязь. Вдобавок советское командование преподнесло ему неприятный сюрприз, введя в бой, к вящему неудовольствию Гудериана, некоторое количество танков Т-34 под командованием Катукова[59].
Вечером 6 ноября, то есть через неделю после фактического провала первого немецкого наступления на Москву и за десять дней до начала второго наступления, Москва праздновала 24-ю годовщину Октябрьской революции. Немцы еще стояли в 60 км от Москвы, а кое-где и ближе, и, хотя в столице царила атмосфера осажденного города (госпитали были переполнены десятками тысяч раненых, и ежедневно прибывали новые раненые), все же за минувшие две недели уверенность, что Москва не будет сдана, неуклонно крепла.
Вечером 6 ноября в большом зале станции метрополитена «Маяковская» состоялось традиционное торжественное заседание. Доклад Сталина на торжественном заседании представлял собой странное смешение тревоги и полной уверенности в себе. Напомнив, что война значительно сократила, а во многих случаях вовсе приостановила мирное социалистическое строительство, продолжавшееся столько лет, Сталин сказал:
«За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем 1 миллион 20 тысяч человек. За этот же период враг потерял убитыми, ранеными и пленными более 4 с половиной миллиона человек.
Не может быть сомнения, что в результате 4 месяцев войны Германия, людские резервы которой уже иссякают, оказалась значительно более ослабленной, чем Советский Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объеме».
Весьма сомнительно, чтобы кто-нибудь в России мог поверить этим цифрам, но, пожалуй, было необходимо преувеличить потери немцев, дабы подкрепить утверждение Сталина, что «молниеносная война» уже провалилась. По словам Сталина, она провалилась по трем причинам. Во-первых, немцы, как это можно было видеть из миссии Гесса в Англии, надеялись, что Англия и Америка примкнут к их войне против России или, во всяком случае, предоставят им свободу рук на Востоке. Этого не произошло: Англия, США и Советский Союз оказались в одном лагере. Во-вторых, немцы рассчитывали, что советский строй рухнет и СССР распадется на составные части.
«Никогда еще советский тыл не был так прочен, как теперь. Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие потери территории, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испытания и пришло бы в упадок».
Наконец, немцы рассчитывали опрокинуть Советские Вооруженные Силы, после чего они беспрепятственно дошли бы до Урала. Правда, немецкая армия была опытнее Красной Армии, но у советских войск имелось то моральное преимущество, что они вели справедливую войну. Кроме того, немцы сражались на вражеской территории, вдали от своих баз снабжения.
«Наша армия действует в своей родной среде, пользуется непрерывной поддержкой своего тыла, имеет обеспеченное снабжение людьми, боеприпасами, продовольствием… Оборона Лениграда и Москвы… показывает, что в огне Отечественной войны куются и уже выковались новые советские бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, минометчики, танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра превратятся в грозу для немецкой армии (бурные аплодисменты)».
Наряду с этим, сказал Сталин, нельзя отрицать и наличие неблагоприятных факторов. Одним из них является отсутствие второго фронта в Европе: в то время как немцы воюют с Красной Армией, опираясь на помощь многочисленных союзников - финнов, румын, итальянцев, венгров, - на Европейском континенте по-прежнему нет никаких английских или американских войск, которые бы помогали России.
«Но не может быть сомнения и в том, что появление второго фронта на континенте Европы, - а он безусловно должен появиться в ближайшее время (бурные аплодисменты), - существенно облегчит положение нашей армии в ущерб немецкой».
Другим неблагоприятным фактором было превосходство немцев в танках и авиации. Красная Армия имела в несколько раз меньше танков, чем немцы, хотя новые русские танки превосходили по качеству немецкие. Необходимо было производить не только больше танков, но и больше самолетов, противотанковых ружей и орудий, минометов и гранат и строить всякого рода противотанковые препятствия.
Показав, что нацисты вовсе не являются ни «националистами», ни «социалистами», а представляют собой оголтелых империалистов, стремящихся в первую очередь уничтожить или поработить славянские народы, и процитировав некоторые особенно типичные высказывания немцев насчет «низших рас», Сталин весьма многозначительно воззвал к национальной гордости русских:
«И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!…
Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат (бурные, продолжительные аплодисменты).
Отныне наша задача… будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов…
Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам! (Бурные аплодисменты)».
В-третьих, существовала коалиция Большой тройки против немецко-фашистских империалистов. Это была война моторов, а Англия, США и СССР могли производить втрое больше моторов, чем Германия.
Затем Сталин упомянул о Московской конференции при участии Бивербрука и Гарримана, о решении Англии и США систематически снабжать СССР самолетами и танками, о ранее принятом Англией решении поставлять России такое сырье, как алюминий, олово, свинец, никель и каучук, и о более позднем решении Америки предоставить Советскому Союзу заем в 1 млрд. долларов.
«Можно сказать с уверенностью, что коалиция Соединенных Штатов Америки, Великобритании и СССР есть реальное дело (бурные аплодисменты), которое растет и будет расти во благо нашему общему освободительному делу».
В заключение Сталин сказал, что Советский Союз ведет освободительную войну, что он не имеет территориальных притязаний ни в Европе, ни в Азии, в частности в отношении Ирана, и не ставит целью воины навязать свою волю и свой режим славянским и другим народам, ждущим освобождения от нацистского ига. Советский Союз не хочет вмешиваться во внутренние дела этих народов… Народы Советского Союза должны трудиться не покладая рук, чтобы обеспечить Красную Армию вооружением, боеприпасами и продовольствием.
Гораздо в более драматической и вдохновляющей обстановке Сталин произнес речь на параде войск на следующее утро. Вдали грохотали советские и немецкие орудия, истребители совершали патрульные полеты над Москвой. А здесь на Красной площади в то холодное пасмурное ноябрьское утро Сталин выступал перед солдатами, многие из которых прибыли с фронта или же направлялись туда.
«Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции… Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы… Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта…»
Россия, продолжал Сталин, переживала и худшие испытания. Он напомнил о первой годовщине революции в 1918 г. и, остановившись на некоторых исторических моментах, сказал:
«Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов… У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, мы ее только начали создавать, - не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу страну… В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов… Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники… Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот… У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Дух великого Ленина… вдохновляет нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад.
Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?
Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики… Если судить… по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой…
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы… как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»
Это упоминание о великих предках, великих представителях русской культуры - Пушкине, Толстом, Чайковском, великих ученых и мыслителях и великих национальных героях - Александре Невском, разгромившем в 1242 г. тевтонских рыцарей, Дмитрии Донском, разбившем в 1380 г. татар, Минине и Пожарском, сражавшихся с поляками в XVII в., Суворове и Кутузове, воевавших с Наполеоном, - все это представляло собой обращение к специфически русской национальной гордости народа. С потерей Прибалтийских республик и Украины сопротивление немцам сосредоточилось главным образом в старой России.
В СССР военного времени, когда каждое официальное высказывание, а тем более каждое слово Сталина ожидалось со страстной надеждой, эти две речи - и особенно та, которая была произнесена в драматической обстановке на Красной площади, когда немцы все еще стояли под Москвой, - произвели очень сильное впечатление и на армию, и на рабочих.
Прославление России, притом не только России Ленина, оказало огромное воздействие на народ в целом. Именно такая патриотическая пропаганда, отождествляющая Советскую власть и Сталина с Россией, со святой Русью, скорее всего могла создать в стране настоящий моральный подъем.
Во всяком случае, это не было чем-то совершенно новым. Уже за много лет до этого в народном представлении образ Сталина прочно запечатлелся как образ строителя государства, похожего на Александра Невского (каким он показан, например, в фильме Эйзенштейна - Прокофьева), Ивана Грозного и Петра Великого (каким он предстает, например, в романе Алексея Толстого).
Поэтому в ноябре 1941 г. народ не остался глухим ко всем этим напоминаниям о татарском нашествии, о смутном времени и вторжении поляков или о 1812 г. Русский народ был глубоко оскорблен вторжением, - это было нечто гораздо более оскорбительное, чем все, что он знал в своей истории раньше. В своей речи 6 ноября Сталин не преминул отметить разницу между Наполеоном и Гитлером: Наполеон плохо кончил, но он хоть не нес с собой в завоеванные страны философию о «недочеловеках».
Ниже мы подробнее остановимся на настроениях в России в 1941-1942 гг. Здесь же достаточно сказать, что в этих своих двух ноябрьских речах Сталин не только очень умело приноровился к этим настроениям, но и постарался всемерно их укрепить и поощрить.
А время, чтобы усилить такие настроения, было действительно самое подходящее: ведь такие старинные русские города, как Псков, Новгород и Калинин (Тверь), были уже в руках немцев, Ленинград фактически окружен, и враг рвался к самой Москве, стараясь сломить наспех сооруженную оборону в 50-60 км от столицы.
Современная советская «История войны» не принижает значения этих двух выступлений Сталина:
«Доклад И.В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся и его речь на параде 7 ноября 1941 г. оказали огромное влияние на подъем морально-политического состояния населения оккупированной территории… Советские летчики сбрасывали за линией фронта газеты с отчетами о торжественном заседании и о параде на Красной площади. Газеты, как неоценимое сокровище, передавались из рук в руки, бережно хранились. Со слезами радости на глазах узнавали советские люди, что распространяемые гитлеровцами сообщения о падении Москвы являются сплошной ложью, что Москва стоит неколебимо. Слушая голос родной партии, они проникались глубокой верой в силу Советского государства, в нерушимую волю советского народа к победе, в неизбежность поражения немецко-фашистских захватчиков».
Октябрь и ноябрь 1941 г. были самыми мрачными месяцами за все время советско-германской войны. С ними может сравниться только октябрь 1942 г., когда висела на волоске судьбе Сталинграда.
К концу сентября 1941 г. была потеряна большая часть Украины, немцы рвались к Харькову, Донбассу и Крыму. После разгрома советских войск в битве под Киевом, в которой советские войска - даже по их собственным признаниям - потеряли только пленными около 175 тыс. человек, немцы имели на юге большое превосходство не только в живой силе, но и в самолетах, танках и орудиях.[60] Приказы Ставки об организации упорной обороны Перекопа и о строительстве прочных оборонительных рубежей западнее Харькова и в Донбассе не удалось выполнить вовремя. Мобилизация многих тысяч донецких шахтеров в местное ополчение и усилия 150 тыс. шахтеров по строительству новых оборонительных линий не дали результатов. К 29 сентября немцы ворвались в Донбасс, на долю которого приходилось тогда 60% всей советской добычи угля, 75% кокса, 30% чугуна и 20% стали. К 17 октября армии Рундштедта заняли весь Донбасс и, форсировав реку Миус, вошли в Таганрог на Азовском море. Севернее 6-я армия Паулюса вела наступление на Харьков, который был захвачен 24 октября. Советские войска постарались перед этим эвакуировать оттуда возможно больше промышленного оборудования. В это же время, когда немцы находились уже в Таганроге, началась эвакуация «Ростсельмаша» - крупного завода сельскохозяйственных машин в Ростове. Эта работа продолжалась почти до последней минуты, зачастую под бомбежками немецкой авиации.
19 ноября после двухдневных ожесточенных уличных боев немцы захватили Ростов. Но Верховное Главнокомандование придавало Ростову такое значение, что даже в разгар Московской битвы Тимошенко получил подкрепления, и десять дней спустя Ростов - «ворота Кавказа» - был освобожден русскими. Это явилось их первой крупной победой, хотя немцы были отброшены всего на 50-60 км к западу, где они окопались на реке Миус. По данным советской печати (отчасти подтвержденным немцами), эта победа имела не только военное, но и политическое значение, так как она отразилась на политике Турции в отношении СССР[61].
Тем временем 11-я армия Манштейна при поддержке румынского корпуса ворвалась в Крым, где советские войска в беспорядке отступали к Севастополю. К середине ноября немцы (или румыны) захватили весь Крым, за исключением Севастополя, где были построены три прочные оборонительные линии в глубину на 16 км. Все попытки противника взять штурмом военно-морскую базу провалились, и осажденная крепость под командованием вице-адмирала Октябрьского и генерала Петрова держалась до июля 1942 г. Значительную часть своего вооружения и боеприпасов Севастополь производил сам в подземных мастерских, более или менее укрытых от непрерывных налетов авиации и артиллерийского обстрела. Только в ноябре - декабре было изготовлено 400 минометов, 20 тыс. ручных гранат и 32 тыс. противопехотных мин, а также отремонтировано большое количество орудий, пулеметов и даже танков. В этот период Севастополь защищали 54 тыс. человек, сковавшие на 8 месяцев крупные немецкие и румынские силы, которые могли бы быть в противном случае использованы для вторжения на Кавказ через Керченский пролив.
Отброшенные из Ростова и задержанные в Севастополе, немцы тем не менее причинили Советскому Союзу на юге не только тяжелый военный, но также огромный и чувствительный экономический ущерб.
Еще трагичнее было положение на севере. К 8 сентября, после захвата немцами Шлиссельбурга, Ленинград был полностью блокирован, если не считать узкой Дороги жизни Через Ладожское озеро. С 9 ноября даже ладожскую брешь стало почти невозможно использовать, так как немцы заняли Тихвин на главной железнодорожной магистрали юго-восточнее озера. Казалось, что Ленинград окончательно обречен на голод, и только 9 декабря, после освобождения Тихвина, будущее стало представляться в несколько менее мрачном свете. Примечательно, что в самый разгар битвы под Москвой Верховное Главнокомандование сумело выделить достаточные силы для освобождения Ростова и Тихвина, хотя они явно рассматривались только как минимальные цели, за которыми не могли последовать ни освобождение Донбасса, ни крупный прорыв блокады Ленинграда. Ведь в это время Красная Армия испытывала не только нехватку обученных резервов, но и крайний недостаток вооружения. А главное, было ясно, что основной целью немцев, несмотря на провал их массированного октябрьского наступления, оставался захват Москвы.
К началу ноября немцы по всем признакам готовили новое большое наступление: их крупные силы сосредоточивались не только западнее, но также северо-западнее и юго-западнее Москвы. Провал первого наступления дал Ставке время собрать за Москвой крупные стратегические резервы и укрепить свою линию фронта на всех участках.
Тот факт, что Москва не была захвачена в октябре, благотворнейшим образом подействовал на моральное состояние бойцов. Об этом говорит, в частности, массовое вступление солдат и офицеров в партию и комсомол. В течение месяца (с октября по ноябрь) число членов партии в трех армейских группировках под Москвой выросло с 33 до 51 тыс. человек,, а комсомольцев с 59 до 78 тыс. человек. На этом этапе в партию с минимумом формальностей стали принимать почти всякого отличившегося в бою солдата.
После провала первого германского наступления на Москву улучшилось моральное состояние и гражданского населения. Эвакуация Москвы продолжалась весь октябрь и первую половину ноября. Было эвакуировано около половины населения и большая часть промышленности. Так, из 75 тыс. металлорежущих станков в Москве осталось только 21 тыс. Московская промышленность выпускала главным образом стрелковое оружие, боеприпасы, а также производила ремонт танков и автомашин. Небо над Москвой было испещрено заградительными аэростатами, почти на всех главных улицах имелись противотанковые препятствия и множество зенитных батарей. Их было куда больше, чем раньше. Даже еще строже стали правила борьбы с пожарами; в противопожарной охране принимали участие тысячи москвичей. В городе царила суровая, героическая атмосфера войны, совершенно непохожая на обстановку в период октябрьского кризиса.
Несмотря на общую уверенность, что Москва не будет сдана, серьезность готовившегося второго наступления противника не умалялась. Как и следовало ожидать, на ряде участков немцы обеспечили свое значительное превосходство. Первые крупные удары они нанесли 16 октября на Калининско-Волоколамском участке фронта, где они имели тройное превосходство в танках и двойное в орудиях. К 22 ноября немцы ворвались в Клин, севернее Москвы, а на западе - в Истру, самый близкий пункт к Москве, какого им когда-либо суждено было достигнуть крупными силами. Несомненно, именно из Истры, по воспоминаниям немецких генералов, «можно было видеть Москву в сильный полевой бинокль».
В ожесточенных боях севернее Волоколамска советские солдаты совершили много героических дел; можно упомянуть, например, о многочисленных подвигах кавалеристов генерала Доватора, правда совершенных ценой тяжелых потерь (сам Доватор был убит 19 декабря во время контрнаступления), или о самоотверженном сопротивлении у разъезда Дубосеково группы истребителей танков из дивизии Панфилова, охранявшей Волоколамское шоссе.
Множество других, не менее славных подвигов если не прошли совсем незамеченными, то, во всяком случае, не были занесены в летопись для потомков. Имелось небольшое число героев, которым суждено было остаться в памяти народа. Авиация имела своего национального героя в лице капитана Гастелло; пехота - 28 панфиловцев; партизаны (и соответственно комсомол, так же как и вся страна) - национальную героиню Зою Космодемьянскую.
На деле же ни Гастелло, ни 28 панфиловцев, ни Зоя не были единичными примерами мужества и самоотверженности. В атмосфере массового подъема в ноябре - декабре 1941 г. подобных случаев было очень много.
На южном фланге Московского фронта под постоянной угрозой окружения находился промышленный город Тула, который соединила со столицей лишь узкая горловина. В этом центре оружейного производства старой России существовала особенно сильная партийная организация, и местные рабочие батальоны принимали очень активное участие в обороне своего города, жившего как бы в «атмосфере 1919 года», которую ярко описал генерал Болдин, назначенный 22 ноября командующим обороной Тулы[62]. Гудериан, раз уже потерпевший здесь неудачу, не оставлял своих попыток обойти и отрезать Тулу. 3 декабря Туле угрожало окружение, так как немцы вплотную подошли к железной и шоссейной дорогам на Москву.
Для Тулы день 3 декабря был самым критическим, но на других участках фронта немцы фактически были остановлены неделей раньше, и уже полным ходом шли приготовления к советскому контрнаступлению, назначенному на б декабря.
К середине периода второго наступления на Москву немцы начали страдать от холода. Всего за неделю с небольшим до этого Гудериан горько жаловался, что его танки застревают в грязи, и надеялся на ранние морозы, которые облегчили бы продвижение к Москве; теперь же он не менее горько начал жаловаться на тот самый мороз, которого так ждал. 6 ноября он писал:
«Печально для солдат и весьма прискорбно, что противник таким образом выигрывает время, а осуществление наших планов откладывается до наступления зимы. Все это меня очень удручает… Неповторимый шанс нанести один большой удар становится все более нереальным. Одному богу известно, как обернутся события».
7 ноября он отмечал: «У нас имеются первые серьезные случаи обморожения». 17 ноября тон Гудериана становится еще более мрачным:
«Мы лишь очень медленно приближаемся к своей конечной цели в этот лютый мороз, когда все части испытывают невероятные трудности со снабжением. Трудности с подвозом припасов по железной дороге все время возрастают… Без горючего наши машины не могут двигаться…»
8 общем все складывалось для немцев в высшей степени неутешительно. Позже Гудериан писал:
«Урожай 1941 г. - богатый всюду в стране. Нет недостатка и в скоте. (Но) из-за наших отвратительных железнодорожных коммуникаций мы смогли отправить в Германию из района действия 2-й танковой армии лишь небольшое количество продовольствия»[63]. И далее:
«17 ноября мы узнали, что на фронте появились сибирские войска и что дополнительные резервы прибывают по железной дороге в Рязань и Коломну. 112-я пехотная дивизия вошла в соприкосновение с этими новыми сибирскими частями. Поскольку одновременно нас атаковали танки противника… то наши поредевшие войска не смогли дать отпор этим свежим силам. Прежде чем осуждать дивизию, следует помнить, что в каждом полку было уже около 500 человек обмороженных, что из-за мороза пулеметы не действовали и что наша 37-миллиметровая пушка оказалась неэффективной против русских танков Т-34. Результатом всего этого была паника… Это случилось впервые в ходе русской кампании… Боеспособность нашей пехоты пришла к концу…»
При всем этом Гудериан продолжал атаки против Тулы; он также отмечает, что на какое-то время его войска перерезали шоссе и железную дорогу Тула-Москва. Но из его рассказа видно, что в немецких войсках что-то не ладилось, хотя он говорит только о том, что «сила наших войск иссякла, как иссякло их горючее».
Все последующие атаки на Тулу провалились, по словам Гудериана, преимущественно по тем же причинам и потому, что 4 декабря температура, как он пишет, упала до –31° С, а 5-го - до –68 (sic!). Это, конечно, надо признать за чистую фантазию, которая объяснялась стремлением Гудериана все свалить на погоду!
Русские, отрицая, что в ноябре было очень холодно, соглашаются, что в декабре действительно ударили очень сильные морозы. Но они вполне справедливо замечают, что нелепо думать, будто советские солдаты, как и все люди, не страдали от сильных холодов. Однако в советских источниках говорится, что Красная Армия имела гораздо лучшее зимнее обмундирование, чем немцы:
«Немецкая армия впервые за Вторую мировую войну переживала тяжелый кризис. Фашистские генералы были обескуражены огромными потерями своих войск и провалом всех надежд на окончание войны с Советским Союзом в 1941 г. Рассеялись в прах мечты о теплых зимних квартирах в Москве. Генерал Блюментрит с горечью признает, что немецким солдатам «суждено было провести свою первую зиму в России в тяжелых боях, располагая только летним обмундированием, шинелями и одеялами». В то же время, по его словам, «личный состав большинства русских частей был обеспечен меховыми полушубками, телогрейками, валенками и меховыми шапками-ушанками. У русских были перчатки, рукавицы и теплое нижнее белье». С этими признаниями битого фашистского генерала нельзя не согласиться… Из приведенных Блюментритом фактов напрашивается вывод… что советское Верховное Главнокомандование оказалось дальновиднее немецкого генерального штаба…»[64].
Современные советские работы по истории войны не повторяют поистине астрономических цифр немецких потерь, которые назывались в то время как Сталиным, так и в сводках Совинформбюро. В ходе второго немецкого наступления на Москву (с 16 ноября по 6 декабря), говорится в советской «Истории войны», потери немцев составили: 55 тыс. человек убитыми, свыше 100 тыс. человек ранеными и обмороженными, 777 танков, 297 орудий и минометов, 244 пулемета, более 500 автоматов[65]. Это правдоподобная оценка, которая не слишком расходится с данными о немецких потерях, приводимыми, например, Гудерианом.
Сейчас считается, что за первые пять месяцев войны общие потери немцев (без потерь союзников Германии) составили 750 тыс. человек. Эта цифра даже чуть ниже той, которую приводят сами немцы. Так, Хилъгрубер и Якобсен пишут: «Несомненно, что потери немцев на первом этапе русской кампании были очень велики, особенно в период Московского сражения… К 10 декабря 1941 г. германская армия потеряла на Востоке, не считая больных, 775 078 человек» (примерно 24,22% личного состава восточных армий, насчитывавшего в среднем 3,2 млн. человек). Согласно дневнику Гальдера, до второй половины второго наступления на Москву потери (в округленных цифрах) были следующими:
Всего до 31 июля 213 тыс. человек До 3 августа 242 тыс. человек До 30 сентября 551 тыс. человек До 6 ноября 686 тыс. человек До 13 ноября 700 тыс. человек До 23 ноября 734 тыс. человек До 26 ноября 743 тыс. человек (обратно)Глава XII. Контрнаступление под Москвой
Разрабатывая свои планы зимнего контрнаступления, Советское Верховное Главнокомандование имело программу-минимум и программу-максимум. Программа-минимум предусматривала восстановление коммуникаций с осажденным Ленинградом, ликвидацию угрозы, нависшей над Москвой, и преграждение немцам доступа к Кавказу. Программа-максимум намечала прорыв блокады Ленинграда, окружение немцев между Москвой и Смоленском и освобождение Донбасса и Крыма. Но события сложились так, что даже программа-минимум была выполнена лишь отчасти: в конце ноября советские войска освободили Ростов - эти «ворота на Кавказ» и оттеснили немцев до реки Миус, но дальше не продвинулись, если не считать местного наступления в Донбассе в конце зимы, в результате которого был занят небольшой выступ, включая Барвенково и Лозовую. В Крыму продолжал держаться Севастополь, но высадка Черноморским флотом 26 декабря десанта на Керченском полуострове, в Восточном Крыму, кончилась весной следующего года катастрофой. На Ленинградском фронте освобождение 9 декабря Тихвина намного облегчило снабжение Ленинграда. Однако блокада с суши продолжалась. Продвижение Красной Армии в районе Москвы было более значительным, и все же, несмотря на освобождение большой территории (одна группа войск дошла, например, до Великих Лук, то есть продвинулась на 300 с лишним км), немцам: удалось удержать укрепленный район в треугольнике Ржев - Гжатск - Вязьма, всего в каких-нибудь 150 км к западу от Москвы.
Именно Гитлер вопреки советам многих своих генералов, предлагавших отойти на большое расстояние, настаивал на том, чтобы не отдавать Ржев, Вязьму, Юхнов, Калугу, Орел и Брянск, и все эти города, за исключением Калуги, были удержаны. Многие обескураженные генералы, в том числе Браухич, Геппнер и Гудериан, были смещены, а фон Бок «заболел». На севере фон Лееб также был снят со своего поста «по состоянию здоровья» и заменен более убежденным нацистом, генералом Кюхлером. Гитлер был крайне разочарован тем, что фон Лееб не сумел захватить Ленинград в августе или сентябре, и разъярен тем, что фон Бок не смог взять Москву. После освобождения русскими Ростова Рундштедт в свою очередь временно попал в немилость.
Советское контрнаступление началось 5-6 декабря почти на всем протяжении 900-километрового фронта от Калинина на севере до Ельца на юге, и в первые дни советские войска почти всюду достигли заметных успехов. Особенность боев в зимних условиях заключалась в том, что советское командование, насколько было возможно, избегало фронтальных атак на вражеские арьергарды и формировало мобильные отряды преследования, задачей которых было отрезать пути отхода вражеских войск и сеять среди них панику. В состав таких отрядов преследования, которые можно сравнить с казаками 1812 г., наносившими беспощадные удары по «великой армии» Наполеона, входили автоматчики, лыжники, танки и кавалерия, в частности кавалерийские части генералов Белова и Доватора. Но результаты такой тактики часто не оправдывали ожиданий, и кавалерийские части несли особенно тяжелые потери.
Немцы в этой зимней войне вели себя по-разному на разных участках. Обычно они продолжали оказывать упорное сопротивление, но их явно преследовал страх попасть в окружение; так, когда 13 декабря русские подошли к Калинину и Клину и предложили немецким гарнизонам капитулировать, те отклонили ультиматум, но поспешили отойти, пока не поздно, успев тем не менее поджечь как можно больше зданий. Зато в других местах отступление немцев зачастую переходило в паническое бегство. Западнее Москвы и в районе Тулы дороги на протяжении многих километров были усеяны брошенными орудиями, грузовиками и танками, глубоко увязшими в снегу. Именно к этому времени относится появление в советском фольклоре комического образа «зимнего фрица», закутанного в украденные у местных жителей женские платки и меховые горжетки и с сосульками, свисающими с его красного носа.
13 декабря Совинформбюро опубликовало свое знаменитое сообщение, в котором объявлялось о провале попыток немцев окружить Москву и рассказывалось о первых результатах советского контрнаступления. Газеты напечатали портреты выдающихся советских генералов, выигравших сражение за Москву: Жукова, Лелюшенко, Кузнецова, Рокоссовского, Говорова, Болдина, Голикова, Белова.
К середине декабря Красная Армия уже продвинулась почти на всех направлениях на 35-55 км, освободив Калинин, Клин, Истру, Елец и полностью ликвидировав угрозу окружения Тулы. Наступление продолжалось и во второй половине декабря: советские войска заняли Калугу и Волоколамск, где на главной площади они увидели виселицу с трупами семи мужчин и одной женщины. Это были партизаны, публично повешенные немцами на страх всему населению.
Но если на некоторых участках фронта немцы самым настоящим образом удирали, то на других они продолжали упорно сопротивляться. Так, из Калуги - одного из городов, которые Гитлер приказал удерживать любой ценой, - немцы были выбиты только после нескольких дней тяжелых уличных боев.
Правда, немцам часто приходилось трудно из-за отсутствия зимнего обмундирования, но сильные морозы и глубокий снег не делали легким и положение русских. Следует также подчеркнуть, что у Красной Армии не было заметного превосходства ни в обученной живой силе, ни в технике. Как указывается в «Истории войны», советскому командованию не удалось обеспечить накануне контрнаступления необходимое превосходство в районе Москвы, где немцы сосредоточили свою самую сильную группу армий, в то время как советские войска и на Калининском, и на Московском участках фронта были ослаблены оборонительными боями за столицу. Брошенные в бой наличные стратегические резервы, особенно на направлениях главных ударов, помогли преодолеть превосходство противника в живой силе, но их было недостаточно, чтобы изменить положение решающим образом, тем более что немцы все еще располагали большим количеством танков и орудий[66].
Действия Красной Армии очень сильно стеснял недостаток моторизованного транспорта. На Московском участке фронта имелось всего 8 тыс. грузовиков - количество явно недостаточное. Автотранспорт не мог обеспечивать доставку даже половины потребного количества боеприпасов, провианта и других грузов, поэтому, чтобы восполнить нехватку грузовиков, приходилось использовать сотни санных обозов. Правда, несмотря на свою небольшую грузоподъемность, такие обозы имели то преимущество, что легче проходили по глубокому снегу, нежели тяжелые грузовые автомобили.
Несмотря на все эти трудности, был принят ряд мер для того, чтобы приблизить к фронту базы снабжения армии. Но если контрнаступление под Москвой и последовавшее за ним общее наступление Красной Армии зимой 1941/42 г. увенчались лишь частичным успехом, то это, как мы увидим, объяснялось рядом факторов: нехваткой транспортных средств, особенно по мере все большего растяжения коммуникаций, растущим недостатком оружия и боеприпасов и, наконец, изнурительным характером зимней войны. К весне Красная Армия была страшно измотана. К тому же Советское Верховное Главнокомандование совершило ряд ошибок.
В очень тяжелых боях в течение всего декабря и первой половины января Красная Армия отбросила немцев на значительное расстояние от Москвы. Но наступление развивалось весьма неравномерно: дальше всего на запад, на 300 с лишним километров, продвинулся северный фланг; почти такое же расстояние прошел южный фланг, но прямо к западу от Москвы немцы продолжали цепляться за свой плацдарм в треугольнике Ржев - Гжатск - Вязьма. Директивы Ставки от 9 декабря показывают, что советское командование планировало широкое окружение немецких войск под Москвой, намереваясь взять их в клещи с севера и с юга. В то же время Гитлер, который после чистки среди своих генералов лично принял командование, приказал группе армий «Центр» фанатически оборонять позиции западнее Москвы, не обращая внимания на прорывы противника на флангах.
В боях под Москвой немцы понесли тяжелые потери; они сражались в непривычных зимних условиях, боевой дух войск был зачастую низким, и все же они по-прежнему представляли грозную силу.
К 1 января русские, подтянув резервы, добились равенства в живой силе, а на некоторых участках даже обеспечили себе известное превосходство в танках и авиации, но у немцев все еще имелось втрое больше противотанкового оружия. Короче говоря, несмотря на значительные успехи, достигнутые Красной Армией в декабре и и первой половине января, ее превосходство, по словам современных советских историков, было совершенно недостаточным для крупного наступления, запланированного Советским Верховным Главнокомандованием.
Январь 1942 г. был очень холодный, а сильные снегопады крайне затрудняли наступление. Советские войска, исключая сравнительно немногочисленные лыжные части, могли продвигаться только по дорогам, да и то с большим трудом. По мере продвижения возрастали также трудности для действий авиации, так как в освобожденных районах не было пригодных для использования аэродромов. Однако новые директивы, данные 7 января 1942 г., подтверждают, что Советское Верховное Главнокомандование еще не оставило намерения разгромить, окружить и уничтожить все немецкие войска между Москвой и Смоленском. Но из-за того, что на севере продвижение шло быстро, а в центре медленно, протяженность линии фронта увеличилась к середине января почти вдвое. 15 января Гитлер, хотя и примирившийся с необходимостью оставить часть территории, снова приказал своим войскам занять прочную оборону восточнее Ржева, Вязьмы, Гжатска и Юхнова. Были введены суровые меры наказания, а начальник штаба Гальдер издал директиву, в которой осуждал панику и растерянность и предсказывал, что наступление русских скоро захлебнется.
Советская «История войны» признает, что Верховное Главнокомандование недооценило усиление сопротивления немцев под воздействием пропаганды, дисциплинарных мер и прибытия подкреплений с Запада. Уже 25 января советские войска потерпели первую серьезную неудачу, не сумев взять штурмом Гжатск. На юге, западнее Тулы, сопротивление немцев также усиливалось, и к концу января наступление Красной Армии на этом участке фронта фактически приостановилось.
Все же Верховное Главнокомандование советских войск по-прежнему не отказывалось от своего замысла осуществить большое окружение и решило выбросить в тылу противника крупный парашютный десант с задачей перерезать вражеские коммуникации и стать связующим звеном между двумя клещами, которые должны были сомкнуться вокруг немцев под Смоленском. Однако сопротивление немцев повсеместно нарастало, и все попытки русских прорваться к узлу германской обороны - Вязьме потерпели провал.
На ряде участков немцы переходили в контратаки. В связи с новыми массированными атаками танков, особенно в районе Вязьмы, советские бойцы вновь совершили немало героических подвигов, подобных подвигам панфиловцев под Волоколамском в декабре 1941 г. После войны в забитом в ствол дерева винтовочном патроне была обнаружена записка, оставленная умирающим солдатом Александром Виноградовым, которого вместе с двенадцатью другими бойцами послали остановить продвижение немецких танков по Минскому шоссе:
«И вот уже нас осталось трое… мы будем стоять, пока хватит духа… И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счет. Уже двадцать три машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет мою когда-нибудь записку и вспомнит. Я из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22. 2. 1942 г.».
Совершенно ясно, что Советское Верховное Главнокомандование переоценило как наступательную силу своих армий, так и упадок боевого духа и дезорганизацию вермахта под воздействием поражений, понесенных им в декабре и в первой половине января.
План окружения и разгрома всех немецких сил между Москвой и Смоленском, а также освобождения Орла и Брянска оказался нереальным. Так как немцы в большинстве случаев зарылись в землю, а советские войска наступали, то в конечном счете от необычайно суровой зимы русские страдали больше, чем немцы. Дело было не только в том, что не хватало людских резервов и вооружения (как указывалось выше, в тот момент военное производство в СССР стояло на самом низком уровне), но и в том, что имевшиеся резервы распылялись. Так, приказ Ставки об освобождении Брянска и об отправке подкреплений в этот район отвлек Красную Армию от выполнения главной задачи: разгрома немцев в районе Вязьмы. Отданные Ставкой - а было уже 20 марта - приказы, согласно которым Красной Армии предлагалось выйти на близкий к Смоленску рубеж (Белый, Дорогобуж, Ельня, Красное, проходивший в 45 км к юго-западу от Смоленска), соединиться с частями, действовавшими в тылу врага, овладеть к 1 апреля Гжатском, примерно к тому же времени - Вязьмой и Брянском и не позднее 5 апреля - Ржевом, оказались невыполненными.
Начавшаяся в конце марта распутица еще больше ограничила подвижность Красной Армии, которая к тому же не имела в этот период достаточной авиационной поддержки. Полностью нарушился и подвоз снабжения. К концу марта советское наступление говеем остановилось. В течение многих месяцев после приостановки наступления действовавшие в тылу противника воздушно-десантные и другие войска под командованием генерала Белова и местные партизаны продолжали наносить удары по немецким коммуникациям, но в целом итоги операций в январе - марте 1942 г, принесли некое разочарование после того подъема, который вызвало само Московское сражение.
Советские войска были измотаны, и к середине февраля начала остро ощущаться нехватка вооружения и боеприпасов. Правда, были освобождены обширные территории: вся Московская область, большая часть Калининской области, вся Тульская область и большая часть Калужской области. Но в руках немцев остался большой плацдарм Ржев - Гжатск - Вязьма, по-прежнему угрожавший Москве. Летом 1942 г. за него шли ожесточенные бои, и выбить оттуда немцев удалось только в начале 1943 г. Многие солдаты, воевавшие на разных участках фронта, впоследствии говорили мне, что самыми тяжелыми месяцами в их фронтовой жизни были февраль - март 1942 г. Немцы проиграли битву под Москвой, но ясно, что с ними еще далеко не было покончено.
Подводя итоги зимнему наступлению Красной Армии, современная советская «История войны» отмечает следующие важные моменты.
Даже неполная победа, одержанная Красной Армией во время зимней кампании 1941/42 г., оказала огромное моральное воздействие и решающим образом укрепила веру советского народа в конечную победу.
Она произвела громадное впечатление на таких весьма сомнительных нейтралов, как Турция и Япония.
Появилась возможность приостановить эвакуацию промышленности центральных районов, что позволило возобновить и увеличить производство вооружения и боеприпасов, в частности в районе Москвы. Отдельные, вывезенные на восток заводы были реэвакуированы.
Тем не менее зимнее наступление не достигло всех желаемых результатов:
«Наступление Красной Армии зимой 1941/42 г. проходило в исключительно тяжелых условиях. Армия еще не имела опыта организации и ведения наступательных операций большого размаха. Суровая зима, глубокий снежный покров и ограниченная сеть дорог затрудняли маневр на поле боя. Доставка в войска материальных средств и организация аэродромного обслуживания авиации были сопряжены с огромными трудностями. Страна еще не могла полностью обеспечить армию необходимым количеством боевой техники, вооружения и боеприпасов. Все это отрицательно сказывалось на боевой деятельности войск, на темпах развития наступления и часто не позволяло использовать выгодные условия обстановки для полного разгрома крупных группировок врага.
Первый опыт организации и проведения стратегического контрнаступления, а затем и развернутого наступления на всем фронте не обошелся и без серьезных ошибок со стороны Ставки Верховного Главнокомандования, командования фронтов и армий» (курсив мой. - А. В.)[67].
В чем же заключались эти ошибки и недостатки?
1) Командование фронтов и армии не всегда правильно использовало поступавшие в его распоряжение резервы. Войска нередко бросали в бой без необходимой подготовки.
2) Красная Армия в целом еще не имела крупных механизированных и танковых соединений, что сильно снижало ударную силу войск и темпы их продвижения. Переоценив результаты декабрьско-январского наступления, Ставка Верховного Главнокомандования нерационально использовала свои резервы. В ходе зимней кампании Ставка излишне распылила резервы; в бой были брошены девять новых армии: две направлены на Волховский фронт, одна - на Северо-Западный, одна - на Калининский, три - на Западный фронт и по одной - на Брянский и Юго-Западный фронты.
В итоге, «Когда на заключительном этапе битвы под Москвой создались благоприятные предпосылки для завершения окружения и разгрома главных сил группы армий «Центр», необходимых резервов в распоряжении Ставки не оказалось и успешно развивавшаяся стратегическая операция осталась незавершенной»[68].
3) По ряду причин не удалось продолжать массированное применение авиации, осуществлявшееся на начальной стадии битвы под Москвой.
4) В организации партизанской войны были допущены ошибки: «В частности, оказалось нецелесообразным создавать крупные партизанские соединения… Это избавляло противника от необходимости вести борьбу с многочисленными и неуловимыми партизанскими отрядами. Гитлеровцы подтягивали к району действий партизанских соединений войска и развертывали операции крупными силами. Партизанские отряды вынуждены были переходить к оборонительной тактике, что несвойственно природе партизанской борьбы, и поэтому несли тяжелые потери»[69].
Как это ни парадоксально, но приказы Сталина по случаю Дня Красной Армии 23 февраля 1942 г. и праздника 1 Мая 1942 г. звучали менее оптимистично, чем два его выступления в ноябре 1941 г., когда немцы стояли под самой Москвой. На этот раз он уже не говорил, что для того чтобы выиграть войну, потребуется «еще полгода, может быть, годик».
Но если что и выросло после битвы под Москвой, так это ненависть к немцам. Освобождая многие свои города и сотни деревень, советские солдаты воочию убеждались, что представлял собой «новый порядок». Повсюду немцы разрушали все, что могли. В Истре, например, уцелели только три дома; немцы взорвали старинный Ново-Иерусалимский монастырь. В некоторых городах и деревнях, в которые вступала Красная Армия, стояли виселицы с висевшими на них «партизанами». Позже, в 1942 г., я посетил ряд подвергшихся оккупации и разрушенных немцами городов и деревень, и всюду я видел одну и ту же мрачную картину.
Немцы в городах и селах под Москвой; немцы в таких древних русских городах, как Новгород, Псков и Смоленск; немцы у стен Ленинграда; немцы в Ясной Поляне Толстого; немцы в Орле, Льгове, Щиграх - старинных тургеневских местах, самых русских из всех русских мест. Всюду они грабили, разбойничали, убивали. Отступая, они сжигали каждый дом, и среди зимы население зачастую оказывалось без крова. Ничего подобного Россия не испытывала со времен татарского нашествия. Гнев и ненависть к немецким фашистам, к которым примешивалось чувство бесконечной жалости к своему народу, к опоганенной захватчиком Советской земле, пробуждали в качестве эмоциональной реакции национальную гордость и национальную боль, необычайно ярко отразившиеся в литературе и музыке 1941 и начала 1942 гг.
Некоторые лучшие поэтические произведения, отражавшие глубокую душевную тревогу советских людей в первые месяцы войны (хотя и неизвестные тогда, так как они были опубликованы только в 1945 г.), написал Борис Пастернак:
Вы помните еще ту сухость в горле, Когда, бряцая голой силой зла, Навстречу нам горланили и перли И осень шагом испытаний шла?
«Горланящая и прущая» «голая сила зла», как выразился Пастернак, - разве не ту же мысль о чем-то похожем на «вторжение марсиан» внушала и страшная, нечеловеческая тема «Ленинградской симфонии» Шостаковича? Сейчас она может показаться шумной, мелодраматичной, перегруженной повторениями (одна и та же тема звучит в ней все громче и громче не менее одиннадцати раз), и все же как документальное свидетельство о 1941 г., как отражение чувства, что на Советский Союз обрушилась «голая сила зла» - колоссальная, надменная, бесчеловечная сила, - она почти не имеет себе равных.
Плач о земле Русской принимал и другие формы. Зимой 1941/42 г. огромную популярность приобрели стихотворения Константина Симонова, например то из них, в котором он нарисовал трагическую картину отступления из Смоленской области и в котором имеются такие строки:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждай живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Или еще более знаменитое «Жди меня»:
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет…
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди и с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет - повезло!
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
С момента его опубликования осенью 1941 г. и в течение всего 1942 г. это было самое популярное в Советском Союзе стихотворение, которое миллионы женщин повторяли про себя, точно молитву.
Тем, кто не был в СССР в то время, трудно понять спустя столько лет, как много значили такие стихи буквально для миллионов русских женщин. Никто не может сказать, сколько сотен тысяч мужчин погибло на фронте, попало в плен, пропало без вести после 22 июня 1941 г.
Почти столь же важную роль играли другие поэты и писатели. Например, глубоко взволновала читателей поэма Маргариты Алигер «Зоя» о повешенной под Москвой девушке-партизанке; эта поэма была переделана в пьесу. Она рисует сновидения девушки в ночь перед казнью, после пыток, которым ее подвергли немцы. Большое значение имела и поэзия Суркова, например написанное им в 1941 г. стихотворение в прозе «Клятва воина», заканчивавшееся такими словами:
«Слезы женщин и детей кипят в моем сердце. За эти слезы своей волчьей кровью ответят мне убийца Гитлер и его орды, ибо ненависть мстителя беспощадна».
Огромнейшее влияние на настроения людей оказывали статьи Оренбурга в «Правде» и «Красной звезде» - яркие, блестящие филиппики против немцев, пользовавшиеся колоссальной популярностью в армии. Их иногда критиковали за тенденцию высмеивать немцев, забывая, какой это страшный и грозный враг. Мысль Эренбурга, что все немцы - зло, конечно, расходилась с официальной идеологической линией (которая вновь была выражена в приказе Сталина по случаю дня 23 февраля), но «эренбургизм» был действенной формой разжигания ненависти. Да и не один Эренбург придерживался этой линии; Шолохов, Алексей Толстой и многие другие делали то же самое. В трудное лето 1942 г. мотив «все немцы - зло» прозвучал даже еще отчетливее.
Глава XIII. Дипломатическая сцена в первые месяцы вторжения
С точки зрения дипломатической Советский Союз находился в момент германского вторжения в очень странном положении. Единственными двумя посольствами в Москве, которые имели до этого момента вес в глазах советских властей, были посольства Германии и Японии, а из всех послов наибольшим вниманием пользовался немецкий посол граф фон дер Шуленбург. За японским послом тоже ухаживали, особенно после визита Мацуока в апреле 1941 г. В мае 1941 г. для умиротворения Гитлера были порваны дипломатические отношения с Норвегией, Бельгией, Югославией и Грецией, зато вишистская Франция была представлена по всей форме послом Гастоном Бержери.
Из нейтральных стран, кроме Швеции, Турции, Ирана, Афганистана и Финляндии, были представлены лишь очень немногие, и если отношения с посольством США, которое возглавлял Лоренс Штейнгардт, были корректными, но не больше, то английское посольство, руководимое Стаффордом Криппсом, официально третировалось с рассчитанной холодностью. Криппс с величайшим трудом поддерживал контакт с Наркоматом иностранных дел, и вплоть до начала войны в июне 1941 г. он так и не имел чести встретиться со Сталиным и вынужден был довольствоваться редкими встречами с Вышинским.
Черчилль в своих мемуарах «Вторая мировая война»[70] рассказывает весьма любопытный эпизод, касающийся единственного послания, направленного им в то время (3 апреля) Сталину и содержащего в сущности просьбу, чтобы Россия вмешалась на Балканах.
«Премьер-министр - сэру Стаффорду Криппсу.
Передайте от меня Сталину следующее послание при условии, если оно может быть вручено лично вами.
Я располагаю достоверными сведениями от надежного агента, что, когда немцы сочли Югославию пойманной в свою сеть, т.е. после 20 марта, они начали перебрасывать из Румынии в Южную Польшу три из своих пяти танковых дивизий. Как только они узнали о сербской революции, это передвижение было отменено. Ваше превосходительство легко поймет значение этих фактов».
В сопроводительном письме Иден просил Криппса обратить внимание Сталина (если ему удастся с ним повидаться) на то, что Советский Союз имеет теперь возможность присоединиться к Англии на Балканах, оказав материальную помощь Югославии и Греции, что вынудило бы немцев отложить нападение на Россию.
Криппс тем временем сам направил Вышинскому подробное письмо в том же духе и поэтому считал, что «отрывочное» послание Черчилля принесло бы больше вреда, чем пользы.
«Я сильно опасаюсь, что вручение послания премьер-министра не только ничего не дало бы, но и явилось бы серьезной тактической ошибкой. Если, однако, вы не разделяете этой точки зрения, я, конечно, постараюсь в срочном порядке добиться свидания с Молотовым».
«Я был раздражен этим, - писал Черчилль, - и происшедшей задержкой».
После обмена довольно желчными телеграммами между Черчиллем и Криппсом через Идена спустя две недели с лишним (уже после нападения немцев на Югославию) Криппс телеграфировал наконец, что он направил Вышинскому текст послания Черчилля. 22 апреля Криппс писал Идену:
«Сегодня Вышинский письменно уведомил меня, что послание вручено Сталину».
Летом 1941 г. в беседе со мной Криппс, касаясь этого эпизода, сказал:
«В Лондоне не представляли, с какими трудностями мне приходилось здесь сталкиваться. Там никак не хотели понять, что не только Сталин, но даже Молотов избегали меня как чумы. В течение нескольких месяцев перед войной я имел встречи только с Вышинским, притом совершенно неудовлетворительные. Вам я могу сказать, что Сталин не хотел иметь никаких дел с Черчиллем, настолько он боялся, как бы об этом не узнали немцы. Не лучше обстояло дело и с Молотовым. В то же время они дали понять, что не возражают против переговоров их военных с нашими военными».
Черчилль впоследствии комментировал:
«Я не могу составить окончательного суждения о том, могло ли мое послание, будь оно вручено с надлежащей быстротой и церемониями, изменить ход событий. Тем не менее я все еще сожалею, что мои инструкции не были выполнены должным образом. Если бы у меня была прямая связь со Сталиным, я, возможно, сумел бы предотвратить уничтожение столь большой части его авиации на земле».
Из того, что сказал Криппс впоследствии, было ясно, что послание, несомненно, нельзя было вручить «с надлежащей быстротой и церемониями» по той простой причине, что Сталин не допускал и мысли о таких «церемониях». Наконец, ясно также, что это послание, предлагавшее Советскому правительству вмешаться на Балканах, не дало бы никаких результатов. Кроме того, оно пришло бы слишком поздно, чтобы спасти Югославию. Но, даже если советские руководители и боялись оказаться втянутыми в балканскую войну, они все же могли прислушаться к настойчивым предостережениям Криппса о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Иден со своей стороны не раз предостерегал об этом Майского, который, как он впоследствии сам заверял меня, передавал эти предостережения в Москву. Но все было напрасно.
У Криппса не было оснований быть довольным советскими руководителями. Тем не менее после начала вторжения он приложил всемерные усилия для восстановления нормальных отношений между Англией и Советским Союзом. Во «Второй мировой войне» Черчилль утверждает, что вначале Москва совершенно не реагировала на его выступление по радио 22 июня, «если не считать того, что выдержки из него были напечатаны в «Правде»… и что нас попросили принять советскую военную миссию. Молчание в высших сферах было тягостным, и я счел своей обязанностью сломать лед»[71].
На самом деле выступление Черчилля обрадовало и, как я часто слышал в то время, «приятно удивило» советских людей. До этого они не считали совершенно исключенной возможность англо-германского сговора, а со времени истории с Гессом все больше укреплялись в своих подозрениях.
Хотя Сталин не поддерживал непосредственной связи с Черчиллем, пока тот не написал ему 7 июля, он поспешил установить тесные отношения с Криппсом. Через какую-нибудь неделю после начала вторжения в Москву вылетела первая группа сотрудников английской военной миссии во главе с генералом Мэйсоном Макферланом. Одновременно Криппс обсуждал со Сталиным и Молотовым текст совместной англо-советской декларации, которая и была опубликована 12 июля. Мысль о такой совместной декларации подала советская сторона, как это явствует из послания Черчилля Криппсу от 10 июля.
Можно предполагать, что Сталин не обратился к Черчиллю сразу после его выступления по радио 22 июня по причине растерянности Советского правительства перед лицом происходивших событий. Ведь после вторжения Сталину понадобилось целых одиннадцать дней, чтобы сформулировать политическое заявление даже для его собственного народа. Кроме того, Сталин мог иметь прочно укоренившиеся антипатии, сомнения и оговорки в отношении английской политики, и, возможно, ему хотелось, прежде чем идти дальше, обеспечить опубликование англо-советской декларации. И когда 18 июля он наконец написал Черчиллю, то для того лишь, чтобы предложить создать второй фронт - «на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика)».
«Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.
Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев»[72].
В своем ответе 21 июля Черчилль отклонил все это, включая и посылку норвежской легкой дивизии, которой просто «не существовало», как нечто совершенно нереалистичное, но предложил провести ряд военно-морских операций в Арктике и разместить в Мурманске несколько эскадрилий английских самолетов-истребителей.
26 июля Черчилль снова написал Сталину, сообщив ему, что вскоре в Россию будут посланы двести истребителей «Томагавк», что «от двух до трех миллионов пар ботинок скоро будут готовы здесь к отправке» и что, кроме того, намечается поставка «большого количества каучука, олова, шерсти и шерстяной одежды, джута, свинца и шеллака»[73].
Все это было только скромное начало, но следует помнить, что летом 1941 г. Англия была в сущности единственным союзником СССР и что США еще не вступили в войну. Этим отчасти можно объяснить раздражение, которое проявлял Сталин в отношениях с Англией, и в частности с Черчиллем: ведь это была единственная страна, от которой он мог ожидать прямого военного сотрудничества. Поскольку же такой прямой военной помощи явно не предвиделось, то важнее всего было попытаться получить от Запада максимальную экономическую помощь в виде вооружения и сырья, а в этом отношении США могли дать куда больше, чем Англия.
Главный вопрос, беспокоивший как Англию, так и США - и Сталин это хорошо понимал, - заключался в том, сможет ли Красная Армия сопротивляться Германии сколько-нибудь длительное время. Как можно было догадаться в то время и как мы это знаем сейчас, Черчилль отнюдь не был уверен, что Советский Союз «продержится долго.
Английские военные круги почти единодушно считали, что Россия вскоре потерпит поражение; представители военного министерства не делали из этого секрета даже на пресс-конференциях, проводившихся в первые дни войны в министерстве информации в Лондоне. К середине июля их тон несколько изменился - в значительной степени, надо думать, под влиянием сообщений, которые присылал из Москвы генерал Мэйсон Макферлан; он не недооценивал боевых качеств Красной Армии. Мэйсон Макферлан, с которым мне не раз приходилось беседовать в Москве, видимо, даже в самые трудные для СССР дни был убежден, что русские во всяком случае исполнены решимости вести очень затяжную войну и что даже потеря Москвы (а такую возможность нельзя было исключать в начале октября) не означала бы конца.
Мнения в американском посольстве в Москве разделялись. Военный атташе майор Айвен Итон был убежден, что Красная Армия будет разгромлена в самом скором времени. Посол Штейнгардт был настроен менее мрачно, но решающее столкновение этих двух точек зрения произошло позднее, после назначения полковника Филипа Р. Феймонвилла представителем Управления по осуществлению ленд-лиза в Москве. Это назначение было сделано президентом Рузвельтом по предложению Гарри Гопкинса. Феймонвилл сопровождал Гарримана в Москву в конце сентября и с самого начала был убежден, что перспективы Красной Армии далеко не такие безнадежные, какими их с первых дней вторжения рисовал Итон.
Тот факт, что Феймонвилл был назначен в Москву по предложению Гопкинса, является весьма показательным. Гопкинс во время посещения им Москвы в конце июля, бесспорно, убедился, что русские могут если не выиграть войну, то, во всяком случае, продержаться очень долгое время, и этот взгляд разделял и Феймонвилл. После битвы под Москвой Феймонвилл окончательно пришел к выводу, что СССР не проиграет войну.
Визит Гарри Гопкинса имел решающее значение для развития американо-советских и англо-советских отношений. Как писал Роберт Шервуд:
«Полет [из Архангельска в Москву] занял четыре часа, и Гопкинс постепенно начал успокаиваться насчет будущности Советского Союза. Он смотрел вниз на сотни миль непрерывных лесов и думал, что Гитлер со всеми его танковыми дивизиями никогда не сможет преодолеть пространства такой страны».
По прибытии в Москву Гопкинс «имел продолжительную беседу со Штейнгардтом, во время которой сказал, что главная цель его приезда - определить, действительно ли положение столь катастрофично, как его рисуют в военном министерстве и в особенности как явствует из телеграмм военного атташе майора Айвена Итона».
То, что Шервуд пишет о взглядах посла Штейнгардта, совпадает с моими наблюдениями в отношении позиции посла летом 1941 г.
«Штейнгардт сказал, что человек, хоть сколько-нибудь знакомый с историей России, вряд ли поспешит с выводом о том, что немцы одержат легкую победу. Русские солдаты могут казаться неспособными, когда они наступают, - так было в наполеоновских войнах, а после этого в Финляндии. Однако, когда они должны защищать свою родину, они замечательные бойцы - и их, несомненно, очень много»[74].
Далее следовал его рассказ о первой встрече Гопкинса со Сталиным 30 июля 1941 г.
«Я сказал Сталину, что приехал как личный представитель президента. Президент считает Гитлера врагом человечества, и поэтому он желает помочь Советскому Союзу в борьбе против Германии…
Сталин сказал, что он приветствует меня в Советском Союзе… Характеризуя Гитлера и Германию, Сталин говорил о необходимости минимума моральных норм в отношениях между всеми нациями… Нынешние руководители Германии не знают таких минимальных моральных норм и… поэтому они представляют собой антиобщественную силу в современном мире… Наши взгляды совпадают», - сказал он в заключение[75].
Перейдя затем к вопросу Гопкинса, в чем именно из того, что США могут поставить немедленно, СССР нуждается больше всего и каковы будут его нужды в случае длительной войны, Сталин включил в первую категорию неотложных нужд зенитные орудия среднего калибра вместе с боеприпасами - «приблизительно 20 тысяч зенитных орудий - легких и тяжелых». Во-вторых, он просил крупнокалиберные пулеметы для обороны городов. В-третьих, он заявил, что ему нужен миллион или более винтовок. Если их калибр соответствует калибру, принятому в Красной Армии, сказал он, то боеприпасов к ним у нас достаточно.
Во вторую категорию он включил, во-первых, высокооктановый авиационный бензин, во-вторых, алюминий для производства самолетов и, в-третьих, другие материалы, уже перечисленные в списке, представленном нашему правительству в Вашингтоне.
После этого Сталин сделал следующее поразительное замечание: «Дайте нам зенитные орудия и алюминий, и мы сможем воевать три-четыре года»[76].
После продолжительного совещания с Молотовым, посвященного главным образом несколько неопределенному обсуждению отношений с Японией (в ходе его Молотов предложил, чтобы США «предостерегли» Японию против нападения на Советский Союз), Гопкинс вторично встретился со Сталиным.
В начале войны, сказал Сталин, число немецких дивизий на русском фронте увеличилось со 175 до 232, и, по его мнению, Германия может мобилизовать 300 дивизий. К началу войны Россия имела только 180 дивизий, но сейчас их у нее 240, а всего она может мобилизовать 350 дивизий.
«Сталин заявил, что он… будет иметь это число под ружьем к началу весенней кампании в мае 1942 года.
Он стремится к тому, чтобы максимальное число его дивизий вошло в соприкосновение с противником, потому что тогда войска узнают, что немцев можно бить и что они не сверхчеловеки… Он хочет иметь как можно больше закаленных войск для большой кампании, которая начнется будущей весной».
Сталин сказал, что придает большое значение партизанским отрядам, действующим за линией фронта, и утверждал, что ни с той, ни с другой стороны не было массовых капитуляций войск. Он высказал надежду, что немцам самим придется вскоре перейти к обороне, но тем не менее признал, что, хотя русские имеют «большое число танковых и моторизованных дивизий, ни одна из них не может сравниться с немецкой танковой дивизией». При этом он сказал, что, по его мнению, русские «самые крупные танки лучше, чем другие немецкие танки».
Красная Армия, сказал он, имеет 4 тыс. крупных, 8 тыс. средних и 12 тыс. легких танков. Немцы имеют в общей сложности 30 тыс. танков.
Он сказал, что Россия производит только тысячу танков в месяц и что она будет испытывать недостаток стали.
Он «настаивал на немедленном размещении заказов на сталь. Позже он сказал, что было бы гораздо лучше, если бы его танки могли производиться в Соединенных Штатах. Он желает также закупить как можно больше наших танков, чтобы быть готовым к весенней кампании. Сталин сказал, что самое важное - выпуск танков в течение зимы. Потери обеих сторон в танках были очень велики, но Германия может этой зимой выпускать больше танков в месяц, чем Россия… Он хотел бы послать специалиста по танкам в Соединенные Штаты. Он сказал, что передаст Соединенным Штатам чертежи советских танков»[77].
Сталин нарисовал гораздо более оптимистическую картину положения с авиацией в СССР и сказал, что «немецкие сообщения о русских потерях в воздухе нелепы». Тем не менее «он проявил значительный интерес к подготовке пилотов в Америке и у меня создалось впечатление, что в скором времени он будет испытывать недостаток в летчиках».
«Сталин несколько раз повторил, что он не недооценивает немецкую армию. Он сказал, что их организация превосходна и что, по его мнению, немцы обладают крупными резервами продовольствия, людей, снаряжения и горючего… Поэтому он считает, что… немецкая армия способна вести зимнюю кампанию в России. Он думает, однако, что немцам будет трудно предпринимать значительные наступательные действия после 1 сентября, когда начинаются сильные дожди, а после 1 октября дороги будут настолько плохи, что им придется перейти к обороне. Он выразил большую уверенность в том, что в зимние месяцы фронт будет проходить под Москвой, Киевом и Ленинградом, вероятно, на расстоянии не более чем 100 км от той линии, где он проходит теперь. Он считает… что немцы «устали» и не имеют боевого наступательного духа… Германия все еще может перебросить сюда около 40 дивизий, в этом случае на русском фронте будет всего 275 дивизий. Однако вряд ли удастся подвезти эти дивизии до наступления холодов»[78].
На этом втором совещании Сталин снова подчеркнул, что в первую очередь Красная Армия нуждается в легких зенитных орудиях и что ей «нужно очень большое количество таких орудий для защиты своих коммуникаций»; во-вторых, требуется алюминий, необходимый для производства самолетов; в-третьих, необходимы пулеметы и винтовки.
В отношении портов, через которые можно доставлять грузы, он сказал, что «использовать Архангельск трудно, но не невозможно», так как «его ледоколы могли бы держать порт открытым всю зиму». Владивосток он считал опасным, «потому что в любой момент он может быть отрезан Японией», а пропускная способность железных и грунтовых дорог в Иране «недостаточна».
«Сталин несколько раз выражал уверенность, что русский фронт будет удерживаться в пределах 100 км от нынешних позиций», и указал, что «фронт стабилизируется не позднее 1 октября».
Из того, что Гопкинс сказал Сталину, ясно, что он не вполне был уверен, смогут ли советские войска выстоять этой осенью:
«Я помнил о важности того, чтобы в Москве не было никакого совещания, пока мы не узнаем об исходе нынешней битвы. Я считал чрезвычайно неразумным проводить совещание, пока исход ее не известен. На этом и основывалось мое предложение о том, чтобы совещание состоялось возможно позже. Тогда мы знали бы, будет ли существовать какой-нибудь фронт, а также где приблизительно будет проходить линия фронта в предстоящие зимние месяцы»[79].
Тем не менее, основываясь на уверенности Сталина, что фронт «стабилизируется не позднее 1 октября», Гопкинс рекомендовал американскому правительству провести такую конференцию (будущую конференцию Сталина, Бивербрука и Гарримана) между 1 и 15 октября.
В заключение Сталин сказал, что, по его мнению, моральное состояние немцев довольно низкое и что немцы были бы еще больше деморализованы заявлением о том, что США намерены вступить в воину против Гитлера.
«Сталин сказал,: что, по его мнению, мы [США] в конце концов неизбежно столкнемся с Гитлером на каком-нибудь поле боя. Мощь Германии столь велика, что, хотя Россия сможет защищаться одна, Великобритании и России вместе будет очень трудно разгромить немецкую военную машину… Война будет ожесточенной и, возможно, длительной… Наконец, он просил меня сообщить президенту, что, хотя он уверен в способности русской армии противостоять германской армии, проблема снабжения к весне станет серьезной и что он нуждается в нашей помощи»[80].
В статье о своих встречах со Сталиным Гопкинс позже писал:
«Он приветствовал меня несколькими быстрыми русскими словами. Он пожал мне руку коротко, твердо, любезно. Он тепло улыбался. Не было ни одного лишнего слова, жеста или ужимки. Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной машиной, разумной машиной… Его вопросы были ясными, краткими и прямыми… Его ответы были быстрыми, недвусмысленными, они произносились так, как будто они были обдуманы им много лет назад… Если он всегда такой же, как я его слышал, то он никогда не говорит зря ни слова. Если он хочет смягчить краткий ответ… он делает это с помощью быстрой, сдержанной улыбки - улыбки, которая может быть холодной, но дружественной, строгой, но теплой. Он с вами не заигрывает. Кажется, что у него нет сомнений. Он создает у вас уверенность, что Россия выдержит атаки немецкой армии. Он не сомневается, что у вас тоже нет сомнений… Он довольно часто смеется, но это короткий смех, быть может несколько сардонический. Он не признает пустой болтовни. Его юмор остр и проницателен»[81].
Хотя Гопкинс, очевидно, прибыл с инструкциями, не позволявшими ему предполагать, что русские не будут разбиты до наступления зимы, Сталин не только произвел на него огромное впечатление как личность, но и убедил его в том, что русские сдержат немцев и что они готовятся к очень продолжительной войне. «Человек, - писал Шервуд о совещаниях Гопкинса и Сталина, - который боится немедленного поражения, не говорил бы о первоочередности поставок алюминия». Сам характер просьб Сталина доказывал, что «он рассматривает войну с точки зрения дальнего прицела».
И Шервуд добавляет:
«Гопкинс позднее высказывал чрезвычайное раздражение по адресу военных наблюдателей в Москве, когда они присылали по телеграфу пессимистические доклады, которые могли основываться только на догадках и предубеждении»[82].
Рассказ Гопкинса о его совещаниях со Сталиным имеет неоценимое значение. В сущности, это единственный подробный рассказ от первого лица о Сталине в самый разгар германского вторжения. Некоторые моменты следует особенно подчеркнуть. Стремясь добиться помощи от американцев, Сталин нарисовал более благоприятную картину, чем о ней можно было судить на основании того, как складывалась война на конец июля 1941 г. Он старательно избегал всякого намека на то, что Красная Армия испытывает острый недостаток в танках и самолетах. Он знал, что вряд ли может ожидать чего-нибудь сразу же, и поэтому указывал на желательность подготовить советскую авиацию и танковые войска к весенней кампании 1942 г. Он совершенно сознательно создавал впечатление, что планирует затяжную войну. Но он не «заискивал» перед своими собеседниками, ибо не сомневался, что в интересах Англии и Америки помочь СССР.
Конечно, он серьезно заблуждался, думая, что немцы не продвинутся больше чем на 200 км, что советские войска удержат не только Москву и Ленинград, но и Киев и что фронт стабилизируется к началу сентября или самое позднее к началу октября[83].
На основе довольно оптимистических прогнозов Гопкинса была устроена конференция Сталина, Бивербрука и Гарримана, открывшаяся 29 сентября, за день до начала «окончательного» наступления немцев на Москву.
В эти дни Сталин, по-видимому, был гораздо более встревожен общей обстановкой, чем это следует из рассказа Гопкинса. Об этом свидетельствуют некоторые послания Сталина Черчиллю после занятия немцами большей части Украины. Так, 3 сентября он писал:
«Положение советских войск значительно ухудшилось в таких важных районах, как Украина и Ленинград.
Дело в том, что относительная стабилизация на фронте, которой удалось добиться недели три назад, в последние недели потерпела крушение вследствие переброски на Восточный фронт свежих 30-34 немецких пехотных дивизий и громадного количества танков и самолетов… Немцы считают опасность на Западе блефом… Немцы считают вполне возможным бить своих противников поодиночке: сначала русских, потом англичан».
Потеря Криворожского железорудного бассейна и ряда металлургических заводов на Украине, продолжал он, «привела к ослаблению нашей обороноспособности и поставила Советский Союз перед смертельной угрозой (курсив мой. - А. В.)… Существует лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции… и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тыс. тонн алюминия к началу октября с. г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков (малых или средних)»[84].
Спустя десять дней, 13 сентября, Сталин снова написал Черчиллю, что если открыть второй фронт в настоящее время не представляется возможным, то «мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25-30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. Это была бы большая помощь»[85].
Предложение, чтобы английские войска помогли России на русской территории, а также предупреждение, что Россия может потерпеть поражение, выдавали искреннюю тревогу Сталина. Тем не менее он закончил письмо к Черчиллю характерной нотой бравады. Отвечая на английское предложение возместить после войны потери русских, в случае если они решат уничтожить свои военно-морские суда в Ленинграде, чтобы они не достались противнику, Сталин заметил:
«Советское Правительство… ценит готовность Английского Правительства возместить частично ущерб… Не может быть сомнения, что в случае необходимости советские корабли в Ленинграде действительно будут уничтожены советскими людьми. Но за этот ущерб несет ответственность не Англия, а Германия. Я думаю поэтому, что ущерб должен быть возмещен после войны за счет Германии»[86].
Наиболее ярким примером англо-советского сотрудничества в 1941 г. была совместная оккупация Ирана. После предварительных консультаций с английским правительством Советское правительство уведомило правительство Ирана, что введет свои войска в Иран в связи с начавшимися в этой стране антисоветскими махинациями. Войска «вводились» в силу статьи 6 советско-иранского договора 1921 г., предусматривавшей такую меру в случае возникновения угрозы для независимости Ирана и для безопасности Советского Союза со стороны третьей державы. Советская нота напоминала, что с момента германского вторжения в Россию Советское правительство уже послало иранскому правительству три таких предупреждения, но без всякого результата.
Того же 25 августа английский посол в Иране Ридер Буллэрд уведомил иранское правительство о вступлении в Иран английских войск. Эта совместная оккупация преследовала двоякую цель: помешать Германии использовать Иран как базу для действий против России и против иранских нефтепромыслов и открыть путь снабжения от Персидского залива до Каспийского моря. Этому проекту придавалось очень большое значение, так как союзники, и в частности Черчилль, считали оба других пути - через Владивосток и через русскую Арктику - крайне ненадежными. Совместная операция прошла замечательно гладко. Было сформировано новое иранское правительство, и благоволивший к немцам Реза-шах вскоре отрекся от престола; он закончил свои дни в эмиграции в Иоганнесбурге, где и умер в 1944 г.
«Английские и русские войска встретились дружески, и 17 сентября был совместно оккупирован Тегеран. Накануне этого события шах отрекся в пользу своего одаренного 22-летнего сына. 20 сентября новый шах по совету союзников восстановил конституционную монархию… Большая часть наших сил ушла из страны, оставив только отряды для охраны коммуникаций, а 18 октября Тегеран был эвакуирован как английскими, так и русскими войсками».
Миссия Бивербрука - Гарримана прибыла в Москву 28 сентября. Под председательством Молотова состоялся ряд совещаний, а дважды Бивербрук и Гарриман имели продолжительные беседы со Сталиным. Бивербрук был решительным сторонником оказания помощи России, и в результате экономических переговоров Соединенные Штаты Америки предоставили СССР первый заем в размере 1 млрд. долларов на основе ленд-лиза. Было решено отправить Советскому Союзу значительное количество всякого оружия, сырья и машин. Взамен СССР должен был поставить США и Англии некоторые виды сырья. Заключительные речи Бивербрука, Гарримана и Молотова были на редкость сердечными. На заключительном заседании конференции Гарриман сказал, что Англия и Америка поставят СССР «практически все то, в отношении чего были сделаны запросы».
4 октября я записал в Москве:
«Конференция закончилась, и все стороны приветствуют ее как большой успех. Под впечатлением поразительной быстроты, с какой конференция справилась со своей работой, люди, пожалуй, склонны забывать ограниченный масштаб переговоров и ограниченные возможности поставки материалов в Россию… Русские газеты много пишут об успехе конференции, о «едином антигитлеровском фронте» трех крупнейших в мире промышленных держав и т.п. Люди, читающие газеты в трамваях, кажутся довольными, но мне не думается, что на них это произвело очень большое впечатление. Они знают, что впереди у них страшно суровая зима…»[87]
И далее:
«Бивербрук проявил величайшую активность и почти затмил всех, включая Гарримана… и Криппса. Это, возможно, несправедливо, так как Криппс и военная миссия, несомненно, много сделали для подготовки конференции… При всем том активность Бивербрука, бесспорно, способствовала успеху конференции, а его ночные беседы со Сталиным, видимо, решающим образом помогли сгладить шероховатости… Бивербрук полностью отдает себе отчет, что русские - сейчас единственный народ в мире, серьезно ослабляющий Германию, и что в интересах Англии обойтись без некоторых вещей и передать их России…».
Впечатления о визите в Москву, которыми Бивербрук поделился не только с корреспондентами на месте, но также и с Черчиллем в своей телеграмме от 4 октября («это соглашение в огромной степени подняло настроение в Москве»), полностью расходятся с тем, что писал после войны Черчилль:
«Прием, оказанный им, был мрачный, и дискуссия велась далеко не в дружественном тоне. Можно было подумать, что это по нашей вине Советы оказались теперь в тяжелом положении. [Они] не дали никакой информации. Они даже не информировали их, на какой основе была определена потребность русских в наших ценных военных материалах. Почти до последнего вечера для миссии не устраивалось никаких официальных приемов… Словно это мы приехали просить одолжения»[88].
Нет никакого сомнения, что в то время Советское правительство Ныло крайне довольно политическим значением конференции и с нетерпением ожидало в будущем американской помощи в широких масштабах. С другой стороны, английские поставки, которые могли быть получены немедленно, конечно, представляли собой каплю в море[89].
Даже если «прием был мрачный» (хотя у Бивербрука создалось прямо противоположное впечатление), то вполне вероятно, что тут сыграли свою роль известия с фронта. Во время пребывания Бивербрука и Гарримана в Москве началось большое германское наступление - сначала на брянском, а спустя три дня на вяземском направлении. Что бы ни сулила экономическая конференция в будущем, битву под Москвой Советский Союз должен был выиграть один при помощи еще имевшегося у него снаряжения.
Дипломатическая активность Советского Союза была направлена главным образом на установление более тесных отношений с Англией и США, но в то же время германское вторжение создало ряд дополнительных дипломатических проблем. Финляндия, Венгрия, Румыния и Италия находились теперь в состоянии войны с Советским Союзом, а Черчиллю не хотелось объявлять войну Венгрии, Румынии и особенно Финляндии. Действительно, проблема Финляндии даже породила значительные англо-советские трения.
Отношения Советского Союза с вишистской Францией были порваны, и всего через неделю после германского вторжения Петен разрешил формирование антисоветского французского легиона. В финскую армию вступило некоторое число шведских добровольцев, а в Испании была создана «Голубая дивизия» для операций в СССР, в частности под Ленинградом. Турция, Иран и Афганистан поспешили заверить СССР в своем нейтралитете, хотя в случае с Ираном эти заверения не были приняты. Позже в том же году Советское правительство потребовало, чтобы Афганистан выслал германских агентов со своей территории; это требование было номинально выполнено афганским правительством, хотя итальянский посол в Кабуле, Пьетро Кварони, оставался в центре деятельности держав оси в Афганистане (в 1943 г., после падения Муссолини, он был назначен итальянским посланником в Москве!).
В Москве 10-11 августа состоялся первый Всеславянский митинг. Он призвал все славянские народы к священной войне против Германии, причем обращение подписали «представители народов России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, Югославии и Болгарии».
Уже 18 июля в Лондоне Майский, как представитель СССР, и Ян Масарик, как представитель эмигрантского правительства Чехословакии, подписали соглашение о взаимной помощи. Оно предусматривало обмен посланниками и сформирование на территории СССР чехословацких воинских частей под командованием офицера, назначенного чехословацким правительством с согласия Советского правительства. Эти части должны были находиться под советским Верховным Командованием.
Английская журналистка Дороти Томпсон рассказывает, что единственным человеком из всех, с кем она встречалась в Лондоне в июле 1941 г., который считал, что русские не будут разбиты немцами, был президент Бенеш. Дипломатические отношения СССР с «независимой» Словакией были, конечно, автоматически порваны, и о них не упоминалось.
Куда сложнее был вопрос, следует ли и на каких условиях восстанавливать отношения с Польшей. Внешне соглашение, подписанное Майским и Сикорским 30 июля 1941 г., мало чем отличалось от заключенного 12 дней назад советско-чехословацкого соглашения. На деле же оно затрагивало ряд крайне щекотливых вопросов.
Для Советского правительства, очевидно, было несколько затруднительно согласиться на первый пункт, объявлявший аннулированными все советско-германские договоры 1939 г. относительно территориальных перемен в Польше. Существовал также вопрос о польских гражданах в СССР, который как-то надо было решить. Для урегулирования этого щекотливого вопроса к соглашению был приложен Протокол, в котором Советское правительство предоставляло амнистию «всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях».
Помимо этого, советско-польское соглашение, как и советско-чехословацкое соглашение, предусматривало обмен послами и взаимную помощь в общей войне против нацистской Германии.
Это соглашение, которому предшествовало неприятное обсуждение вопроса о будущих границах Польши, фактически знаменовало собой начало новой стадии польско-советских отношений. 14 августа в Москве было заключено военное соглашение, подписанное Уполномоченным советского Верховного Главнокомандования генерал-майором А.М. Василевским и Уполномоченным Верховного Командования Польши генерал-майором Богуш-Шишко; по условиям этого соглашения генерал Сикорский назначил генерала Андерса главнокомандующим польскими вооруженными силами на территории СССР, и было объявлено, что тот «приступил к формированию польской армии». Генерал Андерс был только что перед этим освобожден из советской тюрьмы.
4 сентября в Москву прибыл первый польский посол Ст. Кот, а в декабре в Москву приехал Сикорский, имевший продолжительные и весьма неприятные переговоры со Сталиным. Но об этом будет сказано ниже.
Помимо Польши и Чехословакии, в первые месяцы войны были также восстановлены отношения с Югославией, Норвегией, Бельгией и Грецией. 26 сентября 1941 г. состоялся также важный обмен нотами между Майским и де Голлем. Советское правительство, признав де Голля как руководителя свободных французов, предложило ему всю возможную помощь в его борьбе против Германии и выразило свою решимость бороться за «полное восстановление независимости и величия Франции». Де Голль ответил в том же духе.
Вряд ли приходится удивляться, что нападение японцев на Пирл-Харбор принесло большое облегчение русским в момент, когда Красная Армия только начала свое декабрьское контрнаступление на Московском участке фронта. Была, конечно, опасность, что в результате приток грузов из Англии и Соединенных Штатов замедлится, но эти соображения превозмогались тем важнейшим фактом, что США теперь вступили в войну и что движение японских войск на запад и юг ликвидировало, по крайней мере временно, угрозу нападения Японии на Советский Союз.
16 декабря Рузвельт послал телеграмму Сталину, предложив Советскому правительству принять участие в конференции в Чунцине вместе с китайским, английским, голландским и американским представителями. Сталин дал уклончивый ответ, хотя и добавил: «Желаю Вам успеха в борьбе против агрессии на Тихом океане»[90]
(обратно) (обратно)Часть третья. Ленинградская эпопея
Глава I. Враг наступает
Вторая мировая война знала много трагедий массовой гибели мирного населения. Была Хиросима, где за несколько секунд погибло около 100 тыс. человек, а многие тысячи других получили тяжелые увечья и на всю жизнь остались калеками; Нагасаки, на который была сброшена вторая атомная бомба. В Дрездене в феврале 1945 г. за две ночи было убито 135 тыс. мужчин, женщин и детей. 23 августа 1942 г. в Сталинграде погибло 40 тыс. человек. В начале войны имели место массированные воздушные налеты на Лондон и такие «мелочи», как разрушение Ковентри, где около 700 человек погибло за одну только ночь. Кровавые расправы немцев над жителями сотен «партизанских» деревень в Белоруссии; наконец, нацистские лагеря смерти, где в газовых камерах и другими чудовищными способами были уничтожены миллионы людей. Этот перечень нескончаем.
Трагедия Ленинграда, где погибло около миллиона человек, не была, однако, похожа ни на одну из трагедий этой войны. В Ленинграде немцы в сентябре 1941 г. окружили блокадой и обрекли на голодную смерть почти три миллиона человек. Почти одна треть их умерла, но не сдалась немцам[91].
Ленинград - по-старому Санкт-Петербург - более двух веков был столицей Российской империи. Со своими набережными Невы, мостами, Эрмитажем, Зимним дворцом и десятками других дворцов, Адмиралтейством, Исаакиевским собором и Медным всадником, со своим Невским проспектом, Летним садом и каналами с перекинутыми через них горбатыми гранитными мостами, он Пыл и остается одним из прекраснейших городов мира.
В течение двух веков он был не только столицей России, но и ее самым крупным культурным центром. Ни один русский город не вызывает такого множества литературных ассоциаций, как Санкт-Петербург. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Иннокентий Анненский, Блок и Анна Ахматова - мы называем здесь лишь несколько имен - никогда бы не стали тем, чем они были, если бы не этот чарующий город, так поражавший своим величием, изяществом и гармоничностью Пушкина и казавшийся столь таинственным, зловещим и, если можно так выразиться, столь сюрреалистическим Гоголю и Достоевскому, - Гоголю, автору «Носа», и Достоевскому, написавшему «Идиота» и «Преступление и наказание».
В Санкт-Петербурге - тогда Петрограде - начались обе революции 1917 г. В 1918 г. Советское правительство перенесло столицу России в Москву. В последующие три-четыре года разрухи, вызванной гражданской войной и интервенцией, Петроград был чуть ли не умирающим городом, голодавшим сильнее, чем большинство других русских городов. С 1919 по 1921 г. Петроград покинуло свыше половины жителей, а многие тысячи из тех, кто остался, погибли от голода. Таким образом, голод был Ленинграду не внове. Однако в 1924 г. началось возрождение города, и прежде всего его индустриальное возрождение; к 1941 г. он уже снова был цветущим промышленным и культурным центром, а также крупнейшим средоточием высших учебных заведений Советского Союза с соответственно большим процентом студентов среди населения, чем в любом другом городе.
Хотя Ленинград уже не был более столицей Советского Союза, он продолжал хранить свой собственный, слегка окрашенный снобизмом местный патриотизм. Он также пережил свои тяжелые моменты. В декабре 1934 г. здесь был убит Киров; это повлекло за собой начало репрессий конца тридцатых годов, от которых Ленинград пострадал, пожалуй, в большей степени, чем другие города. Характерно, что талантливая писательница и поэтесса Ольга Берггольц, которая в голодную зиму 1941/42 г. сыграла такую важную роль как одна из главных участниц передач Ленинградского радио «Ленинград выстоит», провела в 1937 г. несколько месяцев в тюрьме по какому-то ложному обвинению. И тем не менее книга воспоминаний Ольги Берггольц «Дневные звезды» - это одно из самых волнующих произведений, посвященных страшным дням блокады. Незабываем, например, рассказ о том, как она, ослабевшая от голода, с коркой хлеба и одной папиросой на целый день (вторую она берегла для отца), пятнадцать километров прошла по снежным сугробам, через покрытую льдом Неву, чуть не на каждом шагу спотыкаясь о трупы, чтобы навестить своего отца, пожилого врача, и как, добравшись наконец до цели, она нашла отца полумертвым от голода в окружении умирающих пациентов. Ольга, Берггольц - типично ленинградское явление, женщина, которая готова была умереть за Ленинград.
Итак, в сентябре 1941 г. три миллиона человек были заперты немцами в ловушку; никогда еще большой город не переживал того, что пришлось пережить зимой 1941/42 г. Ленинграду.
В Ленинграде известие о том, что 22 июня 1941 г. немцы вторглись на территорию Советского Союза, вызвало волну народных митингов, и в течение последующих двух недель огромное число ленинградцев добровольно вступило в части народного ополчения. Только на большом Кировском заводе 15 тыс. мужчин и женщин подали заявления о немедленном зачислении их на военную службу. Не все заявления могли быть удовлетворены, поскольку Кировский завод должен был выпускать военную продукцию. Поэтому от создания пятнадцати рабочих дивизий, как предусматривалось планом, пришлось отказаться, и 4 июля было решено ограничиться - до получения новых указаний - лишь тремя ополченскими дивизиями. Первая добровольческая дивизия была отправлена на фронт уже 10 июля; за ней через несколько дней отправили вторую и третью. Военная подготовка, проходившая на главных площадях Ленинграда, длилась всего несколько дней. Три дивизии народного ополчения были спешно направлены на Лужскую оборонительную линию, которую обороняли всего лишь три стрелковые дивизии и слушатели двух военных училищ, также в срочном порядке переброшенные сюда из Ленинграда. К 14 июля немцам уже удалось создать севернее Луги, на правом берегу реки Луги, большой плацдарм, откуда они и начали развивать дальше наступление на Ленинград.
Положение было крайне тяжелое, и это прямо признавалось в приказе Военного совета Северо-Западного направления от 14 июля, подписанном главнокомандующим К.Е. Ворошиловым и секретарем ленинградской партийной организации А.А. Ждановым:
«Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! Над городом Ленина - колыбелью пролетарской революции - нависла прямая опасность вторжения врага. В то время как войска Северного фронта мужественно бьются с озверелыми фашистско-шюцкоровскими полчищами на линии от Баренцева моря до Ханко и Таллина… защищают каждую пядь нашей родной советской земли, войска Северо-Западного фронта, не всегда давая должный отпор противнику, часто оставляют свои позиции, даже не вступая в… сражение, чем еще больше поощряют обнаглевшего врага. Отдельные паникеры и трусы не только самовольно покидают… фронт, но и сеют панику среди честных и стойких бойцов. Командиры и политработники в ряде случаев не только не пресекают паники, не организуют и не ведут свои части в бой, но своим позорным поведением… еще больше усиливают дезорганизацию и панику на линии фронта».
Далее в приказе говорилось, что каждый, кто оставит фронт без приказа, будет предан суду военно-полевого трибунала, который может приговорить виновного к расстрелу, «невзирая на ранги и старые заслуги»[92].
27 июня Ленинградский Совет депутатов трудящихся принял решение мобилизовать сотни тысяч мужчин и женщин на строительство укреплений. Было построено несколько оборонительных линий; одна из них шла от устья реки Луги к Чудову, Гатчине, Урицку, Пулкову и далее по Неве; другая - линия «внешней обороны» Ленинграда - проходила от Петергофа к Гатчине, Пулкову, Колпину и Колтушам. Кроме того, было построено несколько оборонительных рубежей поблизости от города, в том числе один, обращенный в сторону финнов, в его северных предместьях.
К концу июля и началу августа на строительстве оборонительных сооружений был занят почти миллион человек.
«Люди самых различных профессий - рабочие, служащие, учащиеся, домашние хозяйки, ученые, артисты, студенты и т.д. - взяли в руки лопаты, кирки, топоры. Они… с раннего утра до поздней ночи трудились… часто находясь под огнем противника»[93].
Большая часть земляных работ, проводившихся в этих условиях, притом непривычными к такому труду людьми, была, естественно, сделана наспех и неумело; многие окопы были вырыты недостаточно глубоко, а минные поля и проволочные заграждения часто устанавливались беспорядочно. Тем не менее если принять вс внимание, что немцы достигли Лужской оборонительной линии, проходившей в 125 км к югу от Ленинграда, через три недели с начала вторжения, но потом, чтобы достичь окраин города, потратили еще полтора месяца, то будет ясно, что строительство оборонительных рубежей сыграло важную роль в спасении Ленинграда.
Всего ленинградцы сумели вырыть 700 км противотанковых рвов, 25 тыс. км открытых траншей, протянуть 635 км проволочных заграждений, создать 190 км лесных завалов и построить больше 5 тыс. деревоземляных и железобетонных огневых точек, не считая всяких оборонительных сооружений, возведенных в самом Ленинграде.
Однако, если не считать одного успешного контрудара 14-18 июля в районе Сольцы, на южном конце Лужской линии, близ озера Ильмень, советские войска старались лишь как можно дольше удерживать различные оборонительные рубежи между рекой Лугой и Ленинградом.
Повсюду - за исключением одного участка Лужской линии - немцы обладали огромным превосходством. Более того, многие советские части совсем не имели боевого опыта; о том, каким тяжелым испытаниям они подвергались, говорит пример вновь сформированной 1-й дивизии народного ополчения; совершив 60-километровый форсированный марш, во время которого она непрерывно подвергалась налетам немецкой авиации, она была с ходу брошена в бой против немецких моторизованных и танковых войск.
«Этот первый бой явился тяжелым испытанием для бойцов и командиров дивизии. Необстрелянные и неопытные бойцы и командиры терялись и, не имея достаточных средств для борьбы с танками, при массированных танковых атаках отступали»[94].
Тем не менее упорная оборона, к которой перешли советские войска на большой части Лужской линии с середины июля, заставила немцев перегруппировать свои силы, и только 8 августа началось их «решающее» наступление на Ленинград. Защитников Лужской линии обошли с запада и с востока, и к 21 августа они оказались на оконечности выступа в 20 км шириной и почти 200 км глубиной, в то время как немцы стремительно продвигались к Финскому заливу, юго-западнее Ленинграда, и к Ладожскому озеру, юго-восточнее города. Боясь окружения, советское командование решило отступить. 21 августа немцы захватили Чудово, перерезав тем самым главную железнодорожную магистраль Ленинград - Москва. К 30 августа после тяжелых боев они взяли Мгу и перерезали последнюю железную дорогу, еще связывавшую Ленинград со всей страной. Сосредоточив огромное количество танков и самолетов юго-западнее и юго-восточнее Ленинграда, немцы теперь рассчитывали взять город штурмом. Несмотря на отчаянное сопротивление советских войск, немецкие войска прорвались к южному берегу Ладожского озера. Они захватили значительный отрезок левого берега Невы, включая Шлиссельбург, однако форсировать реку не смогли. Теперь Ленинград был изолирован от всей страны, если не считать весьма ненадежных коммуникаций через Ладожское озеро. Не менее отчаянным было положение южнее и юго-западнее города; немцы прорвались к Финскому заливу всего в нескольких километрах к юго-западу от Ленинграда и упорно старались пробиться на участках Колпино и Пулково, всего в 20 км к югу от Ленинграда. Однако Красная Армия удерживала широкий плацдарм у Ораниенбаума, напротив Кронштадта и к западу от того места, где немцы достигли залива. На севере финны 4 сентября заняли бывшую пограничную станцию Белоостров, в 30 км к северу от Ленинграда, но на следующий же день были выбиты оттуда.
Уже 20 августа на заседании партийного актива Ленинграда Ворошилов и Жданов признали, что положение чрезвычайно серьезное. Жданов заявил, что все население города, и в особенности молодежь, должно пройти элементарную военную подготовку и научиться стрельбе, метанию гранат и ведению уличных боев.
На следующий день было опубликовано знаменитое обращение Военного совета фронта, горкома партии и Ленинградского Совета депутатов трудящихся к населению Ленинграда:
«Встанем, как один, на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы. Выполним наш священный долг советских патриотов и будем неукротимы в борьбе с лютым и ненавистным врагом, будем бдительны и беспощадны в борьбе с трусами, паникерами и дезертирами, установим строжайший революционный порядок в нашем городе. Вооруженные железной дисциплиной, большевистской организованностью… встретим врага и дадим ему… отпор»[95].
В эти дни не было никакой уверенности, что немцы не ворвутся в Ленинград. Об этом писал позднее Павлов:
«Если все же неприятелю и удалось бы ворваться в город, то и на этот случай был детально разработан план уничтожения войск противника. Заводы, мосты, общественные здания были заминированы и… груды камня и железа обрушились бы на головы вражеских солдат, завалы преградили бы путь их танкам. Гражданское население, не говоря уже о солдатах и матросах, было подготовлено к уличным боям. Идея борьбы за каждый дом не была актом самопожертвования, а ставила целью уничтожение вражеской армии. И как подтвердил позднее опыт Сталинграда, упорное сопротивление большого города может привести к поражению сильнейшей группировки противника»[96].
Артиллерийский обстрел Ленинграда начался 4 сентября, а 8, 9 и 10 сентября город подвергся особенно ожесточенным воздушным налетам. Бомбежка 8 сентября вызвала 178 пожаров, в том числе на крупных Бадаевских продовольственных складах, о разрушении которых поползли преувеличенные слухи, особенно когда начался страшный голод. 9 сентября противовоздушная оборона была организована уже лучше, и все зажигательные бомбы, за небольшим исключением, были быстро погашены. Огнем зенитной артиллерии было сбито пять немецких самолетов, но тихоходные советские истребители И-15 были почти бессильны против «мессершмиттов». Именно это заставило некоторых героических советских летчиков таранить немецкие самолеты.
Во время этих первых крупных налетов немцы сбросили также на город множество бомб замедленного действия. Не умея разряжать их, многие добровольцы, которые брались за это (в Ленинграде находились добровольцы на что угодно), погибали.
Много написано об ожесточенных боях, происходивших в те дни в Пулкове, Колпине и Урицке (Урицк расположен всего в 3-5 км от Кировского завода, к юго-западу от Ленинграда). Драматическая история, которую рассказали мне в 1943 г. несколько человек в Ленинграде, гласит, что приблизительно 10 сентября Ворошилов, считая, что все потеряно, отправился на передовую в надежде быть убитым немцами. Но 11 сентября Сталин командировал в Ленинград Г.К. Жукова, и оборона города была в короткий срок полностью реорганизована. На пресс-конференции в июне 1945 г. в Берлине, где я присутствовал, Жуков, правда не вдаваясь в подробности, с гордостью упомянул об этом факте. Несомненно, именно за время недолгого командования Жукова (он пробыл в Ленинграде до середины октября) фронт вокруг Ленинграда стабилизировался.
Не сумев захватить Ленинград штурмом, немецкое верховное командование подумало (и у него были на это основания), что вскоре голод заставит город капитулировать. Но Гитлер - что для него характерно - приказал капитуляцию не принимать и «сровнять… с землей» Ленинград, ибо в противном случае он создал бы угрозу эпидемий, а кроме того, был бы заминирован и таким образом представил бы двойную опасность для солдат, которые вступят в него. В Нюрнберге Йодль следующим образом объяснил причины издания этого приказа (а заодно и провала немецких планов захвата Ленинграда):
«Верховный главнокомандующий группой армий «Север» под Ленинградом фельдмаршал фон Лееб… указал, что он будет абсолютно не в состоянии обеспечить питание и снабжение миллионов ленинградцев, если они попадут в его руки, поскольку положение со снабжением его собственной группы армий стало в то время катастрофическим. Это была первая причина. Однако незадолго до того русские армии оставили Киев, и едва только мы заняли город, как в нем начались один за другим взрывы чудовищной силы. Большая часть внутреннего города сгорела, 50 тыс. человек остались без крова, немецкие солдаты… понесли значительные потери, поскольку подрывались большие массы взрывчатых веществ… Приказ преследовал только одну цель - оградить немецкие войска от таких катастроф, ибо в Харькове и Киеве взлетали на воздух целые штабы»[97].
Директива гитлеровского командования от 7 октября 1941 г., подписанная Йодлем, повторяла приказ фюрера не принимать «капитуляции ни Ленинграда, а позднее - Москвы». Беженцев из Ленинграда, говорилось в приказе, следует отгонять огнем, если только они приблизятся к немецким позициям, но всякое бегство «отдельных лиц» на восток, через небольшие бреши в блокаде, должно поощряться, поскольку оно может лишь усугубить хаос в Восточной России. В приказе говорилось также, что бомбардировками с воздуха и артиллерийским обстрелом нужно сровнять Ленинград с землей.
Дата этого документа знаменательна: к началу октября немцы отказались от надежды взять Ленинград штурмом. Ленинград и его подступы продолжали оставаться в руках русских, что заставляло немцев держать здесь армию численностью (как считало советское командование) 300 тыс. человек. Поскольку не было уверенности, что немцы не попытаются предпринять новое решительное наступление на Ленинград, вплоть до декабря продолжались приготовления для обороны каждого дома и для уничтожения немецких парашютистов. Ленинград опоясывало кольцо мощных батарей береговой, морской и армейской артиллерии, неоценимую помощь оказывал городу Балтийский флот. Даже орудие с крейсера «Аврора», из которого в 1917 г. был дан сигнал к штурму Зимнего дворца, было теперь установлено на Пулковских высотах к югу от Ленинграда. Хотя Ленинграду и угрожала серьезная опасность, Москва оказалась в октябре в еще более опасном положении и, несмотря на блокаду, из Ленинграда были переброшены по воздуху в Москву 1000 артиллерийских орудий и значительное количество боеприпасов и другого вооружения![98]
К середине сентября угроза быстрого захвата Ленинграда немцами была предотвращена. Однако, поскольку город был полностью отрезан от Большой земли (если не считать пути через Ладожское озеро), единственная реальная надежда на то, чтобы обеспечить снабжение его продовольствием, сырьем и топливом, а также вооружением и боеприпасами, которые не могли быть изготовлены на месте, заключалась, конечно, в прорыве сухопутной блокады. В сентябре советские войска предприняли отчаянную попытку вытеснить немцев из Мга-Синявинского клина, подходившего к южному берегу Ладожскою озера, и очистить таким образом железнодорожную линию Ленинград - Вологда. Но хотя им и удалось создать небольшой плацдарм на южном берегу Невы, к западу от Шлиссельбурга, и даже удерживать его на протяжении всей зимы ценой страшных потерь в живой силе, немцы так укрепили район Мга, Синявино, что эта попытка оказалась безуспешной, и немецкая оборона была прорвана здесь только в феврале 1943 г.
Глава II Ленинград в осаде
Итак, к началу сентября все сухопутные коммуникации, связывавшие Ленинград с Большой землей, были полностью перерезаны и почти три миллиона его жителей оказались в ловушке. Оставшиеся коммуникации были более чем ненадежными. Поскольку немцы полностью контролировали воздушное пространство в районе Ленинграда, всякому советскому самолету угрожала здесь серьезная опасность быть сбитым, даже ночью. Единственный путь, по которому Ленинград мог теперь сноситься с Большой землей, проходил через Ладожское озеро, не имевшее удобных пристаней.
Как же могло случиться, что в Ленинграде осталось так много народа, хотя страшная угроза захвата его немцами нависла над ним еще с середины июля? И как можно было надеяться прокормить это огромное число людей в случае окружения города?
Трагическое положение создалось в результате целого ряда специфических просчетов. Во-первых, командование не проявило дальновидности. Заботясь прежде всего о том, чтобы замедлить продвижение немцев, оно почти вовсе не подумало о снабжении города продовольствием. Во-вторых, в течение тех критических недель, когда казалось, что немцев удалось остановить на Лужской линии, множество людей в Ленинграде принимало желаемое за действительное и просто не представляло себе, чтобы город мог быть оккупирован или блокирован.
Об отсутствии дальновидности свидетельствует и тот факт, что в июне и июле, во время молниеносного продвижения немцев через Прибалтийские республики и вторжения их в Ленинградскую область, из районов, в которые они вот-вот могли вступить, были вывезены по железной дороге многие тысячи тонн зерна, но не в Ленинград, а на восток. В то же время эвакуацию из Ленинграда промышленных предприятий продолжали задерживать.
Медленные темпы эвакуации в июле и августе объяснялись именно этой склонностью принимать желаемое за действительное: люди не верили, что немцы смогут где-либо подойти близко к городу. Правда, в июне и начале июля, чтобы не подвергать детей опасности воздушных налетов, их начали эвакуировать, но, как ни странно, в такие места, как Гатчина и Луга, которые находились прямо на пути продвижения немцев к Ленинграду. Вскоре после этого эвакуированных детей пришлось спешно везти обратно в Ленинград, и некоторые из них - но не все - были затем эвакуированы на восток, где они и прожили в полной безопасности до конца войны.
В целом эвакуация Ленинграда в июле и августе проходила, несомненно, крайне медленно. На восток выехало только 40 тыс. человек - в основном рабочие намеченных к эвакуации заводов и их семьи; кроме того, уехало около 15 тыс. беженцев из Прибалтийских республик, из Пскова и других мест.
«Нужны были крутые административные меры, чтобы люди покинули город… Однако к таким мерам прибегали весьма осторожно. В результате в блокированном городе оказалось 2 544 тысячи гражданского населения, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах (в кольце блокады) осталось 343 тысячи человек»[99]; всего, таким образом, попало в блокаду около 3 млн. людей.
К этим «ртам, которые нужно было накормить», добавлялись, конечно, и войска Ленинградского фронта, а также Балтийский флот. Массовая эвакуация гражданского населения началась только в январе 1942 г. по ледовой дороге через Ладожское озеро. Но к этому времени сотни тысяч мирных жителей уже погибли от голода.
Невозможно полностью понять весь масштаб ленинградской катастрофы, не имея некоторого представления о запасах продовольствия в городе в начале блокады, о мерах по нормированию выдачи продуктов и о тех скудных их количествах, которые, несмотря на ужасающие трудности, доставлялись в Ленинград извне.
6 сентября, за два дня до того, как кольцо сухопутной блокады полностью сомкнулось, председатель Ленинградского исполкома Попков в телеграмме в Государственный Комитет Обороны в Москву сообщал, что в городе осталось очень мало продовольствия, и настоятельно просил немедленно направить в Ленинград по железной дороге возможно большее его количество.
Однако железные дороги, а через два дня и все другие сухопутные коммуникации уже были перерезаны. 12 сентября было подсчитано, что в Ленинграде имелось для снабжения войск и гражданского населения лишь следующее количество продовольствия (исходя из норм его выдачи, введенных 18 июля в Москве, Ленинграде и других городах):
Зерно и мука - на 35 суток
Крупа и макароны - на 30
Мясо (включая живой скот) - на
Жиры - на 45
Сахар и кондитерские изделия - на 60
Армия и Балтийский флот располагали дополнительно некоторым количеством «неприкосновенных запасов» продовольствия, но и они были весьма незначительны.
Вряд ли можно было надеяться на пополнение этих скудных запасов каким-нибудь другим путем, кроме прорыва блокады и восстановления железнодорожного сообщения с Большой землей. Ладожская флотилия была оснащена очень плохо, а те немногие суда, которыми она располагала, постоянно бомбила немецкая авиация. Кроме того, запасам продовольствия в Ленинграде грозило дальнейшее уничтожение в результате воздушных налетов. Значительное количество зерна, муки и сахара погибло уже до этого, в частности 8 сентября, в основном потому, что не были приняты даже самые элементарные меры противовоздушной обороны. Все еще отсутствовал централизованный контроль над продовольственными запасами, которыми располагали многочисленные организации; так, например, в течение нескольких дней после того, как кольцо блокады сомкнулось, еще можно было питаться в «коммерческих» ресторанах, на которые не распространялось общее нормирование; они расходовали до 12% всех жиров и до 10% всего мяса, которые потреблял город. Еще некоторое время после 8 сентября в магазинах можно было купить без карточек некоторые виды консервов, например крабы.
Первым признаком того, что власти были встревожены продовольственным положением в Ленинграде, было принятое 2 сентября решение о снижении ежедневных норм выдачи хлеба - рабочим до 600 г, служащим до 400 г, детям и иждивенцам до 300 г. 12 сентября произошло новое снижение норм: теперь рабочие стали получать 500 г хлеба в день, служащие и дети - 300 г, иждивенцы - 250г.
Сокращены были также нормы выдачи мяса и крупы, а нормы выдачи сахара, кондитерских изделий и жиров были в качестве компенсации за это увеличены до следующих размеров (в месяц):
Сахар и Жиры кондитерские изделия Рабочим 2 кг 950 г Служащим 1 кг 700 г 500 г Иждивенцам 1 кг 500 г 300 г Детям (до 12 лет) 1 кг 700 г 500 гВ обычных условиях эти нормы выдачи отнюдь нельзя назвать обильными, но они были совершенно несоразмерны с теми жалкими продовольственными запасами, которые имелись в Ленинграде. Те, кто отвечал за оборону города, все еще держались сверхоптимистического мнения, что блокада в скором времени будет как-то прорвана.
Этого не случилось, и для экономии «настоящей» муки власти были вскоре вынуждены заняться лихорадочными поисками ее заменителей, чтобы добавлять их как примеси при выпечке хлеба. Когда в сентябре немцы потопили на Ладожском озере несколько барж с зерном, значительная часть его была поднята водолазами; и, хотя в обычных условиях оно считалось бы непригодным в пищу людям, это отсыревшее зерно использовалось как добавка. С 20 октября хлеб имел следующий состав: 63% ржаной муки, 4% льняного жмыха, 4% отрубей, 8% овсяной муки, 4% соевой муки, 12% солодовой муки, 5% заплесневелой муки. Через несколько дней, когда запасы солодовой муки стали иссякать, начали применять другие заменители, такие, как соответствующим образом обработанная целлюлоза и хлопковый жмых. «В то критическое время суррогаты хлеба дали возможность более 25 дней снабжать население и войска». Правда, целлюлоза и заплесневелая мука придавали хлебу затхлый, горьковатый вкус, но в те дни о вкусе люди не думали.
Нет нужды говорить, что овес, предназначавшийся лошадям, тоже пошел в пищу людям, а лошадей - по крайней мере то незначительное число их, какое необходимо было сохранить для армии, - кормили древесными листьями и прочим. Были изобретены и другие заменители настоящей пищи. В Ленинградском порту было обнаружено 2 тыс. тонн бараньих кишок; из них стали варить отвратительный студень, запах которого пришлось нейтрализовать, приправляя его гвоздикой и другими пряностями. В самый разгар голода этот студень из бараньих кишок часто выдавали по карточкам вместо мяса.
Население Ленинграда могло получать продовольствие только по карточкам, в то время как в других городах Советского Союза во время войны люди могли купить что-нибудь дополнительно на колхозном рынке.
Встречались, конечно, и негодяи. В сентябре и в первой половине октября нередко имели место случаи мошенничества; многие ухитрялись иметь по две или больше карточек; зачастую это были карточки умерших или покинувших город. Ходило также много фальшивых карточек, и, поскольку магазины почти не освещались, продавцы не всегда могли отличить настоящие карточки от поддельных. Особенно чудовищными были случаи кражи продовольственных карточек. Утеря карточки нередко означала смертный приговор. Подозревали также, что какое-то число фальшивых продовольственных карточек было сброшено на Ленинград немецкими самолетами, чтобы усугубить смятение. В середине октября был издан приказ о «перерегистрации» всех владельцев продовольственных карточек; результаты ее показали, что до 70 тыс. карточек отоваривались незаконно: люди использовали карточки отсутствующих, умерших или находившихся в армии.
Если в сентябре и октябре большая часть продуктов, полагавшихся по карточкам, была действительно выдана населению, то в ноябре это оказалось невозможным. Нехватка круп, мяса и жиров стала особенно острой, и населению пришлось получать заменители этих продуктов. Некоторые заменители, например 200 г яичного порошка вместо 900 г мяса, никак нельзя было назвать «эквивалентами». Мясо, как мы уже говорили, заменялось ужасным студнем из бараньих кишок или из отвратительно пахнущих телячьих кож, партия которых была обнаружена на каком-то складе. В ноябре и в особенности в декабре практически уже не оставалось больше ни жиров, ни каких-либо их заменителей.
В ноябре и декабре весь Ленинград жил на голодной норме; умирали от голода даже многие из тех, кто снабжался по повышенным нормам (рабочие и инженерно-технический персонал), а они составляли 34,4% всего населения; по более низким нормам снабжались служащие (17,5%), иждивенцы (29,5%) и дети (18,5%). Эту систему советские авторы потом сурово критиковали, особенно в том, что касалось детей: одиннадцатилетний ребенок, конечно, нуждался в большем количестве пищи, чем трехлетний; и особенно несправедливо было выдавать детям, как только они достигали двенадцати лет, карточки уменьшенного рациона, какие получали иждивенцы.
Как мы уже видели, первое снижение продовольственных норм было проведено 2 сентября, второе - 10 сентября, третье - 1 октября, четвертое - 13 ноября, пятое, самое большое за все время, - 20 ноября. Уже после четвертого снижения люди начали умирать от голода. Помимо нехватки продовольствия, в Ленинграде также катастрофически не хватало топлива. К концу сентября все запасы нефти и угля фактически кончились. Оставалось только рубить лес, какой еще сохранился на блокированной территории. 8 октября Ленгорисполком и облисполком вынесли решение начать заготовку дров в Парголовском и Всеволожском районах, к северу от города. Отряды состояли из неопытных женщин и подростков. В назначенные пункты они прибыли без инструментов, без спецодежды, общежитии там не имелось, не было транспорта. Лесозаготовки оказались под угрозой срыва.
К 24 октября план заготовки дров был выполнен… на 1%. Из одного района на работу вышло «всего 216 человек вместо 800», как было первоначально намечено. В этих условиях «во Всеволожский и Парголовский районы срочно отправилось 2 тыс. комсомольцев, преимущественно девушек… без теплой спецодежды и обуви, часто в туфельках и легких пальто; ленинградские комсомолки… перенося холод и голод»… совершали тем не менее чудеса. Так, «комсомолки Смольнинского района… при 40-градусном морозе… проложили узкоколейную линию из чащи леса до железнодорожной станции. Комсомолки строили для себя бараки, оборудовали печи»[100] и, таким образом, доставили в Ленинград значительное количество дров.
Заготовка дров немного облегчила положение с топливом в Ленинграде, но отнюдь не разрешила проблему. К концу октября количество электроэнергии, которую получал город, составляло лишь незначительную часть того, что он получал раньше. Пользоваться электрическим освещением было запрещено всюду, кроме зданий Главного штаба, Смольного, помещений районных комитетов партии, станций противовоздушной обороны и некоторых других учреждений. Жилые дома, а также большинство учреждений были вынуждены обходиться долгие зимние ночи без электричества. Центральное отопление в квартирах, учреждениях и домах не действовало, а на промышленных предприятиях вместо него были установлены дровяные печи - времянки. Из-за отсутствия электроэнергии большинство заводов пришлось остановить или использовать для приведения машин в действие самые примитивные средства, вроде велосипедных передач. В октябре число трамваев значительно сократилось, а в ноябре они перестали ходить вообще. Отсутствие еды, света, отопления и, кроме всего этого, налеты немецкой авиации и непрерывные артиллерийские обстрелы - такова была жизнь в Ленинграде зимой 1941/42 г.
(обратно)Глава III. «Ладожская дорога жизни»
Когда к началу сентября немцы охватили Ленинград плотным кольцом, то для доставки в город продовольствия пришлось прибегнуть к самым рискованным средствам. Уже нельзя было надеяться, что сухопутная блокада будет прорвана в ближайшее время. Поэтому 9 сентября Военный совет Ленинграда решил построить порт в маленькой бухте Осиновец на западном берегу Ладожского озера, около конечной станции пригородной железной дороги, километрах в пятидесяти к северо-востоку от Ленинграда. Предполагали, что через этот порт можно будет вывезти из Ленинграда кое-какое капитальное оборудование и доставлять в город продовольствие и другие предметы снабжения. По замыслу к концу сентября новый порт должен был пропускать по двенадцать судов ежесуточно; Ладожская военная флотилия с приданными ей несколькими зенитными орудиями должна была обеспечить его оборону.
Излишне говорить, что, поскольку немцы стояли всего в каких-нибудь 40 км к югу от Осиновца, их авиация держала под постоянным наблюдением не только новый порт, но и примитивную грузовую пристань Новая Ладога на южной стороне озера, через которую доставлялось снабжение, а также каждое грузовое судно, ходившее по озеру между этими двумя пунктами. Большое количество буксиров и барж было потоплено в первые недели после открытия «Ладожской дороги жизни», в том числе несколько барж с женщинами и детьми, которых хотели эвакуировать из Ленинграда.
За первый месяц работы импровизированного нового порта Осиновец в город было доставлено с другой стороны Ладожского озера только 9800 т продовольствия. Это составляло восьмидневную норму снабжения Ленинграда, а остальные двадцать два дня городу пришлось жить на своих запасах. Положение стало особенно катастрофичным к ноябрю, так как полузамерзшее озеро стало непригодным ни для судоходства, ни для дорожного транспорта. Были предприняты чрезвычайные меры, и за период с 14 по 20 октября в Осиновец доставили из Новой Ладоги 5 тыс. т продовольствия; однако и этого было еще очень недостаточно. Между 20 октября и началом ноября к Ладожскому озеру спешно подвезли из глубинных районов страны 12 тыс. т муки и 1 тыс. т мяса; несмотря на постоянные налеты немецкой авиации и осенние штормы, свирепствовавшие теперь на озере, большая часть этих продуктов была благополучно переправлена в Ленинград. Кроме продовольствия в город было доставлено и значительное количество боеприпасов.
Но к 15 ноября навигация на Ладоге прекратилась. Подводя итоги этого периода действия «Ладожской дороги жизни», Д.В. Павлов пишет, что с 12 сентября по конец навигации было доставлено «зерна, муки и крупы 24 097 тонн, мясных и молочных продуктов 1131 тонна, кроме того, перевезено значительное количество боеприпасов, горючего… Доставленные 25 228 тонн продовольствия в сравнении с потребностями составляли небольшую величину, однако эти тонны дали дополнительную возможность ленинградцам выиграть 20 дней, а в условиях осады крепости даже один день много значит»[101].
К 16 ноября Ленинград вступил в новую фазу своего тяжелого испытания. Теперь город мог снабжаться только по воздуху. Хотя битва под Москвой была в самом разгаре, Государственный Комитет Обороны передал Ленинграду несколько транспортных самолетов и истребителей для переброски сюда продовольствия из Новой Ладоги. Когда немцы начали бомбить Ново ладожский аэродром, две трети продовольственных грузов пришлось перебрасывать в Ленинград с аэродромов, находившихся в более отдаленных районах страны. К тому же летавшие над озером транспортные самолеты подвергались непрерывным атакам немецкой авиации, и несколько самолетов было сбито. Из-за того, что грузоподъемность самолетов была очень ограниченной, этим тяжелым и дорогостоящим способом можно было доставлять в Ленинград только прессованное мясо и другие концентраты. Конечно, «воздушный мост» с такой малой пропускной способностью не мог разрешить проблему питания почти трех миллионов человек.
Ко всему этому прибавилось дальнейшее ухудшение военной обстановки. В начале ноября немцы попытались захватить весь южный берег Ладожского озера, включая железнодорожный узел Волхов. Войскам генерала Федюнинского едва удалось остановить немцев на подступах к Волхову, однако восточнее немцы сумели перерезать железнодорожную магистраль Ленинград-Вологда, и 9 ноября они захватили Тихвин. Потеря Тихвина представляла для Ленинграда непосредственную угрозу. Небольшие партии продовольствия все еще можно было с огромным трудом доставлять по воздуху, доставка более крупных партий по Ладожскому озеру - даже тогда, когда оно покрылось толстым слоем льда, - стала почти невозможной. Продовольственные базы в Волхове и Новой Ладоге вышли из строя после того, как немцы перерезали железную дорогу к востоку от этих пунктов. Теперь основным выгрузочным пунктом стала маленькая станция Заборье, расположенная в глухом лесном краю в 160 км к востоку от Волхова и в 100 км восточнее Тихвина. Только безвыходность положения могла заставить Военный совет Ленинграда отдать приказ о строительстве по старым лесным тропинкам и через непроходимый лес «автострады» длиной более 300 км, делавшей широкую петлю между Заборьем и Новой Ладогой. В начале зимы на строительство этой «автострады» были мобилизованы солдаты и крестьяне, и 6 декабря оно было фактически закончено. Район был почти безлюдным, и, как пишет Павлов, на значительном протяжении дорога была настолько узка, что встречные машины не могли разъехаться, к тому же глубокий снег, крутые подъемы и спуски по незнакомой для водителей дороге приводили к частым авариям и остановкам.
К счастью, вскоре военное положение резко изменилось к лучшему. Выбив немцев из Тихвина и отбросив их за реку Волхов в период 9-15 декабря, войска Волховского фронта буквально спасли Ленинград. В день захвата немцами Тихвина немецкое радио, надрываясь, вопило о скорой капитуляции Ленинграда, но теперь оно очень мало сказало о потере немцами этих «ворот» к Ленинграду. Невозможно представить, как мог бы снабжаться Ленинград, если бы Тихвин остался в руках у немцев. Освобождение Тихвина положило также конец угрозе «соединения» немецких и финских частей. Помимо того, войска Волховского фронта к концу декабря оттеснили немцев на значительное расстояние от Войбокало, расположенного на полпути между Волховом и Мгой (последняя все еще находилась у немцев). К 1 января 1942 г. поезда могли уже ходить от Москвы и Вологды до Войбокало, откуда продовольствие доставлялось в Ленинград на грузовиках через замерзшее теперь Ладожское озеро. Однако организация Дороги жизни по льду Ладожского озера - это долгая и сложная история, и было бы ошибочным считать, что с освобождением 9 декабря Тихвина все трудности со снабжением Ленинграда кончились.
(обратно)Глава IV. Великий голод
В ноябре люди в Ленинграде (в первую очередь пожилые мужчины) начали умирать от последствий голода - дистрофии. В ноябре умерло 11 тыс. человек; сокращение продуктовых норм 20 ноября - пятое по счету с начала блокады - в огромной мере увеличило число умиравших.
На бумаге эти самые низкие за весь период суточные нормы выдачи продуктов выглядели так:
Рабочие Служащие Иждивенцы Дети Хлеб 250,0 г 125,0 г 125,0 г 125,0 г Жиры 20,0 г 8,3 г 6,7 г 17,0 г Мясо 50,0 г 26,7 г 19,3 г 13,3 г Крупа 50,0 г 33,3 г 20,0 г 40,0 г Сахар и кондитерские изделия 50,0 г 33,3 г 26,7 г 40,0 г Итого 420,0 г ок. 227,0 г ок. 192,0 г ок. 232,0 г (1087 кал) (581 кал) (466 кал) (684 кал)На деле даже эти невероятно низкие показатели калорийности, составлявшие - особенно для последних трех категорий - лишь мизерную долю потребностей человеческого организма, не могли быть выдержаны. Полагавшиеся по карточкам мясо и жиры не выдавались вообще или же вместо них продавались совершенно неравноценные заменители (студень из бараньих кишок и т.п.), поэтому калорийное содержание суточного пайка было даже еще более низким, исключая нормы, по которым снабжались дети. В декабре умерло 52 тыс. человек (сколько обычно умирало за год), в январе 1942 г. ежедневно умирало 3,5 - 4 тыс. человек. Всего за декабрь и январь умерло 200 тыс. человек. Хотя к январю нормы были несколько увеличены, последствия голода чувствовались еще на протяжении многих последующих месяцев. В целом, согласно официальным советским данным, приводившимся на Нюрнбергском процессе, в Ленинграде прямым результатом блокады была гибель 632 тыс. человек. Эта цифра, несомненно, занижена. Шостакович, находившийся в Ленинграде во время первых этапов блокады, сказал мне в 1959 г., что от голода здесь умерло 900 тыс. человек. Назывались и более высокие цифры[102].
Помимо голода, люди жестоко страдали также от холода в своих неотапливавшихся квартирах. Они стали жечь мебель и книги, но их хватило ненадолго.
«Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно применить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень. Но далеко не все люди огромного города располагали этими дополнительными источниками питания…
Смерть настигала людей в различном положении: на улице - передвигаясь, человек падал и больше не поднимался; в квартире - ложился спать и засыпал навеки; часто у станка обрывалась жизнь… Транспорт не работал. Мертвых отвозили обычно… на саночках. Двое-трое родных или близких тянули саночки… нередко, выбившись из сил, оставляли покойника на полпути, предоставляя право властям поступать с телом как угодно»[103].
Другой очевидец рассказывает: «Гроб достать почти невозможно… Подходы к кладбищам завалены вдоль дороги трупами без гробов, завернутыми в простыни». Власти хоронили все эти покинутые трупы в братских могилах; их рыли отряды противовоздушной обороны с помощью взрывчатки. У людей не хватало сил выкопать в мерзлой земле обычную могилу… «На заседании Ленгорисполкома 7 января 1942 года отмечалось, что на кладбищах разбросаны трупы, хоронят где и как кому вздумается, никакие санитарные нормы не соблюдаются, незахороненными остаются трупы у моргов и на кладбищах»[104].
Позднее, в апреле, во время генеральной очистки города, абсолютно необходимой для предотвращения эпидемий, которые могли вспыхнуть с приходом весны, в укрытиях, траншеях и под тающим снегом были обнаружены тысячи трупов, лежавших здесь несколько месяцев. Как писал тогда секретарь Ленинградского городского комитета комсомола, «мы боялись за психику детей, девушек и молодежи при обращении с этими трупами, от которых очищали город. Если написать в сводке, то это должно выглядеть так: комсомольские организации привели в порядок траншеи и убежища. На самом деле эта работа не поддается описанию»[105].
Больницы мало чем могли помочь голодающим. И не только потому, что врачи и младший обслуживающий персонал сами были полумертвыми от голода, а потому также, что пациенты нуждались не в лекарствах, а в пище, а ее-то и не было.
В декабре и январе замерзли водопровод и канализация; полопавшиеся во всем городе трубы усугубили угрозу возникновения эпидемии. Воду приходилось носить в ведрах с Невы или брать ее в многочисленных ленинградских каналах. Эта вода была вдобавок ко всему грязной, пить ее было небезопасно, поэтому в феврале почти полутора миллионам человек были сделаны противотифозные прививки.
С середины ноября и до конца декабря из Ленинграда было вывезено, в основном на самолетах, 35 тыс. человек; 6 декабря многим ленинградцам разрешили выбираться из города по льду Ладожского озера. Однако до 22 января такая эвакуация шла неорганизованно: тысячи людей тащились через озеро пешком, и многие из них умерли, не дойдя до его южного берега.
Только с 22 января с помощью целого парка автобусов, курсировавших по новому ледовому пути, эвакуация Ленинграда пошла более быстрым темпом.
О действии голода на людей рассказывают по-разному. В большинстве случаев люди умирали с чувством покорности судьбе, оставшиеся в живых продолжали сохранять надежду: освобождение Тихвина и незначительное повышение продуктовых норм с 25 декабря подбодрили ленинградцев. Тем не менее Карасев говорит о многочисленных случаях «психической травмы», вызванной голодом и холодом, немецкими бомбежками и артиллерийским обстрелом, а также гибелью множества родных и друзей. Точных данных о числе умерших от голода детей нет, однако считают, что смертность среди детей была относительно невысокой, хотя бы потому, что родители часто отдавали им свои собственные жалкие порции.
Отсутствие беспорядков или голодных бунтов в Ленинграде объясняется патриотизмом и железной дисциплиной населения. Встречались, конечно, и спекулянты, но в целом дисциплина была высокой. Моральное состояние населения поддерживалось всяческими способами, даже в ужасающих условиях голода. В театрах всю зиму шли спектакли; роли в них исполняли актеры, едва не терявшие сознания от голода и одетые (как и зрители) во все, что только могло их согреть.
Отмечается также большая работа ленинградских комсомольских организаций по оказанию помощи людям, находившимся в крайне бедственном положении. Комсомол организовал бытовые отряды, объединявшие несколько тысяч юношей и девушек:
«В бытовых отрядах постоянно работало около 1000 комсомольцев. Кроме того, к работе отрядов привлекалось в каждом районе от 500 до 700 человек. Усталые и изнуренные бойцы бытовых отрядов, преимущественно девушки, помогали населению преодолевать [страшные] трудности. Приходя в грязные, холодные квартиры, обмороженными, потрескавшимися от холода и тяжелой работы руками они кололи дрова, растапливали «буржуйки», приносили воду с Невы, обед из столовой, мыли пол, стирали белье, и слабая улыбка истощенного, обессиленного ленинградца выражала признательность и благодарность за их тяжелый, но почетный труд». В большой мере благодаря усилиям комсомольских отрядов с января по май 1942 г. «было открыто 85 новых детских домов, приютивших 30 тыс. детей»[106].
Большинство этих детей были сиротами, так как родители их умерли от голода.
Если гражданское население Ленинграда должно было терпеть все муки голода и гибнуть голодной смертью - поскольку, пока массовая эвакуация была невозможной, никакого другого выхода не было, - то нельзя было допустить, чтобы голодали солдаты: ведь от них в конечном счете зависело все. И, несмотря на это, солдатский рацион тоже пришлось урезать. Красноармейские нормы, введенные 20 сентября 1941 г., составляли 3450 калорий для войск на передовой и 2659 калорий для «тылового состава». Между этими двумя категориями снабжения имелись еще две промежуточные.
В ленинградских условиях было невозможно сохранять эти нормы долгое время. Между серединой ноября 1941 г. и февралем 1942 г, рацион в частях первого эшелона был сокращен до 2593 калорий, а в «тыловых» частях - до 1605 калорий. С 20 ноября - то есть в самый разгар голодной блокады - солдаты на передовой стали получать по 500 г хлеба и около 100 г мяса, а также небольшое количество другой пищи. Такая норма - в разгар зимы - была далеко не достаточной; но поскольку солдаты знали, что происходит в Ленинграде, они чувствовали, что находятся в чрезвычайно привилегированном положении по сравнению с гражданским населением. Когда на фронт приезжал кто-либо из гражданских, солдаты с радостью делились с ним своим скудным пайком. Кроме того, большая часть имевшихся в Ленинграде запасов картофеля была передана для армейских полевых кухонь; получаемый в армии хлеб был также несколько лучшего качества, чем хлеб, выдававшийся гражданскому населению.
Однако солдаты жестоко страдали от недостатка в Ленинграде табака. Изобретались различные примеси, такие, как хмель и высушенные кленовые листья. Прибегали к самым отчаянным средствам, чтобы вдоволь снабжать войска табаком - важным, как было установлено, средством поддержания морального состояния. Отмечено было, что мало кто из солдат соглашался обменивать свой табак даже на шоколад (он входил в число «концентратов», доставлявшихся в Ленинград воздушным путем).
(обратно)Глава V Ледовый путь
Было лишь два радикальных средства борьбы с ужасающим голодом, от которого страдал Ленинград, особенно с конца октября. Одно - это эвакуация возможно большего числа людей, другое - организация надежного пути, по которому можно было бы доставлять в город продовольствие, топливо и сырье. С тех пор как 8 сентября кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось, ленинградские власти не оставляли мысли об организации ледового пути через Ладожское озеро. Ожидали, что озеро замерзнет в ноябре или в первых числах декабря. Все, однако, зависело от того, насколько сильными будут морозы: чтобы проложить по льду автомобильную дорогу, нужен был лед толщиной 20 см. Такой толщины лед мог быстро образоваться только при очень сильных морозах - не менее –15°.
К 17 ноября толщина льда составляла всего 10 см, но к 20 ноября, когда в Ленинграде были введены самые низкие за всю блокаду продуктовые нормы, слой льда достиг уже 18 см. По льду пустили сани, запряженные лошадьми, но лошади были так истощены от недоедания, что многие валились на лед и околевали. Возчики получили указания разрубать павших лошадей и сдавать в Ленинград на мясо. И наконец 22 ноября по льду рискнули пустить первые автомобили. Сначала двухтонные грузовики могли брать лишь небольшое количество груза, и все равно несколько машин провалилось. На следующий день к грузовикам стали привязывать сани и на них раскладывать основную часть груза, чтобы давление на лед распределялось более равномерно. Между 23 ноября и 1 декабря по льду всякими способами удалось перевезти всего 800 т муки, но при этом потери составили около сорока грузовиков; некоторые из них проваливались под лед, часто вместе с водителями. Эта первая попытка использовать Дорогу жизни дала незначительные результаты. Следует учесть, что в то время Тихвин находился у немцев и что большая часть доставленного за эту неделю продовольствия была взята из скудных запасов, накопленных на южном берегу озера еще до 9 ноября, то есть до падения Тихвина. Новые партии продуктов - если вообще можно было на них надеяться - должны были теперь подвозиться к Ладожскому озеру по невероятно длинной, наспех построенной дороге из Заборья. Чтобы сохранить хотя бы голодные нормы, установленные в Ленинграде с 20 ноября, необходимо было ежедневно доставлять в город по меньшей мере тысячу тонн продовольствия, не считая боеприпасов и бензина, которые для войск Ленинградского фронта были абсолютно необходимы. Даже в самых оптимальных условиях нельзя было рассчитывать, что по дороге из Заборья удастся перевозить больше 600 т грузов в день. Таким образом, освобождение 9 декабря Тихвина поистине означало спасение Ленинграда[107].
Однако возвращение Тихвина отнюдь не разрешило всех проблем. Хотя Тихвин, находящийся на железнодорожной магистрали Вологда - Ленинград, стал теперь основной продовольственной базой Ленинграда и превратился сразу после своего освобождения, как пишет Д.В. Павлов, в «гигантский муравейник», задача переброски продовольствия и других предметов снабжения из Тихвина в Ленинград была по-прежнему чрезвычайно трудной. Поскольку немцы, отступая, взорвали все железнодорожные мосты между Тихвином и Волховом, то пока не удавалось ничего другого, как перевозить грузы на машинах из Тихвина в ряд пунктов на озере - таких, как Кабона и Леднево, на расстояние свыше 150 км и по очень плохим зимним дорогам. Железнодорожные мосты между Тихвином и Волховом были восстановлены лишь к 1 января; к этому времени немцы были отброшены далеко от Волхова и Войбокало (примерно на их прежний мгинский выступ, захваченный ими в сентябре). Теперь на магистрали Ленинград - Вологда главной «продовольственной базой стала станция Войбокало, к югу от Шлиссельбургской губы. От Осиновца, на ленинградской стороне озера, эту станцию отделяло каких-нибудь 50 км. Но, что еще важнее, в течение следующих недель в невероятно тяжелых зимних условиях была построена железнодорожная ветка от Войбокало до Кабоны протяженностью около 30 км; теперь поезда могли подходить прямо к озеру, где продовольствие грузилось на машины.
Несмотря на то что в конце декабря положение с доставкой продовольствия в Ленинград продолжало оставаться более чем ненадежным, Военный совет решил с 25 декабря немного увеличить нормы выдачи хлеба. Хотя этой меры было недостаточно для того, чтобы снизить смертность, однако она оказала серьезное влияние на моральное состояние населения.
Всего за период с 8 сентября - начала блокады - по 1 января Ленинград получил около 45 тыс. т продовольствия, которое было доставлено в город следующими путями:
Доставлено продовольствия (в тоннах)
Водой По воздуху По ледовому пути Всего Зерно и мука 23041 743 12 343 36 127 Крупа 1056 - 1482 2538 Мясо и мясные продукты 730 1829 1100 3659 Жиры и сыр 276 1729 138 2143 Сгущенное молоко 125 200 158 483 Яичный порошок, шоколад и пр. - 681 44 725 Итого: 25 228 5182 15 265 45 675Учитывая, что в Ленинграде все еще оставалось около двух с половиной миллионов человек, это, конечно, было чрезвычайно мало. Печальнее всего было то, что так мало продуктов удалось доставить к 1 января по льду. Правда, следует отметить, что кроме продовольствия в Ленинград за этот период было завезено также некоторое количество боеприпасов и бензина.
В целом нельзя сказать, что ледовый путь в декабре и в январе работал удовлетворительно; в начале января Жданов выразил крайнее недовольство создавшимся положением. Дело осложнялось еще изношенностью небольшой железной дороги (старой пригородной ветки, построенной задолго до революции) между Осиновцем и Ленинградом. На этой дороге не было даже водонапорных башен, и воду на паровозы нужно было подавать вручную; кроме того, приходилось рубить тут же на месте деревья, чтобы снабжать паровозы сырым и очень плохим топливом. Дорога, по которой всегда проходило не больше одного поезда в день, должна была теперь ежедневно пропускать по 6-7 больших товарных составов. Полумертвые от голода железнодорожники работали в чудовищно трудных условиях.
В СССР также крайне не хватало упаковочных материалов, в результате чего значительная часть доставлявшихся в Ленинград продуктов гибла. Фактически ледовый путь через Ладожское озеро начал работать как часы только в конце января или даже с 10 февраля 1942 г. (когда было закончено строительство железнодорожной ветки Войбокало - Кабона), после его серьезной реорганизации. К этому времени по льду было проложено несколько широких автомобильных дорог, и теперь сотни грузовиков могли доставлять в Ленинград продовольствие и вывозить из города тысячи его жителей, многие из которых были на грани голодной смерти. Немцы делали все возможное, чтобы помешать как строительству железнодорожного пути к Кабону, так и движению на самих ледовых дорогах. Они подвергали эти дороги бомбежкам с воздуха и артиллерийским обстрелам, однако советские истребители прикрывали их, насколько было возможно. Вдоль дорог были расставлены регулировщики движения, в обязанности которых входило также сооружение небольших мостков через полыньи и трещины от немецких бомб и снарядов на льду озера.
К 24 января 1942 г. продовольственное снабжение Ленинграда значительно улучшилось, что позволило вторично повысить хлебные нормы: рабочие стали теперь получать по 400 г хлеба в день, служащие - по 300 г, иждивенцы и дети - по 200 г, солдаты на передовой - по 600 г. 11 февраля нормы были увеличены в третий раз.
22 января Государственный Комитет Обороны принял решение эвакуировать из Ленинграда 500 тыс. человек, в первую очередь женщин, детей, стариков и больных. В январе было эвакуировано 11 тыс. человек, в феврале - 117 тыс., в марте - 221 тыс., в апреле - 163 тыс.; всего, следовательно, 512 тыс. человек. В мае, после того как судоходство на Ладожском озере возобновилось, эвакуация была продолжена, и с мая по ноябрь 1942 г. из города было вывезено еще 449 тыс. человек. В общей сложности в 1942 г. из Ленинграда был эвакуирован почти миллион человек. Возобновилась и эвакуация промышленных предприятий, резко приостановленная в сентябре 1941 г. С января по апрель несколько тысяч станков и другое оборудование были переправлены по льду на восток. И, что еще важнее, за период с апреля по июнь 1942 г. по дну Ладожского озера был проложен бензопровод для снабжения Ленинграда горючим. Немцы сбрасывали в озеро глубинные бомбы, пытаясь уничтожить этот бензопровод, но их попытки не увенчались успехом. Аналогичным образом, когда в мае 1942 г. была восстановлена Волховская гидроэлектростанция, по дну Ладожского озера был проложен электрический кабель для снабжения Ленинграда электроэнергией.
«Ладожская дорога жизни» - зимой по льду, летом по воде - продолжала успешно функционировать вплоть до января 1943 г., когда сухопутная блокада была прорвана и по узкому «Шлиссельбургскому коридору» начали вскоре ходить поезда.
Теперь, когда численность населения города так сильно сократилась - сначала в результате голода, а затем вследствие эвакуации, - задача прокормить Ленинград перестала быть неразрешимой. И действительно, после марта 1942 г., чтобы как-то возместить ленинградцам то, что пришлось им выстрадать, нормы выдачи продуктов в Ленинграде были установлены выше, чем в остальных городах страны; были организованы также специальные столовые усиленного питания, особенно для рабочих, здоровье которых было в плохом состоянии. Тем не менее зимняя голодовка сказалась на очень многих людях. В летние месяцы 1942 г. значительная часть рабочих не могла работать из-за тяжелых заболеваний. Так, на одном из заводов оборонной промышленности, как рассказывает Карасев, в мае по болезни не могло работать 35% рабочих, в июне - 31% . 23 мая 1942 г. поэтесса Вера Инбер, муж которой работал в одной из ленинградских больниц, писала в своем дневнике:
«Наши больничные владения тоже очищены, приведены в порядок. Они стали неузнаваемы. Говорят, даже лучше, чем до войны. Застарелые свалки на пустырях уступили место огородным грядкам.
В одноэтажном здании студенческой столовой теперь открыта «столовая усиленного питания». В каждом районе их несколько.
Бледные, истощенные, слабые люди (дистрофия II степени) медленно бредут сюда… как бы сами дивясь тому, что остались жить. Порой они садятся отдохнуть, подставив под солнечные лучи обнаженную до колена ногу… солнце лечит цинготные язвочки.
Но среди ленинградцев есть и такие, которые уже не ходят, не в состоянии двигаться (дистрофия III степени). Они неподвижно лежат в своих промерзших за зиму квартирах, куда не в силах пробиться весна.
В такие квартиры идут молодые врачи, студенты медвузов, медсестры. Тяжело истощенных вывозят в больницы: теперь у нас для них около 2000 коек в различных корпусах, между прочим, и в бывшем акушерском отделении: детей рождается так мало, их почти вовсе нет»[108].
Процент смертности продолжал оставаться очень высоким, по крайней мере до апреля; и хотя к июню люди перестали умирать от голода или его последствий, пережитое ими напряжение, постоянные бомбежки и артиллерийский обстрел города давали о себе знать. Карасев говорит, что широко распространилась «психическая травматизация», характеризовавшаяся, в частности, высоким кровяным давлением; такие случаи встречались теперь в 4-5 раз чаще, чем до войны.
Карасев отмечает, что численность населения Ленинграда упала примерно до 1 100 тыс. человек в апреле и до 550 тыс. человек в ноябре 1942 г., условия жизни города стали относительно более нормальными. Начали работать 148 школ (из общего числа около 500) с 65 тыс. учащихся, которые обеспечивались трехразовым питанием.
Хотя в 1942 г. фронт у Ленинграда как будто стабилизовался, городу не переставала угрожать опасность нового решительного наступления немцев с целью овладеть им. Было за это время и несколько тревог, не вполне обоснованных. С другой стороны, попытки Красной Армии прорвать сухопутную блокаду окончились неудачей.
Сообщения о стремительном продвижении немцев на кавказском и сталинградском направлениях, поступавшие на протяжении всего «черного лета» 1942 г., производили на людей гнетущее впечатление. Падение Севастополя, у которого было так много общего с Ленинградом, казалось особенно зловещим предзнаменованием, и люди думали, что если Сталинград падет, то судьба Ленинграда также будет предрешена.
Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом не только вызвало в Ленинграде - как и во всей стране - огромный оптимизм, но и в большой степени повысило шансы на прорыв немецкой блокады. И она действительно была прорвана в январе 1943 г. в результате тяжелых боев, когда войска Ленинградского фронта под командованием генерала Говорова и войска Волховского фронта под командованием генерала Мерецкова соединились и пробили коридор через немецкий выступ южнее Ладожского озера. Шлиссельбург был отбит, и очень скоро была проложена железнодорожная линия, связавшая Ленинград с Большой землей; был также наведен понтонный мост через Неву, так что теперь из Москвы в Ленинград могли ходить поезда.
Однако забыть о страшных зимних месяцах 1941/42 г. было нельзя, и, когда в 1943 г. я приехал в Ленинград, это все еще было главной темой всех разговоров.
(обратно)Глава VI. Ленинград: личные впечатления
Когда в сентябре 1943 г. я приехал в Ленинград[109], немецкие позиции все еще проходили в трех километрах от Кировского завода, на южной окраине города. Общая численность населения сократилась тогда примерно до 600 тыс. человек, и город - хотя он и был по-прежнему прекрасен, несмотря на значительные разрушения, причиненные снарядами, бомбами и пожарами, - имел необычный для него полузаброшенный вид. Конечно, это был фронтовой город, и большая часть населения ходила в военной форме. Бомбежки фактически уже прекратились, но город подвергался частому, иной раз исключительно жестокому артиллерийскому обстрелу. Эти обстрелы причинили огромный ущерб домам, особенно в южных, новых районах Ленинграда, и многие жители вспоминали страшные случаи, когда снаряды попадали в очередь на трамвайной остановке или в переполненный трамвайный вагон; несколько подобных случаев имело место всего за несколько дней до моего приезда.
И все же странным образом казалось, что жизнь в городе почти вошла в норму. Большая часть города выглядела покинутой, и все же перед вечером, когда не было обстрела, по «безопасной» стороне Невского проспекта (снаряды обычно ложились на одной его стороне) прогуливались большие толпы людей; здесь даже продавались такие «предметы роскоши», каких в то время нельзя было достать и в Москве, например маленькие флакончики духов ленинградского производства. А в Книжной лавке писателя близ Аничкова моста, на Невском, шла оживленная торговля букинистическими книгами. Миллионы книг в Ленинграде в голодную зиму пошли на топливо, но многие владельцы книг скончались, не успев их сжечь, и сейчас - как это грустно! - можно было иногда по дешевке приобрести настоящие сокровища.
Театры и кино были открыты, хотя всякий раз, как начинался артиллерийский обстрел, они сразу же пустели. На Марсовом поле и в Летнем саду - откуда были вынесены и спрятаны в безопасное место все мраморные скульптуры XVIII в., изображавшие греческих богов и богинь, - теперь выращивали овощи, и несколько человек хлопотало около грядок с капустой и картофелем. Капуста была посажена также вокруг Медного всадника, закрытого мешками с песком.
Когда я прибыл в Ленинград (самолетом, сначала до Тихвина, откуда ночью я уже летел на высоте всего нескольких метров над водой Ладожского озера), мне почти сразу начали рассказывать о голоде. Вот, например, что поведала мне Анна Андреевна, пожилая интеллигентная дама, заботившаяся обо мне в гостинице «Астория»:
«Сейчас «Астория» похожа на гостиницу, а поглядели бы вы на нее во время голода! Ее превратили в больницу - настоящий ад. Сюда привозили самых различных людей, большей частью интеллигентов, которые умирали от голода. Им давали витамины, старались хоть немножко поддержать. Но многих доставляли уже в безнадежном состоянии, и они умирали почти сразу, как попадали сюда…
Вы себе не представляете, что здесь было. На улице и на лестницах приходилось перешагивать через трупы. Их уже просто не замечали. Сделать было ничего нельзя. Зачастую происходили страшные вещи. Некоторые теряли от голода рассудок. Или прятались где-нибудь в домах умерших и пользовались их продовольственными карточками. Повсюду умирала такая масса людей, что власти не могли уследить за всеми случаями смерти».
На следующий день в Архитектурном институте, где уже трудились над проектами будущих работ по восстановлению некоторых поврежденных и разрушенных немцами исторических зданий - таких, как Пушкинские и Петергофские дворцы, - мне рассказали:
«Мы продолжали работать над этими проектами всю зиму 1941/42 г. … Это было для нас, архитекторов, счастьем. Лучшим лекарством, которое могли бы нам дать в голодное время. Какой это огромный моральный стимул для голодающего человека - знать, что у тебя есть полезное дело… Несомненно, рабочие переносят тяготы лучше, чем интеллигенты. Очень многие из них переставали бриться - первый признак того, что человек начал сдавать… Большинство этих людей, когда им давали работу, брали себя в руки. Но в общем мужчины сваливались скорее, чем женщины, и вначале процент смертности был особенно высок именно среди мужчин. Однако те, кто перенес самый ужасный период голода, в конце концов выжили. На женщинах последствия голода сказались сильнее, чем на мужчинах. Многие умерли весной, когда самое худшее было уже позади. В результате голода в организме человека происходили своеобразные явления. Женщины были настолько истощены, что у них прекращались менструации. Умирала такая масса народа, что хоронить приходилось без гробов. У людей притупились все эмоции, и на похоронах почти никто не плакал… Все происходило в полном молчании, без всякого проявления чувств. О том, что дела пошли лучше, можно было судить по женщинам, начавшим подкрашивать свои бледные, изможденные лица и употреблять губную помаду. Да, мы действительно прошли сквозь ад, но вам надо было быть здесь в тот день, когда блокада была прорвана: люди на улице плакали от радости, незнакомые бросались друг другу на шею».
Из этого посещения Ленинграда я вынес бесчисленное множество впечатлений о человеческих страданиях и человеческой способности к долготерпению. К этому времени фронт вокруг Ленинграда стабилизировался, и Ленинград, хотя и находился еще в окружении, с верой следил за отступлением немцев на большей части советско-германского фронта, ожидая, когда придет его собственная очередь и он будет наконец освобожден. И, хотя никакого голода уже не было, большая часть населения все еще переживала жесточайшие трудности; в особенно тяжелых условиях жили, пожалуй, рабочие и работницы Кировского завода, который находился почти на линии фронта. Здесь и еще на одном крупном заводе мне не только показали, как люди жили в это время, но и рассказали, какой была жизнь людей во время голода. Опишу сначала мое посещение большого завода, выпускавшего оптические приборы.
Почти все небольшие деревянные строения были здесь разобраны в прошлые две зимы на дрова. Завод размещался в большом корпусе, наружные кирпичные стены которого были испещрены следами от осколков снарядов. Директор завода Семенов, человек с суровым, энергичным лицом, одетый в скромный китель защитного цвета, с медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Ленина на груди, по внешнему виду и манере говорить был типичным советским администратором. В кабинете у него были собраны образцы продукции, выпускавшейся теперь заводом, - штыки, детонаторы и большие оптические линзы.
Семенов сообщил мне, что его завод - крупнейшее в Советском Союзе предприятие по производству оптических приборов… «Но в первые дни войны, - сказал он, - основная часть нашего оборудования была эвакуирована на восток, поскольку завод считается одним из главных оборонных предприятий, и рисковать им было нельзя. В начале 1942 г. мы провели вторую эвакуацию, и квалифицированные рабочие, которые не уехали в прошлый раз, то есть кто еще оставался в живых, были вывезены теперь.
Уже в первые недели войны, когда большая часть нашего оборудования и квалифицированных рабочих была эвакуирована, мы начали работать здесь на совершенно новой основе, то есть исключительно на нужды Ленинградского фронта, и нам пришлось делать то, что позволяло оставшееся оборудование, а его было немного. Наши рабочие не имели опыта такой работы. Но и в этих условиях мы начали производить то, в чем больше всего нуждались солдаты. Ленинград имеет богатые промышленные традиции, большую промышленную культуру, и наши ручные гранаты и детонаторы для противотанковых мин оказались лучшими из всех, какие производились в стране. Мы выпустили их сотни тысяч… На протяжении всей блокады мы занимались также ремонтом стрелкового оружия, винтовок и пулеметов, а сейчас снова производим оптические приборы, в том числе перископы для подводных лодок. Ведь наш Балтийский флот, как вам известно, не бездействует…» Я попросил Семенова рассказать мне о жизни на заводе во время голодной блокады. Директор помолчал немного… «Откровенно говоря, - начал он, - не люблю я говорить об этом. Воспоминания очень горькие… К началу блокады половина наших людей была эвакуирована или ушла в армию, так что осталось у нас лишь около 5 тыс. человек. Должен признаться, вначале трудно было привыкнуть к бомбежкам, и если кто скажет вам, что не боится их, не верьте! И все же, хотя бомбежки пугали людей, они вместе с тем разжигали в них яростный гнев против немцев. Когда в октябре 1941 г. начались массированные бомбежки города, наши рабочие отстаивали завод, как не отстаивали собственных домов. В одну из ночей только на территорию нашего завода было сброшено 300 зажигательных бомб. Наши люди гасили их с какой-то сосредоточенной злостью и яростью. Они поняли тогда, что находятся на передовой, - и этого было достаточно. Никаких больше убежищ. В убежища отводили только малых детей да старых бабушек. А позже, в декабре, в двадцатиградусный мороз взрывом бомбы у нас выбило все стекла в окнах, и я подумал: «Больше мы действительно не сможем работать. Во всяком случае, до весны. Мы не можем работать при таком холоде, без света, без воды и почти без пищи». И все же каким-то образом мы не прекратили работу. Какой-то инстинкт подсказывал, что мы не должны ее прекращать, что это было бы хуже, чем самоубийство, что это походило бы на измену. И, действительно, не прошло и полутора суток, как мы снова работали, работали прямо-таки в адских условиях: в цехах восемь градусов ниже нуля, а в кабинете, где вы сейчас сидите, четырнадцать градусов мороза. Было у нас какое-то подобие печей - маленькие печки, согревавшие воздух в радиусе одного метра. Но все же наши люди работали. И, учтите, они были голодны, страшно голодны…»
Семенов помолчал минуту, нахмурившись. «Да, - сказал он, - я еще и сегодня никак этого не пойму, никак не пойму, откуда бралась эта сила воли, эта твердость духа. Многие, едва держась на ногах от голода, ежедневно тащились на завод, делая пешком по восемь, десять, двенадцать километров. Трамваев-то ведь не было. Мы прибегали ко всевозможным средствам; чего только мы ни делали, чтобы работа не прекращалась, - когда не было тока, мы пристраивали велосипедный механизм и ногами вращали станок.
Почему-то люди знали, когда они умрут. Помню, один из пожилых рабочих, шатаясь, вошел в мой кабинет и сказал мне: «Товарищ начальник, у меня к вам просьба. Я один из старых рабочих завода, и вы всегда были мне хорошим другом. Я знаю, вы не откажете мне. Больше я никогда вас не побеспокою. Не сегодня завтра я умру, я знаю это. Семья моя в очень тяжелом положении, все очень ослабли, самим им не справиться с похоронами. Будьте другом, закажите для меня гроб и пошлите семье, чтобы не пришлось им вдобавок ко всему хлопотать еще и о гробе, вы же знаете, как трудно его достать!» Это случилось в один из самых черных для нас дней декабря или января. И такие вещи происходили изо дня в день. Многие рабочие заходили в этот кабинет и говорили: «Товарищ директор, сегодня или завтра я умру!» Мы отправляли их в заводскую больницу, но они всегда умирали. Люди ели все, что было возможно и невозможно съесть. Они ели жмыхи и минеральные масла (обычно мы их сперва кипятили), столярный клей. Люди пытались поддержать себя горячей водой и дрожжами. Из 5 тыс. оставшихся рабочих умерло несколько сот. Многие из них скончались прямо здесь… Многие, с трудом дотащившись до завода, шатаясь, входили в ворота, падали и умирали… Повсюду лежали трупы. Но некоторые умирали у себя дома, умирали вместе с семьей, и в таких обстоятельствах нам трудно было узнать что-то определенное… транспорт ведь не работал, а послать кого-нибудь на дом справиться мы часто не могли. Так продолжалось примерно до 15 февраля. После этого нормы увеличили и умирающих стало меньше. Мне больно сейчас рассказывать обо всем этом…»
Ярче всего запечатлелись в моей памяти часы, проведенные в сентябре 1943 г. на огромном Кировском заводе; работа там продолжалась даже под почти непрерывным артиллерийским обстрелом с немецких позиций, расположенных всего в трех километрах отсюда. Мне потому так хорошо запомнилось это посещение, что именно здесь в 1943 г. можно было составить представление о самых мрачных и суровых днях Ленинграда; для кировцев эти дни не отошли в прошлое, они по-прежнему жили здесь, как в аду. И тем не менее они считали, что быть рабочими Кировского завода и продержаться до конца - дело их чести. Здешние рабочие не были солдатами - 69% рабочих состояло из женщин и девушек, большей частью совсем молоденьких. Они знали, что здесь так же тяжело, как на фронте; в известном смысле даже тяжелее - здесь людям не дано было испытать того чувства удовлетворения, какое вызывает возможность своими руками нанести врагу прямой ответный удар. В поведении кировцев многое было от великих революционных традиций Путиловского завода, как назывался раньше Кировский завод.
Накануне в детском доме отдыха на Каменном острове я разговаривал с одной девчуркой, по имени Тамара Туранова.
Это была девочка лет пятнадцати, очень бледная, худенькая и хрупкая, явно истощенная. К ее черному платьицу была прикреплена на зеленой ленточке медаль «За оборону Ленинграда».
«Где ты ее получила?» - спросил я. По ее бледному личику скользнула слабая улыбка: «Я не знаю, как его зовут, - сказала она. - Однажды на завод пришел какой-то дяденька в очках и дал мне эту медаль». - «На какой завод?» - «На Кировский, конечно», - удивилась она. «А твой отец тоже там работает?» - «Нет, - отвечала Тамара, - отец умер в голодный год, он умер 7 января. Я работаю на Кировском заводе с 14 лет, наверное, потому мне и дали эту медаль. Мы ведь находимся недалеко от фронта». - «А тебе не страшно там работать?» На ее личике появилась гримаса. «Да нет, к этому привыкаешь. Когда снаряд свистит, значит, он летит высоко. Вот когда он начинает шипеть, так и знай - жди беды. Конечно, бывают несчастья, и очень часто; иногда каждый день. Вот на прошлой неделе у нас был такой случай: снаряд попал в наш цех, и многих ранило, а две девушки-стахановки сгорели заживо». Девочка рассказывала об этом с ужасающей простотой, как будто если бы не погибли эти две девушки-стахановки, то все было бы не так уж серьезно. «А тебе не хотелось бы перейти на другой завод?» - спросил я. «Нет, - ответила она, покачав головой. - Я кировка, и мой отец был путиловцем, да ведь самое тяжелое теперь позади, так уж лучше оставаться здесь до конца».
Чувствовалось, что она говорит это вполне искренне, хотя можно было очень ясно представить себе, какое невероятное нервное напряжение пришлось пережить этому хрупкому существу. «А твоя мама?» - спросил я. «Она умерла до войны, - сказала девочка. - Но мой старший брат в армии, на Ленинградском фронте, и он часто, очень часто пишет мне письма, а месяца три назад он приходил к нам на Кировский завод с несколькими товарищами». При этом воспоминании личико ее просияло, и, посмотрев из окна дома отдыха на золотые осенние деревья, она заметила: «А знаете, как приятно пожить здесь немного».
На следующий день, проехав по Петергофской дороге через сильно разрушенные южные окраины Ленинграда, где на том берегу маленькой бухты, образуемой Финским заливом возле Урицка, тянулись немецкие позиции, я прибыл на Кировский завод. Здесь меня встретил директор завода Пузырев, сравнительно молодой еще человек с энергичным, но изможденным заботами лицом…
«Вы видите, конечно, - сказал он, - что мы сейчас работаем в необычной обстановке. Это совсем не то, что было Кировским заводом в нормальных условиях… До войны у нас было свыше 30 тысяч рабочих; сейчас же осталась лишь небольшая часть… причем 69% наших рабочих - женщины. До войны у нас почти не было женщин. Тогда мы выпускали турбины, танки, орудия; мы делали тракторы, поставили большую часть необходимого оборудования для строительства канала Москва - Волга. Мы делали много механизмов для военно-морского флота… До того как разразилась эта война, мы начали широкое производство танков, а также двигателей для танков и моторов для самолетов. Практически все основное производство переведено на восток. Сейчас мы ремонтируем дизели и танки, но основная наша продукция - боеприпасы и некоторое количество стрелкового оружия…»
Пузырев вспомнил затем о первых военных днях на Кировском заводе. Это был рассказ о борьбе не на жизнь, а на смерть, типичной для населения и рабочих Ленинграда. Все как один человек встали они против немецких захватчиков, но наивысшей точки их готовность к самопожертвованию достигла, когда 21 августа Ворошилов, Жданов и Попков обратились к ним со словами: «Ленинград в опасности».
«Рабочие Кировского завода, - сказал Пузырев, - имели броню, и почти никто из них не подлежал мобилизации. Тем не менее как только немцы вторглись в нашу страну, все без исключения рабочие выразили желание пойти на фронт добровольцами. Если бы мы хотели, то могли бы послать на фронт 25 тысяч человек, но отпустили мы только девять или десять тысяч. Уже в июне 1941 г. из них была сформирована дивизия, которая позже стала знаменитой Кировской дивизией. Хотя до войны наши рабочие и получили некоторую военную подготовку, их нельзя было считать полностью обученными солдатами, но их боевой порыв и мужество были колоссальны. Они носили красноармейское обмундирование, но фактически были ополченцами, разве только были лучше подготовлены, чем другие бойцы ополчения. В Ленинграде было сформировано несколько таких рабочих дивизий… и многие десятки тысяч рабочих пошли отсюда навстречу врагу, чтобы остановить его любой ценой. Они сражались в Луге, Новгороде и Пушкине и, наконец, в Урицке, где после одного из самых ожесточенных арьергардных боев нашим людям удалось остановить немцев как раз в самый последний момент… Бой, завязанный здесь нашей рабочей дивизией вместе с ленинградцами, которые вышли из города, чтобы задержать врага, был подлинно решающим… Не секрет, что значительная часть воевавших в рабочих дивизиях так и не вернулась обратно…»
Чувствовалось, что в глубине души Пузырев сожалеет о том, что пришлось пожертвовать в боях такими прекрасными промышленными кадрами; однако в 1941 г., когда судьба как Москвы, так и Ленинграда висела на волоске, об этом думать не приходилось, и все же Пузырев был рад тому, что, когда самое худшее осталось позади, многих из тех, кто не погиб, отозвали из армии и направили обратно в промышленность.
Затем он рассказал об эвакуации Кировского завода. До того как немецкое кольцо сомкнулось, успели эвакуировать только один полностью оборудованный цех - 525 станков и 2500 рабочих. Но до весны ничего больше отправить на восток не смогли.
«Однако наших самых высококвалифицированных рабочих, которые так нужны были в Сибири и на Урале, вместе с семьями перебросили туда по воздуху. Их отправляли самолетами в Тихвин, а после того, как Тихвин пал, нам пришлось доставлять людей на другие аэродромы, откуда они шли, нередко многие десятки километров, до ближайшей железнодорожной станции пешком, по глубокому снегу, в самый разгар суровой зимы… Уже в первой половине зимы на Урал прибыло огромное количество оборудования из Харькова, Киева и других мест, а также некоторое оборудование из Москвы, и наши квалифицированные рабочие были крайне нужны, чтобы организовать работу и наладить производство. Так, например, в Челябинске никогда до этого не выпускали танков, и от наших специалистов требовалось начать там массовое производство танков в самый кратчайший срок… Это был наиболее критический для нас переходный период, когда промышленность в наших западных районах уже перестала работать, а в восточных районах еще не начинала… Люди, выехавшие отсюда в октябре, уже к декабрю работали вовсю на новом месте, в двух тысячах километров от дома… А в каких условиях все это было проделано! Поезда с оборудованием подвергались налетам с воздуха, совершались нападения и на транспортные самолеты, вывозившие из Ленинграда квалифицированных ленинградских рабочих и их семьи. К счастью, процент сбитых транспортных самолетов был невелик. Однако лететь приходилось в большинстве случаев ночью, в очень трудных условиях…»
Рассказ Пузырева о жизни Кировского завода в самые тяжелые месяцы голодной блокады имел много общего с рассказом директора завода оптических приборов Семенова.
Завод практически прекратил свою работу 15 декабря. Не было ни топлива, ни электроэнергии, ни воды. В таком ужасном положении он оставался вплоть до 1 апреля, когда рабочие смогли начать сколько-нибудь регулярный выпуск продукции. «Но даже и в самый тяжелый голодный период, - говорил мне Пузырев, - мы делали что только могли… Мы ремонтировали орудия, и наш литейный цех не переставал работать, хотя давал очень незначительную продукцию. Казалось, что мощный Кировский завод превратился в деревенскую кузницу…
Как я уже говорил, не было ни воды, ни электричества. У нас был только маленький насос, качавший воду из залива. Другого водоснабжения у нас не было. В течение всей зимы - с декабря по март - весь Ленинград тушил зажигательные бомбы снегом… За это время произошел только один большой пожар, когда горел Гостиный двор. У нас, на Кировском заводе, не сгорел ни один цех.
Люди настолько ослабли от голода, что нам пришлось создать общежития, чтобы они могли жить здесь. Тем, кто жил дома, мы разрешили приходить на завод только два раза в неделю… В конце ноября пришлось созвать общее собрание, чтобы объявить о сокращении хлебных норм с 400 до 250 граммов для рабочих и до 125 граммов для остальных, в то время как других продуктов почти не было. Люди восприняли это сообщение спокойно, хотя для многих оно было равнозначно смертному приговору…»
Затем Пузырев рассказал, что солдаты на Ленинградском фронте просили уменьшить им пайки, чтобы можно было не сокращать так сильно нормы гражданскому населению Ленинграда. Однако Верховное Главнокомандование решило, что войска получают лишь самый минимум, позволяющий им держаться, а этот минимум состоял из 350 граммов хлеба и очень незначительного количества других продуктов.
«Мы пытались поддержать людей с помощью своего рода супа, приготовленного из дрожжей, куда добавлялось немного сои. Это было, по правде говоря, лишь немногим лучше, чем горячая вода, но создавало у людей иллюзию, что они что-то «съели»… Очень много наших рабочих умерло. Поскольку с транспортом было очень трудно, мы решили устроить кладбище прямо на месте… И все же, хотя люди и умирали с голоду, не было ни одного серьезного происшествия».
К 1943 г. проблема продовольствия уже перестала быть в Ленинграде самой главной. Тем не менее немецкие позиции по-прежнему были расположены всего в 3 км от Кировского завода; он и теперь находился под непрерывным обстрелом.
«Как вы вообще можете работать под сильным обстрелом? - спросил я. - Бывают ли у вас потери? И как ваши люди воспринимают все это?» - «Видимо, - ответил он, - дело, так сказать, в кировском патриотизме. Если не считать одного-двух очень больных рабочих, я еще не встречал человека, который хотел бы от нас уйти…»
Пузырев открыл один из ящиков письменного стола и вытащил пачку писем с почтовыми марками; их было штук сорок-пятьдесят. Это были письма от эвакуированных ленинградских рабочих, они просили разрешить им вернуться в Ленинград - одним или с семьями.
«Они знают, в каких трудных условиях мы здесь живем, - сказал он, - но знают также, что продовольственной проблемы у нас уже больше не возникнет. Однако мы не можем согласиться на их возвращение. Эти квалифицированные рабочие-кировцы делают там важное дело, здесь же у нас не так уж много оборудования, и мы представляем собой своего рода аварийную военную мастерскую. Не так как в Колпино, около 15 км отсюда, где боеприпасы изготовляются в подземных литейных, прямо на линии фронта…»
«Чтобы завод мог продолжать работу, - сказал он далее, - надо было децентрализовать его. Мы разбили производственный процесс на небольшие звенья, в каждом цехе все станки и люди сосредоточены в каком-то одном его углу, который, насколько это возможно, защищен от взрывных волн и осколков. Однако несчастья - или, скорее, некоторый нормальный процент потерь - все же случаются. В этом месяце - а это был сравнительно хороший месяц - мы потеряли 43 человека - тринадцать убитыми, двадцать три ранеными и семь контужеными.
Вы спрашиваете, как люди воспринимают все это? Ну, я не знаю, приходилось ли вам находиться длительное время под артиллерийским обстрелом. Но если кто-нибудь скажет вам, что это не страшно, прошу вас, не верьте. Могу сказать, если человек присутствовал при прямом попадании в цех, он потом сутки или двое находится в подавленном состоянии и производительность труда в цехе в это время резко падает, а бывает даже, что работа почти полностью останавливается, особенно если было убито или ранено много людей. Это ужасное зрелище - вся эта кровь, и даже самые закаленные наши рабочие чувствуют себя совершенно больными один-два дня после этого… Но потом они снова принимаются за дело и стараются наверстать время, упущенное в результате, как у нас говорят, «несчастного случая». Тем не менее я вполне отдаю себе отчет, что работа на нашем заводе - это постоянное моральное напряжение, и когда я вижу, что кто-то из мужчин или девушек доходит до точки, я посылаю их на пару недель или месяц в дом отдыха. …»
Позднее Пузырев показал мне некоторые цехи. День выдался спокойный, немцы почти не стреляли. Огромный завод, как я теперь заметил, был разрушен гораздо больше, чем можно было судить по его внешнему виду с улицы. На большой площадке, окруженной сильно поврежденными зданиями, возвышался огромный блокгауз… Бетонные стены его были в 30 см толщиной, а крыша была сделана из мощных стальных балок. «Этот не боится ничего, кроме прямого попадания крупного снаряда, да и то с близкого расстояния, - произнес Пузырев. - Мы выстроили его в самые тяжелые дни, когда думали, что немцам удастся прорваться к Ленинграду. Они обнаружили бы, что Кировский завод - крепкий орешек. На территории завода много таких вот дотов…»
Потом мы зашли в один из кузнечных цехов. В одном его конце было совсем темно, другая же половина, отделенная от первой толстой кирпичной перегородкой, освещалась пламенем, пылавшим в открытых печах с раскаленными докрасна стенками. В отблесках красного света двигались темные фигуры людей, главным образом девушек. В штопаных бумажных чулках на худых ногах, они сгибались под тяжестью огромных кусков раскаленной докрасна стали, которые они сжимали щипцами. Видно было, какого отчаянного напряжения мускулов и силы воли требовала эта работа. Затем они поднимали тонкие, почти детские руки и бросали раскаленные куски под гигантский стальной молот. Большие огненные искры с шипением прорезали багровую полутьму, и весь цех сотрясался от оглушительного грохота. Мы несколько минут молча наблюдали эту сцену, а затем Пузырев сказал чуть ли не извиняющимся тоном, пытаясь перекричать грохот: «Работа в этом цехе еще не совсем налажена. На днях сюда попало несколько снарядов», - и, показывая на большую яму в полу, заполненную теперь песком и цементом, пояснил: «Один упал вот здесь». - «Убитые были?» - «Были».
Мы прошли через цех, чтобы лучше увидеть, что делают девушки. Когда мы выходили, в красных отблесках пламени я заметил лицо женщины - оно было сурово. Она выглядела немолодой и напоминала зловещую старую цыганку. На строгом лице светились два темных глаза. Что-то трагическое было в этих глазах… Сколько ей было лет? Пятьдесят, сорок, а может быть, только двадцать пять? Я видел лица еще некоторых девушек - они выглядели вполне нормально. Одна из них, совсем девочка, даже улыбалась. Да, они выглядели нормально - разве только в них чувствовалась какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто у всех были какие-то тяжелые воспоминания, от которых они никак не могли отделаться…
Другое незабываемое воспоминание оставило у меня посещение средней школы на Тамбовской улице, в новой части города, расположенной в четырех-пяти километрах от фронта и подвергавшейся усиленному обстрелу. Руководил школой пожилой человек, некто Тихомиров, заслуженный учитель РСФСР, начавший свою педагогическую деятельность еще в 1907 г. учителем начальной школы. Эта школа была одной из немногих, не закрывавшихся даже в самые голодные дни. Она четырежды тяжело пострадала от немецких снарядов, однако школьники убрали стекла, заложили кирпичом разрушенные стены, а окна заделали фанерой. Во время последнего обстрела, в мае, одна учительница была убита прямо на школьном дворе.
Ученики школы были типичными ленинградскими детьми; у восьмидесяти пяти процентов этих ребят отцы все еще сражались на Ленинградском фронте, или были уже убиты там, или, наконец, умерли в голодном Ленинграде, а матери почти у всех - если они еще были живы - работали на ленинградских заводах, на транспорте, на лесозаготовках или в группах гражданской обороны. Все ребята страстно ненавидели немецких фашистов и теперь уже были твердо уверены, что эти «сволочи» не войдут в Ленинград и будут уничтожены в самом недалеком будущем. К Англии и к Америке они относились со смешанными чувствами: они знали, что Лондон подвергался воздушным налетам, что английская авиация «задавала фрицам жару», что американцы снабжали Красную Армию массой грузовиков и что они, ребята, получали в своем пайке американский шоколад; «второго фронта все еще не было».
Директор школы Тихомиров рассказал мне о том, как они «выдержали это время, и выдержали довольно хорошо. У нас не было дров, но Ленсовет отдал нам небольшой деревянный дом неподалеку отсюда, чтобы мы разобрали его на дрова. Бомбежки и обстрелы были в те дни очень жестокими. У нас тогда было около 120 учеников - мальчиков и девочек, - и заниматься нам приходилось в убежище. Мы ни на один день не прерывали занятий. Было очень холодно. Маленькие печурки нагревали воздух как следует только в радиусе полуметра, а в остальной части убежища температура держалась ниже нуля. Единственным нашим освещением была керосиновая лампа. Однако мы продолжали заниматься, и ребята относились к урокам настолько серьезно и ревностно, что результаты этого учебного года оказались лучше, чем в любом другом году. Это удивительно, но это так. Мы обеспечивали ребят едой - армия помогала нам кормить их. Несколько учителей умерло, но я с гордостью могу заявить, что все оставшиеся на нашем попечении дети выжили. Только очень уж тяжело было на них смотреть в те голодные месяцы. К концу 1941 г. они уже почти перестали походить на детей. Они стали странно молчаливыми… Они не ходили по комнате; они просто сидели, но ни один из них не умер; умерли только некоторые из учеников - те, кто прекратил ходить в школу и оставался дома; зачастую они умирали вместе со всей семьей…»
Тихомиров показал мне затем удивительный документ. «Наш блокадный альбом», - сказал он. Здесь было собрано множество детских сочинений, написанных во время голода, и много других материалов. На небольших листках переплетенного в пурпурный бархат альбома были перепечатаны на машинке наиболее показательные сочинения, написанные в голодные годы; печатный текст окружали рисунки акварелью, довольно обычные для детей, - изображения солдат, танков, самолетов и т.д. Одна девочка писала в своем сочинении:
«До 22 июня у всех была работа и обеспеченная жизнь. В тот день мы поехали на экскурсию на Кировские острова. С залива дул свежий ветер и доносил обрывки песни «Широка страна моя родная», которую пели невдалеке какие-то ребята. А потом враг стал подходить все ближе и ближе к нашему городу. Мы ездили рыть большие рвы. Это было трудно, потому что многие ребята не привыкли к такому тяжелому физическому труду. Немецкий генерал фон Лееб уже облизывался при мысли о роскошном обеде, который ему подадут в «Астории». Теперь мы сидим в убежище вокруг печурок, в зимних пальто, меховых шапках и варежках. Мы вязали теплые вещи для наших солдат и разносили по адресам их письма к друзьям и родным. Мы также собирали лом цветных металлов для сдачи в утиль…»
Старшеклассница, 16-летняя Валентина Соловьева, писала: «22 июня! Как много значит сегодня для нас эта дата! Но тогда казалось, что это обычный летний день… Вскоре помещение домового комитета заполнили женщины, девушки, дети, которые пришли сюда, чтобы записаться в отряды противовоздушной обороны, в противопожарные и противохимические группы… К сентябрю город был окружен. Подвоз продовольствия прекратился. Ушли последние поезда с эвакуированными. Жители Ленинграда потуже затянули пояса. Улицы ощетинились баррикадами и противотанковыми ежами. Вокруг города начала расти целая сеть блиндажей и огневых точек.
Сейчас, как и в 1919 г., возник решающий вопрос: «Останется Ленинград советским городом или нет?» Ленинград был в опасности. Но рабочие как один человек поднялись на его защиту. По улицам грохотали танки. Люди повсюду вступали в народное ополчение… Приближалась холодная, страшная зима. Одновременно с бомбами вражеские самолеты сбрасывали листовки. В них говорилось, что Ленинград сровняют с землей, что все мы умрем с голоду. Немцы думали, что запугают нас, но они только вселили в нас новые силы… Ленинград не впустил врага в свои ворота! Город голодал, но он жил и работал и продолжал посылать на фронт все новых своих сынов и дочерей. Едва держась на ногах от голода, наши рабочие шли на свои заводы под вой сирен воздушной тревоги…» А вот отрывок из другого сочинения - о том, как школьники рыли траншеи, когда немцы приближались к Ленинграду:
«В августе мы проработали двадцать пять дней на рытье траншей. Нас обстреливали из пулеметов, и нескольких школьников убило, но мы продолжали копать, хотя и не привыкли к такой работе. И траншеи, которые мы вырыли, остановили немцев…»
Еще одна шестнадцатилетняя девушка Люба Терещенкова описывала занятия в школе, не прекращавшиеся даже в самое тяжелое время блокады:
«В январе и феврале к блокаде добавились еще страшные морозы, которые были Гитлеру на руку. Наши занятия продолжались по принципу «вокруг печки». Однако места здесь заранее не распределялись, и если вы хотели получить место поближе к печке или под печной трубой, нужно было приходить в школу пораньше. Место перед печной дверкой оставлялось для учителя. Вы усаживались, и вдруг вас охватывало ощущение необычайного блаженства: тепло проникало сквозь кожу и доходило до самых костей; вы начинали чувствовать слабость и вялость; ни о чем не хотелось думать, только дремать и вбирать в себя тепло. Встать и идти к доске было мукой… У доски было так холодно и темно, и рука ваша, стесненная тяжелой перчаткой, немела и коченела, отказываясь подчиняться. Мел то и дело выскальзывал из пальцев, строки на доске кривились… К началу третьего урока топливо было на исходе… Печь остывала, и из трубы шла струя ледяного воздуха. Становилось страшно холодно. И вот тогда-то можно было увидеть, как Вася Пугин с хитрым выражением лица, крадучись, выходил из класса и возвращался с несколькими поленьями дров из неприкосновенных запасов Анны Ивановны. Несколько минут спустя мы снова слышали чудесное потрескивание огня в печке… Во время перемен никто не вскакивал с места, потому что никто не хотел выходить в ледяной коридор».
А вот еще отрывок из одного сочинения:
«Пришла зима, яростная и беспощадная. Водопроводные трубы замерзли, не было электрического света, и трамваи перестали ходить. Чтобы вовремя попасть в школу, мне приходилось каждое утро вставать очень рано, потому что я живу в пригороде. Особенно трудно было добираться до школы после метели, когда снег заносил все дороги и тропинки. Но я твердо решил закончить учебный год… Однажды, после того как я простоял шесть часов в очереди за хлебом (в тот день мне пришлось пропустить школу, потому что я не получал хлеба в течение двух дней), я простудился и заболел. Никогда еще я не чувствовал себя таким несчастным, как в эти дни. И не оттого, что мне физически было плохо, а потому, что я нуждался в моральной поддержке моих школьных товарищей, в их подбадривающих шутках…»
Никто из детей, продолжавших посещать школу, не умер. Умерло, однако, много учителей. Последний раздел блокадного альбома, которому предшествовал титульный лист с изображением украшенной лентами погребальной урны, нарисованной акварелью фиолетового цвета, был написан Тихомировым, директором школы. Этот раздел состоял из ряда некрологов, посвященных учителям, либо убитым на войне, либо умершим от голода. Заместитель директора был «убит в бою». Другой учитель был «убит под Кингисеппом», в том жестоком бою под Кингисеппом, где немцы прорвались к Ленинграду из Эстонии. Преподаватель математики «умер от голода». Учитель географии тоже. Учитель литературы Немиров «стал одной из жертв блокады», а Акимов, преподаватель истории, «умер от недоедания и истощения», несмотря на длительный отдых в санатории, куда был отправлен в январе. О другом учителе Тихомиров написал: «Он добросовестно работал, пока не почувствовал, что не может больше ходить. Тогда он попросил несколько дней отпуска, надеясь, что силы к нему вернутся. Он оставался дома, готовясь к занятиям во втором полугодии. Он продолжал читать книги. Так он провел день 8 января. 9 января он тихо скончался». Какая человеческая трагедия скрывалась за этими простыми словами!
Я рассказал об обстановке в Ленинграде, какой я нашел ее в сентябре 1943 г., когда город все еще подвергался частым и нередко сильным артиллерийским обстрелам. Обстрелы продолжались до конца года, и только в январе 1944 г. страдания Ленинграда наконец кончились. В течение нескольких предшествовавших недель крупные силы советских войск были скрытно, под покровом ночи переброшены к Ораниенбаумскому плацдарму на южном побережье Финского залива. Эти силы, которыми командовал генерал Федюнинский, двинулись к Ропше, где им предстояло соединиться с войсками Ленинградского фронта, пробивавшимися в юго-западном направлении. В первый день этого советского наступления было выпущено с целью сокрушить немецкие укрепления не менее 500 тыс. снарядов. Примерно в это же время пришли в движение и войска Волховского фронта, а через несколько дней немцы уже бежали на всем протяжении фронта от Пскова до Эстонии. 27 января 1944 г. было официально объявлено о конце блокады.
Все знаменитые исторические дворцы вокруг Ленинграда - в Павловске, Царском Селе и Петергофе - лежали в развалинах.
(обратно)Глава VII. Почему Ленинград выстоял
Почему Ленинград выстоял? На этот вопрос авторы некоторых исторических работ на Западе дают легкий, простой и на первый взгляд вполне основательный ответ, что, поскольку все шоссейные и железные дороги были перерезаны, у ленинградцев не было иного выхода, как выдержать и стать «героями» - хотели они того или нет. Если бы у них было достаточно времени, чтобы выбраться из города, доказывают другие, они бежали бы из него. Однако в действительности дело не в этом. Самое замечательное в истории ленинградской блокады - это не сам факт, что ленинградцы выстояли, а то, как они выстояли.
В своем крайне тенденциозном труде «Осада Ленинграда» американец Леон Гур высказывает мнение, что в городе были люди, готовые сдаться немцам, и что хотя они не представляли собой большинства, однако «число недовольных… было, по-видимому, далеко не незначительным»[110]. Когда я был в Ленинграде, не раз приходилось слышать разговоры о существовании в городе немецкой «пятой колонны»; о ней упоминается также и в последних исследованиях советских авторов. Однако доказательства того, что сдаться хотела не маленькая группа, а якобы значительное число людей, весьма легковесны.
Гур сам признает, что «патриотизм, местная гордость, растущее возмущение против немцев и нежелание предать «солдат» в большой степени способствовали “сохранению дисциплины”». В то же время Гур делает необоснованный, с моей точки зрения, упор на якобы присущую русским «врожденную склонность подчиняться властям», «отсутствие опыта политической свободы» и т.п. и слишком полагается на рассказы некоторых послевоенных эмигрантов[111].
Имеются гораздо более убедительные доказательства того, что в Ленинграде не было ни одного человека, за исключением небольшого числа шкурников, который допускал бы даже мысль о капитуляции перед немцами. Правда, в самый разгар голода несколько человек - притом это были не обязательно коллаборационисты или вражеские агенты, а просто люди с помрачившимся от голода рассудком - действительно обращались к властям с просьбой объявить Ленинград «открытым городом»; но ни один нормальный человек не мог этого сделать. За тот период, когда немцы подходили к городу, люди очень быстро узнали, что представляет собой враг: сколько молодежи, работавшей на рытье траншей, погибло от бомб и пулеметного обстрела! А после того как город был полностью окружен и начались воздушные налеты, немцы вместе с бомбами сбрасывали на город садистские листовки, как, например, 6 ноября в «ознаменование» годовщины революции: «Сегодня мы будем бомбить, завтра вы будете хоронить».
Вопрос об объявлении Ленинграда открытым городом никогда не мог возникнуть, как это было, например, с Парижем в 1940 г. Война фашистской Германии против СССР была войной на истребление, и немцы никогда не делали из этого секрета. Кроме того, местная гордость Ленинграда носила своеобразный характер - горячая любовь к самому городу, к его историческому прошлому, к связанным с ним замечательным литературным традициям (это в первую очередь касалось интеллигенции) соединялась здесь с великими пролетарскими и революционными традициями рабочего класса города. И ничто не могло крепче спаять эти две стороны любви ленинградцев к своему городу в одно целое, чем нависшая над ним угроза уничтожения.
Но одних чувств, каких бы похвал они ни заслуживали, еще мало. Армия, без сомнения, не могла не разочаровывать людей, пока она отступала вплоть до окраин Ленинграда, а ленинградские власти за эти первые два с половиной месяца немецкого наступления допустили, очевидно немало ошибок. Вся проблема эвакуации, в особенности эвакуации детей, была решена скверно, и очень мало или почти ничего не было предпринято, чтобы создать запасы продовольствия. Но, как только немцы были остановлены за стенами Ленинграда, как только было принято решение биться за каждый дом и за каждую улицу, ошибки военных и гражданских властей были охотно забыты, ибо речь теперь шла о том, чтобы отстоять Ленинград любой ценой. Вполне естественно, что поддержание в осажденном городе суровой дисциплины и организованности было необходимо, но такая дисциплина и организованность не имеют ничего общего с «врожденной склонностью подчиняться властям». Ясно, что выдачу продуктов пришлось строго нормировать; но говорить, что население Ленинграда работало и не «поднимало мятежа» (ради чего?), только чтобы получить продовольственную карточку - которая многим не давала даже возможности выжить, - значит совершенно искаженно понимать дух Ленинграда. Вряд ли можно сомневаться в том, что ленинградская партийная организация сыграла очень важную роль в спасении Ленинграда; во-первых, она обеспечила максимально справедливое в тех невероятно тяжелых условиях нормирование продуктов; во-вторых, организовала широчайшую систему противовоздушной обороны в городе; в-третьих, мобилизовала население на заготовку дров, торфа и на другие работы; в-четвертых, организовала несколько «дорог жизни». Нет также сомнений в том, что во время самых ужасающих трудностей зимы 1941/42 г. такие организации, как комсомол, проявили величайшие самопожертвование и стойкость, оказывая помощь населению.
Никакого сравнения с Лондоном тут, конечно, быть не может. Воздушные налеты на Лондон были тяжелыми, хотя их нельзя сравнить с тем, что несколько лет спустя выпало на долю немецких городов. Фактически бомбежки Лондона были более тяжелыми, чем бомбежки и артиллерийский обстрел Ленинграда, по крайней мере если сравнить число жертв. Но только если бы в ту зиму, когда немцы беспрерывно бомбили Лондон, население этого города голодало и если бы там ежедневно умирало от голода 10 тыс. или 20 тыс. человек, можно было бы поставить знак равенства между этими двумя городами. В Ленинграде люди могли выбирать между позорной смертью в немецком плену и почетной смертью (или, если повезет, жизнью) в собственном, непокоренном городе. Также ошибкой была бы попытка проводить различие между русским патриотизмом, революционным порывом и советской организацией, или спрашивать, который из этих трех факторов сыграл более важную роль в спасении Ленинграда; все три фактора сочетались в том необыкновенном явлении, которое можно назвать «Ленинградом в дни войны».
(обратно)Глава VIII. Немного о Финляндии
Одно обстоятельство резко бросалось в глаза в период ленинградской блокады: настоящим врагом была Германия, а о Финляндии почти никогда не упоминалось. Между тем финны также воевали с Советским Союзом; они принимали участие в блокаде Ленинграда, и их войска стояли в каких-нибудь 30 км к северо-западу от города. Восточнее они проникли в глубь советской территории и держали в своих руках полосу по реке Свирь между Ладожским и Онежским озерами. Крупный советский город Петрозаводск был оккупирован финнами.
Позиция финнов в их войне против Советского Союза в 1941 - 1944 гг. была, однако, весьма необычной. Они были во многом связаны с немцами, но их война против СССР была все же «сепаратной» войной, и они, конечно, не так раболепствовали перед Германией, как некоторые другие ее сателлиты. После войны Финляндия заявила, что она не позволяла немецким войскам действовать против Ленинграда с финской территории и что финские войска не участвовали в бомбежках или обстрелах Ленинграда.
Несомненно, что переговоры между Германией и Финляндией о совместных действиях против Советского Союза начались задолго до 22 июня 1941 г. Несомненно также, что одно время финнам удалось прорваться через старую границу, когда они захватили советский пограничный город Белоостров. Однако на следующий же день финны были выбиты из Белоострова, после чего положение на этом участке фронта стабилизировалось.
Немцы были недовольны этим, и 4 сентября Йодль специально приехал повидаться с Маннергеймом и убедить его продолжать финское наступление за линией старой границы, то есть на Ленинград. Маннергейм, кажется, отказался. После войны, на судебном процессе над бывшим главой финского правительства, пособником немцев Рюти, последний утверждал даже, что финны фактически «спасли» Ленинград. Рюти заявил:
«24 августа 1941 г. я посетил штаб-квартиру маршала Маннергейма. Немцы добивались, чтобы мы, перейдя старую границу, продолжали наступление на Ленинград. Я сказал, что захват Ленинграда не является нашей целью и что нам не следует принимать в нем участия. Маннергейм и военный министр Вальден согласились со мной и отклонили предложение немцев. В результате возникла парадоксальная ситуация, когда немцы были не в состоянии наступать на Ленинград с севера; получалось, что финны, таким образом, защищали Ленинград с севера»[112].
При всем этом финны фактически принимали участие в окружении Ленинграда. И, как утверждает западногерманский историк Вальтер Герлиц, финны присоединились бы к наступлению на Ленинград, если бы немцы предприняли решающую атаку на город с юга, но этого не произошло[113]. Они заняли большие участки советской территории, которые никогда им не принадлежали, в частности к востоку от Ладожского озера. Но хотя, как видно из советских условий перемирия, предъявленных финнам в 1944 г., в Финляндии и дислоцировалось некоторое количество немецких войск, нет никаких данных о том, что они когда-либо вели операции против Ленинграда с финской территории. Больше сомнений вызывает, пожалуй, вопрос, подвергался ли когда-нибудь Ленинград обстрелам или бомбежкам с финской территории. Мне показывали в 1943 г. одну или две пробоины от снарядов на северной стороне ленинградских зданий, это заставляет предположить, что какое-то количество снарядов было все же выпущено с финской территории. Но, даже если эти одна-две пробоины и были сделаны снарядами, несомненно, что систематического артиллерийского обстрела Ленинграда с севера не велось. Надписи на стенах ленинградских домов, объявление, что южная, «защищенная», сторона улиц гораздо безопаснее северной, ясно говорили, что обстрела города ленинградцы ждали с юга, то есть со стороны немцев.
Конечно, любое серьезное наступление с финской стороны в самые критические месяцы ленинградской блокады и интенсивный артиллерийский обстрел с севера значительно усугубили бы бедствия, которые переживал Ленинград. То обстоятельство, что финны не атаковали город в это критическое время, объясняется целым рядом факторов, а именно тем, что многие финны были недовольны союзом с Гитлером, безжалостно вторгшимся в Данию и Норвегию; тем, что Англия, а позднее и США стали союзниками СССР; а может быть, также и тем, что Маннергейм искренне не хотел участвовать в захвате и уничтожении Ленинграда.
Это вовсе не значит, что финская буржуазия не была настроена резко антирусски; она все время была так настроена после 1918 г., а после военной зимы 1939/40 г. особенно. Однако претенциозные планы создания «великой Финляндии», простирающейся - по некоторым из наиболее нелепых проектов - до самой Москвы, лелеял, видимо, лишь ограниченный круг фанатиков. Тем не менее некоторое, хотя и небольшое, число отборных финских войск фактически принимало участие в германских операциях против Красной Армии на других фронтах; при этом, судя по тому, что я слышал как во время войны, так и после нее, в особенности в районах Смоленска и Тулы, многие финские солдаты относились к русскому гражданскому населению, особенно к женщинам и девушкам, с беспощадной жестокостью - «даже хуже, чем немцы».
Что касается военного и политического руководства Ленинграда, то можно, видимо, заключить, что оно понимало «негативную пользу» той роли, какую играли финны во время ленинградской трагедии. Когда после заключения советско-финского перемирия Жданов прибыл в Хельсинки, он имел с Маннергеймом ряд длительных и подчеркнуто любезных бесед, и, как мы знаем, окончательные условия перемирия, оставившие почти всю Финляндию не занятой советскими войсками, оказались более мягкими, чем можно было ожидать.
(обратно) (обратно)Часть четвертая. Трудное лето 1942 г.
Глава I. Москва, июнь 1942 г.
В ноябре 1941 г. я вернулся в Англию и в Советский Союз поехал снова только в мае 1942 г. - на этот раз до конца войны. Путь от Мидлсбро до Мурманска на конвойном судне «Эмпайр Баффин», входившем в состав знаменитого конвоя PQ-16, занял 28 суток. Вскоре после того, как конвой отошел от Исландии, немецкие пикирующие бомбардировщики начали бомбить его со своих баз в Северной Норвегии. Бомбежка продолжалась шесть дней. Как известно из писем Черчилля Сталину, морское министерство опасалось, что погибнет половина конвоя; однако, видимо, в силу допущенных немцами просчетов, из 35 кораблей было потоплено лишь восемь. Месяц спустя немцы наверстали упущенное, потопив три четверти кораблей следующего конвоя PQ-17.
В книге «Год Сталинграда» я описал этот удивительный переход конвоя PQ-16, рассказал о храбрости как английских, так и русских моряков, принимавших участие в нем, а также сколь ненадежную защиту обеспечивали конвою две подводные лодки и несколько эсминцев и сторожевых кораблей, когда оба сопровождавших его крейсера покинули его после первого налета немецких бомбардировщиков. 160 человек из экипажей конвоя были убиты, многие ранены; их в конце концов отправили в сильно переполненный и плохо оборудованный госпиталь в Мурманске.
В конце мая 1942 г. в Мурманске собралось около 3 тыс. «уцелевших» английских моряков, многие с крейсера «Эдинбург», потопленного незадолго до того. Несмотря на частые налеты немецкой авиации, особенно усиливавшиеся в дни, когда прибывал конвой с Запада, Мурманск имел тогда еще относительно немного разрушений; только месяц спустя большая его часть была уничтожена интенсивной бомбежкой.
В той же книге я описал не только Мурманск, каким он был в мае 1942 г., но и удивительный, длившийся шесть дней переезд в «жестком» вагоне - то есть в вагоне 3-го класса - из Мурманска в Москву, который я совершил в первую неделю июня. Поскольку солнце в этой части России, далеко за Полярным кругом, светит чуть ли не двадцать четыре часа в сутки, лето здесь наступило как-то сразу, за несколько дней, и Крайний Север, с его миллионами цветов, был прямо-таки прекрасен. Сказочной красотой поразило нас и озеро Имандра, представшее перед нами в полуночных сумерках, когда мы проезжали на следующие сутки после выезда из Мурманска через гористый район советской Лапландии. А дальше, на третий день пути, нашим глазам открылось зрелище необъятных лесов, раскинувшихся к югу от Белого моря на всем протяжении железнодорожного пути Архангельск - Вологда. Часто поезд останавливался; тогда люди выскакивали из вагонов и собирали цветы и клюкву, пролежавшую всю зиму под снегом.
Вагон был битком набит солдатами и гражданскими лицами, представителями всех слоев населения. В «Годе Сталинграда» я приводил десятки разговоров с солдатами, офицерами, железнодорожниками и другими; среди них была одиннадцатилетняя девочка Тамара, эвакуированная из Ленинграда. Она провела зиму в маленьком городке на Белом море, а теперь мать везла ее к бабушке в колхоз в Рязанской области, к юго-востоку от Москвы, где климат мягче.
Все эти люди могли сообщить что-то интересное. Тамара ходила в городе на Белом море в школу; у нее было с собой несколько учебников с портретами Сталина и Ворошилова, а также игра «Вверх и вниз». Она сказала, что в столовой в школе кормили хорошо и что «дела пойдут лучше тогда, когда убьют Гитлера»; в то же время она развлекала весь вагон, распевая писклявым голоском оптимистическую частушку, которой научилась в школе:
Гитлер сам себе не рад, Взять не может Ленинград, Видит Невский и сады, И ни туды, и ни сюды. На Москву пустился вор, Дали там ему отпор, Пропадают все труды, И ни туды, и ни сюды.
Хотя немцы все еще оккупировали огромные районы СССР, тот факт, что им не удалось овладеть ни Москвой, ни Ленинградом, вселял в людей известное чувство уверенности в собственных силах. Правда, моральное состояние их отнюдь не было одинаковым; отчасти оно зависело от того, как они питались. Гражданское население жестоко страдало от недоедания, у многих была цинга. Особенно склонны к слезам и пессимизму были старухи; они считали, что немцы страшно сильны, и говорили, что одному только богу известно, что ждет Россию летом. Железнодорожники, хотя их и кормили намного лучше других гражданских, были настроены мрачно, отчасти потому, что пережили чрезвычайно тяжелую зиму: Мурманская железная дорога, которую они обслуживали, непрестанно подвергалась налетам немецкой авиации. Практически все железнодорожные станции были разрушены бомбами, а возле путей повсюду виднелись искореженные остовы вагонов и паровозов.
У солдат и офицеров настроение было гораздо лучше. Некоторые с похвалой отзывались об английских «харрикейнах», действовавших в Мурманске; они рассказывали о потерях, нанесенных ими немцам и финнам на Мурманском фронте с помощью «чудодейственных катюш». Многие офицеры были с Кавказа и с Украины; всем хотелось поскорее вернуться к оставшимся там семьям, однако по своему настроению они, кажется, резко делились на оптимистов и пессимистов - одни считали вполне вероятным, что немцы захватят и остальную часть Украины и Кавказ, другие полагали, что немцы не смогут этого сделать. Тем не менее и эти последние были далеки от того, чтобы недооценивать силу немцев, и, играя в домино, называли шестерку-дубль «Гитлером», «потому что она самая страшная из всех». Пятерку-дубль они называли «Геббельсом».
Для множества людей в этой части России мысль о Ленинграде стала навязчивой идеей; они видели тысячи эвакуированных из Ленинграда, многие из которых были уже полумертвые, и слышали действительную, неприкрашенную правду об ужасах пережитой ими голодной зимы. У многих остались в Ленинграде друзья и родные, в том числе у моей приятельницы Тамары, отчим которой был ленинградский железнодорожник.
Население испытывало крайнюю нужду в продовольствии, хотя солдат снабжали хорошо, и во время стоянок поезда на станциях только они одни вели оживленную торговлю с крестьянами, обменивая маленький кусочек мыла или пачечку табака на десяток яиц или даже на половину цыпленка.
Люди относились к союзникам по-разному. Многие ехали от самого Мурманска, где видели суда, доставлявшие в Советский Союз танки, боеприпасы и мешки с канадской мукой, однако все это считалось пустяком. Пожилой учитель начальной школы, страдавший цингой и ехавший сейчас к семье в рыбацкую деревню на Белом море, где он надеялся получить более «здоровое питание», подолгу беседовал со мной об Англии. Черчилль, говорил он, безусловно, старый враг Советского Союза, и поэтому русские должны быть благодарны ему уже за то, что он не встал на сторону немцев. Однако мой собеседник считал, что второй фронт будет открыт не скоро, что этого не произойдет, по крайней мере пока у власти Черчилль.
Был момент, когда весь вагон пришел в настоящее возбуждение: кто-то рассказал о массированном воздушном налете на Кёльн, в котором участвовало 1000 английских бомбардировщиков; Англия вдруг стала удивительно популярной. Но на следующий день настроение резко упало: откуда-то стало известно, что в битве под Харьковом русские понесли большие потери - 5 тыс. убитых и 70 тыс. пропавших без вести[114]. Все пассажиры восприняли это сообщение как крайне тревожное.
На пятый день поезд прибыл в Вологду. На вокзале собрались сотни эвакуированных, в основном женщины и дети, которые много дней ожидали этого поезда, проводя ночи на железнодорожных платформах или в залах ожидания; еды у них было очень мало: им выдавали ежедневно только 200 г хлеба.
Здесь я увидел также поезд с сотнями истощенных людей - эвакуированных из Ленинграда - и несколько санитарных поездов с сотнями раненых с Ленинградского и Волховского фронтов, где снова шли тяжелые бои.
Оказалось, что поезд, к которому должны были прицепить наш вагон, уже ушел, и мы на целый день застряли в Вологде. Словом, до Москвы я наконец добрался чуть ли не через неделю после выезда из Мурманска. На этом последнем этапе пути народу в вагоне набилось даже еще больше, чем прежде: в Вологде втиснулось много солдат. Мне особенно запомнился один из них, детина гигантского роста, похожий на Шаляпина в молодости; за один присест он проглотил фунт хлеба и полдюжины крутых яиц. «У вас неплохой аппетит», - заметил я. «Нельзя пожаловаться, - ответил солдат. - Надо отъесться за всю прошлую зиму. И вы бы стали так есть, побывай вы там». Выяснилось, что он всю зиму провоевал в Ленинграде.
Одно обстоятельство показалось мне тогда весьма любопытным: за всю неделю, пока наш поезд шел от Мурманска до Москвы, никто ни разу не упомянул имени Сталина. Чем это объяснялось? Тем ли, что его руководящая роль принималась как нечто само собой разумеющееся или люди втайне сомневались в высоком качестве его руководства? Или тем, может быть, что люди на севере были теснее связаны с ленинградской трагедией, чем с событиями в Москве, а наивысшим авторитетом Сталин был в Москве. Он, так сказать, принадлежал Москве и олицетворял теперь в представлении народа тот дух сопротивления, который проявила столица.
В июне 1942 г. Москва все еще находилась очень близко от линии фронта. Немцы крепко засели в Ржеве, Вязьме и Гжатске - меньше чем в 130 км от столицы. Никто не мог быть твердо убежден в том, что они не предпримут новой попытки решающего наступления. Последние бомбы были сброшены на Москву в марте, и, хотя организация противовоздушной обороны, по рассказам, стала значительно лучше, чем летом 1941 г., не было никакой уверенности, что воздушные налеты не начнутся снова.
Москва выглядела худой и голодной. Она пережила суровую и для многих людей страшную зиму. Это было ничто по сравнению с тем, что выстрадал Ленинград, но мне довелось услышать немало грустных рассказов о тех испытаниях, какие выпали на долю москвичей: о жестоком недоедании и о нетопленных квартирах с температурой чуть выше, а часто и ниже нуля, с лопнувшими водопроводными трубами, с бездействовавшими уборными; о том, как людям приходилось спать под двумя пальто и тремя или больше одеялами - если они были. В июне хлеб все еще продавался на свободном рынке по 150 руб. за килограмм. Капусты и других овощей почти не было, и если хлеб выдавался каждый день (по норме от 400 до 800 г), то с другими продуктами были частые перебои, иногда они совсем не выдавались. Запасы картофеля и овощей, которые оставались в Московской области, были либо разграблены немцами, либо переданы в распоряжение армии. Ощущалась острая нехватка сахара, жиров, молока и табака.
Люди на улицах Москвы выглядели изможденными и бледными: цинга стала довольно обычным явлением. Товаров широкого потребления было почти невозможно достать - разве что по фантастическим ценам или по карточкам, если они отоваривались когда-нибудь. В большом универмаге «Мосторг» продавались такие вещи, как барометры и щипцы для завивки волос, но ничего действительно нужного не было. На таких торговых улицах, как Кузнецкий мост или улица Горького, витрины магазинов были в большинстве случаев заложены мешками с песком. Аптеки были так же почти пусты, как и магазины.
Значительная часть Московской области подверглась опустошению; многие деревни были сожжены, а такие города, как Калинин, Клин и Волоколамск, только начинали подниматься из развалин и пепла.
Сама Москва обезлюдела, половина ее населения все еще была в эвакуации. В июне открыто было всего с полдесятка театров, в том числе филиал Большого театра, и достать билеты не представляло никакой трудности. В театральном буфете можно было купить только стакан простой воды, стоившей несколько копеек. Большой театр пострадал от прямого попадания в него бомбы весом в одну тонну и теперь был закрыт. Здания, поврежденные бомбами, были и в других местах; в небе, куда ни посмотришь, висели аэростаты.
Многие государственные учреждения все еще находились на востоке - в Казани, Ульяновске, Саратове, Куйбышеве и других городах. Университет и Академия наук были переведены на восток; многие заводы тоже эвакуировали значительную часть своего оборудования и много рабочих и теперь работали с минимальным количеством персонала, если работали вообще. С другой стороны, те, кто оставался в Москве оба «опасных месяца» - с октября по декабрь, - сейчас вспоминали с известной гордостью, как они не поддались панике. То были героические недели, и в самом виде Москвы, с ее баррикадами и противотанковыми препятствиями на главных улицах, в особенности на окраинах, было нечто великое и воодушевляющее. Робкие покинули город, но Кремль не тронулся с места. Сталин остался в Москве, а с ним и генералитет и большая часть членов Политбюро. Не выезжали также Народный комиссариат обороны и Моссовет, возглавлявшийся Прониным. 16 октября паника, конечно, была, но переданное на следующий день сообщение о том, что Сталин в Москве, оказало огромное моральное воздействие как на население, так и на солдат, сражавшихся на подступах к столице не на жизнь, а на смерть.
Однако к февралю стало ясно, что разгром немцев не был полным. Они все еще удерживали мощный плацдарм в районе Гжатск - Вязьма - Ржев, и это требовало большого сосредоточения войск для обороны Москвы. Смоленск, который русские надеялись вернуть обратно, все еще находился глубоко во вражеском тылу.
Вдобавок ко всему в июне 1942 г. ходили упорные слухи о том, что в Харькове случилось что-то серьезное и что немцы готовятся к решающему наступлению на юге.
В первые летние месяцы 1942 г. я неоднократно имел случай наблюдать опустошения, которые произвели немцы на территории вокруг Москвы. Так, по дороге, ведущей в Клин, я уже в километрах 25-35 на северо-запад от столицы видел сожженные и разбитые бомбами и снарядами дома, а в селе Пешки, в 44 км от Москвы, купол церкви был наполовину снесен снарядом. Клин был взят немцами в ноябре 1941 г. В Истре из тысячи домов уцелело три; вместо 16 тыс. жителей здесь сейчас оставалось лишь 300 человек, в большинстве своем ютившихся в землянках. В Клину из 12 тыс. домов было уничтожено больше тысячи; если судить по разрушениям, которые немцы оставляли после себя, можно было сказать, что Клин они пощадили. Но так случилось лишь потому, что им пришлось уходить отсюда в большой спешке. В течение трехнедельного периода их оккупации в городе оставалось только 1500 человек из 30 тыс.; сейчас 15 тыс. человек вернулись обратно. Но хотя большая часть города и сохранилась, немцы успели его разграбить; огромные потери понесли и близлежащие колхозы. До прихода немцев было эвакуировано 3 тыс. коров, принадлежавших колхозам, но из 4,5 тыс. коров, которые принадлежали самим колхозникам, немцы угнали 3 тыс. голов. Все это серьезно отразилось на продовольственном снабжении Москвы. Фашисты не пощадили домик Чайковского в Клину и усадьбу Толстого в Ясной Поляне. Однако оба дома продолжали стоять, хотя многое было украдено, многое попорчено. Кроме того, немцы похоронили много своих убитых рядом с могилой Толстого в парке, и это, несомненно, было кощунством. После того как Ясная Поляна была отбита, русские выбросили отсюда трупы немецких солдат.
Немцы сожгли большую школу, построенную в 1928 г. близ Ясной Поляны в память столетия со дня рождения Толстого, и совершили здесь, как и во многих других местах, множество зверств. Приведу лишь два примера из того, что мне довелось видеть и слышать в эти месяцы.
Зайдя в одну избу близ школы имени Толстого, я увидел молодую женщину с грустным лицом. На кровати в темном углу спал ребенок. Ее муж был повешен в этой деревне. Немцы заподозрили его в том, что он проколол покрышку на одной их машине. Они повесили его вместе с другим человеком, которого никто в деревне не знал. Женщина рассказала, что, когда случилось несчастье, она была в другой деревне в гостях у сестры. Сбивчиво, со слезами на глазах она поведала о муках, какие пережила, когда, узнав о случившемся, побежала домой. По дороге немцы дважды останавливали ее и гнали чистить картофель… Тут ребенок проснулся; женщина продолжала рассказывать, но дочурка то и дело прерывала ее своими шалостями и смехом.
Затем пришла мать убитого. У этой нервы были покрепче, и, хотя все произошло на ее глазах, она говорила твердым голосом и связно. Когда русские войска отступили, рассказала старуха, в деревню ворвались немецкие танки. Вскоре в дверь избы постучали, и какой-то немец с фонариком в руке заявил: «Здесь будут жить шесть человек».
«Ну вот, они пришли и поселились здесь, - продолжала она, - четыре немца и два финна. Они вели себя грубо и нагло, особенно финны. Когда сына увели, один финн сказал мне с издевкой, что сейчас его повесят. Я оттолкнула его, хотела побежать за сыном, но финн сбил меня с ног, затолкал в маленькую кладовку и запер. Потом пришел немец, отпер кладовку и сказал мне: «Твой Коля капут». Провисели они три дня, а я и подойти к ним не могла; видела вот в это окно, как они качаются на ветру. Только через три дня комендант разрешил снять трупы. Их принесли в избу и положили вот здесь. Я развязала их одеревенелые руки, а когда начали оттаивать, я вымыла их мертвые лица. Потом мы их похоронили».
Только теперь, сидя в темной избе, освещенной одной лампадой, тускло мерцавшей под иконой (рядом с портретом Сталина, вырванным из какого-то журнала), старуха тихо заплакала. Она сказала, что у нее еще четыре сына, все они на фронте; один «больше не пишет». Плакала в своем темном углу и молодая женщина, плакала и целовала, шлепала и снова целовала своего так не вовремя расшалившегося ребенка, дочь повешенного отца.
Вспоминается мне еще одна поездка, которую я совершил тем же летом, несколько позднее, на этот раз на Ржевский участок фронта, где несколько недель шли очень тяжелые бои. Мы снова проехали через Истру - лес голых печных труб (все, что осталось от города), - миновали развалины Ново-Иерусалимского монастыря, взорванного немцами, и попали в Волоколамск, где разрушений было гораздо меньше, но где немцы повесили много партизан. Наконец, мы остановились в Лотошине. К нашим машинам подошли несколько человек. Среди них был один небольшого роста с потрепанной кепкой на голове и в рваной куртке; под мышкой у него торчал пучок зеленого лука. Он оставался здесь во время немецкой оккупации. В первый же день, как пришли немцы, рассказал он, они повесили на главной улице восемь человек, в том числе медсестру и учителя. Тело учителя провисело восемь дней. Они потребовали, чтобы при казни присутствовало все население, но пришли лишь немногие. Учитель был членом партии. Немцы пробыли в поселке три месяца, до 2 января; за две недели до этого дня они начали его жечь. Последние дома они сожгли накануне ухода. Немцы назначили старост из местных жителей; потом, когда русские вернулись, этих старост забрали и расстреляли. Вскоре нас окружила толпа местных ребятишек, в большинстве своем одетых в лохмотья. Хотя многие из них выглядели истощенными, они очень весело рассказывали нам о немцах.
Один мальчишка с веселым смехом рассказал, как он поджег немецкий склад. «Потом, - сказал он, - я убежал и спрятался на печке, мне было очень страшно. Но вот в дом пришел немец, стащил меня с печки, дал под зад пинка и больше ничего. Наверное, они простили меня. Немцы называли меня «маленьким партизаном», давали мне пинка, а когда пришла зима, все время заставляли топить печь и говорили «кальт, кальт, кальт!» («холодно, холодно, холодно!»). Часто они кричали «шайссе» (дерьмо), что значит…» Я сказал, что я знаю, что это значит. «Спасала нас водка, - продолжал мальчик. - От нее они делались добрее. Бывало, по вечерам налижутся водки со склада и затягивают свои немецкие песни, - черт их знает, что за песни; какие-то заунывные, как собаки воют… Ну, и морды они, конечно, себе наели; сожрали все - кур, гусей, свиней и уток. Они гонялись за утками и гусями и убивали их палками. А потом они сожгли село. В последние дни я прятался, немцы были злющие. Теперь все живут в землянках (дома-то сожгли) или в колхозе недалеко отсюда. Завтра, 1 сентября, откроется школа, но не наша, а другая, в пяти километрах от нас; наша школа сгорела, - мальчик показал на немного подремонтированное здание, - но сейчас ее передали под госпиталь».
Из этих (и многих им подобных) рассказов становятся бесспорно очевидными три обстоятельства. Во-первых, в оккупированных немцами городах и деревнях публичные казни коммунистов и других «подозрительных» - обычно именовавшихся «партизанами» - были повседневным делом. Поскольку зачастую казни совершались «в первый же день» оккупации, они, очевидно, были делом рук не каких-то специальных отрядов, подчиненных Гиммлеру, а самих немецких военнослужащих. Видимо, верно и то, что «коммунистов» хватали по доносам либо добровольных пособников немцев, либо людей, которых немцы принуждали к этому запугиванием[115]. Во-вторых, уже в 1941 г. немцы проводили политику выжженной земли и имели специальные отряды, сжигавшие перед отступлением, если успевали, целые города и деревни. В-третьих, немцы назначали русских бургомистров в городах и старост в деревнях из людей, которых они считали «благонадежными», - бывших буржуев или кулаков. Сколько из них были добровольными пособниками и скольких немцы принудили к этому запугиванием - судить трудно. Несомненно, однако, что многие из «пособников немцев» вели двойную игру и что некоторым советским подпольщикам фактически рекомендовали поступать на работу в создаваемые немцами местные административные органы. Движение Сопротивления в России, как и во всех других странах, где оно существовало, имело «своих» людей (мужчин и женщин) в этих органах, которые собирали здесь информацию и поддерживали связь с партизанами и другими просоветскими элементами.
Глава II. Англо-советский союз
Предыстория англо-советского союза, заключенного в мае 1942 г., слишком хорошо известна, чтобы здесь нужно было подробно повторять ее еще раз. В декабре 1941 г. Иден прибыл в Москву, и Сталин и Молотов просили его признать советские границы, какими они были к моменту немецкого вторжения. Это означало признание новых границ СССР с Финляндией и Румынией, а также факта включения в состав Советского Союза Литвы, Латвии и Эстонии и территории, которую Черчилль упорно называл «Восточной Польшей». Но, хотя Черчилль и готов был пойти на уступки в этих вопросах, в вопросе о Прибалтийских государствах он натолкнулся на несогласие Вашингтона, считавшего, что включение этих государств в состав СССР противоречит принципам Атлантической хартии. Советское правительство согласилось - несомненно, с некоторыми мысленными оговорками - с «общими принципами и целями» Атлантической хартии. В частных беседах русские часто говорили, что если у них и есть некоторые «мысленные оговорки», то у Черчилля их еще больше. Наконец, 23 мая, когда Молотов был в Лондоне, Иден предложил заменить соглашение территориального характера общим и открытым договором о союзе сроком на двадцать лет, без всякого упоминания о границах; на такой основе этот договор и был подписан 26 мая.
Что касается вопроса о втором фронте, то он впервые был поднят Сталиным в письме Черчиллю летом 1941 г., и русские продолжали настойчиво требовать его открытия как у англичан, так и у американцев.
Американские предложения, сделанные весной 1942 г., в частности предложение генерала Маршалла «попытаться захватить Брест и Шербур… в начале осени 1942 года», были отнюдь не по душе Черчиллю, хотя он и «не отверг этой идеи с самого же начала».[116]
В 1941 г. и на протяжении ряда месяцев 1942 г. Черчилль считал СССР союзником, которого «придется списать в расход», и временами крайне пессимистически оценивал его шансы выжить. Например, на миссию Бивербрука прибывшую в Москву в конце сентября 1941 г., он, как мы видели, смотрел гораздо более скептически, чем это, казалось, оправдывалось позицией самого Бивербрука. По мнению Бивербрука, СССР был очень ценным союзником, и он горел желанием поддержать его чуть ли не любой ценой. Даже после того, как русские отразили первый немецкий бросок на Москву, Черчилль считал, что быстрое поражение Советского Союза отнюдь не исключено.
Прежде всего Черчилль ясно сознавал, что на данном этапе вся тяжесть операций второго фронта легла бы на Англию. Поэтому он отдавал предпочтение другим идеям - плану высадки во французской Северной Африке или операции «Юпитер» - освобождению Северной Норвегии, что «явилось бы прямой помощью России»; при этом он считал 1943 г. самым ранним сроком высадки во Франции.
Рузвельт, подобно генералу Маршаллу, более положительно, чем Черчилль, относился к попытке открыть второй фронт во Франции в 1942 г.
Именно такое впечатление наверняка сложилось у Молотова во время его визита в Вашингтон и Лондон в мае - июне 1942 г., и нынешняя советская «История войны» всячески подчеркивает тот факт, что Рузвельт дважды подтвердил Молотову свое обещание открыть второй фронт в 1942 г., а генерал Маршалл заверил его в наличии у США всех возможностей для этого. Однако, по словам Гопкинса, Рузвельт дважды сказал Молотову, что он надеется, что второй фронт будет открыт в 1942 г. «Маршалл считал, - продолжает Гопкинс, - что фраза о втором фронте (которую сформулировал Молотов для включения в коммюнике) была слишком категоричной, и настаивал на том, чтобы 1942 год не упоминался вообще. Я обратил на это внимание президента, но он тем не менее пожелал, чтобы эта фраза была включена в коммюнике».
Таким образом, в официальном заявлении, опубликованном 12 июня, была фраза:
«При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».
Дело было сделано. И хотя Черчилль тактично воздержался упомянуть об ответственности Рузвельта за это заявление и по возвращении Молотова из Вашингтона в Лондон счел себя обязанным подписаться под ним, он настоял на том, чтобы Молотову была вручена широко известная теперь «памятная записка», где, между прочим, говорилось:
«Невозможно заранее сказать, будет ли положение таково, что с наступлением установленного срока эта операция окажется осуществимой. Мы поэтому не можем дать никаких обещаний, но при условии, что это будет здравым и разумным, мы без колебаний приведем свои планы в исполнение»[117].
План, о котором шла речь, касался, как нам известно, «высадки на континенте в августе или сентябре 1942 года», и Советское правительство очень рассчитывало на то, что с Восточного фронта будет отвлечено «по крайней мере сорок немецких дивизий».
На церемонии подписания англо-советского договора в Лондоне 26 мая 1942 г. Молотов и Иден выступили с очень теплыми речами, причем оба подчеркнули огромное значение, какое заключенный союз будет иметь не только во время войны, но и после ее окончания. Несмотря на все это, позиция Черчилля продолжала оставаться несколько сдержанной. По свидетельству как русских, так и американцев, отношения между Молотовым и Рузвельтом были гораздо более дружескими, чем между Молотовым и Черчиллем. После отъезда Молотова Гопкинс писал Вайнанту:
«Визит Молотова прошел исключительно хорошо. Он и президент прекрасно поладили, и я уверен, что мы по меньшей мере перебросили мост еще через одну пропасть между нами и Россией.
Предстоит сделать еще многое, но это нужно сделать, для того чтобы когда-нибудь в мире наступил действительный мир. Мы попросту не можем организовать мир вдвоем с англичанами, не привлекая русских в качестве равноправных партнеров… [Что касается второго фронта, то] у меня такое чувство, что некоторые из англичан бьют отбой, но в общем дела идут так хорошо, как только можно ожидать»[118].
То, что 11 июня Корделл Хэлл и советский посол Литвинов подписали новое соглашение о ленд-лизе - или, точнее, более широкое соглашение о так называемых «принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», - явилось в значительной степени результатом визита Молотова в Вашингтон.
18 июня в Кремле была созвана специальная сессия Верховного Совета для ратификации англо-советского договора.
Еще 11 июня советская печать опубликовала полный текст англо-советского договора, равно как и знаменитое коммюнике относительно второго фронта. 13 июня она опубликовала текст советско-американского соглашения. «Правда» в передовой статье писала в тот день:
«На бесчисленных митингах и собраниях рабочие, колхозники, советские интеллигенты, бойцы, командиры, политработники Красной Армии выражают твердую уверенность в том, что укрепление боевого содружества (между Большой тройкой)… ускорит разгром врага… 1942 год должен стать годом окончательного разгрома гитлеровских полчищ… С большим удовлетворением восприняли советские люди известие о полной договоренности в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году…»
Пышность обстановки, в которой проходила сессия Верховного Совета - первая с начала войны, - странно контрастировала с неприглядным видом Москвы. Дипломаты (многие из них специально приехали сюда из Куйбышева) и члены правительства подъезжали к Кремлю в своих лимузинах. Перед главным входом во дворец я заметил машину с японским флажком. В бывшем Тронном зале, полностью перестроенном после революции, над трибуной, в залитой светом нише высилась статуя Ленина. Члены Президиума Верховного Совета сидели слева, члены правительства - справа. На возвышении позади оратора расположились члены Политбюро и другие видные депутаты. В зале разместилось около 1200 депутатов обеих палат - Совета Союза и Совета Национальностей, собравшихся на совместное заседание. Многие депутаты прилетели на самолетах из отдаленных уголков страны; в передних рядах виднелись депутаты в красочных восточных костюмах и платьях. На многих женщинах были яркие платки и платья, вроде сари, а на головах у многих мужчин красовались пестрые тюбетейки; у многих в зале тип лица был монгольский, а у некоторых чуть ли не индийский. Среди депутатов было немало военных в форме, нередко с орденами и медалями; но многие места пустовали - отчасти из-за трудностей, с какими была связана поездка в Москву по срочному вызову, но главным образом из-за того, что многие депутаты находились на фронте или погибли в боях.
Но вот стены дворца потряс гром аплодисментов. Это члены Государственного Комитета Обороны, и среди них, не выделяясь особо, Сталин, заняли свои места на возвышении. Несколько минут депутаты стоя аплодировали и выкрикивали имя Сталина. Сталин и все, кто находился на возвышении, также поднялись, и Сталин тоже начал аплодировать в знак признательности за овацию в его честь. Наконец все уселись. На Сталине был хорошо сшитый летний китель светло-защитного цвета - скромный и без орденов. В его волосах было значительно больше седины, и ростом он был значительно ниже, чем я его себе представлял. Я еще ни разу не видел Сталина. Держался он с какой-то располагающей небрежностью: непринужденно разговаривал во время заседания со своими соседями, оборачивался, чтобы обменяться замечаниями с сидящими позади него, вместе со всеми поднимался с места и несколько лениво хлопал в ладоши, когда собравшиеся начинали аплодировать при упоминании его имени.
Молотов выступил первым; он долго говорил об основных этапах в процессе сближения между Англией и Советским Союзом - о соглашении между ним и Криппсом от 12 июля 1941 г., о визитах Бивербрука и Идена. Затем он охарактеризовал главные положения договора, который был только что подписан в Лондоне: первая часть этого документа в основном повторяет июльское соглашение 1941 г., превращая его в формальный договор; вторая часть касается принципов послевоенного сотрудничества, причем это сотрудничество «мыслится в соответствии с основными положениями… Атлантической хартии, к которой в свое время присоединился и СССР». Заявив далее, что Советский Союз не претендует на территориальные приобретения в какой бы то ни было части мира, он процитировал в подтверждение этого слова Сталина, сказанные им 6 ноября 1941 г., и добавил, что в соответствии с целями и принципами заключенного договора Англия и Советский Союз будут стремиться «сделать невозможным повторение агрессии… Германией или любым из государств, связанных с ней в актах агрессии в Европе». (Русские в то время тщательно остерегались говорить что-либо такое, что могло как-то задеть Японию.) Договор, отметил Молотов, заключен на двадцать лет, и предусмотрена возможность его продления.
«После всего сказанного, - прибавил он, - нельзя не присоединиться к словам г. Идена в его речи при подписании Договора:
«Никогда еще в истории наших двух стран наша ассоциация не была столь тесной. Никогда наши взаимные обязательства в отношении будущего не были столь совершенными. Это, безусловно, является счастливым предзнаменованием».
Договор встретил сочувственный отклик как в СССР, так и в Англии… В лагере же наших врагов… Договор вызвал растерянность и злобное шипение».
Молотов продолжал говорить, а в зале с нетерпением ждали, когда же он скажет о втором фронте. Наконец Молотов перешел и к этому.
«Проблемам второго фронта… - заявил он, - естественно, было уделено серьезное внимание как при переговорах в Лондоне, так и в Вашингтоне. О результатах этих переговоров в одинаковой форме говорит как англо-советское, так и советско-американское коммюнике… Такое заявление имеет большое значение для народов Советского Союза, так как создание второго фронта в Европе создаст непреодолимые трудности для гитлеровских армий на нашем фронте. Будем надеяться, что наш общий враг скоро почувствует на своей спине результаты все возрастающего военного сотрудничества трех великих держав».
В этом месте, как указывала на следующий день «Правда», речь была прервана «бурными, продолжительными аплодисментами»; но мне показалось, что аплодисменты могли быть более бурными, чем они были на самом деле: видимо, выражение «будем надеяться» оказало на присутствующих несколько расхолаживающее воздействие, и это нашло свое отражение в некоторых последующих выступлениях.
Затем Молотов остановился на результатах его визита в Вашингтон и сказал, что советско-американское соглашение, подписанное 11 июня, имеет лишь «предварительный характер». Однако тут же Молотов добавил, что в Вашингтоне, как и в Лондоне, обсуждались все основные проблемы сотрудничества СССР и США в деле обеспечения мира и что как Рузвельт, так и Черчилль проявили по отношению к нему сердечность и исключительное гостеприимство.
Помимо обсуждения вопроса о союзе с Англией, многие ораторы воспользовались случаем, чтобы сказать несколько слов о своих избирателях. Щербаков, представлявший избирателей Москвы, напомнил о битве под Москвой и заявил среди бури поистине взволнованных аплодисментов: «И вы, товарищи депутаты, видите свою столицу целой и невредимой».
Какую-то эмоциональную окраску имели и аплодисменты, которыми был встречен Корниец, представитель тогда почти полностью оккупированной немцами Украины. Корниец, человек с длинными, свисающими «украинскими» усами, говорил без обиняков. «Мы надеемся, - сказал он, - что недалеко то время, когда от слов и договоренностей великие государства перейдут к делу».
Представитель Ленинграда Жданов, на чью долю выпала овация, почти не уступавшая по силе той, которой был встречен Сталин, привел следующие слова одного рабочего Кировского завода (находившегося непосредственно на линии фронта): [Договор] «вселяет в нас уверенность в то, что кровавый Гитлер и его клика будут раздавлены в 1942 году. Будем работать с удвоенной, утроенной энергией, чтобы помочь нашей Красной Армии выполнить свою историческую миссию».
Представитель Литвы Палецкис выразил уверенность в том, что в подготовке к открытию второго фронта в 1942 г. не будет допущено «ни малейшего промедления», поскольку в этом заинтересованы народы Великобритании и Соединенных Штатов Америки; примерно в том же духе прозвучали выступления латвийского, эстонского, грузинского, узбекского и других представителей.
После выступлений, занявших три с половиной часа, договор был единогласно ратифицирован.
За сессией Верховного Совета последовал коротенький, можно даже сказать, очень коротенький медовый месяц англо-русского союза. Несколько недель спустя началась резкая перебранка из-за второго фронта. Следует отметить, что советская сторона ни разу за все время ни словом не обмолвилась об английской памятной записке и даже не намекнула на нее, если не считать слов «будем надеяться» в выступлении Молотова.
Взаимная подозрительность в отношениях обеих сторон не теряла своей остроты вплоть до речи Сталина б ноября и происшедшей несколько дней спустя высадки английских войск в Северной Африке. Плохое расположение духа, вскоре перешедшее в возмущение, зародилось у советской стороны в значительной степени самопроизвольно и было вызвано скверным положением на фронте; вполне возможно, однако, что некоторые негодующие комментарии в печати в течение нескольких недель, предшествовавших высадке англичан в Северной Африке, были отчасти рассчитаны на то, чтобы обмануть немцев.
(обратно)Глава III. Падение Керчи, Харькова И Севастополя
Заключение англо-советского союза совпало фактически с одним из самых тяжелых для СССР событий войны: в мае советские войска постигла катастрофа в Керчи и под Харьковом, и стало очевидно, что дни обороны Севастополя сочтены.
После того как осенью 1941 г. Красная Армия была вынуждена оставить Крым (за исключением Севастополя, сильный гарнизон которого по-прежнему продолжал оборону), она предприняла десантную операцию со стороны Кавказа с целью отбить Керченский полуостров, у восточной оконечности Крыма, и создать таким образом мощный плацдарм, с тем чтобы, действуя с него, освободить в конечном счете весь Крым и помочь Севастополю. Это была одна из крупнейших десантных операций, осуществленных русскими за все время войны. Несмотря на крайне неблагоприятные условия погоды и довольно большие потери, им удалось высадить в последнюю неделю декабря 1941 г. десанты численностью около 40 тыс. человек и занять весь Керченский полуостров, а также (на несколько дней) важный город Феодосию.
Кстати сказать, именно в Керчи советские войска получили первые доказательства массовых зверств, чинимых немцами: вскоре после того, как немцы оккупировали в 1941 г. Керчь, один из гиммлеровских карательных отрядов уничтожил несколько тысяч евреев и закопал их трупы в глубоких рвах за стенами города. Нет нужды говорить, что фельдмаршал фон Манштейн, командовавший 11-й немецкой армией в Крыму, утверждал впоследствии, будто он ничего не знал об этом.
Успешная высадка на Керченском полуострове имела своим непосредственным результатом ослабление нажима немцев на Севастополь, и Манштейн был вынужден потом признать, что она создала огромную угрозу[119] для немецких войск в Крыму.
Однако из-за недостатка хорошо обученных солдат или нехватки боевой техники, а может быть, из-за того и другого, если не в результате какого-то очень серьезного просчета командования, эта успешная десантная операция не получила дальнейшего развития, и 8 мая фон Манштейн начал решительное наступление против советских войск в восточном Крыму. Наступление началось массированным воздушным налетом. Советские войска понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить на подготовленную линию обороны, известную под названием Турецкого вала. Однако натиск немцев оказался слишком сильным,
«Не смогло командование фронта целесообразно использовать и свою авиацию…, и прикрыть отход своих войск, подвергавшихся непрерывным налетам авиации противника. [Наши войска] не сумели закрепиться у Турецкого вала и начали отходить к Керчи. К исходу 14 мая немцы прорвались к южной и западной окраинам города. С 15 по 20 мая наши арьергардные части вели ожесточенные бои в районе Керчи, чтобы дать возможность основным силам фронта переправиться на Таманский полуостров. Однако провести эвакуацию организованно не удалось. Противник захватил почти всю нашу боевую технику и тяжелое вооружение и позже использовал их в борьбе против защитников Севастополя»[120].
В таких лаконичных словах описывается в советской «Истории войны» поражение Красной Армии в Крыму.
В книге говорится, что основными причинами этого поражения являлись неправильная организация обороны, «неглубокое оперативное построение войск фронта» и отсутствие необходимых для обороны резервов. В качестве других причин указываются: «Беспечность штабов фронта и армий, недостаточно маскировавших командные пункты и не менявших периодически место их нахождения, способствовала тому, что немецкая авиация при первом же налете разбомбила эти пункты, нарушила проводную связь и управление войсками. К использованию радио…, штабы не были подготовлены[121]. После этого командующий фронтом генерал-лейтенант Козлов и член Военного совета Мехлис, равно как и много других офицеров и комиссаров, были сняты с постов и понижены в звании. Мехлис, который являлся тогда одновременно и заместителем наркома обороны и одним из руководителей Главного политического управления Красной Армии, был освобожден от обоих этих постов и понижен в звании до корпусного комиссара. Его и остальное командование керченской группировки обвинили в том, что, вместо того чтобы действовать, они «тратили время на многочисленные бесплодные заседания Военного совета фронта». В частности, они слишком затянули дело с отводом войск к Турецкому валу, что оказалось гибельным для всей оборонительной операции. Керченская катастрофа проложила путь к еще более крупной неудаче - падению Севастополя. После ликвидации Керченского участка фронта руки у фон Манштейна были развязаны и он смог сосредоточить против Севастополя все свои войска в Крыму.
Согласно советской «Истории войны», Верховное Главнокомандование СССР допустило при планировании весенних операций ряд ошибок. Во-первых, исходя из сосредоточения войск противника на московском направлении, оно решило, что главный удар немцы нанесут по Москве; во-вторых, Советское Верховное Главнокомандование попросту переоценило свои силы и недооценило силы немцев.
Поражение в мае 1942 г. советских войск под Харьковом воспринималось особенно тяжело, быть может, потому, что как раз в ту пору происходило важное сближение Советского Союза с Англией и Америкой. Эта крупная неудача самым отрицательным образом сказалась на последующем развитии боевых действий Красной Армии в летней кампании 1942 г.
В марте 1942 г. Верховное Главнокомандование разработало план крупного наступления на Украине, которое должно было вывести Красную Армию на линию, шедшую от Гомеля на севере к Киеву, далее примерно по правому берегу Днепра, через Черкассы и к Николаеву на Черном море. Из-за нехватки резервов от этого плана пришлось отказаться и ограничиться наступлением более скромных масштабов, главной целью которого являлось освобождение Харькова. Один удар советские войска должны были нанести с участка к северу от Харькова, другой - с юга, с так называемого барвенковского выступа, отбитого у немцев зимой.
Немцы сами планировали наступление в этом районе, но русские опередили их, когда начали 12 мая свое наступление на харьковском направлении. Вся беда заключалась в том, что у советских войск отнюдь не было здесь подавляющего превосходства сил и, кроме того, что еще хуже, у немцев (как показали следующие события) имелись поблизости мощные подвижные резервы, тогда как у советского командования таких резервов не было. Советский историк Тельпуховский оценивает эту операцию следующим образом:
«Чтобы сорвать наше наступление, 17 мая крупная группировка немецко-фашистских войск при поддержке большого количества танков и авиации нанесла сильный удар 9-й армии в районе Славянска и южнее Барвенкова. Войска этой армии вынуждены были отойти на левый берег реки Северский Донец, оголив фланг ударной группировки советских войск, наступавшей на Харьков. Выход противника на коммуникации советских войск, наступавших на Харьков, поставил их в исключительно тяжелое положение, и они вынуждены были с тяжелыми боями отходить на восток, неся большие потери»[122].
В «Истории войны» этот эпизод описывается с большей откровенностью: говорится, что советские войска продолжали наступление на Харьков вопреки явно назревшей угрозе окружения, что танковые резервы были введены в действие слишком поздно и не смогли спасти положение. И, наконец, признается, что много советских войск попало в окружение и что в отчаянных попытках прорваться погибло немало верных сынов советской Родины. Многим удалось вырваться, переправившись на левый берег Северского Донца, но остальные продолжали бои в окружении вплоть до 30 мая.
«Таким образом, успешно начавшаяся в районе Харькова наступательная операция советских войск закончилась тяжелым поражением почти трех армий Юго-Западного и Южного фронтов»[123].
Точные данные о потерях Красной Армии под Харьковом не были опубликованы; однако очевидно, что они были велики. Немцы, по крайней мере, утверждали, что они взяли 200 тыс. пленных. В конце мая Совинформбюро опубликовало сообщение, согласно которому потери советских войск составили «5000 убитыми и 70 000 пропавшими без вести»; такое сообщение было равносильно косвенному признанию, что случилось что-то серьезное. Оно произвело ошеломляющее впечатление. Была даже предпринята попытка представить Харьковское сражение как победу русских войск: в начале июня иностранных корреспондентов специально возили в лагерь немецких военнопленных близ Горького; но те 600-700 пленных, которых нам там показали, были, несомненно, захвачены на первом этапе Харьковской операции - то есть в ходе советского наступления 12-17 мая. Большинство их, хотя и проклинали свое «невезение», держались, несмотря ни на что, чрезвычайно нахально; они твердили, что в 1942 г. Германия разобьет Россию, и ни на минуту не соглашались поверить в возможность своевременного открытия какого-либо второго фронта.
Третью крупную неудачу советские войска потерпели летом 1942 г. в Севастополе; однако в отличие от Керчи и Харькова падение Севастополя было одним из самых славных русских поражений за всю советско-германскую войну. Девятимесячная осада Севастополя во многом (если не считать ее трагического конца) напоминает осаду Ленинграда: здесь мы видим те же необыкновенную стойкость и сплоченность, какие проявили ленинградцы. Патриотизм, основанный на исторических воспоминаниях о другой севастопольской осаде - осаде 1853 - 1854 гг. - и о таких защитниках Севастополя, как адмиралы Нахимов и Корнилов, а вместе с тем и особые революционные и патриотические традиции моряков-черноморцев оказали решающее влияние на моральное состояние и солдат и населения.
Огромную роль сыграли также очень сильные и активные партийная и комсомольская организации Севастополя. К концу осады решимость сопротивляться до последней капли крови подкреплялась еще и тем простым и трагическим фактом, что, за исключением высшего командования, немногих офицеров и солдат, которым удалось с опасностью для жизни покинуть город на последних военных кораблях и подводных лодках, защитники города не имели никакой другой возможности избежать немецкого плена, кроме как сражаться до последнего патрона.
Как мы уже видели, в октябре 1941 г. немцы захватили весь Крым, кроме Севастополя. Осада этой крупной военно-морской базы началась 30 октября, и первая предпринятая немецкой 11-й армией под командованием фон Манштейна попытка прорваться к Севастополю (который был защищен на суше полукружием из трех более или менее хорошо укрепленных линий обороны) продолжалась с 30 октября до 21 ноября. Очень важную роль в отражении этого первого крупного наступления немцев сыграли орудия Черноморского военного флота и отряды морской пехоты, сражавшиеся на берегу. Последние, подобно морякам-балтийцам в Ленинграде, составляли самую стойкую, самую выносливую часть советских войск. Наиболее известный пример самопожертвования во время этого первого немецкого наступления показали пять моряков-черноморцев во главе с политруком Фильченковым. Когда у них кончились все боеприпасы, они бросились с еще оставшимися у них гранатами под приближавшиеся немецкие танки и тем самым помешали немцам прорваться к Севастополю с северо-востока. Этот героический подвиг пяти моряков-севастопольцев был воспет во многих песнях и стихах, в том числе в очень красивой песне Виктора Белого.
Хотя немцы и румыны располагали значительным превосходством как в живой силе, так и в самолетах и танках, у Севастополя было то преимущество, что он был хорошо защищен с суши естественными препятствиями; значительную помощь оказывал городу также и флот с его мощными орудиями. В ноябре 1941 г. гарнизон Севастопольского оборонительного района насчитывал свыше 50 тыс. человек, включая 21 тыс. моряков. Численность немецко-румынских войск была, согласно советским источникам, по крайней мере вдвое больше.
В результате первого наступления, длившегося три недели, немцам удалось лишь немного вклиниться кое-где в первую из трех линий обороны; единственным серьезным успехом их был в этот период захват Балаклавских гор, к востоку от Балаклавы, которая сама продолжала оставаться в руках обороняющихся. Несколько более успешным было второе немецко-румынское наступление, в период 17-31 декабря; на этот раз противник, наступавший с севера, оттеснил советский гарнизон на линию, проходившую в 8 км от Севастополя; немного немцы продвинулись к городу и с востока; но к 31 декабря и это наступление выдохлось, отчасти в результате успешной высадки советского десанта на Керченском полуострове, которая, как мы видели, отвлекла от Севастополя значительное количество немецких войск. Наиболее прославленным эпизодом в ходе этого второго немецкого наступления на Севастополь явился подвиг горсточки черноморских моряков, в течение трех дней оборонявших дзот № 11 в деревне Камышлы, пока все они не были убиты или смертельно ранены.
О том, как жил Севастополь на протяжении девяти месяцев его осады, замечательно рассказал после войны Б.А. Борисов, который все это время был секретарем Севастопольского горкома партии и председателем Городского комитета обороны. Он говорит о севастопольских летчиках - таких, как Яков Иванов, - таранивших вражеские самолеты обычно ценой своей жизни; о том, как в ходе первых двух немецких наступлений практически все население Севастополя пришлось переселить в убежища, подвалы и штольни - настолько ожесточенными и непрерывными были бомбежки города; он рассказывает о глубокой штольне на берегу Северной бухты, в которой был организован огромный цех («Спецкомбинат № 1»), где люди делали минометы, мины и ручные гранаты, и о втором таком же цехе («Спецкомбинат № 2») в Инкермане, где в подвалах, использовавшихся ранее для хранения крымского шампанского, было налажено массовое производство обмундирования и обуви. Он повествует о подземных детских школах, организованных в самом Севастополе, и о многочисленных подкреплениях, прибывавших в Севастополь морским путем - сначала из Одессы, а после ее падения - с Кавказа. Особенно, пожалуй, волнует то удивительное чувство подъема и оптимизма, каким был охвачен Севастополь в январе и феврале, после провала второго немецкого наступления на город и после успешной высадки советского десанта на Керченском перешейке. Тогда думали, что если Керчь и Севастополь выстоят, то вскоре будет освобожден и весь Крым. Люди вернулись из убежищ и штолен обратно в свои разбитые дома, и молодежь энергично взялась за восстановление зданий. По улицам Севастополя начали даже ходить трамваи, хотя немцы стояли всего в восьми километрах к северу от города. В день 1 Мая, почти ровно через шесть месяцев после начала осады, в Севастополе состоялись многочисленные митинги и празднества, несмотря на то что немцы несколько раз бомбили его и обстреливали из орудий. В этот день, пишет Борисов, «части, оборонявшие Севастополь, готовились оказать помощь нашим войскам на Керченском полуострове, наступление которых ожидалось со дня на день».[124]
И в городе и на фронте все говорили о том, что Крым скоро будет освобожден и осада Севастополя будет снята.
Но пришло трагическое известие о сдаче Керчи, и Севастополь приготовился теперь к худшему. Началась несколько беспорядочная эвакуация детей и стариков. Сообщение с Большой землей по морю стало весьма ненадежным. Половина севастопольских комсомольцев (среди них много девушек) записалась в армию, остальные остались в городе, чтобы работать по две смены на севастопольских оборонных предприятиях. Снова пришлось переселять людей из домов в убежища и штольни.
И вот наступило последнее испытание. Около 20 мая из донесений разведки и из сообщений, поступавших от действовавших в Крымских горах партизан, стало известно, что к Севастополю движутся с разных направлений многочисленные немецкие войска. 2 июня сотни немецких самолетов начали усиленно бомбить Севастополь, и в городе стали ежедневно разрываться сотни тяжелых снарядов. За шесть дней немцы сбросили на Севастополь 50 тыс. фугасных и зажигательных бомб и выпустили по нему многие тысячи снарядов. Разрушения были чудовищны, потери в людях очень большие. Немцы использовали здесь гигантскую осадную пушку «Дору», сделанную для того, чтобы крушить мощнейшие укрепления линии Мажино.
7 июня началось решающее наступление на Севастополь немецко-румынских войск. В связи с огромным превосходством немцев в воздухе советские аэродромы вокруг Севастополя теперь почти полностью вышли из строя; немецкая авиация практически перерезала также и морские коммуникации между Севастополем и Кавказом. Те незначительные количества продовольствия, сырья и бензина, которые все еще поступали в Севастополь с Большой земли, обычно подвозились на подводных лодках или катерах. Подводные лодки использовались также для эвакуации раненых. Ясно, что они могли взять лишь очень незначительное число людей и что большинство раненых продолжало оставаться в севастопольском пекле. Местная оборонная промышленность не могла уже больше удовлетворять все нужды войск; непрерывная бомбежка и обстрел делали доставку продовольствия и воды в переполненные людьми штольни и другие убежища почти невозможной.
После трехдневных тяжелых боев, которые затем велись еще в течение двух-трех дней на улицах Севастополя, немцы заняли то, что еще оставалось от города. Стояла июльская жара, и бесчисленное множество незахороненных трупов источало настолько сильное зловоние, что последние защитники оказались вынужденными сражаться в противогазах. Тем временем была предпринята попытка организовать хотя бы какую-то эвакуацию раненых с Херсонесского мыса, находящегося километрах в двенадцати к западу от Севастополя. Одному самолету удалось приземлиться здесь ночью и взять нескольких раненых, подошедшая подводная лодка забрала вице-адмирала Октябрьского, генерала Петрова, генерала Крылова и других представителей высшего командования армии и партийного руководства.
Борисов рисует замечательные портреты некоторых руководителей севастопольского комсомола. Все эти юноши и девушки, отличавшиеся беспредельным патриотизмом, стойкостью и преданностью своему долгу, либо были убиты в боях на подступах к Севастополю, либо погибли или попали в плен после того, как немцы вошли в город. Борисов останавливается, в частности, на трагической судьбе двух комсомольцев - Саши Багрия и Нади Краевой. Подобно другим, они напрасно ждали на Херсонесском мысу прибытия самолета или катера: один самолет действительно приземлился здесь глубокой ночью, но смог захватить только нескольких раненых. На рассвете обстрел аэродрома возобновился, и теперь о посадке самолетов не могло быть и речи. Не могли подойти к Херсонесу также и катера. Обнаружив большое скопление у Херсонесского мыса солдат и гражданских лиц, немцы начали их обстреливать.
«Багрий и Надя… примкнули к одному из воинских подразделений… Они взяли у убитых краснофлотцев винтовки и патроны и вместе с другими… решили пробиться в горы, к партизанам… На них обрушился смерч огня… На поле боя осталась половина смельчаков… Вскоре была сделана вторая попытка, но и она не увенчалась успехом. А на рассвете… гитлеровские войска перешли в наступление. Ответные выстрелы советских бойцов были слышны реже и реже… Краснофлотцы и красноармейцы нередко отражали атаки в рукопашной схватке… Нади не стало… А через несколько дней, еле-еле передвигая ноги, в колонне пленных брел Саша… Его видели еле живым, харкающим кровью и тяжело раненным в Бахчисарае, потом в Симферополе… Нашлись предатели, которые выдали Багрия. Гитлеровцы не простили ему того, что он сделал для своей Родины, для Севастополя»[125].
Мне удалось увидеть Севастополь в мае 1944 г., после того как он был освобожден русскими войсками. Я услышал тогда много еще более волнующих рассказов о последних днях севастопольской страды в июне и июле 1942 г. В июле 1942 г. в Москве знали лишь то, что только очень немногим защитникам Севастополя удалось выйти из него. Говорили, что в руки немцев попало 26 тыс. солдат и офицеров, преимущественно раненых. Немцы утверждали, что захватили 90 тыс. человек[126].
В Москве отдавали себе ясный отчет лишь в одном: после победы немцев на Керченском полуострове в мае судьба Севастополя была предрешена; не известно было лишь, сколько времени он еще продержится. Севастополь продержался дольше, чем можно было предполагать, и его героическую оборону не без сарказма противопоставляли - это сделал прежде всего Эренбург - «бесславной» сдаче Тобрука всего за неделю до этого.
О близком падении Севастополя было сообщено с максимальной осторожностью. В сообщениях о положении в Севастополе в последние две недели сопротивления города все чаще стало употребляться выражение «тяжелые бои», которое означало, что дела идут очень скверно. 28 июня «Правда» заговорила уже о «неувядаемой славе» Севастополя. 30 июня Эренбург писал в «Красной звезде»:
«Немцы… хвастали: «Пятнадцатого июня мы будем пить шампанское на Графской набережной»… Военные обозреватели предсказывали: «Вопрос трех дней, может быть, одной недели»… Они знали, сколько у них самолетов, они знали, как трудно защищать город, отрезанный от всех дорог. Они забывали об одном: Севастополь не просто город. Севастополь - это слава России и это гордость Советского Союза…
Мы видели капитуляции городов, прославленных крепостей, государств. Но Севастополь не сдается. Наши бойцы не играют в войну - они дерутся насмерть. Они не говорят «я сдаюсь», когда на шахматном поле у противника вдвое, втрое больше фигур».
Это было явным кивком в сторону Тобрука. Однако все видели, что конец Севастополя уже близок. 1 июля в сообщениях Совинформбюро говорилось:
«Сотни фашистских самолетов сбрасывали бомбы на передний край обороны и на город. В течение дня враг совершил более тысячи самолето-вылетов… Каждый защитник Севастополя старается истребить как можно больше гитлеровцев».
А 4 июля Совинформбюро сообщило, что по приказу Верховного Главнокомандования Красной Армии 3 июля советские войска после 250 дней осады оставили город Севастополь.
Три дня спустя вице-адмирал Октябрьский опубликовал в «Правде» подробный рассказ о Севастопольской битве.
(обратно)Глава IV. Новое немецкое наступление
Xотя Севастополь пал только в начале июля, судьба его была предрешена уже тогда, когда Верховный Совет coбрался 18 июня, чтобы ратифицировать англо-советский договор. В мае произошли к тому же катастрофы в Керчи и Харькове. Тем не менее 21 июня газета «Красная звезда» утверждала, что «о наступлении германской армии, подобном тому, какое было в летние месяцы прошлого года, - не может быть и речи. Перед немцами теперь… стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться… Наступательные действия неприятеля не могут выйти за рамки ограниченных целей».
Как показали последующие события, такая оценка обстановки была далека от действительной, так же как и опубликованные Совинформбюро 23 июня «Политические и военные итоги года Отечественной войны»; в них приводились цифры потерь, призванные подтвердить заявление о том, будто Красная Армия настолько ослабила военную машину Германии, что уже создалась почва для разгрома германской армии в 1942 г. Германия якобы потеряла убитыми, ранеными и пленными 10 млн. человек, в то время как СССР - 4,5 млн.; таково же примерно было соотношение потерь в технике. Эти цифры были, мягко выражаясь, маловероятными и никогда не перепечатывались в советских материалах послевоенного периода. Заслуживают внимания цифры людских потерь (исключая больных) Германии, приводимые в дневнике генерала Гальдера: по его данным, к концу зимней кампании немецкие потери составляли почти миллион человек; затем, после относительного затишья в феврале - мае (когда они потеряли тем не менее около 200 тыс. человек), потери немцев снова возросли и в период между началом майских операций и началом Сталинградской битвы составили полмиллиона человек. Таким образом, даже на досталинградском этапе кампании 1942 г. победы доставались немцам нелегко.
Более реальной представляется цифра советских потерь, данная в сообщении Совинформбюро от 23 июня.
«Конечно, - говорилось далее в сообщении Совинформбюро, - на фронте такой протяженности… гитлеровское командование еще в состоянии на отдельных участках сосредоточить значительные силы войск… и добиваться известных успехов. Так, например, случилось на Керченском перешейке… Но… успехи, подобно успехам на Керченском перешейке, ни в какой мере не решают судьбу войны… Немецкая армия 1942 года - это не та армия, какая была в начале войны. Отборные немецкие войска в своей основной массе перебиты… Ныне немецкая армия не в состоянии совершать наступательных операций в масштабах, подобно прошлогодним» (курсив мой. - А. В.).
Эта оптимистическая оценка очень скоро была опровергнута событиями, и по мере дальнейшего развития немецкого наступления летом 1942 г. понимание того, что Родина снова в смертельной опасности, стало день ото дня расти. Правда, это было уже не прежнее чувство растерянности, как в первые дни после немецкого вторжения в 1941 г.; к тому же факт, что немцам не удалось захватить ни Москвы, ни Ленинграда, вселял в советских людей не только надежду, но, пожалуй, и уверенность в том, что враг будет вновь остановлен. При всем том, если сообщения Совинформбюро в мае и на протяжении большей части июня были туманными, но в меру оптимистическими, то те, которые последовали дальше, ввергли многих советских людей в уныние.
Гитлеровская директива № 41, составленная весной 1942 г., наметила основные цели летней кампании немецких войск, однако позднее, в ходе этой кампании, в нее был внесен ряд существенных изменений. Вкратце гитлеровский план сводился к следующему: во-первых, ликвидация советских сил в Крыму (в Керчи и Севастополе); во-вторых, захват Воронежа, в результате чего были бы поставлены под серьезную угрозу немецкого удара как центральная часть России к юго-востоку от Москвы (район Тамбова - Саратова), так и Сталинград; в-третьих, окружение и ликвидация главных советских войск в излучине Дона ударом с двух направлений: на юго-восток от Воронежа и на северо-восток от Таганрога; в-четвертых, - после того как была бы открыта таким образом дорога на Сталинград, - либо захват этого города на Волге, либо в крайнем случае полное его разрушение посредством бомбежек. Затем немецкие армии должны были повернуть прямо на юг, в направлении Кавказа, завладеть нефтяными районами - Майкоп, Грозный и Баку - и, наконец, достичь южной границы Советского Союза, что, очевидно, побудило бы Турцию вступить в войну на стороне держав «оси». Кроме того, этот план предусматривал новую попытку захвата Ленинграда.
Однако стоило только начать намеченную кампанию, как в план был внесен ряд существенных и, как потом оказалось, роковых изменений. Во-первых, Красная Армия остановила немцев у Воронежа, во-вторых, советские войска не дали поймать себя в западню - по крайней мере в большом числе - в излучине Дона. Эти два обстоятельства, а также некоторые другие моменты (такие, как легко осуществленный немцами захват Ростова) заставили Гитлера изменить свой первоначальный план. Впоследствии Маршал Советского Союза В.И. Чуйков писал по этому поводу следующее:
«Вскоре, отказавшись от последовательности в проведении операций, то есть вместо того, чтобы главными силами на третьем этапе операций попытаться захватить Сталинград и потом повернуть эти силы на завоевание кавказской нефти, Гитлер решил проводить сразу две операции: захват Сталинграда и наступление на Кавказ»[127].
Крупное немецкое наступление, развернувшееся на широком фронте 28 июня - то есть за несколько дней до падения Севастополя, вначале приобрело все известные уже черты блицкрига. Вскоре немцы заняли те районы Донбасса, которые находились еще в руках советских войск, а 19 июля пал важный промышленный город Луганск. Еще быстрее шло продвижение немецких войск дальше на север, и остановлены они были только у Воронежа. Здесь советским армиям вновь созданного Воронежского фронта удалось предотвратить опасность прорыва немцев в направлении Тамбова - Caратова, что в скором времени отрезало бы Москву от восточной части страны. До сих пор еще не ясно - несмотря на все споры, которые ведутся по этому поводу историками обеих сторон, - входило ли наступление на Тамбов - Саратов вообще когда-либо в планы немцев, однако советское командование явно предусматривало такую возможность и по этой причине сосредоточило в районе Воронежа очень крупные силы.
Коммуникации с востоком и с юго-востоком страны уже стали весьма ненадежными. Волжске-Каспийский водный путь, с его судами и танкерным флотом, представлял собой один из главных путей снабжения и стоил десяти железных дорог. Практически вся кавказская нефть шла по Волге. Весной 1942 г., после того как лед на Волге растаял, в Москву и в Центральную Россию были доставлены огромные количества кавказской нефти, равные чуть ли не годовому запасу; однако с началом летней кампании бомбежки волжского пути немецкой авиацией делали перевозки по нему все более рискованными. Снабжение нефтью с востока шло по железным дорогам, проходившим через Саратов - Тамбов, что явилось одной из причин решимости советского командования любой ценой задержать немцев у Воронежа.
Общая обстановка - если оставить в стороне провал попытки немцев прорваться на Воронежском участке фронта[128], провал, имевший столь существенное значение, - выглядела весьма мрачно. Уже прорыв немецких войск в широкие просторы Донщины достаточно осложнял положение. Но настоящим ударом явилось для советского народа известие о потере Новочеркасска и Ростова, о чем было сообщено 28 июня. Утрата этих городов означала, что теперь немцы займут Кубань и Кавказ. В то же время они уже проникли далеко в глубь Донщины и начали форсировать Дон на южной стороне излучины, у Цимлянской, на пути к Сталинграду.
Что произошло в Ростове? Как в печати, так и в частных беседах по этому поводу делалось много туманных намеков. Все они сводились к тому, что некоторые соединения Красной Армии впали в панику и бежали от бешеного натиска немцев. На этот раз немцы наступали на Ростов, не с запада, как в 1941 г., а с севера и северо-востока; с этих сторон подступы к городу не были сколько-нибудь серьезно укреплены. Из сообщений печати явствовало, что никакого приказа об оставлении города войскам не давалось. Многие генералы и офицеры были понижены в должности и звании. По всей стране пронеслось требование: «Возьмите себя в руки!», и это требование нашло громкий отклик в печати. В последовавшие затем дни все больше и больше писалось о введении «железной дисциплины»; вина за падение Ростова открыто возлагалась на «трусов и паникеров», не выполнивших свой долг по обороне города.
Во всем этом «ростовском деле» есть некоторые озадачивающие стороны. С военной точки зрения чрезвычайно сомнительно, чтобы в создавшейся в июле 1942 г. обстановке можно было оборонять город более или менее длительное время. Говорили даже (может быть, учитывая горький опыт), что всякая попытка сделать из Ростова второй «Севастополь» могла кончиться лишь окружением, а это повлекло бы за собой напрасную гибель многих тысяч очень нужных людей. Как бы то ни было, но оставление Ростова без приказа дало толчок для проведения широкой психологической, а также организационной кампании. Каждый, кто был в то время в СССР, знает, что в тот день, когда объявили о падении Ростова, большая тревога, нараставшая в народе на протяжении всего июля, достигла апогея. Сейчас, оглядываясь на тот период, можно с уверенностью сказать, что психологическая кампания, предпринятая в результате падения Ростова, сыграла весьма благотворную роль; правда, в августе настроение в стране продолжало оставаться тревожным, но, когда немцы стали приближаться к Сталинграду, какой-то удивительный инстинкт подсказал людям, что их ожидает перемена к лучшему.
Именно после падения Ростова командование Красной Армии приняло решительные меры к пресечению дальнейших случаев беспорядочного отступления; 30 июля войскам был зачитан приказ Сталина с требованием: «Ни шагу назад!», и хотя приказ этот выполнялся далеко не буква в букву - советские армии продолжали стремительно отступать на Северном Кавказе и (медленнее) на Дону, на сталинградском направлении, - все же теперь, как мы увидим, кое-что изменилось по сравнению с более ранним этапом летней кампании.
Чтобы лучше понять события этого периода, следует обратиться не к официальным историческим трудам, а к воспоминаниям советских полководцев, игравших активную роль в тогдашних операциях, особенно маршалов Еременко и Чуйкова. Конечно, как все генералы в мире, они имеют претензии к некоторым своим коллегам; однако, что хорошо видно из их воспоминаний (и что совсем не было видно тогда), так это не только то, чтр некоторые генералы были хороши, другие же никуда не годились, но и то, что если в некоторых соединениях политико-моральное состояние и боеспособность стояли на высоком уровне, то другие были почти полностью деморализованы.
Еще более живое представление о том, что происходило на юге, дают некоторые романы послевоенного времени, такие, как «Молодая гвардия» Фадеева, или кинофильмы, вроде вышедшей значительно позже «Баллады о солдате», где показаны дороги, кишевшие беженцами, которых обстреливали немецкие самолеты; поезда, на которые обрушивались немецкие бомбы; беспорядочно отступавшие войска. Это были страшные сцены, воскрешавшие в памяти самые черные дни 1941 г., с той только разницей, что в 1942 г. практически отступать было уже некуда. Или, точнее, последними рубежами являлись Волга и предгорья Кавказа. Люди в отчаянии думали, что, если немцы не будут остановлены на этих рубежах, война окажется фактически проигранной.
Сложившееся на фронте в конце июля и в начале августа положение, несомненно, было весьма серьезным. В излучине Дона шли очень тяжелые бои, и немцы уже форсировали реку у Цимлянской. Они явно двигались на Сталинград. Тем временем советские войска отступали по всему фронту на Кубани. К 3 августа армии немцев, наступавшие с цимлянского плацдарма, достигли Котельникова, а затем, вплоть до 18 августа, продолжали продвигаться, уже медленнее, к Сталинграду. Единственным утешением было то, что советским войскам удалось прочно закрепиться в полосе к северу от излучины Дона, а также на ряде предмостных укреплений на самой излучине, в частности у Клетской. Несколько позже они захватили также плацдарм у Серафимовича, который, как мы увидим, сыграл важную роль в ноябрьском контрнаступлении под Сталинградом.
Гораздо более быстрыми темпами шло немецкое наступление на Кавказе. К 11 августа бои перебросились к нефтепромысловому городу Майкопу и к Краснодару, и продвигавшиеся к Черноморскому побережью немецкие войска начали углубляться в горы. На южном направлений они к 21 августа заняли знаменитые бальнеологические курорты в предгорьях Кавказа - Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. На юго-восточном направлении они стремительно приближались к жизненно важным нефтеносным районам Грозного и Баку.
(обратно)Глава V. Призыв «Отечество в опасности!»
Многие на Западе склонны рассматривать все, что печаталось в СССР во время войны, «только как пропаганду», и что истинную правду можно найти только в нынешних, послевоенных исторических трудах. Для тех, кто, как я сам, жил в то время в Советском Союзе, нынешние советские исторические работы об этом периоде выглядят чересчур упрощенно.
В моем московском дневнике, который я цитирую в книге «Год Сталинграда», я отмечал в высшей степени накаленную атмосферу того лета; ее можно было ощутить даже на обычном концерте из произведений Чайковского; каждый чувствовал, что всей русской цивилизации грозит ныне смертельная опасность. Помню, как в один из самых тяжелых дней июля 1942 г. люди вокруг меня плакали, когда звучала знаменитая тема любви в увертюре-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта». Странно, конечно! Но так действительно было.
Чувством грозящей смертельной опасности проникнуто и стихотворение «Мужество», которое написала Анна Ахматова (хотя опубликовано оно было только год спустя):
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки![129]
Именно в то лето в Москве была впервые исполнена знаменитая «Ленинградская симфония» Шостаковича. Впечатление, которое производила на слушателей ее первая часть, рассказывающая о немецком наступлении - продолжавшемся еще и в то время, - было поистине ошеломляющим.
Летом 1942 г. и в литературе,, и в пропаганде безраздельно властвовали только два чувства. Одним была та же любовь к Родине, которая пронизывала все, что писалось в разгар битвы под Москвой, - только теперь еще более горячая и нежная. Это была также любовь к собственно России. Вторым чувством была ненависть. На протяжении всех этих месяцев она росла и росла, пока не вылилась наконец в самые черные дни августа в пароксизм самой настоящей ярости. Клич «Убей немца!» стал в России выражением всех десяти заповедей, слитых в одну. Глубокое впечатление произвел на советскую общественность опубликованный 23 июня во многих газетах рассказ Шолохова «Наука ненависти» - история русского военнопленного, которого немецкие солдаты подвергли жесточайшим пыткам. Написанный живо и убедительно, этот рассказ в большой мере задал тон пропаганде ненависти, развернувшейся в последующие недели.
Очень большую роль в великой битве за поднятие морального духа советских людей летом 1942 г. сыграл также Эренбург; каждый солдат в армии читал Эренбурга; известно, что партизаны в тылу врага охотно обменивали лишний пистолет-пулемет на пачку вырезок его статей. Можно любить или не любить Эренбурга как писателя, однако нельзя не признать, что в те трагические недели он, безусловно, проявил гениальную способность перелагать жгучую ненависть всей России к немцам на язык едкой, вдохновляющей прозы; этот рафинированный интеллигент интуитивно уловил чувства, какие испытывали простые советские люди. С идеологической точки зрения то, что он писал, было неортодоксально, но из тактических соображений в тогдашних условиях было сочтено целесообразным предоставить ему свободу действий. Позднее его статьи, изданные уже в виде книги, не производили прежнего впечатления; надо, однако, поставить себя на место русского, который смотрит летом 1942 г. на карту и видит, как немцы занимают один город за другим, одну область за другой; надо поставить себя на место русского солдата, который отступает к Сталинграду или Нальчику и говорит себе: докуда мы еще будем отступать? Докуда мы сможем еще отступать? Статьи Эренбурга помогали каждому такому человеку взять себя в руки. Эренбург был не один, но в битве за укрепление, поднятие морали Красной Армии ему, несомненно, принадлежит центральное место. Его статьи печатались главным образом в газете «Красная звезда» и перепечатывались в сотнях фронтовых газет. Важное моральное воздействие оказывали также некоторые произведения Алексея Толстого, Симонова, Суркова и многих других.
Пьеса Симонова «Русские люди», полностью напечатанная в «Правде» в июле и шедшая на сцене сотен театров во всех уголках страны, типична как художественное воплощение темы «все русские едины». Пьеса показывает, как в неком приморском городе, своего рода Севастополе в миниатюре, горсточка русских, и среди них бывший царский офицер, бьется против немцев до тех пор, пока почти все они не оказываются убитыми, - трогательные хрупкие человеческие создания, вступившие в борьбу со страшной, бесчеловечной машиной. В обстановке 1942 г. эта пьеса глубоко волновала; я помню, как мертвая тишина, не нарушавшаяся в течение по крайней мере десяти секунд, царила в зале филиала Московского Художественного театра, когда опустился занавес в конце 6-й картины, ибо последними словами в этой сцене было: «Ты слыхал или нет, как русские люди на смерть уходят?» Многие из женщин в зрительном зале плакали. Излишне говорить, что пьеса имела счастливый конец; в последнем акте части Красной Армии берут город обратно. В те дни иного конца и быть не могло, поскольку плохой конец действовал бы слишком угнетающе. Чувство ненависти к немцам, очень острое уже в «Русских людях», на протяжении этого лета неизменно росло и дошло до максимума в знаменитом стихотворении Симонова «Убей его!». Наряду с многими другими поэтами, как Семен Кирсанов и Долматовский, важную роль в поддержании морального состояния русского народа сыграл Алексей Сурков. В отличие от Симонова, являвшегося скорее «офицерским» поэтом, Сурков был поэтом «солдатским». Стихотворение его «Ненавижу!», опубликованное 12 августа в газете «Красная звезда», заканчивалось следующими строками:
Стало сердце, как твердый камень. Счет обиды моей не мал. Я ведь этими вот руками Трупы маленьких поднимал… Ненавижу я их глубоко За часы полночной тоски И за то, что в огне до срока Побелели мои виски… Осквернен мой дом пруссаками, Мутит разум их пьяный смех, Я бы этими вот руками Задушил их, проклятых, всех.
А Эренбург в самый разгар отступления советских армий на Северном Кавказе и когда немцы рвались к Сталинграду, писал в «Красной звезде» 13 августа 1942 г.:
«Можно все стерпеть - чуму, голод, смерть. Нельзя стерпеть немцев. Нельзя стерпеть этих олухов с рыбьими глазами, которые презрительно фыркают на все русское… Не жить нам, пока живы эти серо-зеленые гады.
Нет сейчас ни книг, ни любви, ни звезд, ничего, кроме одной мысли: убить немцев. Перебить их всех. Закопать. Тогда уснем. Тогда вспомним про жизнь, про книги, про девушек, про счастье…
Не будем надеяться ни на реки, ни на горы. Будем надеяться только на себя… Фермопилы их не остановили. Критское море их не остановило. Их остановили люди - не в горах и не на берегу широкой реки - на подмосковных огородах…
Мы их перебьем… Но нужно их перебить скорее, не то они разорят всю Россию, замучают еще миллионы людей».
24 июня 1942 г. он писал в «Красной звезде»:
«Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятье… Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать… Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии… Если ты убил одного немца, убей другого…»
Эти две пропагандистские темы развивались как до, так и после падения Ростова. Но после падения этого города в пропаганде зазвучала новая нотка, отчасти призванная подкрепить те организационные изменения, которые были проведены в Красной Армии; она заключалась в том, что вину за все происходящее следует, дескать, возлагать главным образом на саму армию.
Сейчас, оглядываясь на прошлое, думается, что жестокие упреки, которые адресовались в те дни Красной Армии, были несправедливы. Игнорировался факт, что летом 1942 г. она все еще испытывала серьезную нехватку боевой техники и что на большей части Южного фронта немцы обладали огромным превосходством в танках и особенно в самолетах.
После падения Ростова началось серьезное подтягивание дисциплины в армии - вплоть до расстрела на месте за невыполнение приказа или проявление трусости. Солдатам и офицерам стали беспрестанно напоминать об их личной чести и об их долге по отношению к своему полку.
И, наконец, еще одной переменой после падения Ростова было начавшееся повышение авторитета офицеров в Красной Армии. Так, были введены новые военные награды, присуждаемые только офицерам, - ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского. Это новшество было одним из элементов кампании, в результате которой двоевластие командира и комиссара вскоре должно было снова уступить место командирскому единоначалию.
Но только в разгар Сталинградской битвы офицерскую форму дополнили погоны и золотые галуны. Так из пепла и пламени Сталинграда вышли украшенные золотыми галунами офицеры, и в этих золотых галунах поистине отражался огонь Сталинградской битвы. Именно это и сделало расшитые золотом погоны столь популярными, именно потому их все приняли. Введение их выглядело как коллективная награда всему офицерству Советского Союза. Золотой галун подчеркивал также профессиональный характер Красной Армии. Близилось время, когда Красная Армия должна была сказать свое слово как величайшая национальная армия в Европе; было только справедливо, чтобы ее офицеры одевались так же элегантно, как английские и американские, не говоря уже о немецких. Время для появления на сцене золотого галуна - в разгар Сталинградской битвы, а не раньше - было выбрано психологически очень правильно: при отступлении изящные мундиры выглядели бы очень неуместно. Тем не менее процесс шлифовки советского офицера - как внутренней, так и внешней - начался в ходе «психологической операции», последовавшей за ростовской катастрофой.
Передачи советского радио и материалы прессы имели огромнейшее значение. Все без исключения - особенно в те тревожные дни - лихорадочно ожидали вечерних известий. Десятки миллионов людей с величайшим интересом читали пропагандистские статьи. Эренбург, Шолохов и Алексей Толстой (по-видимому, именно в таком порядке) пользовались, как мы уже видели, колоссальной популярностью. Так же обстояло дело и со статьями военных корреспондентов, сообщения которых существенно дополняли официальные сводки. Россия также, пожалуй, единственная страна, где стихи читают миллионы людей, и таких поэтов, как Симонов и Сурков, читал во время войны буквально каждый.
Интересно поэтому посмотреть, как пресса трактовала безотрадную обстановку до сдачи Ростова и после нее.
В течение первой недели упор делался на только что закончившейся героической борьбе мужчин и женщин Севастополя. Затем, когда наступление немецких войск охватило весь юг, основной темой все больше становилась ненависть к врагу. «Ненависть к врагу» - так и была озаглавлена передовая статья «Правды» от 11 июля. Тон ее был все еще скорее увещевающим, чем угрожающим, каким он стал после падения Ростова:
«Наша Родина переживает серьезные дни. Фашистские собаки с остервенением рвутся к жизненным центрам страны… Широкие донские степи расстилаются перед воспаленными от жадности… глазами фашистских разбойников… Дорогие товарищи на фронте! Верит вам родная страна. Знает она, что та же кровь течет в ваших жилах, что и у героев Севастополя… Пусть святая ненависть к врагу станет главным, единственным нашим чувством. В этой ненависти сочетаются и горячая любовь к Родине, и тревога за семьи наши, за детей, и непреклонная воля к победе… У нас есть все возможности не только остановить врага, но и разгромить его… Враг спешит, чтобы сорвать второй фронт у него в тылу. Он рвется вперед, чтобы убежать от этой опасности. Не убежит! Стойкость советского народа срывала уже не один гитлеровский план…»
Здесь звучало предостережение не ожидать слишком многого от союзников, а полагаться на собственную решимость России и спасти себя от врага.
Более высокий взлет чувства патриотизма в сочетании с темой ненависти был достигнут в стихотворении Симонова «Убей его!», напечатанном в «Красной звезде» в день падения Луганска.
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был…
Если мать тебе дорога,
Тебя выкормившая грудь…
Если вынести нету сил,
Чтобы немец, ее застав,
По щекам морщинистым бил…
Если ты отца не забыл…
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Немец взял и на пол сорвал…
Если жаль тебе, чтоб старик, старый школьный учитель твой, Перед школой в петле поник Гордой старческой головой… Если ты не хочешь отдать Ту, с которой вдвоем ходил, Ту, что долго поцеловать Ты не смел, так ее любил, Чтобы немцы ее живьем Взяли силой, зажав в углу, И распяли ее втроем Обнаженную на полу, Чтоб досталась трем этим псам, В стонах, в ненависти, в крови, Все, что свято берег ты сам, Всею силой мужской любви… Если ты не хочешь отдать Немцу, с черным его ружьем, Дом, где жил ты, жену и мать, Все, что Родиной мы зовем… Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей!
Первые отклики печати на падение Ростова были еще довольно мягкими, и передовая «Правды» от 28 июля склонна была объяснять случившееся отсутствием второго фронта, когда перечисляла те девять пехотных и две бронетанковые дивизии противника, прибывшие в Россию за последние недели «из Франции и Голландии». Однако 29 июля в высших правительственных и партийных инстанциях, видимо, что-то произошло, ибо 30 июля (в день сталинского приказа «Ни шагу назад!») «Правда» заговорила уже совершенно другим тоном.
«Железная воинская дисциплина - основа воинской организации. Без дисциплины не бывает боеспособной армии, - писала она. - Советские воины! Ни шагу назад! - таков зов Родины… Советская страна велика и обильна. Но нет ничего более вредного, как думать, что раз территория СССР обширна, то можно отходить все дальше и дальше, что можно и без предельного напряжения сил уступать заклятому врагу хотя бы клочок советской земли, что можно оставить тот или иной город, не защищая его до последней капли крови… Враг не так уж силен, как это кажется иным перепуганным паникерам».
Следующие слова звучали еще решительнее:
«Нужно, чтобы… советские воины были готовы скорее погибнуть смертью героев, чем отступить от исполнения воинского долга перед Родиной».
Слова «железная дисциплина» упоминались в этой передовой четыре раза:
«В период гражданской войны Ленин говорил: «Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии, не поддерживает из всех сил порядка и дисциплины в ней, тот предатель и изменник»… На VIII съезде партии… товарищ Сталин говорил, что либо мы создадим настоящую Рабоче-Крестьянскую «строго дисциплинированную армию и защитим республику, либо пропадем». Сейчас… приказ командира - железный закон».
«Красная звезда» выразилась в этот день еще яснее: «Сейчас не такое время, чтобы Красная Армия могла потерпеть в своих рядах малодушных… Трус и предатель не могут рассчитывать на пощаду…
Каждый командир и политработник властью, данной им государством, обязаны обеспечить такой порядок… при котором самая мысль об отходе без приказа была бы невозможной… Ни шагу назад! - таково повеление Родины».
1 августа «Красная звезда» добавила мрачную (и до тех пор не предававшуюся гласности) деталь к уже известной истории 28 панфиловцев, которые погибли в битве за Москву, сражаясь против немецких танков:
«Вспомним, как 28… героев-гвардейцев расправились с одним презренным трусом. Не сговариваясь, панфиловцы одновременно выстрелили в изменника, и в этом священном залпе прозвучала их решимость не сойти с рубежа, бороться до конца».
Газета напоминала также о герое гражданской войны Щорсе, одним из правил которого было: «Боец, вышедший из боя без приказания командира, расстреливается как за измену».
Есть все основания думать, - что, опираясь на эти новые меры «железной дисциплины» против «предателей» и «трусов», некоторые политработники Красной Армии зашли в своих действиях в течение последующей недели слишком далеко. Ничем иным нельзя объяснить передовую «Красной звезды» от 9 августа, где пояснялось, что нужно в конце концов проводить различие между неисправимыми трусами и людьми, у которых в какой-то момент сдали нервы:
«Если ты видишь, что перед тобой явный враг - пораженец, трус, паникер… такого агитировать, конечно, нечего. С предателями родины надо расправляться железной рукой…
Но попадаются порой и такие люди, которых нужно лишь своевременно поддержать… - и они крепко возьмут себя в руки…»
Вторая часть той же передовой уже как будто предсказывала ликвидацию в близком будущем института комиссаров в том виде, в каком он существовал до тех пор:
«Глубоко заблуждаются те товарищи, которые полагают, будто в бою политработник должен действовать точно так же, как действует командир. Там, мол, некогда убеждать людей, там надо только приказывать, а тех, кто почему-либо не выполняет приказа, тут же, на месте наказывать. За невыполнение приказа старшего начальника на поле боя любой военнослужащий несет, конечно, самую суровую ответственность. Но задача комиссара, задача политработника состоит прежде всего в том, чтобы предотвратить всякую возможность подобных явлений. И главным их оружием в этом деле является именно политическая агитация, большевистское убеждение людей» (курсив мой. - А. В.).
Таким образом, эта поистине историческая статья в печатном органе Красной Армии не только била тревогу по поводу чрезмерно безжалостного насаждения «железной дисциплины», но и выявляла также новые черты во взаимоотношениях между командиром и комиссаром. «Красная звезда» явно давала теперь понять, что наказание провинившихся не являлось основной обязанностью комиссара и что оно было делом командира; основная же обязанность комиссара состояла в «агитации и большевистском убеждении». Такое уточнение явно говорило о том, что обе упомянутые функции в недалеком будущем будут разграничены. После этого протеста «Красной звезды» против огульного расстрела «трусов» подобных статей в печати уже почти не появлялось.
Другой темой, постоянно повторявшейся в советской прессе, было предостережение «Никогда не сдавайся. Лучше смерть, чем фашистский плен». Советские газеты процитировали, с соответствующими комментариями, ряд писем из Германии, в том числе следующее письмо одной немки, Гертруды Ренн, датированное 2 февраля 1942 г.:
«У нас очень холодно, почти так же холодно, как в России. Нынешней зимой померзла масса картофеля. Этот картофель дают русским, которые пожирают его сырым. В Фаллингбостелле каждую неделю умирают от голода или холода 200-300 русских. Но в конце-то концов они ничего другого и не заслуживают».
В свете того, что стало известно - тогда или позднее - о советских военнопленных в Германии, это письмо, несомненно, звучит весьма правдоподобно. При всем том - особенно в 1942 г. - к тем солдатам, которым удавалось бежать из немецкого плена (или даже вырваться из немецкого окружения), как правило, относились как к «подозрительным». Часть из них оправдывали, других отправляли в «штрафные батальоны»; были и такие - как мы узнали из недавно опубликованных материалов, - которых отправляли в «трудовые лагеря».
Мне припоминается невеселый разговор с одним советским полковником незадолго до падения Севастополя, где многим тысячам русских было суждено попасть в руки немцев. Полковник сказал:
«Почему оборона Севастополя так непохожа на оборону Тобрука или Сингапура? Не потому ли, что русские больше ненавидят врага, тогда как англичане склонны сдаваться, когда видят, что всякая надежда выстоять потеряна? Не является ли хорошее обращение немцев с английскими военнопленными элементом продуманной политики, имеющей целью помешать англичанам сражаться до последнего человека?»
«Выходит, - заметил я, - что если бы немцы обращались с русскими военнопленными лучше, то Севастополь давно бы уже пал?» - «Нет, - сказал он довольно сердито, - русский солдат, и уж тем более советский матрос, даже не подумает об этом, они смертельно ненавидят каждого немца. К тому же они знают, что, продолжая безнадежную оборону Севастополя до самого конца, они сковывают очень крупные немецкие и румынские силы и тем самым помогают остальному фронту. Здесь мы имеем героизм, но героизм плюс четкие приказы».
Затем я заговорил о Международном Красном Кресте, о Женевской конвенции и так далее. Не лучше было бы, чтобы советским военнопленным обеспечивалась бы, например, какая-то защита со стороны Международного Красного Креста, как это и предлагал Молотов? На это полковник ответил: «Я не очень в этом уверен. Проклятые немцы так или иначе обманут Международный Красный Крест - по крайней мере в том, что касается наших пленных. Мы обращаемся с немецкими военнопленными довольно хорошо, поскольку в конечном счете такая политика себя окупит, - но это не значит, что нам нравится так поступать. Этих свиней кормят лучше, чем миллионы наших мирных граждан, - даже подумать об этом тошно. Но можно ли ожидать от заключения с немцами конвенции о военнопленных чего-нибудь хорошего? Наши войска приняли муки ада и еще не раз побывают в аду, прежде чем мы разделаемся с этой войной. А в таком аду - готов признать это - мысль о том, что стоит только сдаться немцам в плен, как вам будет обеспечена мягкая постель и завтрак - все то, чем пользуются английские пленные, - такая мысль может вредно отразиться на политико-моральном состоянии армии. Не каждый наш солдат герой. Так пусть уж лучше он погибнет, чем сдастся в плен… Ведь это страшная война, более страшная, чем все, что были до сих пор. Больно думать, что наши пленные умирают в немецких лагерях голодной смертью. Но с политической точки зрения немцы совершают колоссальную ошибку. Если бы они обращались с нашими пленными хорошо, это вскоре же стало бы известно. Это звучит чудовищно, но, подвергая наших пленных пыткам и заставляя их умирать голодной смертью, немцы помогают нам».
Интересно, что немцы рассуждали примерно так же; немецкая пропаганда стремилась внушить каждому солдату, что попасть в руки русских для него равносильно самоубийству: его либо тут же расстреляют, либо он умрет медленной, мучительной смертью «в Сибири». Именно это мне говорили все немецкие пленные, которых мне довелось увидеть позднее в донских степях, в Сталинграде и в ходе многих боев после Сталинграда, когда боязнь окружения превратилась для немецкой армии в наваждение и даже привела к некоторым неожиданным ее отходам. Многие эсэсовцы тоже кончали с собой, чтобы не попасть в плен.
Здесь стоит заглянуть немного дальше досталинградского этапа войны и внимательно рассмотреть стадии процесса, начавшегося сразу после падения Ростова. Меры, предпринятые в этот период, можно разбить на три группы. Во-первых, шла «внутренняя» шлифовка офицерского корпуса; она осуществлялась путем повышения в должностях и званиях многих молодых офицеров, проявивших в ходе войны высокую техническую подготовленность, и понижения или увольнения «старых служак»; прецедент уже был создан в 1941 г., когда с ключевых постов в армии сняли таких людей, как Ворошилов и Буденный. Во-вторых, происходила и «внешняя» шлифовка советского офицера - введена была более красивая форма с погонами и золотым галуном. В-третьих, был доведен до логического конца процесс четкого разделения функций командира и комиссара, начавшийся вскоре после падения Ростова. 9 октября было наконец восстановлено единоначалие командира.
Контраст между командиром нового и старого типа был ярко показан в пьесе Корнейчука «Фронт», на которой стоит остановиться несколько подробнее в связи с поднятой вокруг нее большой шумихой.
Основная тема пьесы - конфликт между командующим фронтом, генералом Горловым и его подчиненным, генералом Огневым, командующим одной из армий этого фронта. Горлов - человек приятный, безусловно храбрый и прекрасно зарекомендовавший себя в Гражданскую войну, но совершенно непригодный для современной войны.
Он более или менее добродушно прохаживается по адресу «специалистов» и с гордостью заявляет:
«(Я) …никаких университетов не проходил. Воевать учился не в академиях, а в бою. Я не теоретик, а старый боевой конь». Секрет военного успеха кроется у него в личной храбрости. «…И побьем любого врага, - говорит он, - и не радиосвязью, а геройством, доблестью!» Его окружают угодливые, льстящие ему ничтожества; все это люди, в которых нет ни грана горловской врожденной честности. Среди них мы видим начальника разведотдела, редактора фронтовой газеты, некоего военного корреспондента, начальника связи фронта. Все они обрисованы в острых сатирических тонах.
Центральной фигурой в противоположном лагере является Огнев, молодой генерал, в совершенстве владеющий методами ведения современной войны. Его поддерживает брат Горлова, директор крупного авиазавода, перед ним преклоняется сын самого Горлова. В штабе Горлова царит атмосфера полной беспечности, нередко устраиваются шумные ужины с тостами и хвастливыми речами. Огневу все это внушает отвращение, а брат Горлова, прибывший в инспекционную поездку из Москвы, ошеломлен всем увиденным и сообщает потом в Москву о том, что его брат совершенно не справляется со своими обязанностями. Центральное место в пьесе занимает столкновение двух школ в связи с операцией, которую Горлов полностью проваливает. Положение в конце концов спасает, хотя и дорогой ценой, Огнев с его гораздо более ясным пониманием замыслов немецкого командования и значительно более четкой организацией.
В последнем действии, после одержанной в тяжелом бою победы, когда, несмотря на первоначальные приказы Горлова, Огневу удалось предотвратить катастрофу, Горлова снимают с поста. Он растерян, однако начинает понимать суть происшедшего и принимает свое смещение не протестуя. В ходе сражения убит его сын, один из самых преданных почитателей Огнева. Автор не рисует Горлова каким-то злодеем, и всякий, кто видел «Фронт» на сцене Московского Художественного театра, запомнил ту жалкую, почти чеховскую фигуру, какой Горлов представал перед зрителями в последнем действии в исполнении великого Москвина.
Пьеса, однако, призвана была рождать в зрителях чувство оптимизма. В конце ее исчезает не только Горлов, но и все его окружение; на их место приходят другие люди, подобные Огневу, люди, которых выдвинула сама война и которые в дополнение к академической подготовке многому научились непосредственно на опыте войны. Огнев представлял собой весьма характерный тип нового советского офицера, и опубликование этой пьесы в сентябре 1942 г. было в известном смысле важным связующим звеном между проведенными сразу после падения Ростова реформами и их логическим следствием - повышением роли командира в Красной Армии, приданием ему внешнего «блеска» с введением новой формы одежды и восстановлением принципа единоначалия.
О восстановлении полного единоначалия командира объявлял Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября, упразднявший институт военных комиссаров в Красной Армии. Намекая на те трения, которые нередко возникали в воинских частях между командиром и комиссаром, особенно в тяжелые недели отступления, Указ разъяснял, что надобность в военных комиссарах в старом смысле слова ныне отпала. Система военных комиссаров, говорилось в Указе, возникла в период Гражданской войны для наблюдения за командирами, среди которых имелись и бывшие офицеры царской армии, «не верившие… в прочность Советской власти и даже чуждые ей».
В Указе говорилось, что после Гражданской войны были выращены и воспитаны в советских условиях многочисленные командные кадры и что нынешняя война выдвинула «огромный слой новых талантливых командиров… Командиры Красной Армии доказали свою преданность нашей родине, приобрели значительный опыт… выросли и окрепли в военном и политическом отношениях». Далее в Указе отмечалось:
«С другой стороны, военные комиссары и политработники повысили свои военные знания… часть из них уже переведена на командные должности… многие же другие могут быть использованы на командных должностях либо немедленно, либо после известной военной подготовки.
Все эти… обстоятельства… свидетельствуют о том, что полностью отпала почва для существования системы военных комиссаров. Больше того, дальнейшее существование института военных комиссаров может явиться тормозом в улучшении управления войсками, а для самих комиссаров создает ложное положение.
Таким образом, назрела необходимость… установить полное единоначалие и целиком возложить на командира ответственность за все стороны работы в войсках…»
Итак, комиссары были превращены в «заместителей командиров по политчасти»; они также были офицерами, но имели обычно более низкое, чем командир, звание, и в их обязанности входили прежде всего политическое воспитание солдат, пропагандистская работа, забота о культурно-бытовом обслуживании в частях и т.д. Самое же важное заключалось в том, что они уже не могли больше вмешиваться в решения командира, тем более в решения оперативного характера.
Другой практической выгодой этой реформы явилось - после страшных потерь, понесенных армией с июня 1941 г., - достигнутое за короткий срок значительное увеличение командных кадров, в состав которых влились бывшие комиссары, в большинстве обладавшие практическим опытом войны.
Указ упразднял институт военных комиссаров и политруков (должности, соответствовавшие по званию командирам подразделений) и вводил «в соединениях, частях, штабах, подразделениях, военно-учебных заведениях, в центральных и главных управлениях НКО и учреждениях Красной Армии институт заместителей командиров по политической части».
Передовая «Красной звезды» от 11 октября отмечала неоспоримые заслуги многих военных комиссаров перед страной и армией и указывала, что во многих случаях комиссары брали на себя обязанности командиров, когда тех убивали или ранили. Многие такие комиссары были уже назначены на командные должности. Статья подчеркивала, что Указ фактически представлял собой последний этап уже давно происходившего процесса. Опуская все, что имело место в конце 30-х годов, а также с начала войны, статья доказывала, что новая реформа представляет собой всего-навсего ту же перестройку армии, на которой еще в начале 20-х годов настаивал Фрунзе. О Тухачевском, этом противнике «двоевластия в войсках», в статье не упоминалось.
Отдав должное преимуществам единоначалия, «Красная звезда» далее тем не менее утверждала, что новая реформа отнюдь не имела в виду снижение уровня политического воспитания и большевистской агитации в армии.
«Заместители командиров по политчасти обязаны… вести агитационно-пропагандистскую работу в частях… должны неустанно ковать железных защитников Родины, способных к самоотверженной, бесстрашной борьбе с ненавистными гитлеровцами».
В заключение в статье говорилось, что в ближайшее время Красная Армия получит 200 новых командиров полков и 600 новых командиров батальонов, подготовленных из числа бывших комиссаров.
Вместе с этой реформой была введена и новая форма одежды. Несколько позднее, в 1943 г., в дополнение к новой форме был издан целый кодекс правил поведения для офицеров. Все это, бесспорно, способствовало укреплению авторитета офицеров в глазах не только подчиненных, но и населения.
(обратно) (обратно)Часть пятая. Сталинград
Глава I. Сталинград. Рассказ Чуйкова
При изучении оборонительного этапа Сталинградской битвы важнейшим имеющимся у нас материалом для суждения и о чисто военных сторонах этого сражения, и о моральном состоянии русских была книга «Начало пути» генерала (ныне маршала) В.И. Чуйкова, который на всем протяжении осады Сталинграда был командующим 62-й армией. Изданная в 1959 г. книга Чуйкова была в то время наилучшим описанием этой сложной битвы. Это также одна из самых откровенных книг, написанных кем-либо из советских генералов.
Чуйков, занимавший до начала 1942 г. пост советского военного атташе в Китае, был послан на Сталинградский фронт в начале июля, когда немцы вели наступление через донские степи. Описывая отступление к Сталинграду, он рисует очень откровенную картину упадка духа как солдат, так и офицеров, включая представителей старшего командного состава.
«На станции Фролове мы встретили штаб 21-й армии. …Штаб… был на колесах: вся связь, штабная обстановка, включая спальный гарнитур командарма Гордова, - все было на ходу, в автомобилях. Мне не понравилась такая подвижность. Во всем здесь чувствовалась неустойчивость на фронте, отсутствие упорства в бою. Казалось, будто за штабом кто-то гонится и, чтобы уйти от преследования, все, с командармом во главе, всегда готовы к движению».
Спустя несколько дней, двигаясь на запад, к Дону, он снова столкнулся с фактами, свидетельствовавшими о весьма низком моральном состоянии войск.
«Я видел, как люди двигались по безводной сталинградской степи с запада на восток, доедая последние запасы продовольствия, задыхаясь от жары и зноя. Когда их спрашивали: «Куда идете?…» - они отвечали бессмысленно - все кого-то искали обязательно за Волгой или в районе Саратова».
Не лучше были настроены и некоторые генералы. Генерал Гордов, командовавший 21-й армией, был назначен командующим 64-й армией, а Чуйков - его заместителем. Впервые они встретились вечером 19 июля в штабе 64-й армии.
«Это был седеющий генерал с усталыми и, казалось, ничего не видящими серыми глазами, в холодном взгляде которых можно было прочесть: «Не рассказывай мне об обстановке, я все знаю, но ничего не могу поделать, коль так сложилась моя судьба».
Настроенный пораженчески, Гордов отдал приказ, чтобы только часть его армии удерживала позиции в излучине Дона, а резервы были оставлены на восточном берегу реки. Чуйков критически отнесся к этому решению, но, замечает он, генерал Гордов «не любил выслушивать предложений подчиненных».
Тем не менее через каких-нибудь несколько дней Гордов был вызван в Москву и получил назначение на еще более высокий пост - командующего Сталинградским фронтом. Чуйков остался исполняющим обязанности командующего 64-й армией. 25 июля войска под его командованием вошли в соприкосновение с немцами у Нижне-Чирской, в юго-восточном углу излучины Дона. Описав ожесточенный двухдневный бой, во время которого было уничтожено много немецких танков, а немецкие войска также понесли большие потери от огня «катюш», Чуйков рассказывает далее, как немцам все же удалось прорвать оборонительные линии русских в излучине Дона. Он пишет, что у них не было больше танков и он послал несколько батальонов морской пехоты, чтобы закрыть брешь.
«Казалось, что нам все же удастся остановить противника и закрыть образовавшийся прорыв, но тут в войсках началась паника. Возникла она не на фронте, а в тыловых частях. В медсанбаты, в артпарки и в обозы частей, которые находились на правом берегу Дона, кто-то сообщил, что немецкие танки находятся в двух-трех километрах. Этого… сообщения в ту пору было достаточно, чтобы тылы в беспорядке устремились к переправе. Эта паника по неведомым мне каналам передалась и войскам на фронт.
Чтобы остановить массы людей и повозок, устремившихся к Дону, я направил на переправу находившихся около меня работников штаба и своего заместителя по артиллерии генерал-майора Броута. Но все было напрасно и поздно: авиация противника заметила большое скопление людей и машин у переправы и начала их бомбить.
Во время этой бомбежки были убиты генерал Броут… и другие офицеры штаба армии».
К ночи немцы разрушили мост, но одна стрелковая дивизия и несколько других небольших частей еще оставались в излучине Дона. То, что произошло дальше, было весьма типичным примером недостатка согласованности в действиях советского командования. В отсутствие Чуйкова начальник штаба 64-й армии отдал войскам армии приказ отойти за Дон. Возвратившись в штаб и узнав об этом, Чуйков пришел в ужас и немедленно отменил приказ, который мог вызвать новое беспорядочное бегство и панику, особенно ввиду отсутствия всяких переправ в этом районе. Войска успешно окопались в излучине Дона и к концу трехдневных упорных боев сумели ликвидировать прорыв.
Генералы во всем мире всегда с кем-нибудь сводят счеты, и Чуйков в этом отношении не исключение. На протяжении всей книги он противопоставляет хорошие войска плохим войскам, хороших руководителей - плохим руководителям. Так, когда в разгар боев в излучине Дона он узнал о том, что генерал Колпакчи снят с поста командующего 62-й армией и на его место назначен генерал-лейтенант Лопатин, это отнюдь его не обрадовало:
«В прошлом кавалерист, генерал Лопатин последнее время командовал армией, которая при отступлении к Дону так рассеялась по степям, что ее очень трудно было собрать… Полный, белокурый и внешне очень спокойный генерал Лопатин встретил нас на командном пункте хорошим обедом и заверил, что 62-я армия не может и не будет выполнять директиву начальника штаба фронта, так как… боеприпасы не подвезены… Настроение у Лопатина, как я почувствовал, было далеко не уверенное… У него было сомнение, удержатся ли на правом фланге армии его части, находящиеся в полуокружении».
Остальную часть дня Чуйков провел, кружа под непрерывной бомбежкой по донским степям, в поисках «потерявшихся дивизий» Лопатина. Тем временем командующим 64-й армией был назначен генерал Шумилов, а Чуйкову было приказано явиться за распоряжениями к Гордову в Сталинград. 1 августа в Сталинграде он вошел в кабинет Гордова. Еще несколько дней назад крайне удрученный, тот выглядел теперь совершенно иначе.
«Настроение у Гордова было веселое, даже шутливое. В разговоре с Хрюкиным он чувствовал себя так уверенно, что казалось, вот-вот разгромит… фашистов.
- Противник увяз в наших оборонительных позициях, - говорил он, - и теперь его можно уничтожить одним ударом…
Вспомнив напрасные розыски в степи дивизий, которых там не было, я сделал вывод, что командующий фронтом обстановки на фронте не знает. Он принимал желаемое за действительное и не знал, что из района Цимлянская через Котельниково на Сталинград надвигается новая угроза - удар большой силы.
Генерал Гордов не стал слушать моего доклада, мою попытку доложить ему о положении дел на фронте он оборвал.
- Я не хуже вашего знаю положение на фронте, - заявил он».
Полный плохих предчувствий, Чуйков вернулся на фронт, но переправиться через Дон уже не смог: фактически вся территория в излучине Дона была к этому времени захвачена немцами.
Говоря об отсутствии связи между советскими частями, которые вели бои в излучине Дона, Чуйков приводит следующий пример: 33-я гвардейская дивизия 62-й армии в течение нескольких дней удерживала немцев на узком участке фронта. Она сражалась почти буквально до последнего человека и успела уничтожить или вывести из строя не менее 50 немецких танков. А в это же время соседние дивизии решительно ничего не делали, «чего-то ожидая». Очень скоро они были атакованы крупными немецкими силами, которые прорвали их позиции. Таким образом, героическая оборона 33-й гвардейской дивизии была фактически напрасной.
К тому времени, когда 62-я армия отошла за Дон, она понесла тяжелые потери и нуждалась в значительных подкреплениях.
Вернувшись 2 августа на фронт, Чуйков убедился, что положение резко ухудшилось. Крупные немецкие силы, обойдя с фланга главные силы советских войск, форсировали Дон в районе Цимлянской и, захватив Котельниково, широким полукругом стали продвигаться к Сталинграду с севера, через Плодовитое и станцию Тингута, расположенные в калмыцких степях. Во многих местах против частей Красной Армии были брошены мощные авиационные и танковые соединения. Так, двумя днями позже воинский эшелон, разгружавший на станции Котельниково свежие пополнения из Сибири, был атакован немецкими самолетами и танками. Потери были очень велики.
Однако, несмотря на тяжелые потери, советскому командованию удалось создать линию обороны на реке Аксай. 6 августа советские войска нанесли несколько успешных контрударов немцам и румынам.
«В результате боя 6 августа противник понес большие потери… Мы захватили восемь орудий, много винтовок и пулеметов, - рассказывает Чуйков. - Я убедился, что войска, собранные мною при отступлении, не потеряли боевого духа, дрались хорошо: в атаку ходили дружно, всякие попытки врага восстановить положение встречали без паники и стойко. А это было самым главным».
Далее на восток, в Абганерово и Тингута, куда была переброшена 64-я армия, немцам также не удалось прорваться. В этот же день Чуйков с радостью узнал, что Еременко сменил Гордова на посту командующего Сталинградским фронтом (хотя впоследствии отношения между Чуйковым и Еременко несколько испортились).
Наступление немцев на Сталинград с юга и с юго-запада замедлилось, однако впереди советские войска ждали другие трудности. Большой склад боеприпасов к югу от Сталинграда был разрушен немецкими бомбардировщиками, и в скором времени войска начали ощущать серьезную нехватку боеприпасов. Но, несмотря на все это, они более недели удерживали позиции на реке Аксай. Однако, поскольку немцы обходили все эти войска с востока, им было приказано отойти на север, к следующему естественному оборонительному рубежу - реке Мышкова, примерно в 60 км к югу от Сталинграда. Во время этих боев, между Доном и Волгой, фактически уже на окраинах Сталинграда, советские войска, несмотря на все поражения, понесенные ими в излучине Дона, начали воевать, как редко воевали раньше. Чуйков приводит многочисленные примеры того, как солдаты, отчаянно сопротивляясь противнику, обвязавшись гранатами, бросались под немецкие танки. Свежие пополнения, которые лишь недавно влились в 62-ю и 64-ю армии, «приобрели опыт, закалились и возмужали». Немецкий план - прорваться к Волге и одновременно окружить как 62-ю, так и 64-ю армию - провалился. Этим двум армиям суждено было вынести на своих плечах основную тяжесть боев за Сталинград.
Гитлер приказал захватить Сталинград 25 августа. 23 августа, в этот поистине трагический день, немцы прорвались к Волге севернее Сталинграда на 8-километровом участке. В тот же день 600 самолетов совершили налет на город, в результате которого погибло около 40 тыс. мирных жителей.
«Огромный город, протянувшийся на пятьдесят километров вдоль Волги, был объят пламенем. Все вокруг горело, рушилось. Горе и смерть вошли в тысячи сталинградских семей».
Многие тысячи жителей бежали на другой берег Волги. Однако Чуйков подчеркивает, что как военные, так и гражданские власти были полны решимости любой ценой отстоять Сталинград. К северу от города немцы не смогли расширить свой клин; на юге 64-я армия все еще оказывала сопротивление их попыткам прорваться к Волге.
Однако в последующие дни нажим немцев все усиливался. «Войска 62-й и 64-й армий с тяжелыми боями отходили на последние позиции, к Сталинграду.
Дороги были забиты населением. Колхозники, рабочие совхозов отходили целыми семьями, целыми хозяйствами. Они стремились к переправам через Волгу, угоняли с собой скот, увозили хозяйственный инвентарь…»
В течение последней недели августа и первых десяти дней сентября немцы рвались к Сталинграду со всех сторон, несмотря на упорное сопротивление Красной Армии. У немцев было значительное превосходство в вооружении, и прежде всего в самолетах. К 10 сентября они прорвались к Волге южнее Сталинграда, близ местечка Купоросное, отрезав 62-ю армию от 64-й. В результате 62-я армия оказалась запертой внутри неправильной немецкой «подковы», северный конец которой подходил к Волге у Рынка, а южный конец - у Купоросного, километрах в 30 вниз по течению реки. В тот период немецкая авиация совершала до 3 тыс. боевых вылетов в день, тогда как советская - едва ли больше 300 вылетов. Не располагало советское командование и сколько-нибудь значительными танковыми силами.
«Противник прочно удерживал превосходство в воздухе. Это угнетало наши войска больше всего, и мы лихорадочно думали над тем, чтобы выбить из рук врага его козырь… Часть зенитной артиллерии была разбита врагом, и ее остатки отошли на левый берег Волги, откуда они могли прикрывать реку и узкую полосу вдоль правого берега. Поэтому фашистские самолеты с рассвета и дотемна висели над городом… и над Волгой».
К 10 сентября моральное состояние войск все еще было очень низким.
«Боевые потери, отходы, недостаток боеприпасов и продовольствия, трудности с пополнением людьми и техникой - все это отрицательно влияло на моральное состояние войск…»
Военный совет и Политотдел 62-й армии проводили в войсках пропагандистскую работу, чтобы поднять их дух. Примерно в это же время Военный совет Сталинградского фронта издал свой знаменитый приказ: «Враг должен быть разбит под Сталинградом!» Это воодушевило всех офицеров, солдат и политработников 62-й армии.
Глубина немецкой «подковы» была в разных местах различной. Если не считать выступа в районе Орловки на севере, западный конец которого находился примерно в 18 км от Волги, остальная часть полосы обороны 62-й армии на 13 сентября, то есть до первого крупного немецкого наступления на сам Сталинград, имела глубину в среднем около 8 км. Главными ориентирами, если считать с севера на юг, были Рынок (к северу от которого немцы 23 августа прорвались к Волге), поселок Спартановка, далее поселок Сталинградского тракторного завода и сам этот завод, расположенный ближе к Волге; затем поселок завода «Баррикады» и сам этот завод, к востоку от него, также на берегу реки; к югу, также на реке, был завод «Красный Октябрь» и немного юго-западнее - рабочий поселок, к югу от которого находился знаменитый Мамаев курган, самая большая возвышенность в районе Сталинграда, за которую на протяжении нескольких месяцев велись ожесточенные бои. Мамаев курган, по существу, служил границей между индустриальным северным районом Сталинграда и торговой, административной и жилой южной частью города с ее двумя вокзалами, Домом Красной Армии, универмагом и другими зданиями, прославившимися во время последующих этапов битвы.
12 сентября, через два дня после того, как 62-я армия была отрезана от остальных советских войск, Чуйков был назначен командующим этой армией. Начальником штаба армии был генерал Крылов, хорошо зарекомендовавший себя в Одессе и Севастополе.
Большое немецкое наступление началось 13 сентября. Главной целью противника было захватить Мамаев курган, центральную часть Сталинграда, и таким образом прорваться к Волге. Командный пункт Чуйкова первоначально находился на самой вершине Мамаева кургана. Однако, пишет он, «беспрерывное, вследствие обстрелов, нарушение связи вело к потере управления войсками… [это] было причиной, заставившей меня перенести командный пункт армии в балку реки Царица…»
Это был большой, просторный и хорошо защищенный блиндаж, расположенный неподалеку от Волги, между двумя железнодорожными станциями. Ранее здесь размещался штаб Сталинградского фронта.
Чуйков рассказывает, как немцы после первых успехов, одержанных ими 13 сентября, полные уверенности в себе, развернули наступление с целью захватить центральную часть Сталинграда.
«Наша контратака в первое время имела некоторый успех, но с наступлением дня противник ввел в действие многочисленные силы авиации; группами по 50-60 самолетов немцы непрерывно бомбили и штурмовали боевые порядки наших контратакующих частей… Контратака захлебнулась. В 12 часов противник ввел в действие большие массы пехоты и танков… Удар направлялся на Центральный вокзал.
Этот удар был исключительной силы. Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на машинах и танки врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь Сталинграда решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь Волги… Наши бойцы, снайперы, бронебойщики, артиллеристы, притаившись в домах, в подвалах и дзотах… видели, как пьяные гитлеровцы соскакивали с машин, играли на губных гармошках, бешено орали и плясали на тротуарах».
Сотни немецких солдат были убиты, но центр Сталинграда наводняли все новые и новые вражеские части. Бой шел в 800 м от командного пункта 62-й армии. В эту ночь Чуйков ввел в действие свой небольшой резерв, состоявший из 19 танков, чтобы помешать немцам прорваться к Волге и к штабу армии.
Именно в эту критическую ночь на 15 сентября через Волгу начала переправляться знаменитая дивизия Родимцева, насчитывавшая 10 тыс. человек. Артиллерия дивизии, кроме противотанковых орудий, должна была остаться на левом берегу. Двум стрелковым полкам дивизии Родимцева было приказано «очистить центр города», а третьему полку - занять Мамаев курган и окопаться там.
В течение всего дня 15 сентября бои носили необыкновенно ожесточенный характер. Центральный вокзал несколько раз переходил из рук в руки, и к концу дня «трудно было сказать, в чьих руках находится Мамаев курган». Однако утром 16 сентября советские бойцы вновь захватили Мамаев курган, и бои за него велись почти непрерывно до конца января.
В разгар этих боев войска Сталинградского фронта предприняли попытку прорвать с севера позиции немцев в районе поселка Рынок. Чуйков с некоторой иронией рассказывает о провале этого наступления, которым руководили Еременко и его заместитель, уже известный нам Гордов. 18 сентября небо над Сталинградом на несколько часов очистилось от немецких самолетов: они были переброшены против войск Еременко, пытавшихся осуществить прорыв. Однако вскоре немецкая авиация снова появилась над Сталинградом.
В течение этого дня бои происходили в основном на Мамаевом кургане и в районе Центрального вокзала. Вершина Мамаева кургана вновь была захвачена «остатками дивизии Сологуба» и полком Елина, которые продвинулись в тот день на 100-150 м. Что же касается Центрального вокзала, к исходу 18 сентября, после пятидневных кровавых боев, нередко переходивших в рукопашную схватку, он был захвачен немцами.
«Контратаковать вокзал снова нам было уже нечем: 13-я дивизия генерала Родимцева была измотана. Она вступила в бой сразу после переправы через Волгу и выдержала главный удар немецко-фашистских войск… Им [гвардейцам Родимцева] пришлось, правда, отдать врагу несколько кварталов Сталинграда. Но и это не было отходом или отступлением. Отступать было некому. Гвардейцы стояли насмерть, отходили только тяжелораненые, выползая поодиночке. Из рассказов раненых явствовало, что фашистские захватчики, овладев вокзалом, несут большие потери. Отрезанные от главных сил дивизии, гвардейцы одиночками или группами по два-три человека закреплялись в различных привокзальных помещениях и под вагонами - и оттуда продолжали выполнять поставленную перед ними задачу, истребляли фашистов и ночью и днем…»
Нет никаких сомнений - и Чуйков сам это признает, - что именно солдаты дивизии Родимцева спасли Сталинград во второй половине сентября. Однако Чуйков делает это признание довольно неохотно. Дело в том, что на протяжении многих последующих месяцев о дивизии Родимцева в советской печати (а следовательно, и во всем мире) продолжали писать гораздо больше, чем о каком-либо другом воинском соединении. Между тем она понесла столь ужасающие потери, что после сентября играла лишь незначительную роль в боях за Сталинград и занимала сравнительно спокойный участок фронта.
Припасы для 62-й армии, находившейся в Сталинграде, приходилось доставлять с другого берега Волги, а река, достигающая у Сталинграда ширины более полутора километров, подвергалась днем непрерывным бомбежкам, а ночью артиллерийскому и минометному обстрелу.
«Подразделения, успевавшие за ночь переправиться на правый берег, нужно было сейчас же, ночью, развести и поставить на позиции, а грузы раздать войскам, иначе они были бы уничтожены бомбежкой. Лошадьми и машинами… мы не располагали… Поэтому все доставлявшееся через Волгу разносилось на огневые позиции на плечах воинов, тех самых воинов, которые днем отбивали яростные атаки врага, а ночью без сна и отдыха должны были перетаскивать на себе боеприпасы, продовольствие, инженерное имущество. Это изматывало, изнуряло защитников города и, конечно, снижало боеспособность частей. Однако так продолжалось не день, не неделю, а все время, пока шли бои за Сталинград».
Другим чрезвычайно важным фактором, оказавшим влияние на ход боев за Сталинград (об этом Чуйков старается говорить как можно меньше), было то, что фактически вся артиллерия, минометы «катюши» и т.д. находились на другом берегу Волги, а это была огромная сила. Виктор Некрасов, будущий писатель, тогда лейтенант, который всю Сталинградскую битву пробыл в районе Мамаева кургана в дивизии Батюка, говорил мне: «Войск у нас было очень мало, особенно к концу октября, когда на правом берегу реки осталось лишь несколько небольших участков обороны, - может быть, всего тысяч двадцать[130]. В то же время другой берег Волги представлял собой настоящий муравейник. Именно там была сосредоточена вся служба снабжения, артиллерия, авиация и т.д. Они-то и задавали жару немцам».
То же самое подчеркивает и Константин Симонов в своем романе «Солдатами не рождаются», и это вносит существенную поправку в версию Чуйкова:
«Конечно, мы бы не удержались в Сталинграде, если бы нас все время не поддерживали с того берега и артиллерия и «катюши»… Я даже не знаю, как выразить словами ту любовь, которую чувствовал к ним в Сталинграде… И их становилось все больше и больше, мы это чувствовали. Но я даже тогда не представлял себе, что у нас может быть столько артиллерии, сколько бьет по немцам сейчас, через мою голову»[131]
Однако при всем этом для советских солдат, находившихся на плацдармах, Сталинград оставался адом. О подкреплениях, доставлявшихся с другого берега, Некрасов говорил мне:
«Эти подкрепления бывали порой просто жалкими. Через реку переправляли - с большим трудом, - скажем, двадцать новых солдат. Это были либо пожилые люди лет 50-55, либо 18- или 19-летние юнцы. Они стояли на берегу, дрожа от холода и страха. Им выдавали теплую одежду и отправляли на передовую. К тому времени, когда новички туда добирались, немецкие снаряды успевали уничтожить пятерых или десятерых из двадцати - ведь над Волгой и над нашими позициями постоянно висели немецкие осветительные ракеты, так что полной темноты никогда не было. Но что поразительно - те из новобранцев, которые все же добирались до передовой, очень быстро становились на редкость закаленными солдатами - настоящими фронтовиками!»
В своей книге Чуйков упоминает о нескольких «критических» днях в Сталинграде, между 12 сентября, когда он принял командование 62-й армией, и серединой ноября, когда потерпело неудачу последнее немецкое наступление. На самом же деле каждый день был «критическим», разве что некоторые из них были более критическими, чем другие. Так, 21 и 22 сентября - через неделю после вступления в бой дивизии Родимцева - были особенно «критическими» днями. Именно в это время немцы заняли значительную часть «торгового района» Сталинграда и расчленили 62-ю армию на две части, прорвавшись к Центральной пристани на Волге.
Один из самых ярких эпизодов, рассказанных Чуйковым и рисующих стойкость советских бойцов, - это история 1-го батальона полка Елина. Этот батальон в течение нескольких дней вел бои за вокзал; когда вокзал был захвачен немцами, уцелевшие солдаты закрепились в расположенном неподалеку каменном здании. В конце концов шесть человек, оставшихся в живых, но все раненные, приблизились к Волге, и то лишь после того, как у них вышли все боеприпасы. Здесь они соорудили плот и двинулись на нем вниз по течению. Наконец их подобрали зенитчики и отправили в медсанбат. Эти люди трое суток ничего не ели. Своих мертвых и тяжело раненных товарищей они оставили в этом последнем опорном пункте, который они удерживали в центре Сталинграда, захваченном теперь немцами.
Потеря Центральной пристани потребовала перестройки линии коммуникаций через Волгу. Волжская речная флотилия, несмотря на тяжелые потери, продолжала оперировать как севернее, так и южнее Центральной пристани, кроме того, далее к северу через реку был наведен пешеходный мост на железных бочках.
На подкрепление быстро таявшей дивизии Родимцева в конце сентября в Сталинград было переброшено еще несколько прославленных дивизий[132] - в том числе дивизия Батюка (сформированная в основном из сибиряков) и дивизия Горишного. Родимцев получил свежие пополнения - 2 тыс. человек. В боях в Сталинграде обе стороны понесли колоссальные потери. Однако прорыв немцев к Волге в районе Центральной пристани принес им только частичный успех, поскольку их попытка обойти русских, стоявших к северу от них по берегу реки, полностью провалилась. Здесь немцы натолкнулись на упорное сопротивление дивизий Родимцева, Батюка и Горишного, бригады Батракова и других частей. Немцы потеряли при этом десятки танков и тысячи солдат.
К 24 сентября немцы заняли почти весь центр Сталинграда и теперь направили свой главный удар на промышленный район города, в северной его части. Немецкий обозреватель генерал Ганс Дёрр следующим образом описывает военные действия в северном районе Сталинграда:
«Этот период боев… можно назвать позиционной или «крепостной войной». Время для проведения крупных операций окончательно миновало… Война перешла на изрезанные оврагами приволжские высоты… в фабричный район Сталинграда, расположенный на неровной… местности, застроенной зданиями из железа, бетона и камня. Километр как мера длины был заменен метром… За каждый дом, цех, водонапорную башню, железнодорожную насыпь, стену, подвал и, наконец, за каждую кучу развалин велась ожесточенная борьба, которая не имела себе равных даже в период первой мировой войны с ее гигантским расходом боеприпасов. Расстояние между нашими войсками и противником было предельно малым. Несмотря на массированные действия авиации и артиллерии, выйти из района ближнего боя было невозможно. Русские превосходили немцев в отношении… маскировки и были опытнее в баррикадных боях за отдельные дома; они заняли прочную оборону».
Но превосходство немцев в танках и самолетах по-прежнему оставалось очень значительным. Поддерживаемые танками и авиацией немецкие войска, как правило, атаковали днем. Для советских солдат, как говорит Чуйков, «ночь была родной стихией». Эффективность немецких танков и авиации ограничивалась двумя обстоятельствами: пространство между позициями противников, так называемая нейтральная зона, не превышало дальности броска гранаты, это в некоторой мере гарантировало русских от атак с воздуха; что же касается танков, то, по мере того как сталинградские улицы загромождались все новыми горами щебня, немецким танкистам становилось действовать все труднее. Большую поддержку советской пехоте оказывал мощный огонь артиллерии и «катюш» с противоположного берега Волги - он наносил огромные потери скоплениям немецких войск и немецким позициям, которые обычно были гораздо хуже защищены и замаскированы, чем позиции русских.
27 сентября немцы начали свое первое крупное наступление на промышленный район Сталинграда. Советских бойцов атаковали «сотни пикирующих бомбардировщиков». Несмотря на большие потери, противник преодолел советские минные поля и продвинулся на два или три километра. Войска Горишного были выбиты с вершины Мамаева кургана, и уцелевшая часть их закрепилась на северо-восточном склоне кургана.
Создавшееся бедственное положение требовало немедленной переброски подкреплений и усиления поддержки авиации. В ту же ночь через Волгу переправились два полка стрелковой дивизии генерала Смехотворова, которые немедленно были посланы на помощь частям, действовавшим в районе поселка Красный Октябрь. Остатки дивизий Горишного и Батюка предприняли контратаку на Мамаевом кургане.
С утра 28 сентября немцы возобновили наступление. Их самолеты бомбили не только войска, но и суда, курсировавшие по реке. Из шести грузовых судов, работавших на Волге, пять в тот же день были выведены из строя. Немецкие бомбы подожгли нефтехранилища, находившиеся поблизости от командного пункта 62-й армии.
И все же атаки противника не были такими согласованными и уверенными, как накануне.
«Он бросал в атаку батальоны, поддерживаемые танками… Это давало нам возможность массированным огнем отбивать атаки по очереди… Тогда же я попросил у командующего воздушной армией Хрюкина помощи, и он не отказал - дал все, что у него было».
Во время большого налета советской авиации войска Горишного и Батюка снова предприняли контратаку на Мамаевом кургане. Им удалось довольно далеко продвинуться вперед, но захватить вершину они не смогли. Вершина осталась «ничейной землей»: по ней с той и с другой стороны беспрерывно вела огонь артиллерия. За этот день немцы потеряли 1500 человек только убитыми и около 50 танков. На склонах Мамаева кургана осталось до 500 трупов противника.
Чуйков, разумеется, признает, что потери русских были также очень велики.
«Танковое соединение потеряло убитыми и ранеными 626 человек, дивизия Батюка - около 300 человек, дивизия Горишного была почти обескровлена, но продолжала драться». На берегу реки скопились в ожидании эвакуации сотни раненых. Потери плавучих средств в тот день были столь велики, что обеспечить перевозку раненых на другой берег было нелегкой задачей. Доставка боеприпасов также была крайне затруднена. В то же время разведка доносила, что немцы готовятся предпринять новое крупное наступление на поселок Красный Октябрь. Настоящее сражение за промышленный район Сталинграда только еще начиналось.
29 сентября немцы предприняли попытку «ликвидировать» так называемый орловский выступ глубиной 17 и шириной 5 км к северо-западу от промышленного района Сталинграда. Здесь в книге Чуйкова мы снова наталкиваемся на его гневную полемику с командованием Донского фронта, войска которого действовали позади немецкого клина в районе Рынка, к северу от Сталинграда. Еременко (и его заместитель Гордов) уже дважды до этого терпели неудачу в своих попытках прорвать немецкие линии в районе выступа и прийти на помощь 62-й армии.
Чуйков доказывает, что существование орловского выступа предоставляло войскам на севере великолепную возможность прорвать немецкий клин в районе Рынка, имевший всего 8 км в ширину, однако и на этот раз, когда немцы предприняли серьезное наступление на орловский выступ, возможность оказать помощь 62-й армии была упущена.
Малочисленные войска под командованием Андрюсенко, Смехотворова и Сологуба, оборонявшие орловский выступ, понесли очень большие потери уже в первые два дня немецкого наступления. Затем часть этих войск из бригады Андрюсенко попала в окружение и, про должал а биться с противником еще почти целую неделю. Израсходовав все боеприпасы, 120 человек из этой группы в ночь на 8 октября вырвались из окружения; во вражеском кольце осталось 380 человек - убитые и тяжело раненные.
Маршал Еременко в своей книге «Сталинград», вышедшей в 1961 г., то есть двумя годами позже книги Чуйкова, изображает ликвидацию орловского выступа как неизбежную военную жертву и не пытается как-либо ответить на предъявляемые Чуйковым командованию войск на севере весьма серьезные обвинения в апатии и пассивности. Возможно, командование Сталинградского и Донского фронтов, учитывая предстоящее контрнаступление, выжидало, рассчитывая, что Чуйков каким-то образом сумеет удержать свои плацдармы в Сталинграде. Если это так, то это была опасная игра, ибо, как мы увидим, 14 октября, а затем в ноябре 62-я армия была очень близка к полному уничтожению.
Для советских войск в Сталинграде октябрь был самым тяжелым месяцем. 1 октября в Сталинград прибыла 39-я гвардейская дивизия генерал-майора Гурьева, которой пришлось на протяжении многих критических дней защищать завод «Красный Октябрь» (некоторые из уцелевших бойцов этой дивизии впоследствии дошли до Берлина). В тот же день через Волгу переправилась еще одна знаменитая дивизия - полковника Гуртьева. Солдатам этой дивизии, среди которых было много сибиряков, пришлось в течение октября вынести на своих плечах самые тяжелые бои в северной части Сталинграда[133].
Столь же стойкими были вновь прибывшие войска гвардейской дивизии генерала Жолудева.
«Это была действительно гвардия. Люди все молодые, рослые, здоровые, многие из них были одеты в форму десантников, с кинжалами и финками на поясах… При ударе штыком (они) перебрасывали гитлеровцев через себя, как мешки с соломой. Штурмовали группами. Ворвавшись в дома и подвалы, они пускали в ход кинжалы и финки… В окружении дрались до последних сил и умирали с… возгласами: «За Родину, за Сталина, не уйдем и не сдадимся!»
Для 62-й армии октябрь начался особенно скверно. Ее штаб, разместившийся неподалеку от завода «Баррикады», вновь оказался в соседстве с нефтяными баками. Баки были подожжены немецкими бомбардировщиками, и горящая нефть хлынула через штабные блиндажи к Волге, окружив командный пункт морем огня.
Когда через три дня пожар стал утихать, немцы начали обстреливать командный пункт армии из орудий и бомбить его с воздуха. Многие на командном пункте были убиты и ранены. С большим трудом командный пункт удалось перевести метров на 500 к северу, в блиндажи штаба дивизии генерала Сараева, которая была фактически уничтожена и формировалась в этот момент заново на другом берегу Волги.
Всю эту первую неделю октября в промышленном районе Сталинграда продолжались ожесточенные бои. К 7 октября немцы захватили часть поселка тракторного завода. Однако у русских были некоторые удачи. Так, в 6 часов вечера 7 октября одним залпом «катюш» был уничтожен целый батальон наступавших немецких войск. Тем временем части генерала Смехотворова вели упорные бои в поселке Красный Октябрь. Одно здание здесь в течение дня пять раз переходило из рук в руки.
«С 8 октября началась подготовка к решающим боям… Гитлер обещал своим вассалам в ближайшие дни овладеть Сталинградом. Немецкие солдаты из окопов кричали: «Рус, скоро буль-буль у Вольга!» Самолеты засыпали город листовками. В них… была показана окруженная со всех сторон танками и артиллерией наша армия. Они издевательски напоминали, как Сталинградский фронт, не пробившись к нам с севера, отступает».
В течение четырех дней - с 9 по 13 октября - царило относительное затишье, но вот 14 октября словно разверзлась преисподняя. До этого «завершающего» немецкого наступления глубина основного района обороны, удерживаемого 62-й армией, то есть расстояние от Волги до линии фронта, - составляла около 3,5 км. Если бы немцы организовали свое наступление надлежащим образом, они могли бы осуществить прорыв за полтора-два часа. Однако предосторожности, к которым прибегло советское командование, и невероятная стойкость войск предотвратили катастрофу. Положение, впрочем, было крайне рискованным.
Вот как Чуйков описывает этот «незабываемый» день:
«Наступило 14 октября - день начала небывалого по жестокости за весь период боев за Сталинград сражения. Три пехотные и две танковые дивизии противника, развернутые на фронте около пяти километров, обрушились на части армии… Около трех тысяч самолето-вылетов насчитали мы за один этот день! Фашистские самолеты бомбили и штурмовали наши боевые порядки без передышки. Артиллерия и минометы врага с утра до темной ночи засыпали снарядами и минами весь район боя. Был солнечный день, но от дыма и копоти видимость сократилась до ста метров. Наши блиндажи тряслись и рушились, как карточные домики. Главный удар враг наносил по частям дивизий Жолудева (37-й), Горишного (95-й), Гуртьева (308-й) и 84-й танковой бригаде в общем направлении на СТЗ и завод «Баррикады». В 11 часов 30 минут до 180 танков прорвались через боевые порядки дивизии Жолудева… и вышли к стадиону СТЗ… К 16 часам дивизии Сологуба, Жолудева и… Гуртьева… вели бои в окружении.
Сведения от войск поступали противоречивые, уточнять их становилось все труднее и труднее. Командные и наблюдательные пункты полков и дивизий разбивались снарядами и бомбами… На командном пункте армии погибло 30 человек. Охрана штаба армии не успевала откапывать людей из разбитых блиндажей. Управление войсками осуществлялось главным образом по радио… были включены западные рации, размещенные на левом берегу Волги. Туда мы посылали свои распоряжения по радио, а оттуда передавали обратно через Волгу на правый берег частям…
К полуночи 14 октября выяснилось, что захватчики обошли со всех сторон Сталинградский тракторный завод и ведут бой в его цехах. По предварительным подсчетам, фашисты за один день боя потеряли 40 танков. У стен завода валялось до 3000 вражеских трупов.
Мы тоже понесли большие потери… в ночь на 15 октября на левый берег Волги было переправлено 3500 раненых бойцов и командиров. Это рекордная цифра за все время боев в Сталинграде».
Немцам удалось продвинуться за день на два километра. Они захватили тракторный завод и рассекли советские войска пополам. К северу от тракторного завода у обороняющихся оставался теперь только маленький участок, который занимала небольшая группа войск под командованием полковника Горохова.
15 октября немцы продолжали упорно атаковать. Снова на обороняющихся обрушивались тысячи бомб, а немецкие автоматчики пытались прорваться к командному пункту 62-й армии.
Однако, замечает Чуйков, «в эти часы у Паулюса не нашлось ни одного свежего батальона, чтобы сделать рывок на триста метров и захватить командный пункт штаба армии. Всего триста метров, но мы не думали отступать».
Тем не менее положение оставалось отчаянным. Из-за непрерывных воз душных, атак противника радиосвязь действовала с перебоями не только на правом, но и на левом берегу реки, где был создан запасной командный пункт. Это было особенно опасно, ибо основная масса советской артиллерии была сосредоточена на левом берегу, а коммуникации на какое-то время были фактически выведены из строя.
Потери советских войск возрастали с катастрофической быстротой. За два дня боев дивизии Жолудева и Горишного потеряли около 75% своего состава. В ночь на 16 октября полк дивизии полковника Людникова переправился через Волгу и сразу же вступил в бой севернее завода «Баррикады». Но этот полк и жалкие остатки дивизий Горишного и Жолудева были бы совершенно бессильны против численно превосходящего противника, если бы их не поддерживала артиллерия на другом берегу реки, орудия Волжской флотилии и штурмовая авиация, которая с большими потерями пробивалась через тучи немецких самолетов и атаковала наступающие немецкие войска. В ночь на 18 октября через Волгу переправились еще два полка дивизии Людникова.
В связи с усилившейся активностью немцев на берегу Волги, близ тракторного завода, Чуйков счел необходимым перевести свой командный пункт несколько южнее, в овраг недалеко от Мамаева кургана. Здесь командный пункт армии оставался до самого конца Сталинградской битвы. От этого КП, спрятанного между волжскими обрывами, до Мамаева кургана было всего около тысячи метров - такова была в то время максимальная глубина главного Сталинградского оборонительного района, еще остававшегося в руках советских войск.
В течение 19 и 20 октября немцы продолжали свои атаки, главным образом в районе заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь», но их ударам уже не хватало прежней силы. Судя по свидетельствам военнопленных, моральное состояние немецких войск, в особенности свежих частей, недавно переброшенных на этот участок фронта, было низким. Русские же испытывали большую нехватку в живой силе. Пришлось мобилизовать людей из тыловых служб - сапожников, портных, людей, обслуживавших конюшни, склады и т.д.
«Страшно было подходить к Сталинграду, - говорили эти бойцы, - но как только ступишь на сталинградскую землю, страх пропадает. Мы знали одно: за Волгой для нас земли нет, и чтобы остаться в живых, нужно уничтожить захватчиков».
Следует добавить, что все участники боев под Сталинградом были к тому времени окружены большим почетом.
Подводя итоги ожесточенных десятидневных боев, происходивших с 14 по 23 октября, Чуйков пишет, что силы противника так же, как и наши, были на исходе. За десять дней боев немцы еще раз разрезали нашу армию на две части, нанесли нам большие потери, захватили Сталинградский тракторный, но уничтожить северную группу (которой командовал Горохов) и главные силы армии (действовавшие южнее) не смогли.
Немцы возобновили свои атаки в районах «Баррикад» и «Красного Октября». На участке между этими двумя заводами они теперь были всего в 400 м от Волги. Последняя переправа через Волгу оказалась, таким образом, под пулеметным огнем противника. Для защиты от пулеметного огня пришлось сооружать поперек оврагов каменные стены - что при создавшихся условиях было нелегкой задачей.
27 октября в Сталинград начали прибывать части новой дивизии генерала Соколова. Однако переправа через Волгу осуществлялась с громадным трудом. Тем временем немцы нанесли новый мощный удар по заводу «Красный Октябрь» и захватили северо-западную часть заводской территории.
После ожесточенных немецких атак на части Людникова, Гуртьева и Батюка, длившихся еще два дня, наступило затишье.
К 30 октября стало ясно, что оборона выдержала натиск противника и сражение выигрывают советские войска.
Однако битва еще не кончилась. Уцелевшие участки обороны местами имели глубину всего несколько сот метров, и в течение первых десяти дней ноября русские совершали многочисленные атаки, преимущественно по ночам, в тщетных попытках хотя бы немного их расширить.
11 ноября немцы предприняли последнее крупное наступление на защитников Сталинграда. Пять немецких дивизий, поддержанные танками и авиацией, перейдя в наступление на пятикилометровом фронте, пытались одним рывком пробиться к Волге. Однако советские бойцы настолько прочно закрепились на своих позициях, что немцам удалось продвинуться лишь очень незначительно. Как говорит Чуйков, борьба шла «за каждый метр земли, за каждый сталинградский кирпич и камень».
В предшествующие дни 62-я армия получила некоторые пополнения; в частности, в дивизию Горишного было влито много матросов Тихоокеанского флота. Эти сибиряки были стойкими бойцами. Немецкие атаки продолжались без особых результатов и на следующий день. К середине дня 12 ноября наступление противника выдохлось. Однако немцам все же удалось немного продвинуться, и территория, оставшаяся в руках обороняющихся, еще более сократилась. Расстояние между немецкими боевыми порядками и Волгой, которая к этому времени уже покрылась льдом, местами едва достигало ста метров. Дивизия Людникова была теперь изолирована от остальных сил 62-й армии на небольшом участке к югу от завода «Баррикады», находившегося в руках у немцев. Большая часть завода «Красный Октябрь» также была захвачена противником. В последующие дни русские безуспешно пытались прорваться через 500-метровый немецкий клин на Волге, отделявший их от дивизии Людникова. Продовольствие и боеприпасы приходилось доставлять этой дивизии по ночам на самолетах По-2, и лишь через несколько дней небольшие бронированные катера Волжской флотилии пробились через льды к плацдарму, на котором оборонялась дивизия Людникова, и вывезли оттуда 150 раненых.
Однако частям Людникова пришлось держаться еще больше месяца, прежде чем им удалось вырваться из фактического окружения.
А всего через неделю после того, как немцы предприняли последнюю решительную попытку выбить русских с еще остававшихся в их руках участков, началось большое советское контрнаступление. Войска Донского и Юго-Западного фронтов нанесли удар с севера, войска Сталинградского фронта - с юга, а через четыре дня наступающие силы уже сомкнулись в районе Калача, у восточной оконечности излучины Дона.
Весть о контрнаступлении, которого давно уже ждали, солдаты и офицеры 62-й армии встретили с огромной радостью и облегчением. Предсказание, сделанное Сталиным 7 ноября: «Будет и на нашей улице праздник!» - начинало сбываться.
Однако, несмотря на все это, положение 62-й армии в Сталинграде продолжало оставаться очень трудным. На севере был небольшой участок, который удерживали подразделения Горохова. Затем поблизости от «Баррикад» был еще один маленький участок около квадратного километра, который обороняли бойцы Людникова. Главный участок обороны, длиной около восьми километров, представлял собой, по словам Чуйкова, узкую полоску развалин.
Левый фланг главного участка, где держались бойцы Родимцева, представлял собой полоску земли шириной всего в несколько сот метров. Максимальная глубина участка к востоку от Мамаева кургана составляла около двух километров. Штаб 62-й армии располагался на берегу Волги к востоку от Мамаева кургана, а его наблюдательный пункт - между штабом и Мамаевым курганом, на полотне железной дороги. Все русские позиции простреливались артиллерийским, а значительная их часть - и пулеметным огнем. Поскольку часть Мамаева кургана находилась у немцев, они имели возможность держать переправы через Волгу под прицельным огнем артиллерии. Поэтому двумя первоочередными задачами Чуйкова было соединиться с частями Людникова и овладеть Мамаевым курганом, что фактически вдвое увеличило бы глубину обороны в этом районе.
К 20 ноября Волга покрылась льдом и перестала быть судоходной. Поскольку началось большое контрнаступление, 62-й армии не приходилось больше рассчитывать на какие-либо подкрепления людьми или техникой. Лишь небольшое количество продовольствия и боеприпасов могло доставляться ей на самолетах По-2. Только к 16 декабря река замерзла настолько, что теперь солдаты могли доставлять боеприпасы на маленьких санках по льду.
Ликвидировать немецкий клин в районе «Баррикад» на Волге было нелегкой задачей. Немцы засели в развалинах заводских зданий и, несмотря на двухдневный интенсивный артиллерийский обстрел с противоположного берега Волги, не оставляли своих позиций. Понадобилось несколько дней боев, нередко переходивших в рукопашные схватки (части Людникова атаковали с севера, а бойцы Горишного - с юга), прежде чем немецкий клин был ликвидирован. Обе стороны понесли при этом большие потери. Наступающие войска соединились лишь 23 декабря.
25 декабря бойцы Гурьева штурмовали отдельные участки территории завода «Красный Октябрь», находившиеся в руках немцев. Здесь бои за каждое помещение, за каждый цех велись врукопашную. Немцы превратили главную контору завода «Красный Октябрь» в мощный опорный пункт; они прекратили сопротивление только после того, как все здание было снесено огнем артиллерийских орудий, бивших прямой наводкой. Такие уличные бои продолжались, почти до самого конца.
Немецкие солдаты, даже осознав, что они находятся в окружении, продолжали упорно сражаться и оставались в полной уверенности, что армия Манштейна пробьется к ним на выручку. До конца декабря они жили надеждой и отчаянно оборонялись, часто до последнего патрона. Гитлеровцы и не думали сдаваться в плен. Лишь после того, как группа Манштейна была разбита, моральный дух немецких войск стал заметно падать.
Растущая нехватка продовольствия и боеприпасов стала давать о себе знать. И все-таки даже после 10 января, когда началась окончательная ликвидация «котла», немцы продолжали оказывать упорное сопротивление во многих пунктах Сталинграда, особенно в районе Мамаева кургана, который они полны были решимости удерживать до самого» конца. Здесь они продолжали сопротивляться и даже контратаковать еще 25 января, то есть всего за неделю до окончательной капитуляции немецких войск под Сталинградом.
Глава II. «Сталинградские» месяцы в Москве. Визит Черчилля и последующие события
В отличие от первых месяцев немецкого вторжения, когда советские сообщения о ходе военных действий носили крайне уклончивый характер, сводки, публиковавшиеся летом и осенью 1942 г., были в общем поразительно откровенными. Общая картина положения на фронте была все время почти совершенно ясной. С первых чисел августа (то есть с момента реформ, последовавших за оставлением Ростова) и до 25 августа - дня, который ознаменовал собой начало нового этапа в ходе боев, - сводки были, можно сказать, рассчитано жестокими в своей откровенности. Уже 8 августа в сводке упоминалось о боях «к северу от Котельникова». Это означало, что немцы крупными силами форсировали Дон и ведут наступление на Сталинград с юга. Еще более гнетущее впечатление производили те строки сводок, в которых говорилось о молниеносном продвижении немцев на Кубани и Северном Кавказе. Одно за другим следовали сообщения об оставлении столицы Кубани - Краснодара, нефтепромышленного центра Майкопа и знаменитых курортов в предгорьях Кавказа - Минеральных Вод, Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска. Было также признано, что в горных районах немцы успешно пробиваются к Новороссийску и Черноморскому побережью и что в восточной части Кавказа они рвутся к центру нефтяной промышленности - Грозному и к Каспию, чтобы захватить Баку.
При этом, конечно, рассказывалось о выдающихся героических подвигах отдельных советских воинских частей, а 19 августа газета «Красная звезда» пыталась утешить своих читателей тем, что теперь немцы наступали не на столь широком фронте, как в 1941 г., и с меньшей «уверенностью в своих силах», чем даже в июле 1942 г.; немецкое наступление, писала газета, развертывается неравномерно, «рывками», и сопротивление Красной Армии в излучине Дона уже нарушило гитлеровские планы.
Быстрое продвижение немцев на Кубани и Северном Кавказе вызвало сильное уныние в Москве, хотя некоторые специалисты утверждали, что настоящее испытание сил противника начнется тогда, когда немцы достигнут гор. Тем не менее потеря Кубани, одного из богатейших сельскохозяйственных районов России, ощущалась весьма остро. Особенно гнетущей была мысль, что теперь под немецкой оккупацией окажутся еще миллионы русских. Однако, когда немцы стали приближаться к Сталинграду, с самого же начала появилось какое-то странное убеждение, что здесь произойдет поистине решающее сражение. Овеянный легендами со времен Гражданской войны, этот город имел некое символическое (следовательно, политическое) значение.
Было бы, однако, нелепо утверждать, что возможность потери Сталинграда вовсе исключалась. Напротив, в период с конца августа и примерно до последней недели октября все вполне сознавали, что положение в Сталинграде является в высшей степени критическим.
12 августа, когда положение на фронтах представлялось особенно отчаянным, в Москву прибыл Черчилль. На Северном Кавказе советские войска отступали по всему фронту, а немцы приближались к Сталинграду и севернее этого города вот-вот должны были прорваться к Волге.
После недолгого англо-советского «медового месяца», апогеем которого была сессия Верховного Совета 18 июня, отношения между обеими странами стали быстро ухудшаться. Переписка между Черчиллем и Сталиным, особенно в июле и начале августа, свидетельствует об усиливавшемся и растущем раздражении обеих сторон. Причиной его были разногласия по трем основным пунктам: второй фронт, отправка конвоев в Северную Россию и судьба поляков.
Черчилль все более скептически относился к возможности посылки конвоев в Мурманск и Архангельск. Уже 20 мая он писал, что конвой PQ-16 из 35 судов отбыл в СССР, но что «в случае, если нам опять не будет благоприятствовать погода, затрудняющая действия немецких воздушных сил, то нам следует ожидать, что большая часть пароходов и военные материалы, находящиеся на них, будут потеряны». В связи с этим он предлагал, чтобы русские попытались бомбардировать немецкие военно-воздушные базы в Северной Норвегии. Сталин ответил, что русские сделают все возможное, чтобы обеспечить конвою прикрытие с воздуха, но обошел молчанием предложение Черчилля относительно бомбардировки немецких аэродромов в Норвегии. У советской авиации явно не было необходимых для этого бомбардировщиков.
27 из 35 судов, входивших в конвой PQ-16 (я прибыл в Россию с этим конвоем), благополучно добрались до Мурманска, но следующий конвой - PQ-17 постигла катастрофа. Черчилль написал 18 июля Сталину длинное письмо. Он напомнил, что Англия начала отправлять в Россию небольшие конвои еще в августе 1941 г. и до декабря немцы их не трогали. Однако в дальнейшем положение весьма осложнилось. В феврале 1942 г. немцы перебросили в Северную Норвегию «значительные силы подводных лодок и большое количество самолетов». Тем не менее конвои «проходили с различными, но допустимыми потерями». Недовольные достигнутыми результатами, немцы послали на север свои надводные корабли.
«Перед отправкой майского конвоя Адмиралтейство предостерегало нас, что потери будут очень тяжелыми, в случае если, как это ожидалось, немцы используют свои надводные корабли к востоку от острова Медвежий. Мы решили отправить конвой. Нападения надводных кораблей не произошло, и конвой прошел, потеряв одну шестую часть своего состава, главным образом в результате нападений с воздуха. Однако в случае с последним конвоем под номером PQ-17 немцы наконец использовали свои силы таким образом, которого мы всегда опасались… В настоящий момент в Архангельск прибыли только четыре парохода, а шесть других находятся в гаванях Новой Земли. Последние, однако, могут по отдельности подвергнуться нападению с воздуха»[134].
Короче говоря, Черчилль сообщал о своем решении прекратить отправку арктических конвоев впредь до особого извещения:
«Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий… Если один или два из наших… мощных судов погибли бы или хотя бы были серьезно повреждены, в то время как «Тирпиц» и сопровождающие его корабли… остались бы в действии, то все господство в Атлантике было бы потеряно».
Это, писал он, отразилось бы на поставках продовольствия, за счет которых Англия существует, и подорвало бы ее военные усилия.
«Прежде всего [это] помешало бы отправке через океан больших конвоев судов с американскими войсками, ежемесячно доставляемые контингенты которых скоро достигнут приблизительно 80 000 человек, и сделало бы невозможным создание действительно сильного второго фронта в 1943 году».
Черчилль решил отменить отправку конвоя PQ-18, предложив вместо этого направить в Персидский залив «некоторые из тех судов», которые должны были выйти с этим конвоем.
В том же письме упоминалось о «трех польских дивизиях», солдаты и офицеры которых хотели покинуть Россию, захватив с собой своих жен и детей. Сталин согласился на их отъезд, но теперь у Черчилля были опасения:
«Я надеюсь, что предложенный Вами проект, который мы высоко ценим, не будет не претворен в жизнь из-за того, что поляки захотят отправить вместе с войсками значительное число своих женщин и детей… Питание этих иждивенцев будет значительным бременем для нас. Мы думаем, что стоит принять это бремя в целях создания упомянутой польской армии, которая будет добросовестно использована к нашей общей выгоде».
Эти поляки должны были направиться в Иран и Палестину, и Черчилль явно хотел как можно скорее вывезти их из России[135].
23 июля Сталин ответил на это послание гневным письмом:
«Из послания видно, что, во-первых, Правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по северному пути и, во-вторых… откладывает [создание второго фронта] на 1943 год… Подвоз через персидские порты ни в коей мере не окупит той потери, которая будет иметь место при отказе от подвоза северным путем… Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское Правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год».
Сталин подверг резкой критике английское Адмиралтейство за его ошибки в случае с конвоем PQ-17, за его боязнь потерять какое-либо количество своих военных кораблей и за его решение бросить фактически транспортные суда на произвол судьбы:
«Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь… Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается… [в них]».
Черчилль, конечно, был чрезвычайно задет этим недвусмысленным обвинением в малодушии и вероломстве и в следующем своем послании предложил встретиться со Сталиным в Астрахани или на Кавказе. Он сообщил, что в сентябре будет предпринята новая попытка отправить конвой в Архангельск.
Сталин в своем ответе от 31 июля пригласил Черчилля в Москву, откуда, как он указывал, «мне, членам Правительства и руководителям Генштаба невозможно отлучиться в настоящий момент напряженной борьбы с немцами».
Черчилль сразу же согласился прибыть в Москву, хотя ему явно не по душе была эта поездка.
Говоря о стоявшей перед ним задаче - сообщить Сталину о том, что в 1942 г. не будет второго фронта, - Черчилль писал: «Это было все равно, что везти большой кусок льда на Северный полюс». Во время переговоров резкие стычки чередовались с проявлениями внешнего дружелюбия, но совершенно несомненно, что многое в Сталине произвело на Черчилля большое впечатление.
«Я впервые встретился с великим революционным вождем и мудрым русским государственным деятелем и воином, с которым в течение следующих трех лет мне предстояло поддерживать близкие, суровые, но всегда волнующие, а иногда даже сердечные отношения».
Во время первого же свидания со Сталиным Черчилль изложил ему причины, по которым второй фронт не может быть открыт в 1942 г., а затем рассказал об операции «Торч» (высадка в Северной Африке). Сталин «проявил живейший интерес» и в конце концов воскликнул: «Дай бог, чтобы это предприятие удалось!» Сталин сразу оценил стратегические выгоды операции «Торч»:
«Он перечислил четыре основных довода в пользу «Торч». Во-первых, это нанесет Роммелю удар с тыла; во-вторых, это запугает Испанию; в-третьих, это вызовет борьбу между немцами и французами во Франции; в-четвертых, это поставит Италию под непосредственный удар.
Это замечательное заявление произвело на меня глубокое впечатление».
По свидетельству Черчилля, эта первая встреча прошла исключительно хорошо, однако следующее свидание оказалось гораздо менее приятным, и Черчилль решил, что в промежутке между встречами на Сталина успел оказать влияние Совнарком, «воспринявший известие, которое я привез, не так хорошо, как он». В памятной записке, которую Сталин вручил Черчиллю во время второго свидания, он резко протестовал против решения англичан не открывать второй фронт в Европе в 1942 г. За этим последовал новый обмен нотами, не принесший, однако, никаких результатов.
Оглядываясь назад, можно сказать, что наибольший интерес во всем рассказе Черчилля о его поездке в Москву представляет данная Сталиным оценка положения на фронтах в России. Сталин заявил: а) что Кавказ обороняют 25 советских дивизий, что немцы не пройдут через горный хребет и не прорвутся ни к Баку, ни к Батуми, а через два месяца снег сделает горы непроходимыми и б) что у него имеются также другие веские основания для такой уверенности, в частности планы широкого контрнаступления.
«Я лично, - писал Черчилль Эттли и Рузвельту, - считаю, что существуют равные шансы и на то, что они выдержат, но начальник имперского генерального штаба не уверен в этом»[136].
Были также проведены переговоры - не давшие, впрочем, каких-либо окончательных результатов - о совместной советско-английской операции в Северной Норвегии.
В последний день своего пребывания в Москве, вечером (до встречи с Андерсом), Черчилль обедал у Сталина в его личной квартире в Кремле.
«Был приглашен также Молотов… Преобладала атмосфера особенной доброжелательности, и мы впервые установили непринужденные дружелюбные отношения. Мне кажется, я установил личные взаимоотношения, которые будут полезны…
Он предпочел бы иметь грузовики, а не танки, которых он выпускает две тысячи в месяц. Он также хочет получить алюминий. В целом я определенно удовлетворен своей поездкой в Москву… Теперь им известно самое худшее, и, выразив свой протест, они теперь настроены совершенно дружелюбно, и это несмотря на то, что сейчас они переживают самое тревожное и тяжелое время»[137].
Такова суть рассказа Черчилля о его поездке в Москву в августе 1942 г. Что касается отношения москвичей к визиту Черчилля и к западным союзникам вообще, то это уже история совсем иного рода. Дело в том, что советская печать широко популяризировала «коммюнике о втором фронте» от 11 июня, причем в сознании людей это коммюнике ассоциировалось с приказом Сталина по случаю 1 Мая, в котором говорилось, что фашистские захватчики должны быть изгнаны из Советского Союза в 1942 г. Предполагалось, что Сталин никогда бы не издал такой приказ, не будь он совершенно уверен, что на Западе будет открыт второй фронт.
Население СССР терпело величайшие лишения (зима была ужасной, весна и лето были немногим лучше), а когда в июле и августе положение на фронтах стало выглядеть поистине катастрофическим, открытие в самом ближайшем будущем второго фронта сделалось для многих советских людей чуть ли не вопросом жизни или смерти. Следует также помнить о том, что почти у каждого либо отец, либо брат, либо сын - а то и несколько братьев или сыновей - служил в армии либо был убит, ранен или пропал без вести. В деревнях фактически вообще не осталось мужчин, если не считать мальчиков и стариков.
Даже в разгар англо-советского «медового месяца» москвичи с недоверием относились к американцам и особенно к англичанам. По случаю ратификации англо-советского договора о союзе на общественных зданиях было вывешено множество советских флагов, но ни одного английского. Как мы уже отмечали, делались нелестные сравнения между отчаянным сопротивлением русских в Севастополе и «малодушной» капитуляцией англичан в Тобруке. Я помню, как одна старая женщина интеллигентного вида говорила в трамвае: «Англичанам верить нельзя. Молодые люди этого не знают, потому что они недостаточно образованны, но я-то все знаю про Диз-ра-э-ли»[138] (она произносила это имя со злостью, разделяя его на слоги). Другие испытывали очень большое недоверие к Черчиллю. Его отношение к России часто противопоставляли отношению Рузвельта, которого считали гораздо более дружественно расположенным к Советскому Союзу. В течение июня, июля и августа я побывал в различных учебных заведениях и беседовал со многими юношами и девушками. Они были приветливы, но по-настоящему их интересовало лишь одно: будет ли открыт второй фронт, и если да, то когда.
Советская пропаганда очень мало делала для популяризации английских и американских союзников. В июне появилось несколько плакатов; на одном из них были изображены три стрелы-молнии - с советским, американским и английским флагами, - поражающие похожего на жабу Гитлера, позеленевшего от страха. В театрах и кино не показывали ничего, что имело бы отношение к союзникам, если не считать нескольких кадров кинохроники о пребывании Молотова в США и Англии. Единственное «просоюзническое» зрелище, которое я припоминаю, - это эстрадное представление в московском «Эрмитаже», заканчивавшееся довольно бессмысленно: экзотического вида молодая женщина пела на смеси ломаного английского и русского «Типперэри», аккомпанируя себе на аккордеоне, после чего на фоне множества союзнических флагов все участники представления исполняли нечто долженствовавшее изображать англо-советско-американский танец. Зрители не проявили никакого восторга. Было это в начале июля; в скором времени представление было снято с программы, исчезли также плакаты с изображением трех стрел-молний, как и плакаты с лозунгом: «Победа в 1942 году».
Одним из менее значительных следствий заключения англо-советского союза и американо-советского соглашения явилось создание в июне 1942 г. англо-американской ассоциации печати. Разрешив образовать такую чисто англо-американскую ассоциацию, русские не только сделали жест, показывавший их особое расположение к союзникам: существование ассоциации позволяло им сосредоточить и усилить распространение советской информации в английской и американской печати.
С течением времени раздражение русских по поводу отсутствия второго фронта все нарастало. В Москве рассказывали, что немцы сбрасывали на русские войска листовки с таким текстом: «А где же англичане?»[139] - или: «Румыны и венгры более преданны нам как союзники, чем вам ваши англичане».
В этих условиях известие о приезде Черчилля советские люди встретили со смешанным чувством. Первое предположение о целях этого визита, высказанное журналистами вроде Эренбурга, было в общем справедливо: Черчилль приехал, чтобы «уговорить Сталина взять назад коммюнике об открытии второго фронта». Если не считать этого, то советская печать хранила полное молчание. Что касается двух других источников информации, или, вернее, не информации, а намеков, то они, очевидно, никак не могли прийти к единому мнению. Английское посольство продолжало намекать, что Сталин и Черчилль «прекрасно ладят друг с другом», а в последний день пребывания Черчилля в Москве английский посол в Москве Арчибальд Кларк Керр назвал встречу английского премьер-министра со Сталиным «эпохальным событием» - заявление, породившее в скором времени большую путаницу. С другой стороны, Гарриман и другие американцы давали понять, что встречи прошли далеко не блестяще и что если русские ожидают каких-либо немедленных результатов от этих совещаний, происходивших в атмосфере раздражения, то их ждет разочарование. Стало также известно, что англичане просили предоставить им авиационные базы на Кавказе, но Советское правительство отказало им в этом. Однако даже американцы признали, что к концу пребывания Черчилля в Москве атмосфера несколько улучшилась, а на обеде в Кремле была даже «почти веселой». Рассказывали, что Черчилль в беседе со Сталиным с похвалой отозвался о «великолепных русских солдатах», на что Сталин ответил: «Не преувеличивайте. Не такие уж они замечательные. По правде сказать, это еще не очень хорошие солдаты. Но они учатся и совершенствуются с каждым днем и скоро станут такими, как надо».
Московская публика Черчилля не видела. Он не был ни на одном театральном представлении; в посольстве не было устроено никакого приема, и он даже решил не встречаться с представителями английской и американской печати, которые были приняты вместо него послом, тогда и обронившим эту необдуманную фразу насчет «эпохального события».
Однако операторы кинохроники трудились не покладая рук. Когда советские зрители увидели на экране Черчилля, который по прибытии на аэродром поднял два пальца, изобразив латинскую букву V - знак победы, - некоторые зрители истолковали это как знак второго фронта. (В кино я слышал, как молоденькая девушка спросила свою подругу, когда оркестр заиграл «Боже, храни короля», что это за мелодия, и та ответила: «Разве ты не знаешь? Это «Интернационал» по-английски».)
Коммюнике, опубликованное по окончании визита Черчилля, и редакционные статьи в советских газетах говорили о тесных узах между Англией и Советским Союзом, но мало что разъясняли и не обещали каких-либо результатов в ближайшем будущем. Знаменательно, что газета «Красная звезда» не опубликовала собственной редакционной статьи, а ограничилась тем, что перепечатала статью из «Правды». Кроме того, в день отъезда Черчилля, сообщившего в своем заключительном заявлении, что он «откровенно высказал Сталину свои мысли», «Правда» поместила злую карикатуру Ефимова, высмеивавшую картонные оборонительные укрепления немцев на побережье Ла-Манша - теория, которая, к сожалению, была опровергнута несколькими днями позже при попытке высадки в Дьеппе. Правда, по мнению русских, Дьепп ничего не доказал, кроме разве желания англичан продемонстрировать «невозможность» открытия второго фронта[140].
Не понравилось русским и то, что во время своего пребывания в Москве Черчилль «якшался» с генералом Андерсом, хотя, по-видимому, он имел с ним лишь одно свидание. Предполагалось (и, вероятно, справедливо), что россказни, которые слышал Черчилль насчет «предстоящего в скором времени» разгрома Красной Армии (верил он им или нет), исходили прежде всего от Андерса, который, как это прекрасно было известно, страшно торопился вывезти из СССР возможно большее число поляков. Широко распространившийся по Москве слух, будто Черчилль подстрекал поляков покинуть «тонущий корабль», еще более усилил раздражение русских.
23 августа на Сталинград был совершен налет, в котором участвовало 600 немецких самолетов, а севернее города немцы прорвались к Волге. Об этом в тот момент сообщено не было. На протяжении следующей недели в сводках довольно туманно говорилось об «ожесточенных» боях к северо-востоку и к северо-западу от Сталинграда, причем время от времени сообщалось о каком-либо местном успехе советских войск. В течение первой половины сентября печать комментировала ход боев в районе Сталинграда в явно нервозном тоне, и лишь 20 сентября (через пять дней после прибытия дивизии Родимцева) она заговорила о «героическом Сталинграде».
На протяжении большей части сентября печать занимала двойственную позицию: признавая, что положение в Сталинграде очень серьезно, она в то же время выдвигала ряд соображений общего порядка, позволявших довольно уверенно смотреть в будущее. Так, много писалось о громадных успехах военной промышленности, о вооружении и припасах, которые стала теперь получать армия, а также об усиливающемся упадке духа у немцев. В частности, Эренбург часто цитировал в своих статьях отчаянные письма из Германии, адресованные немецким солдатам, воевавшим на русском фронте, об ужасах и кошмарах «воздушных налетов тысяч английских бомбардировщиков». Второго фронта не было, но английские военно-воздушные силы не сидели без дела.
На протяжении последних десяти дней сентября в сообщениях советской печати о Сталинграде появились два новых момента: газеты стали подробно писать о совершенно особом характере боев на этом фронте (и прежде всего об уличных боях). Так, 22 сентября «Красная звезда» поместила очень подробную статью о тактике уличных боев за каждый дом (и даже за каждый этаж и за каждую комнату).
Теперь уже печать не была столь сдержанной, как в первой половине сентября. «Героический Сталинград» и «героические защитники Сталинграда» стали ходовыми выражениями. Симонов, Гроссман, Кригер и многие другие советские писатели и журналисты описывали пафос, суровую и героическую атмосферу Сталинградской битвы. Многие советские корреспонденты и особенно фотографы и кинооператоры сложили головы в Сталинграде и на других фронтах,
В начале сентября советские газеты сравнили Сталинград с Верденом, и это сравнение было немедленно подхвачено мировой прессой. Однако к концу сентября советская печать признала такую параллель нелепой. Так, А.С. Ерусалимский писал в «Красной звезде» 27 сентября, что Сталинград «намного превзошел Верден». «Верден, - указывал он, - был первоклассной крепостью. Сталинград таковой не является. К тому же наступление русских на востоке в 1916 году оттягивало от Вердена значительные немецкие силы… Ныне положение обратное».
Октябрь 1942 г. был, как об этом заявил годом позже Сталин, месяцем, когда Советский Союз подвергался еще более серьезной опасности, чем в период боев под Москвой. Сталинградское сражение протекало неблагоприятно, и 14 октября город едва не был потерян. К тому же наступило резкое ухудшение в англо-советских отношениях. На Англию обрушивались яростные обвинения в двурушничестве - что, конечно, в известной мере было связано с критическим положением, создавшимся в середине месяца в Сталинграде.
Усиление антианглийской кампании (несколько утихшей во время визита Черчилля и неудачной высадки в Дьеппе) началось несколько раньше - точнее, в те дни, когда в Москву приехал Уэнделл Уилки, то есть около 20 сентября. Уилки прибыл в качестве личного представителя президента Рузвельта, и с ним страшно носились. Его позиция в отношении СССР выгодно отличалась в глазах русских от позиции Черчилля. Во всех газетах печатались фотографии, изображавшие Уилки в обществе Сталина и Молотова; его публичные высказывания широко печатались и комментировались. Ему показали ряд военных заводов и предоставили возможность совершить поездку на ржевский участок фронта к западу от Москвы, где советские войска вели исключительно ожесточенные «отвлекающие» бои с немцами, ценой тяжелых потерь достигая весьма незначительных результатов.
Уилки несколько раз совершенно ясно дал понять, что Рузвельт был всецело за открытие второго фронта в этом году, но натолкнулся на противодействие со стороны английских генералов и самого Черчилля.
Я особенно хорошо помню утро 26 сентября. Сразу же после возвращения с ржевского участка фронта Уилки пригласил меня на утренний завтрак в Дом приемов в переулке Островского. На нем был нарядный синий шелковый халат в белую крапинку, и весь он дышал здоровьем и энергией. Никто бы не поверил, что он скоро умрет. Все знают, сколь велико было его личное обаяние. Ему оказывались всяческие почести. К завтраку была подана икра и даже виноград, который я в этом году видел впервые.
«Мне надо решить очень мудреную задачу, - сказал он. - Как объяснить американской публике, что русские в очень опасном положении, но что при всем том их моральное состояние превосходно? Я знаю, что в этой стране масса ужасающих личных трагедий, но все-таки, если бы я повторил все те неистовые речи, которые я слышал вчера на обеде от Симонова, Эренбурга и Войтехова, со всеми их оскорблениями по адресу союзников, я думаю, что это произвело бы очень скверное впечатление в Штатах…»
Далее он привел поразительную иллюстрацию того, как глубоко сомневались в Вашингтоне летом 1942 г. в способности Советского Союза выстоять в этой войне.
«В конце-то концов, - сказал Уилки, - положение вовсе уж не такое отчаянное, каким бы оно могло стать к настоящему времени. С Египтом все в порядке. Русские держатся, и даже Сталинград все еще в их руках. Могу вам сообщить, что, когда пять недель назад я уезжал из Вашингтона, президент мне сказал: “…Я хочу вас предостеречь. Я знаю, что вы человек мужественный, но может случиться так, что вы попадете в Каир как раз в момент его падения, а в России вы тоже можете оказаться в момент ее крушения”».
Я заметил Уилки, что президент, возможно, не получает из Москвы информации от достаточно компетентных лиц (я имел в виду пессимистов из американского посольства, и в частности генерала Микела и полковника Парка), и Уилки согласился с этим. Говоря о втором фронте, он высказал мнение, что откладывать его открытие до 1943 г. страшно рискованно: что, если к тому времени у русских совсем не останется сил Для наступления? (Между прочим, из этого следовало, что если советские руководители рассказали кое-что о своих планах контрнаступления Черчиллю, то Уилки они ничего об этом не сообщили - зачем было охлаждать его пыл в отношении второго фронта?)
В этот же день Уилки сделал заявление представителям англо-американской печати. Он с искренним волнением говорил о великом русском духе самопожертвования, проявления которого он видел всюду; затем он произнес свою знаменитую фразу, которой суждено было породить массу всевозможных осложнений:
«Я лично убежден ныне в том, что мы можем оказать им помощь, создав вместе с Англией настоящий второй фронт в Европе и в ближайший возможный момент, который одобрят наши военные руководители. А некоторые из них, пожалуй, нуждаются в том, чтобы общественное мнение их немножко подтолкнуло».
Советские газеты поймали его на слове, и в них начали появляться карикатуры, изображавшие косных английских военачальников. Черчилль был в бешенстве. Заявление Уилки, по его мнению, свело на нет многое из того, чего он добился месяцем раньше, во время своей поездки в Москву, когда, как ему казалось, он сумел убедить советских руководителей в том, что открытие второго фронта в ближайшее время невозможно. И, хотя Сталин знал об операции «Торч» (о которой Уилки, возможно, не был осведомлен), в октябре, когда положение в Сталинграде выглядело особенно отчаянным, советская печать развернула ожесточенную антианглийскую кампанию.
6 октября, всего через неделю после заявления Уилки, в «Правде» была напечатана злая карикатура Ефимова, на которой было изображено несколько лысых английских военных с усами, как у моржей, сидящих за столом напротив двух лихих молодых воинов в американских мундирах. Воины назывались: «Генерал Смелость» и «Генерал Решимость», а англичане носили имена: «Генерал А-вдруг-побьют», «Генерал Не-надо-спешить», «Генерал Стоит-ли-рисковать» и т.д. В тот же день, Сталин дал ответ на три вопроса, посланные ему корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Генри Кэссиди. Он заявил, что второй фронт имеет сейчас первостепенное значение в сложившемся положении, что помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна и что требуется полное и своевременное выполнение союзниками их обязательств. Наконец, отвечая на вопрос Кэссиди, какова способность Советского Союза к сопротивлению, Сталин заявил:
«Я думаю, что советская способность к сопротивлению немецким разбойникам по своей силе ничуть не ниже - если не выше - способности фашистской Германии или какой-либо другой агрессивной державы обеспечить себе мировое господство».
Молотов подлил масла в огонь, прибегнув к своеобразному трюку. У него в делах уже девять месяцев лежала нота чехословацкого правительства и Французского национального комитета, поддержанная правительствами других оккупированных нацистами стран, по вопросу о военных преступлениях. Теперь он решил ответить на эту ноту. В предпоследнем абзаце его ответа говорилось:
«Советское Правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии».
Эта нота была опубликована 15 октября (в один из самых тяжелых дней Сталинградской битвы). Смысл ее был подчеркнут четыре дня спустя, когда «Правда» опубликовала редакционную статью о Рудольфе Гессе:
«Оказывается, что так как Рудольф Гесс прибыл в Англию в форме германского летчика, то это уже не один из самых известных всему миру главарей преступной гитлеровской клики, а чуть ли не обыкновенный «военнопленный». Стоило только всем известному преступнику Гессу надеть мундир гитлеровского летчика… и он будто бы уже может уйти от ответственности за свои бесчисленные преступления, превратив таким образом Англию в убежище для гангстеров».
Рассматривать Гесса не как военного преступника, продолжала «Правда», - значит рассматривать его как «представителя другого государства, как посланца Гитлера».
Далее следовал отрывок о «жене Гесса»:
«Не случайно, конечно, что жена Гесса опубликовала свое обращение к каким-то английским представителям с просьбой доставить ее к своему мужу. Как видно, и фрау Гесс вовсе не рассматривает его как военнопленного… Надо, наконец, установить, кем является в настоящее время Гесс - преступником ли… или полномочным представителем гитлеровского правительства в Англии, пользующимся неприкосновенностью?»
Возможно, эта история с женой Гесса была чистейшей выдумкой, а может быть, ее подсунул русским какой-нибудь дипломатический «жучок». Статья о Гессе была самым злобным антианглийским выпадом за всю войну, и она, несомненно, возбудила очень сильные антианглийские настроения в СССР. Помню, в тот день, когда появилась эта статья, я видел польского офицера, который стоял в очереди возле одного из московских магазинов «Гастроном». Окружающие начали кричать на него: «Чем стоять в очереди за деликатесами, следовало бы хоть малость повоевать». Когда он объяснил, что он не англичанин, а поляк, его оставили в покое.
Реакция англичан на статью, в которой Англия именовалась «местом убежища для гангстеров», была столь резкой, что кампания в советской печати была прекращена. Профессор Юдин в публичной лекции, прочитанной 28 октября, доказывал, что причины отсутствия второго фронта являются чисто политическими; к сожалению, сказал он, в самом английском правительстве очень сильно влияние мюнхенцев. Юдин фактически дал понять, что публикация статьи о Гессе имела целью расшевелить английскую общественность, с тем чтобы она настояла на изгнании мюнхенцев из правительства.
К концу октября тон советской печати стал гораздо более оптимистичным. В середине месяца сводки и военные корреспонденции подробно говорили о крайне серьезном положении на фронтах, однако к концу октября стало казаться, что самое худшее уже позади. 31 октября Г.Ф. Александров писал в «Правде»:
«Героическая оборона советских воинов задержала немцев под Сталинградом в течение трех месяцев. А это означает, что под Сталинградом немцы потеряли самое драгоценное время, которым они вообще могли располагать в этом году для наступления».
Иными словами, страшная опасность, которая было нависла над страной в июле и августе, уже миновала. Правда, сам Сталинград еще не был окончательно вне опасности и почти весь Северный Кавказ находился в руках у немцев. Хотя немцы были задержаны у Моздока - на пути к Баку - и не смогли сколько-нибудь значительно продвинуться дальше черноморского порта Новороссийск, 2 ноября они, однако, неожиданно добились крупного успеха: прорвались к Нальчику, на пути к Владикавказу, северной оконечности Военно-грузинской дороги и воротам в Закавказье.
Несмотря на это, атмосфера в Москве накануне 25-й годовщины Октябрьской революции была определенно оптимистичной. После мрачных месяцев - июля и августа - что-то явно изменилось. 6 ноября на первых страницах газет была напечатана «Клятва защитников Сталинграда».
«Захватом Сталинграда Гитлер пытается перерезать наш волжский путь, а затем, продвигаясь по Волге на юг, выйти к Каспийскому морю, тем самым отрезать нашу страну от главных источников нефти… Если врагу удастся осуществить эти планы, тогда он немедленно бросит освободившиеся силы… против Ленинграда, против Москвы».
Даже и на этом этапе сталинградцы еще говорили: «Если врагу удастся», а не «Если бы врагу удалось». Но если не считать этой оговорки, тон всего документа был уверенным. Авторы клятвы не заходили настолько далеко, чтобы заявлять, что Сталинград будет удержан, однако тот факт, что они связали судьбу города с именем и личным престижем Сталина, делал поражение весьма маловероятным.
«Посылая это письмо из окопов, мы клянемся Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград… Мы клянемся, что не посрамим славы русского оружия, будем биться до последней возможности».
Весь тон клятвы был настолько уверенным, что теперь, пожалуй, появилась тенденция недооценивать опасность, которая все еще грозила Сталинграду. Как бы то ни было, люди инстинктивно чувствовали, что худшее уже позади, и инстинкт их не обманул. Письма, которые приходили от солдат, сражавшихся в Сталинграде, в огромной степени способствовали росту оптимизма. Это были частные письма, из которых совершенно ясно было видно, что, несмотря на страшное напряжение духовных и физических сил, советские солдаты стали чрезвычайно гордиться тем, что они воюют в Сталинграде. В то же время для немцев перспектива отправки в Сталинград становилась все более страшной.
В октябре мало того, что советская печать вела антианглийскую кампанию, но и переписка между Черчиллем и Сталиным отнюдь не была сердечной. Сталин довольно лаконично подтвердил прибытие в Архангельск конвоя PQ-18; он не согласился с черчиллевскими данными о количестве самолетов, производимых Германией, назвав их неточными, а на длинное послание Черчилля от 9 октября, в котором тот настойчиво просил разрешения разместить англо-американские военно-воздушные силы на Кавказе (тут же информируя Сталина о том, что посылку арктических конвоев придется ограничить), Сталин ответил только: «Ваше послание от 9 октября получил. Благодарю. И. Сталин».
Однако в связи с ухудшением положения на Кавказе (2 ноября немцы захватили Нальчик) Сталин в своем письме от 8 ноября вновь проявил интерес к предложению об отправке на Кавказ 20 англо-американских авиационных эскадрилий.
Учитывая размолвки, происходившие - особенно в октябре - между советским и английским правительствами (Черчилля особенно возмутили выпады советской печати в связи с Гессом), выступление Сталина по радио 6 ноября явилось для западных союзников приятной неожиданностью. К тому времени он, несомненно, знал, что операция «Торч» уже началась и что войска Роммеля в Западной пустыне отступают. Он несколько раз подчеркнул значение англо-американо-советского союза, хотя и иронически отозвался о действиях англичан в Ливии, где они сражаются против «всего четырех - да, четырех - немецких и одиннадцати итальянских дивизий». Он заявил также, что, если бы существовал второй фронт, немцы были бы сейчас отогнаны к Пскову, Минску и Одессе. Сталин с удовлетворением говорил об огромном повышении боеспособности советских войск и о колоссальных успехах, достигнутых советскими промышленными предприятиями на востоке. Немцам, сказал он, не удалось достигнуть их главной цели.
Приказ Сталина от 7 ноября развивал в основном те же идеи. Не намекая ни на операцию «Торч», ни на готовящееся контрнаступление, Сталин употребил выражение, не только чрезвычайно воодушевившее, но и заинтересовавшее всех: «Будет и на нашей улице праздник».
Известие о высадке в Северной Африке, поступившее два дня спустя, произвело в Москве большое впечатление. Не представляя себе огромной организационной сложности этой операции, люди все же с удовлетворением сознавали, что дело на Западе наконец-то сдвинулось с мертвой точки, хотя это был не совсем тот второй фронт, на который они надеялись. Позднее в Сталинграде мне рассказывали, что известие о высадке в Северной Африке было немедленно передано во все воинские части и оказало чрезвычайно благоприятное воздействие на солдат. В своем втором письме к Кэссиди, датированном 13 ноября, Сталин выразил глубокое удовлетворение по поводу успешного хода кампании в Северной Африке, открывающей, по его словам, «перспективу распада итало-немецкой коалиции в ближайшее время». Эта операция, писал он, ясно показала, что англо-американские руководители «способны организовать серьезную военную кампанию», и добавлял, что разгром вражеских войск в Западной пустыне был осуществлен «мастерски». Он предсказал, что Италия в скором времени выйдет из войны. Хотя сейчас, писал он, еще рано говорить о том, в какой мере кампания в Северной Африке уменьшит давление на Советский Союз, ее эффект, по его мнению, будет «немалый»,
Сталин указывал также, что эта операция «создала предпосылки для организации второго фронта в Европе поближе к жизненным центрам Германии» и что она «выведет Францию из состояния оцепенения».
В общем и целом после высадки в Северной Африке межсоюзнические отношения заметно улучшились. Как сказал мне спустя несколько дней английский посол Кларк Керр, «Кремль ныне излучает тепло».
(обратно)Глава III. Окружение немцев под Сталинградом
Между опубликованием «Клятвы защитников Сталинграда» и началом большого контрнаступления, завершившегося два с половиной месяца спустя сталинградской победой, прошло всего 13 дней. Однако за эти 13 дней немцы успели предпринять новое отчаянное наступление. Положение обороняющихся стало еще более трудным из-за появления на Волге льда. Из-за этого все перевозки через реку практически прекратились, и даже эвакуация раненых стала почти невозможной. И все-таки, когда это последнее немецкое наступление было отбито, дух защитников Сталинграда поднялся выше, чем когда-либо раньше, тем более что они смутно чувствовали: вот-вот случится что-то очень важное.
Впоследствии сталинградские воины рассказывали мне, с какой безумной радостью, надеждой и волнением они прислушивались к грому далекой, но интенсивной артиллерийской канонады, раздавшейся 19 ноября между шестью и семью часами утра, в это самое тихое время суток на Сталинградском фронте. Они понимали, что означает этот гром пушек. Он означал, что им не придется оборонять Сталинград на протяжении всей зимы. Высунув головы из блиндажей, в почти непроницаемой темноте - тусклый, сырой и туманный рассвет только еще занимался - они прислушивались.
Никаких официальных сообщений не было опубликовано ни 19 ноября, когда войска Донского фронта под командованием Рокоссовского и войска Юго-Западного фронта под командованием Ватутина двинулись на юг в направлении на Калач, ни 20 ноября, когда войска Сталинградского фронта под командованием Еременко двинулись из района к югу от Сталинграда в северо-западном направлении на соединение с ними. Ничего не сообщалось об этом и в сводке от 21 ноября. «Правда» посвятила в тот день свою передовую статью «сессии Академии наук в Свердловске».
Лишь в ночь на 22 ноября в специальном сообщении была обнародована грандиозная новость о том, что несколько дней назад советские войска, сосредоточенные северо-западнее и южнее Сталинграда, перешли в наступление, захватили Калач и перерезали две железнодорожные линии, по которым доставлялись припасы для немецких войск в Сталинграде, в районе Кривомузгинской и Абганерова. В этом сообщении еще прямо не говорилось о том, что кольцо вокруг немцев в Сталинграде замкнулось, но приводились цифры громадных потерь противника: 14 тыс. немецких солдат было убито, 13 тыс. взято в плен и т.д.
Москва была охвачена сильнейшим волнением, у всех на устах было одно слово: «Началось!» Все инстинктивно чувствовали, что от этого наступления можно ожидать каких-то очень больших результатов[141].
Основное, что следует сказать об этом втором, решающем этапе Сталинградской битвы, сводится к следующему:
1. Войска трех советских фронтов располагали в общей сложности 1005 тыс. солдат, которым противостояло почти равное количество вражеских войск; они имели около 900 танков против 700 немецких[142], 13 тыс. артиллерийских орудий против 10 тыс. у немцев и 1100 самолетов против 1200 у противника.
С другой стороны, на направлениях главного удара Красная Армия обладала таким подавляющим превосходством, какого, согласно «Истории войны», им за всю войну еще никогда не удавалось достигнуть: троекратным превосходством в живой силе и четырехкратным в технике - особенно в артиллерии и минометах. Фактически все это вооружение было произведено советской промышленностью в течение лета и в первые осенние месяцы; советские войска использовали лишь незначительное число западных танков, грузовиков и джипов. К февралю 1943 г. Советскому Союзу было поставлено в общей сложности около 72 тыс. грузовиков западного производства, однако в момент, когда началось наступление под Сталинградом, русские имели лишь очень небольшую их часть.
2. Боевой дух войск был исключительно высок.
3. План контрнаступления разрабатывался еще с августа, главным образом Сталиным, Жуковым и Василевским в консультации с командующими фронтами - Ватутиным, Рокоссовским и Еременко. В октябре и ноябре Василевский и Жуков посетили район предстоящих операций.
4. Приготовления к наступлению потребовали огромных организационных усилий и были проведены с соблюдением величайшей секретности. Так, в течение нескольких недель перед наступлением всякая почтовая связь между солдатами тех фронтов и их семьями была прекращена. Хотя немцы бомбили железные дороги, ведущие к району севернее Дона, они не имели ясного представления о том, какое количество техники и войск доставлялось (главным образом по ночам) в район к северу от Дона и на два основных советских плацдарма в излучине Дона. Немцы никогда не предполагали, что советское контрнаступление (если оно вообще будет предпринято) может принять такие широкие масштабы. Еще более трудной была задача по переброске на Сталинградский фронт, на юг, массы войск и огромного количества техники. Для этого приходилось использовать железную дорогу, шедшую на востоке от Волги, которую немцы усиленно бомбили, а также наводить понтонные мосты и устраивать паромные переправы через Волгу, можно сказать, под самым носом у немцев. В отличие от местности к северу от Дона, где имелись кое-какие леса, в голой степи южнее Сталинграда было особенно трудно обеспечить маскировку.
И все же, несмотря на все это, немцы не имели представления о мощи готовящегося удара.
5. Немецкое командование, и в особенности сам Гитлер, были настолько одержимы мыслью о необходимости захватить Сталинград по соображениям престижа, что не уделили достаточного внимания укреплению обоих флангов расположения своих войск, которое мы можем назвать сталинградским выступом. Строго говоря, это не был выступ: на северной его стороне действительно был фронт, но на юге лежала своего рода ничейная земля, тянувшаяся через калмыцкие степи до самого Северного Кавказа; здесь было лишь несколько слабеньких рубежей, которые удерживали в основном румынские войска. На севере на некоторых участках фронта тоже стояли румыны. Румынские войска хорошо сражались под Одессой и в Крыму, однако в начале зимы, когда они оказались в донских степях, их боевой дух сильно упал. Здесь они уже явно воевали не за интересы королевской Румынии, а за интересы Гитлера, и их отношения с немцами были далеко не дружественными. Далее к западу, на Дону, действовали итальянские войска, моральное состояние которых также было не блестящим. Советское командование было хорошо об этом осведомлено и справедливо считало удерживаемые румынами и итальянцами участки фронта самыми слабыми.
Наступление началось в 6 час 30 мин утра 19 ноября артиллерийской подготовкой на широком фронте к северу от сталинградского выступа; через два часа двинулись пехота и танки. Из-за плохой погоды к помощи авиации прибегали мало. За три дня войска под командованием Ватутина продвинулись приблизительно на 125 км, разгромив в ходе наступления 3-ю румынскую армию и несколько немецких частей, спешно посланных для спасения союзников. Несмотря на сильное сопротивление немецких, а также некоторых румынских частей, войска Юго-Западного фронта под командованием Ватутина достигли 22 ноября Калача и там встретились с войсками Еременко, которые осуществили прорыв с юга, где сопротивление противника оказалось менее упорным.
В ходе боев четыре румынские дивизии были окружены и вскоре капитулировали во главе со своим командующим, генералом Ласкаром. Такая же участь постигла и другую окруженную румынскую группировку, которой командовал генерал Стэнеску. Разгром румынской 3-й армии, в результате которого Красная Армия захватила около 30 тыс. пленных, оказал немалое политическое влияние на отношения Гитлера с его союзниками. Прежде всего немцы установили после этого над румынскими войсками гораздо более строгий и более непосредственный контроль.
Войска Сталинградского фронта под командованием Еременко, перешедшие в наступление днем позже, продвигались к Калачу еще быстрее и достигли его менее чем за три дня, опередив, таким образом, войска Юго-Западного фронта и захватив в плен 7 тыс. румынских солдат. Войска правого крыла Донского фронта под командованием генерала Рокоссовского 19 ноября также нанесли удар в южном направлении; часть этих войск прорвалась к району обороны полковника Горохова на Волге, к северу от Сталинграда. Окружение немцев в Сталинграде было завершено за четыре с половиной дня. Кольцо не было ни очень широким - от 30 до 60 км, - ни очень прочным, и следующая задача, очевидно, состояла в том, чтобы укрепить и расширить его. В последние дни ноября немцы предприняли попытку прорвать кольцо с запада, однако, несмотря на некоторые первоначальные успехи, им это не удалось. Советское командование больше всего боялось, что 6-я армия Паулюса и части 4-й танковой армии, находившейся в Сталинграде, попытаются прорваться и уйти из Сталинграда. Однако ничего похожего не произошло, и, как это ни парадоксально, во время советского прорыва на Дону множество немцев устремилось в Сталинград в поисках «безопасности».
Некоторые интересные подробности об обстановке, в которой происходило это великое сражение, сообщил мне корреспондент агентства Юнайтед Пресс в Москве Генри Шапире, получивший разрешение посетить эти места через несколько дней после того, как кольцо замкнулось. Он доехал по железной дороге до пункта, расположенного примерно в полутораста километрах северо-западнее Сталинграда, а оттуда добрался на машине до Серафимовича, находившегося на том самом плацдарме на Дону, который русские захватили после ожесточенных боев в октябре и откуда Ватутин 19 ноября бросил свои войска в наступление на Калач.
«Железнодорожную линию поблизости от фронта немцы сильно бомбили; все станции были разрушены, и военные коменданты и железнодорожные служащие управляли движением, сидя в блиндажах и разрушенных зданиях. По железной дороге к фронту непрерывно двигался широкий поток вооружения - «катюши», орудия, танки, боеприпасы и войска. Движение продолжалось днем и ночью, и то же самое происходило на шоссейных дорогах. Особенно интенсивным это движение было в ночное время. Английской и американской техники попадалось очень мало - разве лишь какой-нибудь джип или танк; процентов на 90 все это было вооружение отечественного производства. Но что касается продовольственного снабжения, довольно значительную его часть составляли американские продукты - особенно лярд, сахар и свиная тушенка.
К тому времени, когда я добрался до Серафимовича, русские были заняты не только укреплением кольца вокруг Сталинграда, но и созданием второго кольца; карта ясно показывала, что немцы в Сталинграде окончательно попались в ловушку и никак не могут из нее вырваться… Я обнаружил как у солдат, так и у офицеров такое чувство уверенности в своих силах, какого я никогда прежде в Красной Армии не встречал. Во время битвы за Москву ничего похожего не наблюдалось (курсив мой. - А. В.).
Далеко за линией фронта по степи бродили тысячи румын, ругавших немцев, отчаянно разыскивавших русские питательные пункты и горевших желанием, чтобы их официально причислили к военнопленным. Некоторые солдаты, отбившиеся от своей части, сдавались на милость местных крестьян, которые обходились с ними милосердно, хотя бы уже потому, что это не были немцы. Русские говорили, что это «такие же бедные крестьяне, как и мы сами».
Если не считать небольших групп железногвардейцев, которые кое-где оказывали упорное сопротивление, румынские солдаты устали от войны, она им надоела. Все пленные, которых я видел, говорили примерно одно и то же: эта война нужна Гитлеру, и румынам нечего делать на Дону.
Чем больше я приближался к Сталинграду, тем больше встречалось пленных немцев… Степь имела фантастический вид. Всюду валялись лошадиные трупы. Некоторые лошади, еще живые, стоя на трех окоченевших ногах, дергали четвертой - перебитой. Это было душераздирающее зрелище. В ходе советского наступления погибло 10 тыс. лошадей. Вся степь была буквально усеяна их трупами, разбитыми орудийными лафетами, танками и пушками - немецкими, французскими, чешскими и даже английскими (наверняка захваченными в Дюнкерке)…-и бесчисленными трупами румынских и немецких солдат. В первую очередь надо было хоронить своих, русских. Мирные жители возвращались в свои деревни, по большей части разрушенные… Калач представлял собой груды развалин. Уцелел лишь один дом…
Генерал Чистяков, командный пункт которого я наконец обнаружил в одной деревне к югу от Калача - деревня время от времени подвергалась артиллерийскому обстрелу, - сказал, что еще несколько дней назад немцы могли довольно легко вырваться из Сталинграда, но Гитлер запретил им это. Теперь они упустили удобный момент. Он выразил уверенность, что Сталинград будет взят к концу декабря.
Русские, сказал Чистяков, сбивают немецкие транспортные самолеты десятками, и немцы, находящиеся в Сталинградском котле, уже испытывают нехватку продовольствия и питаются кониной.
Немецкие военнопленные, которых я видел, были в большинстве молодые парни и имели очень жалкий вид. Ни одного офицера я не видел. Несмотря на тридцатиградусный мороз, немцы были одеты в обыкновенные шинели и укутаны в одеяла. У них не было фактически никакого зимнего обмундирования. А русские были экипированы очень хорошо - на них были валенки, овчинные полушубки, теплые перчатки и тому подобное. В моральном отношении немцы, по-видимому, были совершенно оглушены и не могли понять, что это такое вдруг произошло.
На обратном пути в 4 часа утра я несколько минут беседовал с генералом Ватутиным в каком-то полуразвалившемся школьном здании в Серафимовиче. Он был ужасно утомлен - по меньшей мере две недели ему не удавалось как следует выспаться. Он все время тер глаза и то и дело впадал в дремоту. Однако при всем том он выглядел очень крепким и решительным и настроение у него было в высшей степени оптимистическое. Ватутин показал мне карту, на которой ясно было обозначено направление дальнейшего продвижения русских в западную часть донских степей.
У меня сложилось впечатление, что, в то время как захват Серафимовича в октябре стоил русским больших жертв, их потери в ходе нынешнего хорошо подготовленного прорыва были гораздо меньше, чем потери румын и немцев».
В то время немцы и их союзники еще занимали обширные территории в юго-восточной части России. В их руках была вся Кубань и некоторые районы Северного Кавказа; они все еще держались в Моздоке - на пути к Грозному - ив черноморском порту Новороссийск. 2 ноября они взяли Нальчик и едва не захватили Владикавказ - северную оконечность Военно-грузинской дороги. Однако здесь советское командование добилось 19 ноября значительного успеха, введя в действие крупные силы и отбросив немцев назад, к окраинам Нальчика. В районе Моздока немцам с конца августа не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться вперед. Подобно Сталинграду, Моздок несколько месяцев неизменно фигурировал в военных сводках. Поставив своей целью очистить от противника все прилегающие к Дону территории к западу от Сталинграда - до самого Ростова и Азовского моря, - советское командование правильно рассчитало, что, если ему это удастся, оно почти автоматически заставит немцев убраться с Кавказа и Кубани.
Еще более смелый план «Сатурн», принятый Верховным Командованием 3 декабря, то есть через две недели после начала контрнаступления, состоял в том, чтобы ликвидировать немецкие войска, запертые в Сталинградском котле, а затем занять всю излучину Дона, включая Ростов, и отрезать немецкие войска, находящиеся на Кавказе. Как указывается в «Истории войны»[143], 27 ноября Сталин позвонил по телефону начальнику Генерального штаба Василевскому, находившемуся в тот момент в районе Сталинграда, и потребовал, чтобы первоочередное внимание было уделено ликвидации немецких войск в Сталинграде, а выполнение остальных пунктов плана «Сатурн» было поручено войскам Юго-Западного фронта под командованием Ватутина.
«В начале декабря войска Донского и Сталинградского фронтов начали наступление против окруженной вражеской группировки. Но оно не дало больших результатов. Поэтому советское командование решило значительно усилить войска и более тщательно подготовить операцию. В район Сталинграда перебрасывались новые части и соединения, из резерва Ставки направлялась 2-я гвардейская армия под командованием Р.Я. Малиновского»[144].
Немцы предприняли первую попытку прорваться к Сталинграду с запада в конце ноября, но потерпели неудачу. После этого они перестроили свои силы и сформировали новую группу армий «Дон», задачей которой было: а) остановить продвижение советских войск в бассейне Дона и б) прорвать кольцо вокруг Сталинграда. Эта группа включила все немецкие и союзные им войска, находившиеся в районе между средним течением Дона и астраханскими степями, а два ее главных кулака предполагалось сосредоточить в Тормосине, в излучине Дона, и в Котельникове - к югу от излучины Дона, километрах в 90 юго-западнее Сталинградского котла. Выполнение операции было поручено фельдмаршалу фон Манштейну - «покорителю Крыма», престиж которого в немецкой армии был очень высок.
Однако создание мощной ударной группировки, особенно в Тормосине, происходило с большими проволочками из-за огромных транспортных затруднений. Эти трудности в основном были результатом постоянных налетов партизан на железные дороги, в связи с чем подкрепления в район Дона могли доставляться с запада лишь окружными путями. Так как время не ждало, Манштейн решил наступать силами одной ударной группы, сосредоточенной в Котельникове. Впоследствии он объяснил свое решение следующим образом:
«Ей ближе было до Сталинграда, и на своем пути к нему не нужно было форсировать Дон. Можно было надеяться, что противник не ждет крупного наступления на этом направлении… Группе наших войск в Котельникове вначале противостояло только пять русских дивизий, тогда как против группы, сосредоточенной в Тормосине, стояло 15 дивизий»[145],
12 декабря котельниковская группа войск Манштейна, в состав которой входило несколько сот танков, перешла в наступление на узком участке фронта в направлении на Сталинград вдоль железной дороги, ведущей с Кавказа. Несмотря на сильное сопротивление советских войск, за три дня она продвинулась на 50 км. 15 декабря немцам удалось форсировать реку Аксай, однако советские части заняли к северу от реки оборонительные позиции и начали получать крупные подкрепления. Продвижение немцев замедлилось, но при поддержке сотен бомбардировщиков к 19 декабря им удалось достичь реки Мышкова, это был последний естественный барьер между ними и Сталинградом. Они форсировали и эту реку, после чего, по словам Манштейна, немцам «уже было видно зарево в небе над Сталинградом». Заревом все и кончилось - самого Сталинграда Манштейну увидеть не довелось. Отложив выполнение операции «Сатурн» до ликвидации Сталинградского котла, советское Верховное Командование уделило первоочередное внимание разгрому группировки Манштейна, наступавшей со стороны Котельникова, а также его войск в районе Тормосина.
Чтобы справиться с котельниковской группой Манштейна, к реке Мышкова, находившейся в каких-нибудь 40 км от Сталинградского котла, в исключительно трудных условиях были срочно переброшены русские подкрепления. 2-й гвардейской армии Малиновского пришлось проделать 200 км, переправившись через Волгу. Войска двигались форсированным маршем по 40 км в день по занесенной снегом степи, в страшный буран. Когда они подошли к реке Мышкова, которую немцы уже форсировали в нескольких местах, они ощущали острую нехватку горючего, а доставка его задерживалась из-за непогоды и плохого состояния дорог. Русским пришлось в течение нескольких дней использовать в бою только пехоту и артиллерию, и лишь 24 декабря их танки также смогли вступить в действие. Однако немцев удалось сдержать, а затем, 24 декабря, советские войска нанесли удар уже при поддержке танков и авиации и отбросили противника назад, к реке Аксай. Здесь немцы решили оказать упорное сопротивление, но русские наносили все более и более мощные удары и оттеснили немцев к Котельникову. 29 декабря они оставили и этот пункт, и остатки войск Манштейна поспешно отступили к станции Зимовники, а оттуда еще дальше, за реку Маныч - на пути к Северному Кавказу. Эта река протекает в 90 км юго-западнее Котельникова, откуда 12 декабря Манштейн начал свое наступление.
Пытаясь прорваться к Сталинграду, немцы (по данным советского командования) потеряли только убитыми 16 тыс. человек, а также значительную часть своих танков, артиллерийских орудий и машин. Через несколько дней после того, как все кончилось, мне довелось увидеть этот район небывалого немецкого отступления - от реки Мышкова до Зимовников.
Русские и тогда и еще долгое время после этого недоумевали, почему Паулюс, зная, что войска, идущие ему на выручку, находятся в каких-нибудь 40 км от Сталинградского котла, не попытался совершить прорыв, чтобы соединиться с ними, не постарался даже облегчить их продвижение к Сталинграду контрнаступлением, которое отвлекло хотя бы часть советских войск.
После войны об этой весьма спорной операции было написано очень много - о ней писали и сам Манштейн, и Вальтер Гёрлиц, и Филиппи, и Гейм, и другие. Прежде всего до сих пор остается загадкой, чего, собственно, Манштейн (или группа «Гот», как немцы обычно называют эту группировку войск) надеялся достичь, если не обеспечения прорыва из окружения всех немецких войск, запертых в Сталинграде. Ведь очень трудно себе представить, чтобы группа «Гот» могла сколько-нибудь длительное время удерживать узкий коридор, ведущий к Сталинграду, и не дать советским войскам его перерезать. По-видимому, Манштейн начал эту операцию с мыслью, что, если он прорвется к Сталинграду или хотя бы достаточно близко подойдет к нему, он сможет либо убедить Гитлера в необходимости приказать Паулюсу вывести свои войска из Сталинградского котла, либо поставить Гитлера перед свершившимся фактом, основанным на бесспорном доводе, что иного выхода не было.
Был такой период между 19 и 23 декабря - в эти дни группа «Гот» удерживала плацдармы к северу от реки Мышкова, - когда Паулюс мог попытаться с некоторыми шансами на успех осуществить прорыв. Манштейн замышлял две самостоятельные операции: во-первых, операцию «Винтергевиттер» («Зимняя гроза»), в результате которой была бы установлена связь между группой «Гот» и войсками Паулюса, - главным образом с целью обеспечить быстрейшую доставку припасов окруженной группировке сухопутным транспортом, поскольку воздушная связь с окруженными войсками фактически была прервана; и, во-вторых, операцию «Доннершлаг» («Удар грома»), предусматривавшую прорыв из котла всей сталинградской группировки. Паулюс утверждал, что для подготовки к любой из этих операций ему требовалось несколько дней; физическое состояние его войск было очень скверным, они нуждались в продовольствии и других припасах («требовался по меньшей мере десятидневный запас продовольствия для 270 тыс. человек»); ощущалась также острая нехватка горючего, и, кроме всего прочего, надо было прежде всего эвакуировать 8 тыс. раненых. В конечном счете можно, по-видимому, сделать следующий вывод: были ли у немецких войск под Сталинградом хорошие шансы вырваться из окружения, нет ли, но в течение этих четырех решающих дней - с 19 по 23 декабря - как Паулюс, так и Манштейн не решались действовать, ибо от Гитлера не было получено разрешения отступить от Сталинграда. Видимо, ни один из них не отважился предпринять что-либо без прямого разрешения Гитлера, ибо подобный серьезный акт непослушания фюреру создал бы опасный «революционный» прецедент, который мог оказать пагубное воздействие на дисциплину вермахта в целом. К тому же Гитлер, по их мнению, мог отменить любой приказ, не исходивший лично от него.
Другим обстоятельством, заставлявшим Паулюса колебаться (не в пример одному из его генералов, фон Зейдлицу, решительному стороннику прорыва), были щедрые обещания, которыми засыпал его Гитлер: Геринг «гарантировал», что окруженным войскам может быть обеспечено надлежащее снабжение по воздуху, так что они легко смогут продержаться до весны 1943 г., а к тому времени весь бассейн Дона будет, по всей вероятности, отвоеван немцами. После провала попытки Манштейна прорваться к Сталинграду Паулюс (да и Манштейн) стал утешать себя тем, что, несмотря на неудачу с организацией воздушных перевозок, немецкие войска, находящиеся в Сталинградском котле, все-таки делают полезное дело, сковывая крупные силы русских, а Манштейн может-де теперь посвятить себя еще более важной задаче, чем спасение 6-й армии, а именно держать открытой брешь между Ростовом и Таманью и тем самым дать возможность гораздо более значительным немецким силам, находящимся на Кавказе и Кубани, уйти оттуда с минимальными потерями.
По свидетельству Вальтера Гёрлица, Паулюс многие годы был поклонником Гитлера, и потому он покорно подчинялся гитлеровскому приказу держаться любой ценой. Только после покушения на Гитлера, происшедшего 20 июля 1944 г., Паулюса убедили примкнуть к сотням других немецких офицеров и генералов, решивших обратиться к немецкой армии и народу с призывом свергнуть Гитлера. Таким образом, Герлиц разрушает легенду, согласно которой Паулюс был-де этаким благородным антинацистом. Правда, он впоследствии поселился в Германской Демократической Республике и до самой смерти - он умер в 1957 г. - ратовал за теснейшее сотрудничество между Германией и Советским Союзом. (Несмотря на это, он был одним из самых ретивых творцов гитлеровских планов войны с Польшей и вторжения в СССР в 1941 г.)
За последнее время некоторыми немецкими авторами было высказано мнение, что все споры по поводу того, как Манштейну и Паулюсу надлежало действовать в промежуток между 19 и 23 декабря, обходят главный пункт, заключающийся в том, что наступление Манштейна было попросту плохо спланировано и что Паулюс не мог осуществить прорыв. Вот что пишут по этому поводу Филиппи и Гейм:
«Нет, собственно, никаких данных, которые говорили бы о том, что в конце декабря эти войска, находившиеся в столь жалком состоянии, были еще способны осуществить прорыв, даже если предположить, что перспектива вырваться на свободу должна была вдохновить их на сверхчеловеческие подвиги. Командование 6-й армии заявило 21 декабря, что предлагаемая операция грозит катастрофической развязкой… оно было право: попытка огромной массы людей, крайне истощенных физически, проложить себе с боями путь к реке Мышкова, для чего им надо было пройти 50 километров по заснеженным степям и сломить сопротивление свежих, нетронутых и хорошо вооруженных войск противника, могла явиться только жестом отчаяния. Столь же неблагоприятны были и условия для операций “Зимняя гроза” и “Удар грома”»[146].
Верна ли такая точка зрения или нет - об этом военные историки, без сомнения, будут продолжать спорить. Если судить по тем немцам, которых я видел в Сталинграде более чем полтора месяца спустя, в двадцатых числах декабря, они, должно быть, были еще в довольно приличном состоянии. К тому времени они находились в окружении меньше месяца и отнюдь не испытывали настоящего голода. При мысли о том, что фон Манштейн вот-вот осуществит прорыв к Сталинграду, говорили они, их охватывал «воинственный дух». Даже в январе, во время ликвидации Сталинградского котла, те немецкие солдаты, которые находились в сносном физическом состоянии, сражались с величайшим упорством.
Пока 2-я гвардейская армия под командованием Малиновского готовилась отбросить немцев от реки Мышкова, войска Ватутина и Голикова продолжали успешно продвигаться с севера в глубь бассейна Дона.
Быстро продвинувшись в район среднего течения Дона и далее на запад - на этот раз при значительной поддержке с воздуха (за первые несколько дней наступления советские самолеты совершили 4 тыс. боевых вылетов), - они разгромили остатки 3-й румынской армии, 8-й итальянской армии и вышибли с занимаемых позиций тормосинскую ударную группу немецких войск, которая намеревалась осуществить прорыв к Сталинграду одновременно с наступлением котельниковской группы. При этом была освобождена огромная территория. Вот что говорится об этом в «Истории войны»[147].
Советские войска «нанесли сокрушительное поражение 8-й итальянской армии и левому крылу группы армий «Дон». В 8-й итальянской армии были разгромлены пять пехотных дивизий… и одна бригада «чернорубашечников». Эта армия, имевшая к осени 1942 г. около 250 тыс. солдат и офицеров, потеряла убитыми, пленными и ранеными половину своего состава. Тяжелые потери понесла оперативная группа «Холлидт», находившаяся на левом крыле группы армий «Дон». Были разгромлены пять ее пехотных и одна танковая дивизии»[148].
После неудачной попытки группы Манштейна «Гот» прорваться к Сталинграду и ее отступления к Котельникову и дальше войска Малиновского оттеснили ее за реку Маныч и намеревались осуществить прорыв к Ростову с юго-востока. Однако было уже несомненно, что советское наступление, давшее с 19 ноября по конец декабря такие поразительные результаты в бассейне Дона, с началом нового года неизбежно натолкнется на гораздо более упорное сопротивление противника. Для немцев было чрезвычайно важно как можно дольше держать открытой Ростовскую горловину, ибо она осталась основным путем спасения немецких войск, которые теперь - в начале января - поспешно отходили с Кавказа и Кубани. Благодаря победе Красной Армии под Сталинградом попытка Гитлера завоевать Кавказ полностью провалилась.
(обратно)Глава IV. Сталинград: личные впечатления
К 1 января 1943 г. немцы, оказавшиеся в Сталинградском котле - овале, простиравшемся примерно на 70 км с запада на восток и на 22 км с севера на юг, - уже более полутора месяцев находились почти в полной изоляции от внешнего мира, если не считать того, что время от времени к ним пробивались транспортные самолеты. К 24 декабря всякая надежда на то, что их спасет группа «Гот» под командованием Манштейна, окончательно рухнула.
В первой половине января мне представилась возможность вместе с несколькими другими корреспондентами совершить поездку по той удивительной железной дороге, что шла на востоке от Волги и на протяжении многих месяцев служила единственным путем подвоза припасов для советских войск, оборонявших Сталинград. По этой же дороге в октябре и ноябре перебрасывались войска, вооружение и продовольствие в район к югу от Сталинграда, откуда 20 ноября начали свое наступление войска Сталинградского фронта.
Мы выехали из Москвы утром 3 января 1943 г. в старомодном, дореволюционного выпуска, спальном вагоне, который прицепили к скорому поезду Москва - Саратов.
То, что мы путешествовали в таких сравнительно роскошных условиях, не было в Советском Союзе чем-то неслыханным даже в 1942-1943 гг.; кроме нас, в спальном вагоне были и другие пассажиры: ответственные служащие, следовавшие с какими-то специальными заданиями, офицеры в чине полковника и выше и другие. Никакого вагона-ресторана в поезде, конечно, не было, и мы вынуждены были довольствоваться «сухим пайком», запивая его чаем из самовара нашего добродушного старого проводника. Поезд, кроме нашего вагона, состоял из жестких вагонов, до отказа забитых пассажирами, в основном солдатами. Так как все окна были закрыты, стояла ужасающая жара.
В тот день, когда мы уезжали из Москвы, была оттепель, стоял туман; с сосулек за окном вагона капало. Проехали Каширу с ее сожженными домами, свидетельством немецкого наступления на Москву год назад; эти мрачные дни теперь казались очень далекими. После окружения немцев в Сталинграде все понимали, что ничего похожего уже не может повториться…
В Саратове, куда мы прибыли утром 5 января, было солнечно и очень холодно - минус 25° по Цельсию. Все было покрыто снегом. Саратов с его красивыми широкими улицами являл собой картину необычайного процветания. Из Москвы, Ленинграда и других мест сюда было эвакуировано множество важнейших учебных заведений, так что городу даже присвоили шутливое название «Профес-саратов»… Театры (в том числе опера) и несколько кино работали вовсю. Мы плотно пообедали в клубе железнодорожников…
Вечером наш вагон прицепили к товарному поезду. Уже стемнело, и можно было разглядеть только бесчисленное количество всяких составов на самой станции Саратов и вокруг нее: видно было, как велико значение этого железнодорожного узла… По большому мосту мы переехали через Волгу; далее дорога пролегала по местности, обозначавшейся ранее на картах как «Автономная республика немцев Поволжья», и тут мне стало понятно, почему Советское правительство не пожелало пойти на риск и оставить здесь немцев. Все они - а их насчитывалось полмиллиона - были в августе 1941 г. высланы в Казахстан. Уже в самом начале войны в Автономной республике немцев Поволжья было несколько случаев диверсий на железнодорожном транспорте; рассказывали также, что местные немцы укрывали немецких летчиков, сбитых в этом районе.
Утром Москва уже казалась нам очень далекой. Поезд всю ночь шел с небольшой скоростью, и мы ехали теперь по бесконечным безводным степям Заволжья. Снегу было очень мало, и сквозь него пробивались пучки коричневой травы. Мы только что проехали мимо разбитых железнодорожных вагонов; у запасного пути лежал колесами вверх еще один вагон, уже успевший покрыться ржавчиной. На маленькой станции я разговорился с несколькими железнодорожниками. Один из них был пожилой мужчина из Томска, суровый сибиряк с седоватыми усами и морщинистым лицом. «Сталинград, - сказал он, - вон там, не очень далеко, километров сто отсюда. Да, в октябре горячо нам было. И не сосчитать, сколько раз нас бомбили - без конца! Видите? - спросил он, указывая на опрокинутый вагон. - Этот поезд вел я. Им в тот день везло. В мой поезд было три прямых попадания. Остались целы только паровоз и первый вагон, остальные вагоны оторвались и были разбиты». Я взглянул вдоль линии: повсюду валялись обломки вагонов и платформ, а также нескольких грузовиков и бронемашин - наверное, тех, что вез поезд. «Много людей погибло?» - «Тридцать пять железнодорожников и трое солдат, - сказал мой собеседник. - Могилки их вон там», - добавил он, указав немного восточнее железнодорожной линии. Странно было слышать, что этот суровый сибиряк сказал не «могилы», а ласкательно - «могилки».
К нам присоединился молодой железнодорожник, блондин с голубыми глазами и мягким выговором южанина. «Я работал на этой дороге с начала и до самого конца Сталинградской битвы, - сказал он. - Мы, железнодорожники, - те же солдаты. Все снабжение для Сталинграда шло по этой дороге, так что можете себе представить, какое внимание ей уделяли фрицы. Они разбомбили здесь все вчистую, только одна маленькая халупа уцелела». Неподалеку от железнодорожного полотна виднелись воронки от бомб и груды искореженного металла, но тут же было сложено штабелями много новых рельсов. «Мы разложили запасные рельсы по всей линии, - сказал он, - так что дорога никогда не выходила из строя, если не считать немногих случаев, и то лишь на пару часов. Если учесть, какое движение было на дороге в последние пять месяцев, немцы разбили не так уж много составов». «Это верно, - заметил сибиряк, - но они доставляли нам много хлопот, сбрасывая бомбы возле самого полотна и нарушая телефонную и телеграфную связь». Молодой железнодорожник улыбнулся. «Что ж, приятно знать, что все это было не напрасно. Фрицы сейчас бегут как зайцы. Страшные моменты бывали, но мы никогда не верили, что немцам удастся добиться своего. Мы видели многих, приезжавших сюда прямо из Сталинграда, и они никогда не теряли надежды…» Сам парень был из Бессарабии. «Когда румыны окружили нашу деревню, я просто чудом спасся. С Красной Армией переправился через Прут. Я знаю, что скоро вернусь в Бессарабию и буду снова пить наше замечательное бессарабское вино. У нас лучше, чем здесь», - сказал он, глядя на безлюдную степь.
Подошел еще один железнодорожник и тоже сказал, что скоро вернется «домой», в Купянск на Украине, недалеко от Харькова. Оказалось, что это наш машинист. Лицо его было покрыто угольной копотью, но белые зубы и розовые десны влажно поблескивали, когда он улыбался, а украинские глаза смеялись.
Наконец поезд тронулся. Мы долго ехали по степи, где не было никаких следов человеческой жизни, если не считать попадавшихся время от времени стогов сена. Потом показались низенькие Г-образные глинобитные лачуги одинакового с землей цвета. Здесь жили киргизы. Над совершенно плоским степным океаном висело светло-голубое небо. Все кругом напоминало первые кадры фильма «Потомок Чингисхана» Пудовкина. Это и в самом деле была Азия. Как показывала карта, железная дорога дважды пересекала районы, относившиеся к Казахстану. Теперь было понятно, почему солдаты, сражавшиеся в Сталинграде, считали, что за ним - «ничего нет». Тысячи людей ехали в Сталинград по этой дороге.
Ленинск, город близ конечного пункта ветки, идущей от Баскунчака, был крайней точкой, куда мы могли добраться по железной дороге. Этот город, километрах в пятидесяти от Сталинграда, на другом берегу Волги, служил главной базой снабжения Сталинграда и всего Сталинградского фронта… Фактически все войска и вся техника, составившие важную часть советских клещей, были доставлены через этот пункт. В Ленинск же обычно эвакуировали раненых из Сталинграда. Благодаря очень сильному зенитному прикрытию город относительно мало пострадал от бомбежек. Он все еще имел вид старого уездного города. По обеим сторонам широкой главной улицы тянулись кирпичные домики, а переулки были застроены деревянными домами; у многих окна были украшены красивыми резными деревянными наличниками. Старорежимный вид этого тихого провинциального уголка резко контрастировал с современными лозунгами, красовавшимися на всех стенах: «Бойцы Красной Армии! Помните в Сталинграде о вашем долге перед Родиной!», «Прогоним немецких гадов от ворот Сталинграда!», «Слава сталинградцам!» и т.п. В маленьком общественном саду стоял памятник Ленину. На аэродроме, у самого города, было много аэросаней со знаком Красного Креста для транспортировки раненых.
Пообедали мы в офицерской столовой, где познакомились с двумя хирургами из местного госпиталя. Один из них, маленький живой человечек, проработал в этом транзитном эвакуационном госпитале весь период Сталинградской битвы. «Одна из сквернейших особенностей этой войны, - сказал он, - это то, что процент тяжелораненых сейчас гораздо выше, чем в любую другую войну. Раньше бывало 80 процентов легкораненых и 20 - тяжело, теперь же тяжелые ранения составляют около 40 процентов. Гораздо чаще, чем в прошлую войну, случаются ранения в голову - результат мин и бомб. Такая же картина у немцев - мы это знаем от немецких военных врачей, взятых в плен». Врач рассказал, что большинство немецких и румынских пленных страдает от обморожения. «Они совсем не подготовились к зимним холодам и, видно, на самом деле рассчитывали в сентябре захватить Сталинград, и закончить войну! Румыны носят высокие меховые шапки, которые выглядят очень картинно, но они не защищают не только нижнюю часть лица, но даже нижнюю часть ушей. Вместо валяных сапог немцам выдали какие-то смехотворные эрзац-валенки из соломы с деревянными подошвами - они такие неуклюжие, что в них и ходить-то невозможно».
В тот же день мы выехали из Ленинска по ровной лесистой местности в Райгород, что стоит в дельте Волги между узкой рекой Ахтубой и собственно Волгой. К переправам через Волгу напротив Сталинграда и южнее города вело несколько дорог. В тот день движение было очень оживленным. Встречались преимущественно военные грузовики, а изредка крестьянские сани; один раз попались сани, в которые был запряжен верблюд. Видимо, жизнь здесь была сосредоточена в основном в рыбацких деревушках по берегам Волги. Поражали на этих дорогах не только многочисленные щиты со сталинградскими лозунгами, но и огромные надписи: «Траншея», «Пункт обогрева». Все это было частью «дороги жизни». Пункты обогрева представляли собой блиндажи с жарко натопленной печью, расположенные близ дороги, куда солдаты могли зайти обогреться; траншеи же служили для укрытия от бомб во время немецких воздушных налетов. Вокруг валялось много лошадиных трупов, большей частью уже полуразложившихся, но теперь замерзших. Наш шофер был моложавый человек, находившийся в Одессе во время ее осады и эвакуированный оттуда по морю в последний момент. Было очень страшно, рассказывал он, так как наши суда подвергались непрерывным налетам немецких пикирующих бомбардировщиков и многие были потоплены.
«Эти дороги я хорошо знаю, - сказал он. - Их все время бомбили. По этим самым дорогам мы доставляли войска и припасы в Сталинград. Любимым развлечением фрицев было обстреливать дороги из пулеметов. Они убили множество людей и огромное количество лошадей. Но у нас, особенно с августа, были истребители, так что по дорогам ежедневно удавалось пройти сотням машин. Мне самому больше всего досталось 23 августа, во время большого налета на Сталинград. Вы представить себе не можете, что это было! Весь город пылал, как огромный костер. Кирпичные дома рушились со страшным грохотом. Мне пришлось ехать по улице между горящими зданиями, над головой гудели десятки немецких самолетов, как вдруг прямо передо мной обрушился огромный дом и пыль поднялась такая, что не видно было, куда ехать. Повсюду валялись мертвые. И все-таки мне удалось проскочить; грузовик не получил даже царапины. Я ехал по понтонному мосту, а вокруг то и дело что-то шлепалось в воду. Надо сказать… мост этот продержался недолго…» После этого он продолжал изо дня в день доставлять в Сталинград боеприпасы - «на эту сторону реки, конечно» - и вывозить раненых. «Трудненько было, - подытожил он, - но теперь все будет хорошо».
В Сталинград нас еще не пускали, но теперь мы находились от него всего в нескольких километрах, и, когда стемнело, на западе можно было видеть зарево и слышать непрерывную орудийную стрельбу. В городе в ту ночь было относительно спокойно, но это был канун того дня, когда Рокоссовский предъявил Паулюсу ультиматум, а двумя днями позже должна была начаться окончательная ликвидация немецкой 6-й армии.
Наконец мы добрались до переправы через Волгу, километрах в 25 к югу от Сталинграда. В темноте мерцало несколько тусклых огоньков. Гул орудийных выстрелов стал гораздо глуше. Мы спокойно проехали по широкому понтонному мосту, проложенному по льду. В небе справа от нас все еще виден был какой-то слабый свет - то было бледное зарево над Сталинградом. «Раньше, - заметил шофер, - когда весь город горел неделю за неделей, картина была другая. В Ленинске по ночам все небо светилось». Мост был, наверное, почти полтора километра длиной, хотя в темноте точно определить было трудно. Противоположный берег реки был гораздо круче; мы проехали через затемненную деревню, а затем пятнадцать-двадцать километров по степи до Райгорода.
Разместили нас в большой и светлой крестьянской избе. Пухленькая девушка - украинка из Харькова - и пожилой еврей с крючковатым красным носом и маленькими усиками щеточкой, работавший когда-то шахтером в Донбассе, накормили нас борщом и прекрасно приготовленной бараниной. Мужчина был разговорчив, но очень мрачен, так как вся его семья осталась у немцев. Когда он жалобно молил скорее открыть второй фронт, чувствовалось, что он молит за свою жену и детей.
После ужина нас посетил генерал-майор Попов. Это была наша первая встреча с представителем командования Сталинградского фронта. У него было типичное лицо волжанина с выдающимися скулами и живыми темными глазами. Держался он деловито. Попов был одним из тех, кто организовал переброску через Волгу большей части войск группировки Сталинградского фронта, которая 20 ноября нанесла отсюда удар в направлении на Калач. «Эти мосты, - сказал он, - сыграли важную роль в нашем наступлении, хотя и не с самого начала, ибо, пока река не замерзла, большую часть грузов приходилось перевозить на лодках. Наиболее трудной задачей было снабжение самого Сталинграда. Отсюда организовать его было невозможно, надо было это делать с противоположного берега. Целые две недели, пока Волга не замерзла как следует, сотни солдат двигались ползком по тонкому льду, таща за собой санки с ящиками боеприпасов - сколько мог выдержать лед. Немцы продолжали обстреливать реку. И все-таки большинство солдат перебиралось на тот берег. Теперь лед на Волге достаточно толст, чтобы выдержать грузовики и телеги, хотя и недостаточно крепок для танков; но сейчас у нас много мостов».
Генерал Попов сказал, что для наведения понтонного моста требуется от трех до пяти дней. Несмотря на все их бомбардировочные и разведывательные полеты, немцы так и не узнали, какое огромное количество войск советское командование перебросило через реку, а когда узнали, было уже слишком поздно. Все делалось главным образом по ночам, а днем войска рассредоточивались небольшими группами на обширной территории. Войсковые части, сообщил генерал, имеют теперь некоторое количество американских «доджей» и джипов, но немного; они используют также множество трофейных грузовиков чуть не из всех стран Европы; особенно много захвачено французских грузовиков «рено».
На следующий день, 7 января 1943 г., в метель мы пустились в путь по совершенно плоским и необитаемым калмыцким степям. Шел сильный снег, но было не очень холодно - 5-10° ниже нуля по Цельсию. Мы ехали уже не в легковых машинах, а в стареньком автобусе, который еще недавно использовался как санитарная машина для перевозки раненых в Ленинск. В автобусе посредине стояла маленькая железная печка-буржуйка, в которую Гаврила, пожилой, давно не бритый мужик с добрым грубоватым лицом северорусского типа, добросовестно подкладывал щепки. Он был похож на смирного медведя. Время от времени буржуйка начинала немилосердно дымить, и дым смешивался с выхлопными газами, проникавшими в автобус через поломанную заднюю дверцу. Эта такая странная на вид бывшая санитарная машина как бы символизировала ту нехватку хорошего мототранспорта, от которой все еще страдала Красная Армия.
У Гаврилы было двое сыновей в армии; от одного из них он не имел известий с самого начала войны. На протяжении всей Сталинградской битвы Гаврила служил санитаром-носильщиком при этой санитарной машине. «Раненым нелегко было ехать в такой развалине. Но чего не выдержат наши люди! Правда, прежде чем погружать их в машину, им всегда делали укол морфия…»
От Райгорода до Абганерова по железной дороге, ведущей из Сталинграда на Кавказ, около 160 км, а оттуда до Котельникова - еще 100 км.
На некотором расстоянии к западу от Райгорода, в калмыцких степях, тянется цепочка озер, которая служила первой линией обороны, прикрывавшей правый фланг сталинградского клина немцев. Издали, сквозь густую пелену падающего снега, можно было различить темную полосу воды одного из соленых озер, а немного дальше мы остановились посмотреть на громадную свалку разбитых немецких танков и бронеавтомобилей. Все эти обломки были собраны на довольно обширном пространстве вокруг озер, где советские войска прорвали оборону, которую держали румыны. 20 и 21 ноября здесь сдались тысячи румын. Теперь от них не осталось и следа, если не считать нескольких касок, до половины наполненных снегом. На касках спереди красовалась большая буква «С» и королевская корона; «С» означало «Кароль», хотя Кароль уже не был королем.
Пока мы ехали по степи, шел такой густой снег, что сопровождавший нас офицер, полковник Таранцев, начал сомневаться, доберемся ли мы до цели. Однако во второй половине дня небо прояснилось, и, когда мы подъезжали к Сталинградской железной дороге, ослепительно белая степь сверкала под лучами солнца. В одном месте мы переправились через реку Аксай; здесь тоже валялись полузасыпанные снегом румынские каски и масса разбитых машин, но немецких касок не было видно. Место, где немцы форсировали Аксай во время их последнего наступления, находилось несколько дальше к западу, и первые следы наступления Манштейна, происходившего всего несколько дней назад, мы увидели, только когда добрались до станций Абганерово и Жутово. Абганерово было совершенно разрушено бомбежками еще во время летнего наступления немцев, но на железнодорожных путях стояло множество вагонов и паровозов. Жутово было километрах в пятнадцати отсюда на железной дороге, которая шла параллельно шоссе. Мимо прошло несколько товарных составов; русские уже успели снова перешить железнодорожную линию на широкую колею.
Жутово оказалось приятным на вид селом с фруктовыми садами и маленькими русскими избами. Нас окружила толпа мальчишек, подошли и две молодые женщины с грудными детьми на руках. Женщины рассказали обычную историю, как во время немецкой оккупации они скрывались в погребах. «Слава богу, - сказала одна из них, - наши скоро вернулись, так что немцы даже не успели сжечь дома». В окружившей нас толпе я заметил двух мальчиков лет десяти. На одном была громадная папаха, сползавшая ему на уши, другой был обут в армейские сапоги номеров на шесть больше своего размера. «Где вы все это раздобыли?» - спросил я. «Эту щапку я снял с мертвого румына», - гордо ответил первый. «А у тебя сапоги откуда?» - «А с мертвого офицера, что лежит вон там, в саду. Хотите на него посмотреть?» Я пошел следом за мальчиками по узкой тропинке. В саду между яблонями лежал мертвый немец. Лицо его было засыпано снегом, а ноги, багрово-красные и глянцевитые, как у восковой фигуры, были босы. Он был без шинели, в одном кителе с орлом и свастикой. «Почему его не уберут отсюда?» - спросил я. «Наверно, скоро солдаты уберут, - ответил владелец сапог, - тут много надо подбирать офицеров. На морозе с ними ничего не сделается».
Был ли этот паренек бессердечным? Не знаю… По вине немцев война так глубоко вошла в его жизнь, а смерть сделалась таким близким и привычным спутником, что вряд ли можно было его осуждать. Трупы стали совершенно обычным, будничным явлением, и для парня существовали только хорошие трупы и плохие трупы.
Котельниково, где мы обосновались на неделю, был довольно большой город с 25-тысячным населением. Немцы и румыны находились в нем со 2 августа по 29 декабря, когда войска Манштейна были выбиты отсюда после своей неудачной попытки прорваться к Сталинграду. В скором времени мне удалось услышать, что здесь творилось в период немецкой оккупации. Котельниково находилось в зоне военных действий всю оккупацию, и немецкая армия была здесь, по-видимому, полной хозяйкой. Поскольку район считался казачьим, немцы воздерживались здесь от массовых зверств. Эдгара Сноу и меня поместили в небольшой деревянной избе, принадлежавшей местной учительнице. Она жила здесь со своей старухой матерью и единственным сыном, пятнадцатилетним мальчиков по имени Гай. Муж ее был железнодорожник; с июня она не имела о нем никаких вестей.
То, что мне рассказали в Котельникове сорокалетняя учительница и ее пятнадцатилетний сын, не было повестью о каких-нибудь страшных немецких зверствах. Это был рассказ о презрении немцев к русским, о горечи и унижении, которые русским пришлось испытать. Только это. Но и этого было вполне достаточно.
В нашем доме было две маленькие комнаты - кухня и спальня. Их перегораживала большая русская печь, от которой было очень тепло. Елена Николаевна - здоровая, пышная женщина с полными руками и двумя золотыми передними зубами, поблескивавшими при свете единственной керосиновой лампы. Познакомив нас с бабушкой, тщедушной сморщенной старушкой, сидевшей скрючившись в углу на кухне, возле затемненного окна, она взяла керосиновую лампу и повела нас в спальню, оставив бабушку в темноте. «Бабушка обойдется, - сказала Елена Николаевна, - она привыкла чистить картошку в темноте». В спальне стояли две большие кровати, стол и книжный шкаф. «Ну и жизнь тут у нас была последние пять месяцев! - воскликнула Елена Николаевна. - Сначала у нас стояли румыны, потом немцы - экипаж танка, пять человек. Гордые, неприятные люди; впрочем, они ведь, наверное, видели в нас врагов. Не знаю, какими бы они оказались в мирных условиях!…» Дом остался цел и невредим, отчасти, несомненно, потому, что грабить здесь было просто нечего: книжный шкаф с учебниками физики, химии и русской литературы, на стенах множество семейных фотографий, и все… Уходя, немцы оставили здесь - странно было видеть эти вещи в задонских степях! - карту парижского метро с указателем улиц и номер газеты «Виттгенштейнер цейтунг» от 4 декабря с передовой статьей «К 50-летию Франко, спасителя Испании».
На следующее утро мы познакомились с Гаем. Это был довольно высокий, но очень худой мальчик со свежим умным личиком. Говорил он на чудесном русском языке, чистым и звонким голосом. «Это немцы довели тебя до такого состояния?» - спросил я. «Нет, я всегда был худощав; но под немцами жить, конечно, было несладко, они ужасно действовали на нервы; ну и, кроме того, не хватало продуктов. В прошлом году мы ездили с мамой в Сталинград, были у хорошего врача, и он сказал, что я совершенно здоров, только есть малокровие… Жалко, что вчера вечером меня здесь не было, но при немцах я никогда не выходил по вечерам, да и днем тоже очень редко - как-то не хотелось. А теперь я хожу повидаться с товарищами, с которыми вместе учился в школе». - «Да, какое счастье, - вмешалась Елена Николаевна, - что Гай теперь снова сможет ходить в школу».
Я еще много раз беседовал с Гаем. Он охотно говорил обо всем - о себе, кем он хочет быть, о немцах, о фильмах, которые видел. «Я люблю американские картины, - сказал он. - У нас в Котельникове всем очень понравились фильмы «Песнь о любви», «Большой вальс» и «Огни большого города» с Чарли Чаплином. Мы очень весело жили до войны. Я был пионером и сейчас был бы уже в комсомоле, если бы не немецкая оккупация. Все наши ребята готовились стать инженерами, врачами или учеными. Я хочу поступить в военно-морское училище. Если бы немцы здесь остались, девушек заставили бы мыть полы, а парней - пасти скот. Они нас и за людей не считали… Вот как было при немцах. Они вывесили на стенах домов портреты Гитлера с надписью «Гитлер-освободитель». Он мало был похож на человека - лицо прямо звериное. Словно дикарь из малайских джунглей. Ужас! Немцы открыли церковь; сначала там служил румынский священник, а потом - русский. Я однажды зашел, когда там еще был румын. В церкви было полно румынских солдат. Я видел, как все они вдруг бухнулись на колени. Потом по церкви стали носить тарелку, и румыны клали на нее деньги - кто рубли, кто марки, а кто леи… Разницы большой не было, так как никакие деньги не имели цены. Марка стоила десять рублей, но марки-то эти были оккупационные, без водяного знака и, по существу, ничего не стоили… У немцев была прямо страсть все разрушать. Они повыдергивали все овощи на нашем огороде. А в последнюю ночь сожгли городскую библиотеку. Они не пощадили даже мою библиотечку, - сказал Гай, указывая на книжный шкаф, - порвали журналы и выдрали из книг все портреты Сталина и Ленина. Глупо, правда? Это все те танкисты. Чудные какие-то. Видели бы вы их на Рождество. Они так расчувствовались, им прислали много посылок из Германии. Они зажгли маленькую бумажную елку, распаковали громадные торты, открыли множество консервных банок и бутылок вина, напились и стали распевать чувствительные песни». - «А ты где был в это время?» - «Да где всегда - рядом, на кухне». - «Они не предложили вам вина или кусочек торта?» - «Конечно, нет, им это и в голову бы не пришло. Они не считали нас за людей». - «А ты не был голоден?» - «Был, конечно, но мне противно было бы участвовать в их пиршестве». Гай вынул из кармана зажигалку. «Они забыли ее здесь. Я нашел ее под кроватью. У нас нет спичек, так что это полезная штука. Но я не хочу иметь что-то от этих людей… Да, я сильно похудел. Наверно, это бомбардировки подействовали мне на нервы, а также ощущение, что я уже больше не человек. Немцы постоянно нам это внушали. Они никого не уважали - они могли даже раздеваться при женщинах. Мы для них были просто рабы. К тому же и продуктов не было - колхозного рынка не стало; а когда не получаешь жиров, это очень вредно для организма», - заключил он с ученым видом.
Елена Николаевна много говорила о себе и о бабушке, своей матери. Сама она была последним оставшимся в живых членом казачьей семьи, разорившейся в годы Гражданской войны. Ее отец, крестьянин, жил в казачьей станице на Дону. Но он не был хозяйственным человеком, и во время Гражданской войны его дела пришли в упадок. Тогда он продал свое имущество кулаку за 10 мешков муки, и семья переехала в Новочеркасск. Во время эпидемии тифа и отец и брат ее умерли. «Мне было тогда всего 18 лет. Я вступила в комсомол и стала учиться пению в Новочеркасском музыкальном училище, где мне назначили небольшую стипендию». Однако жить на стипендию было трудно, тем более что на эти деньги надо было содержать еще и мать; поэтому, когда ее будущий муж, железнодорожник, сделал ей предложение, она согласилась за него выйти.
«Муж мой - хороший человек, хотя и не очень образованный. Но он воспитан в настоящих большевистских традициях; его отец тоже сорок лет служил на железной дороге и получил именные золотые часы от самого Кагановича». Поселившись с мужем в Котельникове, Елена Николаевна стала преподавательницей заочных курсов по подготовке учителей начальной школы.
А бабушка, сидя в своем углу, говорила нам, как это было ужасно, когда в доме стояли немцы. «Я все время плакала, думала, что скоро умру, а оставлять своих родных в такой беде было страшно… Но теперь, когда наши дорогие вернулись, я думаю, что доживу до ста лет», - сказала она, и ее маленькое личико сморщилось в беззубой улыбке… Говоря как бы сама с собой, она продолжала: «Я когда-то знавала английских и американских господ. Мой муж был извозчик. У него была красивая пролетка на рессорах. Он, бывало, возил английских и американских господ на тот берег Дона. Они были инженеры. Это было очень давно, еще при царе…»
А что слышно о муже Елены Николаевны, железнодорожнике? Последний раз они от него имели весточку в июне 1942 г. В то время он был в Воронеже. Теперь, когда в Котельникове снова стала работать почта, они, может быть, скоро получат от него известие. Может быть, а может быть, и нет…
«Что ни говорите, - сказала Елена Николаевна (хотя никто ничего не говорил), - а наша советская власть - хорошая власть. Даже бабушка, которой вначале все казалось очень странным, теперь очень ее полюбила. Возьмите хотя бы этот наш домик. Я плачу за него только пять рублей в месяц; ни в одной другой стране вы не можете иметь дом за такие деньги».
Эта семья представляла собой поистине причудливое смешение разнородных элементов: бабушка, все еще вспоминающая о «добрых старых временах» при царе; мать с ее казачьим происхождением и мелкобуржуазными инстинктами; отец, настоящий советский пролетарий; и сын, не мыслящий себе счастливого будущего иначе, как в условиях советского строя, придающего столь большое значение образованию. Но при всех различиях между ними немцы всем им были одинаково ненавистны.
Немцы захватили Котельниково 2 августа столь внезапно, что эвакуировать удалось лишь около трети населения, притом в ужасных условиях. Многие погибли от бомб на железной дороге или от пулеметного обстрела на шоссе; значительная часть скота, который перегоняли в астраханские степи, тоже погибла во время воздушных налетов. По словам председателя местного исполкома Терехова, который вновь приступил к исполнению своих обязанностей на следующий же день после освобождения города, немцы расстреляли четырех человек за укрывательство советского офицера; около 300 человек - по большей части молодежь - были угнаны как рабы в Германию; если бы у немцев было время, они угнали бы гораздо больше советских людей и разрушили бы весь город. Кое-кто, сказал Терехов, добровольно сотрудничал с немцами, другие, в том числе несколько железнодорожников, были насильно завербованы в «полицаи», и, хотя им пришлось делать кое-что для видимости, они сохранили лояльность к советской власти. Некоторые случаи «чересчур близкой дружбы» с немцами придется расследовать…
Немецкая авиация все еще проявляла довольно большую активность. Со все более отдаленных аэродромов, немцы - их ближайшей базой был теперь Сальск, в 200 км от Котельникова и 350 км от Сталинграда, - продолжали посылать свои транспортные самолеты с припасами для окруженной армии Паулюса. Их сбивали целыми десятками, и лишь очень немногим самолетам удавалось теперь прорваться. Обещание, которое дал Гитлеру Геринг - доставлять ежедневно в Сталинград 500 т различных грузов, - оказалось полнейшим блефом. Многие из пленных немецких летчиков, которых нам довелось видеть в те дни, были явно удручены «почти самоубийственной» задачей, которую им пришлось выполнять, и сомневались, что немцам в Сталинграде удастся удержаться. Впрочем, некоторые утверждали, что весной начнется новое немецкое наступление и Сталинград будет взят. Ростов немцы, «конечно», не оставят. Пленные пехотинцы (многие из них целую неделю брели по степи, пытаясь догнать быстро отступавшие немецкие войска, и страшно изголодались) были еще более деморализованы. Фанатичные нацисты, особенно из «парней Геринга», все еще считали поражение Германии совершенно исключенным, но допускали, что война может кончиться вничью. Такое воздействие уже успел оказать на них Сталинград.
Самым близким к фронту пунктом, где мы побывали, были Зимовники, километрах в 90 от Котельникова, на железной дороге Сталинград - Кавказ. Немцы оставили город всего два дня назад и в настоящий момент вели ожесточенные арьергардные бои километрах в пяти к югу отсюда. Авиация действовала весьма активно. Пока мы двигались в сторону Зимовников по совершенно ровной, покрытой снегом степи (по дороге нам попался громадный склад боеприпасов, в спешке брошенный немцами), над нашими головами ежеминутно проносились советские истребители; неподалеку шли воздушные бои, и, кроме того, истребители преследовали отступавших немцев. Однако теперь немцы отступали медленнее; остатки двух немецких танковых дивизий, пытавшихся прорваться к Сталинграду, были усилены дивизией СС «Викинг», переброшенной с Кавказа. Орудийный огонь был слышен совершенно отчетливо, а один раз неподалеку от нас шлепнулся снаряд, из которого вырвалось облако желтого дыма. Время от времени с юга доносился громкий гул - это стреляли знаменитые «катюши». Живописный маленький городок был сильно разрушен артиллерийским огнем, элеватор горел до сих пор. Местные жители рассказывали то же, что мы уже слышали в других освобожденных городах. Четыре дня, пока в Зимовниках шли бои, они отсиживались в погребах, еды у них было очень мало, а вместо воды приходилось глотать снег…
На домах все еще висели таблички с румынскими и немецкими названиями улиц; от памятника Ленину на пьедестале уцелела только одна нога. Большое здание клуба немцы превратили в казарму. Весь пол был покрыт связками соломы, на которой они спали. Трибуна все еще была украшена еловыми ветками, на столах и на соломе валялись остатки рождественского ужина - десятки пустых бутылок из-под вина и коньяка, преимущественно французского, опорожненные консервные банки и коробки из-под сигарет и печенья. Здесь же лежала кипа журналов. В одном из них я видел фотографию, на которой были изображены немецкие солдаты, сидящие в шезлонгах и греющиеся на солнышке на веранде какого-то дома на берегу Черного моря - может быть, это была Анапа? Здесь же была помещена статья, рекламирующая «Der herliche Каukasus und die Schwarzseekuste» («Прекрасный Кавказ и Черноморское побережье»). Как видно, немцы чувствовали себя тогда на Кавказе совсем как дома. Теперь они удирали оттуда со всех ног…
Гораздо более мрачным было зрелище, представившееся нашим глазам в маленьком саду за зданием клуба. Советские солдаты копали братскую могилу для своих товарищей, убитых в Зимовниках всего два или три дня назад. Здесь, в саду, были сложены рядами 70 или 80 трупов, окоченевших в страшных позах - один в сидячем положении, другие с широко раскинутыми руками, третьи с оторванной головой; у нескольких трупов пожилых, бородатых мужчин и юношей 18-19 лет глаза были широко раскрыты… Сколько же вот таких братских могил копали ежедневно на всем протяжении огромного фронта!…
Нынешний министр обороны СССР маршал Малиновский, которому теперь уже перевалило за шестьдесят, полный и, по-видимому, не склонный к каким-либо шуткам мужчина, в 1943 г. выглядел совсем иначе. Тогда это был энергичный молодой генерал-лейтенант - ему было 44 года, - великолепный образчик профессионального военного, одетый в элегантный мундир, высокий, красивый, с длинными темными волосами, зачесанными назад, и с круглым загорелым лицом, на котором после нескольких недель непрерывных походов не было заметно ни малейших признаков утомления. Он казался гораздо моложе своих 44 лет. В то время Малиновский все еще командовал 2-й гвардейской армией, которая сыграла главную роль в отражении наступления котельниковской группы Манштейна. В скором времени ему предстояло сменить Еременко на посту командующего Сталинградским фронтом (который был переименован в Южный фронт), а в феврале 1943 г. - отбить у немцев Ростов.
Малиновский принял нас 11 января в своем штабе, помещавшемся в просторном школьном здании в большом селе на Дону. Рассказав нам о том, как он был солдатом русских экспедиционных войск во Франции во время Первой мировой войны, Малиновский затем обрисовал первый этап Сталинградской наступательной операции, завершившейся окружением немецких войск и продвижением Красной Армии на запад. Второй этап должен был начаться 16 декабря, но Манштейн опередил русских, предприняв 12 декабря наступление в направлении на Сталинград. Малиновский сказал, что эта ударная группа состояла из трех пехотных и трех танковых дивизий, из которых одна была переброшена с Кавказа и одна - из Франции. У них было около 600 танков и мощная поддержка с воздуха.
Описав арьергардные бои, которые советские войска вели с 12 по 16 декабря, оборонительные бои в течение следующей недели на реках Аксай и Мышкова, контрудар, отбросивший немцев за Зимовники, и еще одно наступление, в результате которого была разгромлена тормосинская группировка немцев на Среднем Дону, Малиновский высказал затем ряд важнейших соображений:
«Впервые немцы проявляют признаки серьезного замешательства. Пытаясь затыкать образующиеся бреши, они перебрасывают свои войска с места на место, что свидетельствует о нехватке у них резервов. Многие немецкие части отступают на запад в беспорядке, бросая огромное количество техники. Такие части становятся легкоуязвимыми для наших самолетов. Войска гитлеровских сателлитов в большинстве разгромлены полностью.
Немецкие офицеры, которых мы захватили в плен, крайне разочарованы в своем верховном командовании и в самом фюрере. От самоуверенности, которой они отличались еще летом, не осталось и следа.
Мы испытываем значительные трудности из-за растянутости наших коммуникаций, но довольно успешно справляемся с этими трудностями. Красная Армия, несомненно, изменилась в лучшую сторону. В организационной структуре Красной Армии летом 1942 г. были произведены некоторые поистине революционные перемены.
Наступательный дух наших войск сейчас гораздо выше, чем прежде. Наше зимнее наступление 1942-1943 гг. мы ведем по гораздо более широкому фронту, чем зимнее наступление 1941-1942 гг. У наших солдат сейчас гораздо больше опыта, и они ненавидят немцев. Теперь они способны стойко держаться в таких положениях, которые год назад показались бы им невыносимыми, - например при наступлении 150 вражеских танков. Во время последнего наступления Манштейна наши войска, хорошо вооруженные противотанковыми средствами, успешно отражали такие атаки».
По поводу окружения немцев в Сталинграде Малиновский сказал:
«Сталинград - это лагерь вооруженных военнопленных. Положение его безнадежно. Ликвидация котла уже началась, и огромные потери, которые немцы понесут в Сталинграде, будут иметь решающее значение для исхода войны. Попытки снабжать Сталинград по воздуху теперь, когда немецкие истребители не могут сопровождать транспортные самолеты, полностью провалились».
Но при всем том немцы, по его мнению, еще сильны в воздухе, и танков у них тоже еще много. Солдаты войск СС дерутся яростно, что же касается боевых качеств остальных немецких войск, они весьма неравноценны.
Малиновский был осторожен в своих прогнозах на 1943 г.: он выразил довольно твердую уверенность в том, что Ростов будет освобожден, но «пока что» не хотел обещать что-либо еще. По его мнению, немцы еще могут предпринять контрнаступления ограниченных масштабов, но не такие, которые имели бы решающее значение. Однако он подчеркнул, что русским предстоят новые тяжелые испытания, что они несут «небывалые в истории» жертвы, и призвал союзников умножить свои усилия на Западе. Высадка в Северной Африке, по его мнению, - лишь скромное начало: она незначительно ослабила нажим немцев на Востоке. На этом фронте, сказал он, техника, полученная от союзников, еще не использовалась, если не считать некоторого количества американских грузовиков.
Малиновский угостил нас отличным обедом, в конце которого был подан трофейный французский коньяк и немецкие сигары. Он беседовал с нами остроумно и непринужденно и снова вспоминал отдельные эпизоды, относящиеся к его пребыванию во Франции во время Первой мировой войны. В заключение он с большой теплотой и доброжелательностью провозгласил следующий тост:
«Победа - самый счастливый момент в жизни каждого солдата, и я не щажу усилий ради ее достижения. Мы, советские люди, понимаем технические трудности, препятствующие открытию второго фронта в Европе. В настоящее время мы сражаемся одни, но мы твердо верим, что второй фронт очень скоро будет открыт. Расскажите вашим народам о том, как чисты и ясны наши цели и наши мотивы. Мы хотим свободы - так не будем же препираться по поводу некоторых различий, имеющихся в нашем понимании свободы, - это вопрос второстепенный. Мы хотим победы для того, чтобы война не могла больше повториться».
В тот вечер, повидав еще нескольких немецких летчиков, только что сбитых русскими, мы, несмотря на сильную метель, отправились на свою «базу» в Котельниково.
В течение первой половины января было много сильных снегопадов, но погода стояла сравнительно мягкая - обычно от 5 до 10° ниже нуля. Только к концу операции по очищению Сталинграда от остатков вражеских войск, то есть во второй половине января и в первые дни февраля, начались жестокие морозы, доходившие до 30-40°. В этом мне пришлось убедиться лично, так как две недели спустя я вновь возвратился в район Сталинграда и на этот раз побывал в самом Сталинграде.
(обратно)Глава V. Сталинград. Агония
Совинформбюро 1 января опубликовало пространное специальное сообщение об итогах первых полутора месяцев наступления Красной Армии под Сталинградом и на Дону. За шесть недель боев, говорилось в сообщении, 22 дивизии противника были окружены и 36 дивизий разгромлены.
Теперь оставалось решить задачу ликвидации немецкого котла в Сталинграде. Окруженным немцам уже не на что было надеяться. Это, однако, не означало, что солдаты, запертые в сталинградской ловушке, уже полностью осознали весь ужас своего положения. Офицеры упорно уговаривали их не слишком тревожиться по поводу быстрого сокращения продовольственных пайков; фюрер позаботится о том, чтобы все обошлось благополучно, хотя Манштейну и не удалось прорваться к ним на выручку. Во всяком случае, уверяли солдат, их пребывание в Сталинграде создает огромные трудности для русских и оказывает великую услугу фюреру и фатерланду.
Войска Паулюса находились в окружении с 23 ноября, и запасы их подходили к концу. Обещания Геринга ежедневно доставлять в Сталинград по воздуху 500 т продовольствия, горючего и боеприпасов оказались блефом. Очень скоро самолеты стали перебрасывать лишь по 100 т различных грузов в день, а к концу декабря и того меньше. Количество сбитых самолетов с каждым днем росло. С середины декабря солдаты начали есть лошадей, оставшихся от румынской кавалерийской дивизии.
Растущий недостаток боеприпасов у немцев сильно изменил положение советских 62-й и 64-й армий, прочно удерживавших несколько опорных пунктов в районе Сталинграда. Теперь стало почти безопасным среди бела дня доставлять громадные котлы с горячей пищей бойцам на передовых позициях, находившихся в каких-нибудь 40 м от немцев. Целые конные обозы также могли теперь безопасно (по сталинградским понятиям) переправляться через Волгу в дневное время.
В конце декабря Гроссман писал в «Красной звезде»: «…Те немцы, которые в сентябре, ворвавшись на одну из улиц, разместились в городских домах и плясали под громкую музыку губных гармошек, те немцы, что ночью ездили с фарами, а днем подвозили припасы на грузовиках, сейчас затаились в земле, спрятались меж каменных развалин… Для них нет здесь солнца, им выдают сейчас двадцать пять - тридцать патронов на день, им приказано вести огонь лишь по атакующим войскам, их рацион ограничен ста граммами хлеба и конины. Они сидят, как заросшие шерстью дикари в каменных пещерах, и гложут конину… И пришли для них страшные дни и ночи… им определено встретить возмездие здесь, среди холодных развалин, под жесткими звездами русской декабрьской ночи».
Так обстояло дело в самом Сталинграде; не лучше было и в открытой степи, ближе к центру кольца, в Гумраке или на аэродроме в Питомнике, до которого столь немногим «юнкерсам-52» удавалось теперь добраться. На западе немцев отогнали далеко в Сальские степи и за Донец, а немецкие войска в Сталинграде были безнадежно отрезаны от всего мира.
В течение первой недели января войска Донского фронта под командованием Рокоссовского и Воронова готовились в степях между Доном и Волгой к последнему натиску. Однако, зная о том, что у немцев, находящихся в кольце, имеется еще много техники, и желая избежать ненужного кровопролития, советское командование 8 января направило генерал-полковнику Паулюсу ультиматум.
«Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод и холод. Суровая русская зима только начинается… У вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла».
Советское командование предлагало в связи с этим немцам прекратить военные действия и капитулировать на обычных, вполне гуманных условиях. Ультиматум заканчивался предупреждением, что в случае его отклонения «войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены вести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение Вы будете нести ответственность».
Ультиматум был отклонен, но не сразу. Немецким генералам, по-видимому, понадобилось какое-то время, чтобы запросить мнение Гитлера и все обдумать. Впоследствии советские офицеры в Сталинграде рассказывали мне, что после предъявления ультиматума на короткое время наступило какое-то зловещее перемирие, в течение которого орудия с обеих сторон молчали. Не только официальные советские представители, но и некоторые другие лица (в том числе один штабной офицер, которого я знал) отважились пересекать нейтральную зону и разговаривали с немцами, убеждая их сложить оружие. Однако Гитлер и слышать не хотел ни о какой капитуляции; что же касается фон Манштейна, то он теперь тоже счел для себя выгодным пожертвовать немецкими и румынскими войсками в Сталинградском котле и не информировал Паулюса о действительном положении вещей, заставив его, таким образом, сидеть впотьмах[149].
Наступление русских началось 10 января в 8 часов утра артиллерийской обработкой южной и западной сторон котла, в которой участвовало 7 тыс. орудий и минометов. Плотность артиллерии местами достигала 170 орудий и минометов на километр. Тем временем самолеты бомбили немецкие позиции в глубине. Спустя час в наступление были брошены танки и пехота. Несмотря на отчаянное сопротивление немцев, которые сильно укрепили весь этот район, русские в первый день продвинулись в некоторых местах на 5-8 км.
Понадобилось три дня упорных боев, чтобы отсечь западную оконечность котла - около 250 кв. км. В последующие дни продвижение было гораздо более быстрым; русские захватили всю среднюю часть котла, включая Питомник, где находился самый большой немецкий аэродром.
17 января советское командование вновь обратилось к Паулюсу с предложением о капитуляции, но, хотя по меньшей мере два немецких генерала - фон Зейдлиц и Шлеммер - были за то, чтобы принять его, Паулюс еще не имел на это полномочий. К этому времени русские захватили почти половину площади, занятой окруженной группировкой; однако сопротивление немцев было еще очень упорным.
22 января войска Донского фронта начали свое последнее, завершающее наступление. Теперь немцы в беспорядке отступали к Сталинграду, и к 24 января русские достигли «внешних оборонительных рубежей» Сталинграда, которые они сами удерживали до 13 сентября. Немецкие солдаты, терпевшие невероятные лишения, писал советский военный специалист полковник Замятин, начали теперь яснее сознавать всю безнадежность своего положения и стали сдаваться целыми группами. В то же время, уходя, немцы иной раз убивали своих раненых и больных - только чтобы не оставлять их на милость победителей.
Несмотря на все это, Гитлер и Манштейн все еще настаивали на том, чтобы немцы, оказавшиеся в Сталинградском котле, не прекращали сопротивления. Паулюс был произведен в фельдмаршалы, хотя продолжал доносить Манштейну о безнадежности дальнейшего сопротивления. Согласно некоторым немецким источникам, деморализация как среди солдат, так и среди офицеров быстро усиливалась; безобразные сцены происходили на последнем немецком аэродроме в Гумраке, где офицеры совали летчикам громадные взятки за место на самолете[150].
26 января советские войска ворвались в Сталинград одновременно с севера и с запада и наконец на Мамаевом кургане соединились с частями 62-й армии Чуйкова, которые на протяжении всего декабря и января продолжали беспокоить немцев, особенно в районах Мамаева кургана, «Баррикад» и «Красного Октября»[151].
Хотя немцы, а в особенности румыны сдавались теперь большими группами (среди сдавшихся в плен был румынский генерал Димитриу), поскольку начиная с 20 января румыны, по-видимому, лишились даже своих прежних голодных пайков, в течение следующих пяти дней на улицах Сталинграда еще продолжались довольно сильные бои. Только 31 января фельдмаршал Паулюс наконец сдался в своем штабе, помещавшемся в подвале универмага.
Позднее, попав в Сталинград, я услышал о том, как все это происходило, от человека, захватившего Паулюса в плен, - белокурого, курносого, со смешливой физиономией старшего лейтенанта Федора Михайловича Ильченко, которого, казалось, никому и в голову бы не пришло называть иначе как Федей. Федя весь так и кипел от возбуждения, рассказывая свою историю.
31 января, на следующий день после десятой годовщины прихода Гитлера к власти (Гитлер в этот день не выступил со своей традиционной речью), советские соединения со всех сторон приближались к центру Сталинграда. Немцы, замерзшие, голодные, еще продолжали сопротивляться. После мощной артиллерийской подготовки части 64-й армии, наступавшие с запада, захватили сначала всю площадь перед зданием универмага, а затем начали окружать само здание. Время от времени в бой вступали также огнеметы. По словам Ильченко, днем он узнал от трех захваченных в плен немецких офицеров, что Паулюс находится в здании универмага. «Тогда мы начали обстреливать здание из артиллерийских орудий (моя часть занимала противоположную сторону улицы, как раз напротив бокового входа в универмаг), и, как только в него начали попадать снаряды, из дверей выскочил представитель генерал-майора Раске и начал махать мне рукой. Это было очень рискованно, но я все же пересек улицу и подошел к нему. Тогда немецкий офицер вызвал переводчика, и тот сказал мне: «Наш главный начальник хочет говорить с вашим главным начальником». На это я ему заявил: «Ну, у нашего главного начальника других дел много. Его тут нет. Придется вам иметь дело со мной». Тем временем наши продолжали обстреливать здание с другой стороны площади. Я позвал своих, и ко мне присоединилось двенадцать бойцов и два офицера. Все они, конечно, были вооружены, и немецкий офицер сказал: «Нет, наш командир просит, чтобы вошли только один или двое из вас». А я ему: «Нет уж, дудки. Один я не пойду». В конце концов решили, что нас будет трое. И вот мы втроем входим в подвал. Сейчас-то он пуст, но вы бы видели его тогда! Он был буквально набит солдатами - их тут были сотни. Хуже, чем в трамвае! Все они были грязные, голодные, а уж воняло от них! Вид у всех был страшно перепуганный. Они сбежались сюда, чтобы укрыться от минометного огня».
Ильченко и двух других бойцов привели к генерал-майору Раске и начальнику штаба Паулюса генерал-лейтенанту Шмидту. Раске сказал, что от имени Паулюса переговоры о капитуляции будут вести они, ибо Паулюс «со вчерашнего дня не отвечает ни на какие вопросы». Все это было, по словам Ильченко, несколько странно - он никак не мог решить, кто же тут главный. То ли Паулюс передал свои полномочия Раске, то ли он просто хочет избежать личного участия в капитуляции, или, может быть, между Паулюсом и остальными возникли какие-нибудь разногласия? Нет, вряд ли, так как Раске и Шмидт то и дело заходили в комнату к Паулюсу, видимо, чтобы переговорить с ним о предстоящей капитуляции. Возможно, Паулюс просто не желал лично вести переговоры с каким-то простым советским старшим лейтенантом. Однако в конце концов Ильченко ввели в комнату Паулюса. «Он лежал на железной койке, - рассказывал Ильченко, - в мундире, небритый, и вид у него, прямо скажем, был невеселый. «Ну, - сказал я, - конец». Он этак печально на меня посмотрел и кивнул. Когда мы вышли в соседнюю комнату - а коридор, заметьте, все еще был забит солдатами, - Раске сказал мне: «У меня к вам просьба. Обеспечьте, чтобы его увезли отсюда в приличном автомобиле и под надежной охраной, а то красноармейцы еще убьют его, как какого-нибудь бродягу». Ильченко рассмеялся. «Я сказал: «Ладно». За Паулюсом действительно прислали машину и отвезли его к генералу Рокоссовскому. Что было после этого, я не знаю. Следующие два дня мы занимались приемом военнопленных. Остальные, те, что находились в северной части города, тоже через три дня капитулировали. Но даже в этом районе Сталинграда кое-какие стычки продолжались еще несколько часов после захвата в плен Паулюса. Но, когда немцы узнали, что произошло, они стали сдаваться уже безо всякого»[152].
Одновременно сдались в плен еще 15 генералов, после чего началась массовая капитуляция войск. Однако последний узел сопротивления в северной части Сталинграда пока еще держался. Советские самолеты сбрасывали на эту последнюю группу упорствующих немцев целый дождь листовок с прикрепленными к ним фотокарточками, на которых был изображен Паулюс, допрашиваемый советским генералом. Возможно, у русских под руками не было необходимого оборудования, чтобы быстро изготовить клише, а может быть, они думали, что «настоящая фотокарточка» произведет большее впечатление. В конце концов пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию, и только после этого, 2 февраля, последняя группа немецких войск наконец сложила оружие. Среди них было еще восемь генералов, в том числе несколько фанатичных нацистов, например генерал-лейтенант фон Арним, двоюродный брат фон Арнима, «прославившегося» в Северной Африке. К этому времени сдались в плен уже больше 40 тыс. немецких солдат и офицеров.
Согласно официальному советскому сообщению, опубликованному 2 февраля, в ноябре было окружено 330 тыс. человек. Однако в период между 23 ноября и 10 января, когда началась ликвидация Сталинградского котла, 140 тыс. немцев погибло в бою или же от голода и болезней. По свидетельству главного квартирмейстера 6-й армии полковника фон Куловски, на 10 января в списке состоявших на довольствии числилось 195 тыс. человек, включая персонал полиции и организации Тодта[153]. В плен было захвачено 24 генерала, в их числе один фельдмаршал, и 2500 прочих офицеров. Общее число пленных, согласно этому сообщению, составило 91 тыс. человек, из чего следовало, что с 10 января по 2 февраля было убито или умерло около 100 тыс., а со времени ноябрьского окружения - свыше 200 тыс. немцев. В этом итоговом сообщении, охватывавшем всю операцию за период с 10 января, среди захваченных трофеев были указаны 750 самолетов, 1550 танков, 480 бронеавтомобилей, 8 тыс. орудий и минометов, 61 тыс. грузовиков, 235 складов оружия и боеприпасов и большое количество прочего снаряжения.
2 февраля 1943 г. войска Донского фронта закончили разгром и уничтожение окруженной сталинградской группировки противника. 22 дивизии были, разгромлены или взяты в плен[154]. Боевые действия в городе Сталинграде прекратились,
В России не было бурного ликования, но она была счастлива, - впервые с начала войны по-настоящему счастлива. Теперь все были уверены в победе. Люди были переполнены чувством глубокой, хотя и сдержанной, национальной гордости. Теперь наконец стало ясно, что все страдания, невзгоды и потери были не напрасны. И все испытывали глубокое удовлетворение оттого, что немцы объявили трехдневный национальный траур - это было унижение, которое нацистское правительство и немецкий народ вполне заслужили.
Никто не сомневался, что это и есть тот самый перелом в ходе Второй мировой войны, которого так долго ждали.
На следующий день советские газеты поместили первые фотографии сцен капитуляции: длинные черные цепочки немецких военнопленных, тянущихся по льду через Волгу; Паулюс, с очень напряженным лицом, сидящий у стола в маленькой комнате, рядом с допрашивающими его генералами Рокоссовским и Вороновым и молодым переводчиком майором Дятленко; группа захваченных в плен генералов, стоящих посреди заснеженного поля; в стороне стоит, нахмурившись и почти повернувшись спиной к немцам, генерал Димитриу в высокой папахе. Он явно имел зуб против немцев - ведь они 12 дней назад лишили румын даже того голодного пайка, который они получали.
В газетах была также напечатана история 6-й армии, которая под командованием Рейхенау вторглась в Бельгию, вступила в Париж, а затем участвовала во вторжении в Югославию и Грецию. В 1942 г. она проложила себе путь из Харькова к Сталинграду. Гитлер особенно гордился этой армией и ее колоссальной ударной мощью. Была опубликована и биография Паулюса, который участвовал в Первой мировой войне, а недавно воевал в Польше и во Франции.
Немцы распустили слух, будто Паулюс покончил жизнь самоубийством. Однако двумя днями позже мне привелось лично увидеть его и остальных немецких генералов, взятых в плен в Сталинграде.
(обратно)Глава VI. Сталинград в дни капитуляции немцев: личные впечатления
Февральским днем наши два самолета приземлились в широкой, покрытой снегом степи. Было солнечно и очень холодно; с востока дул резкий ветер. Возле аэродрома виднелась деревушка и несколько административных зданий. Из труб поднимались клубы белого дыма. Никаких следов бомбежек не было видно. Мы находились где-то северо-западнее Сталинграда[155].
Накануне вечером я слушал немецкое радио. Оно передавало траурную музыку Вагнера, повторяя снова и снова похоронный марш Зигфрида и «Ich. hattein Kamaraden» («Был у меня товарищ»), «Gotterdammerung» («Гибель богов») - приятное слово, от него, наверное, Гитлера мороз по коже продирал - снова «Ich hattein Kamaraden». Да, был, и не один, а 330 тыс. Kamaraden!
В столовой для летчиков, где нам пришлось долго ждать, оказались три советских корреспондента в военной форме - Олендер из «Красной звезды», Розовский из «Известий» и еще один, чью фамилию я забыл. Они время от времени посещали Сталинград. Олендер рассказал о Гумраке, местечке к западу от Сталинграда, где он был свидетелем самого грандиозного побоища немцев, какие он когда-либо видел. «Земля была буквально усеяна трупами. Мы их плотно окружили, и тут наши «катюши» открыли огонь. Боже, какая это была мясорубка! У немцев там остались тысячи грузовиков, легковых машин - по большей части сваленных в овраги, так как у них не было уже ни времени, ни средств их уничтожить, тысячи орудий. 60-70 процентов грузовиков и орудий можно еще отремонтировать и снова пустить в дело… Мы захватили даже продовольственный склад - за четыре или пять дней до конца! Вот небось немцы горевали!»
«В деревнях, которые уцелели на территории окруженной немецкой группировки - а некоторые деревни все-таки уцелели, - жуткая, страшная атмосфера, - сказал другой собеседник. - Кое-кто из крестьян там еще остался; к счастью, большинство ушло за Дон еще задолго до окружения. Даже в этом небольшом районе были свои партизаны. Ну, не совсем партизаны, а просто отчаянные люди, которые прятались от немцев и ждали прихода наших войск. Был один полусумасшедший старик, который воспользовался общим замешательством немцев - это было за час до нашего прихода, - спрятался в какой-то яме и оттуда ухитрился перестрелять с десяток фашистов. У него были личные счеты с ними. Немцы не то изнасиловали его дочерей, не то еще что-то сделали. В чем там было дело, я так точно и не выяснил».
К разговору присоединился только что вошедший в комнату грубоватый капитан с вислыми усами. Он рассказал, что немцы бросили огромное количество техники в Питомнике и на аэродроме около него, где бои носили очень упорный характер. Там было очень много немецких дотов, которые в конце концов пришлось подавить мощным огнем артиллерийских орудий и «катюш». «Теперь там вся земля усеяна тысячами замерзших трупов фрицев. Наши пушки разбили также почти все самолеты, находившиеся на аэродроме, в том числе несколько «юнкерсов-52»… До войны там был замечательный фруктовый питомник, где выращивались лучшие сорта яблонь, грушевых и вишневых деревьев. Теперь все это уничтожено.
По соседству, - продолжал он, - мы обнаружили лагерь для советских военнопленных, прямо под открытым небом. Да, под открытым небом… Он окружен колючей проволокой. Ужас! Сначала там находилось 1400 человек, которых немцы заставили строить укрепления. В живых осталось только 102 человека. Вы скажете, что немцам самим было нечего есть, но ведь пленные начали голодать задолго до того, как немецкие войска попали в окружение. К сожалению, когда наши бойцы нашли нескольких полумертвых людей, лежавших среди множества замерзших трупов, они начали тут же кормить их хлебом и колбасой, и в результате некоторые из них умерли…»
К нам подошли два молодых солдата. Один из них, украинец, начал говорить о своих родителях и жене, которые остались в Киеве. Он не имел от них никаких известий. «Но если дела и дальше так пойдут, - заметил он, улыбаясь, - то мы, возможно, скоро сами будем в Киеве. Вчера я спустился к Волге, хотел поудить рыбу в проруби, и видел, как через реку гнали тысячи немецких военнопленных. Это была картина! Грязные, небритые, некоторые с длинными косматыми бородами, многие покрыты язвами и чирьями, одеты все ужасно. Трое упали и тут же замерзли».
«Мы стараемся подкормить их, даем кое-что из одежды, - сказал с брезгливой гримасой один корреспондент, - но многие в очень тяжелом состоянии, а мест в сталинградских больницах для них просто нет, поэтому приходится направлять их сначала в сортировочный лагерь». - «А я бы не стал особенно о них беспокоиться, - заметил украинец. - Вспомните, как они поступали с нашими людьми. И откуда я знаю, может, они убили или уморили голодом мою жену или моих отца и мать».
Я вышел на улицу. Предо мной расстилался поразительный по чистоте красок трехцветный ландшафт. Ярко-красный закат; дальше к востоку - синее небо, без единого облачка, а вокруг - до самого горизонта - бескрайняя белая степь. Кроме нескольких часовых, не видно ни одного человека. Наши два самолета улетели, а других здесь не было. Ветер утих, и в этот холодный зимний вечер кругом царила какая-то странная тишина. «Далеко ли отсюда до Сталинграда?» - спросил я одного из солдат. «Около 80 километров», - ответил он.
На следующее утро нас повезли в другую деревню. Ехали примерно час по заснеженной степи; стоял 20-градусный мороз. Название деревни нам не сообщили, и причина такой секретности была понятна: мы должны были встретиться с немецкими генералами. Что, если там внезапно высадятся немецкие парашютисты, чтобы предпринять отчаянную попытку освободить их (хоть это и было маловероятно), или вдруг немцы решат сбросить на своих генералов бомбы и таким образом покончить с ними, поскольку они уже не способны принести никакой пользы рейху и могут даже оказаться помехой?
Избы в деревне были довольно ветхие, кое-где виднелись деревца. Местных жителей здесь будто бы не осталось - всюду были только солдаты, гражданское население отсутствовало. Немецкие генералы занимали четыре избы - по пять-шесть человек в избе. Заходить к ним в комнаты мы не могли, так что разговаривать с ними - если кто из них желал с нами разговаривать - приходилось через дверь, стоя в сенях. Некоторые немцы старались держаться подальше от двери, сидели или стояли, повернувшись к нам спиной. Все это немножко походило на зоологический сад, где одни животные проявляют интерес к публике, а другие мрачно жмутся по углам. Из тех, что держались в отдалении, некоторые время от времени оборачивались к двери и свирепо на нас поглядывали. Первое, что бросилось в глаза, - это ордена, медали и. кресты на их мундирах. Некоторые были с моноклями в глазу. Они так были похожи на карикатуры Эриха фон Штрогейма, что трудно было поверить, что это настоящие немецкие генералы. Однако вели себя немцы очень по-разному. Одни старались не падать духом. Так, генерал фон Зейдлиц - тот, кому предстояло в скором времени сыграть важную роль в создании комитета «Свободная Германия», - пытался смотреть на вещи юмористически. Так же вел себя и генерал Дебуа. Он улыбался и, как бы для того, чтобы мы не пугались, сообщил, что он не немец, а австриец. Генерал фон Шлеммер тоже улыбался и говорил: «Ну-с, так что вы хотите знать?» Фамильярно похлопав по плечу одного из сопровождавших нас советских офицеров и указывая на его новые погоны, он спросил: «Что - новые?» На лице его было написано комическое удивление, и он одобрительно кивал головой, как бы желая сказать: «Ну что ж, теперь вы, по-видимому, стали настоящей армией».
Самым неприятным из них был генерал фон Арним, человек громадного роста, с длинным искривленным носом и выражением бешенства на вытянутом лошадином лице с выпученными глазами. На груди у него был целый иконостас крестов и медалей. Когда кто-то спросил, почему немцы позволили поймать себя в ловушку в Сталинграде, он прорычал: «Вопрос неверно поставлен. Вам следовало бы спросить, как нам удалось так долго продержаться, имея перед собой такое подавляющее численное превосходство!» Тогда один из тех, что жались в углу, сказал что-то насчет голода и холода. А когда кто-то заметил, что русская армия, возможно, лучше немецкой и, уж наверное, имеет лучших командиров, фон Арним фыркнул и весь побагровел от злости. Затем я спросил, как с ним обращаются. Он снова фыркнул. «Офицеры, - нехотя ответил он наконец, - держат себя хорошо. Но русские солдаты… - Он весь так и кипел от злости. - Бесстыжие воры! Они украли все мое имущество. Четыре чемодана! Конечно, это сделали солдаты, а не русские офицеры, - добавил он как бы в виде уступки. - Офицеры вполне корректны». Немцы разграбили всю Европу, но что это было по сравнению с его четырьмя чемоданами? Когда китайский корреспондент спросил что-то насчет Японии, он заявил, снова глядя на нас испепеляющим взором: «Мы безгранично восхищены блестящими победами наших доблестных японских союзников над англичанами и американцами, и мы желаем им новых побед». Потом его спросили, что означают все эти ордена и кресты, и он начал срывать их с груди один за другим. Золотая рамка с черным пауком свастики - это немецкий «Золотой крест», сказал он. Этот крест сделан по рисунку самого фюрера. «Похоже, - заметил кто-то, - что вы недовольны фюрером». Он бросил свирепый взгляд и сказал только: «Фюрер - великий человек, и, если у вас есть на этот счет сомнения, вам скоро придется их отбросить». Фон Арним был одним из немецких генералов, которые до самого конца войны держались в стороне от комитета «Свободная Германия».
Одно поражало в этих генералах. Они были захвачены в плен всего несколько дней назад, и тем не менее вид у них был здоровый, без каких-либо признаков недоедания. Ясно, что на протяжении всей агонии Сталинграда, в то самое время, когда их солдаты умирали с голоду, они продолжали получать более или менее регулярное и хорошее питание. Ничем другим невозможно было объяснить их нормальный или почти нормальный и вес и внешний вид.
Единственным человеком, плохо чувствовавшим себя, был сам Паулюс. Нам не разрешили поговорить с ним[156], а только показали его, чтобы мы могли засвидетельствовать, что он жив, а не покончил жизнь самоубийством. Паулюс вышел из большого дома, походившего скорее на виллу, взглянул на нас, затем устремил взгляд в пространство и в неловком молчании простоял так минуту или две на ступеньках вместе с двумя другими генералами (одним из них был его начальник штаба генерал Шмидт). Паулюс выглядел бледным и больным; левая щека у него нервно подергивалась. У него было больше врожденного достоинства, чем у других, и на груди его я заметил всего один-два ордена. Щелкнули фотоаппараты, и советский офицер вежливо разрешил ему удалиться; Паулюс снова ушел в дом. Спутники его последовали за ним. Дверь закрылась. Свидание закончилось.
В деревне солдаты рассказывали друг другу смешные истории про немецких генералов. «Им чертовски повезло, живут в приличных домах, получают трехразовое питание. У некоторых еще полно нахальства. Послушайте историю. Это факт. К генералам, приставили девушку-парикмахера, чтобы она каждое утро их брила. И вот один из них в первый же день позволил себе ущипнуть ее за ягодицу. Она возмутилась и дала ему пощечину. Так он теперь до того боится, что она ему горло перережет, что не хочет больше бриться и отращивает бороду!»
Потом нас отвезли еще в какую-то деревню, где нас принял начальник штаба генерала Рокоссовского генерал Малинин. У Малинина, уроженца Ярославля, было энергичное, типично северорусское лицо. Ему было тогда 43 года. Он участвовал в Гражданской войне, потом с 1931 по 1933 г. учился в военной академии, воевал в Финляндии и вместе с Рокоссовским был в сражениях под Москвой. Впоследствии он стал начальником штаба Жукова и в этой должности участвовал во взятии Берлина.
За последние два-три дня в Красной Армии вдруг стало модным словечко «Канны» - это слово замелькало в газетах: Сталинградскую операцию стали называть идеальными «Каннами» - самыми совершенными со времен Ганнибала. Малинин тоже заговорил об этом, и слушать здесь, среди донских степей, как этот бывший крестьянский парень из-под Ярославля рассуждает о Каннах, было так же странно, как если бы он вдруг начал декламировать «Энеиду»… Он с восхищением отозвался о Сталине, а затем с жаром заговорил о простых русских солдатах.
«Шоссейных и железных дорог, - сказал он, - было очень мало, и все-таки мы никогда не испытывали недостатка в продовольствии, вооружении или горючем. Каждый солдат, каждый шофер, каждый железнодорожник сознавал, какая грандиозная задача перед нами стоит. Железнодорожники проводили такое количество составов, что это казалось немыслимым. Водители грузовиков, которые в нормальных условиях должны работать зимой не больше десяти часов в день, в наших транспортных колоннах часто работали бессменно целыми сутками».
Малинин был убежден, что на начальном этапе окружения немцы могли бы вырваться из Сталинграда, если бы Гитлер дал им на это разрешение.
Отвечая на вопрос насчет техники и припасов, поставленных союзниками, он сказал, что Красная Армия получила «некоторое количество американского продовольствия», немного грузовиков «додж» и танков «Черчилль» - техника хорошая, но ее очень мало.
Как мы теперь знаем из немецких источников, одним из ближайших последствий окружения немецких войск под Сталинградом в ноябре явилась острая нехватка зимнего обмундирования у этих войск. В ноябре 76 вагонов с зимним обмундированием застряло на станции Ясиноватая, 17 - в Харькове, 41 - в Киеве и 19 - во Львове. Немецкое верховное командование, не желая, чтобы у солдат в Сталинграде зародилась мысль, что они могут не выиграть сражение до наступления зимы, не спешило посылать им зимнюю одежду. Холод плюс очень скудные продовольственные пайки - под конец они были сведены к 60 г хлеба в день и крошечному кусочку конины (генералы получали теоретически 150 г хлеба) - привели к резкому росту смертности у немцев, особенно в январе. Правда, сильные морозы держались не все время. Во второй половине декабря было очень холодно (20-25° ниже нуля); в первой половине января погода стала гораздо мягче (в среднем - 5-10°), однако потом опять стало очень холодно. Температура понижалась иной раз до 25, 30, 40 и даже до 45°.
4 февраля ночью я на собственном опыте узнал, что такое 44° мороза и что это должно было означать для немцев в Сталинграде, как, впрочем, и для русских, ибо было бы большой ошибкой воображать, будто русскому - как бы тепло он ни был одет - 44-градусный мороз доставляет удовольствие.
Мы двинулись в 80-километровое путешествие из штаба генерала Малинина в Сталинград в 3 часа дня. Наш шофер-красноармеец сказал, что доедем за 4-5 часов, в действительности мы пробыли в пути около 13 часов.
Нас было человек шесть в этом жалком фургоне. Никаких скамеек в нем не было, и мы сидели или полулежали на мешках и узлах. С каждым часом становилось все холоднее и холоднее. К тому же в задней дверце машины не было стекла, поэтому нам было почти так же холодно, как если бы мы ехали в открытой машине.
Мы жалели, что проезжаем по местам недавних боев не в дневное время, но делать было нечего. Эта ночь все равно осталась в моей памяти как одно из самых удивительных воспоминаний за всю войну. Прежде всего я никогда в жизни не испытывал такого холода.
Утром было всего 20°, потом стало - 30, еще ближе к вечеру - 35, еще позднее - 40 и, наконец, - 44°. Чтобы понять, что такое 44-градусный мороз, надо его испытать. Дыхание перехватывает. Если вы подышите на перчатку, на ней сейчас же появится тоненькая корочка льда. Есть нам было нечего, потому что все продукты - хлеб, колбаса и яйца - превратились в камень. Даже имея на ногах валенки и две пары шерстяных носков, надо было все время шевелить пальцами ног, чтобы поддерживать кровообращение. Без валенок невозможно было. Чтобы руки не замерзли, надо было то и дело бить в ладоши или наигрывать воображаемые гаммы. Я раз вытащил было карандаш, чтобы написать несколько слов. Первое слово получилось ничего, второе вышло так, как будто его нацарапал пьяный, а последние два походили на каракули паралитика; я начал скорее дуть на свои лиловые пальцы и сунул их обратно в меховую рукавицу.
Сидя скорчившись в фургоне и чувствуя себя относительно хорошо, вы не можете заставить себя шевельнуться - разве что двигаете пальцами рук и ног да время от времени потираете нос; вас охватывает какая-то душевная и физическая инертность, вы чувствуете себя словно одурманенным наркотиком. А между тем надо все время быть начеку. Я, например, вдруг обнаружил, что мороз щиплет мои колени; он правильно сообразил, что может атаковать этот оставшийся незащищенным небольшой участок ног в промежутке между дополнительной парой нижнего белья и верхом валенок! Помимо одежды, ваш единственный надежный союзник в подобных случаях - это бутылка водки. Она, слава богу, не замерзает, и даже маленький глоток сильно меня согревал. Можно себе представить, каково было воевать в таких условиях, а ведь последний этап Сталинградской битвы проходил при немногим более мягкой погоде, чем в эту февральскую ночь.
Чем ближе мы подъезжали к Сталинграду, тем более беспорядочным становилось движение на покрытой снегом дороге. Этот район, где еще так недавно гремел бой, находился сейчас в сотнях километров от фронта, и все войска из Сталинграда перебрасывались теперь к Ростову и на Донец. Примерно в полночь мы попали в «пробку». Что за зрелище представляла собой эта дорога, если ее можно было назвать дорогой! Где тут была собственно дорога, а где прилегающая к ней степь, тоже объезженная транспортом (большая часть которого двигалась в западном направлении, но часть и на восток), разобрать было нелегко. Между двумя потоками транспорта образовалась неровная стена снега, отделявшегося от колес машин и от копыт лошадей. Регулировали движение странного вида фигуры - солдаты в длинных белых маскировочных халатах и остроконечных белых капюшонах; лошади, лошади, лошади, из обледенелых ноздрей вырывался пар, бесконечной вереницей брели по глубокому снегу, таща за собой орудия, лафеты и большие крытые фургоны; сотни грузовиков с ярко горящими фарами… У обочины дороги горел громадный костер, от которого поднимались облака черного дыма, разъедавшего глаза; вокруг него плясали, чтобы согреться, какие-то призрачные фигуры; потом кто-нибудь зажигал от его пламени щепку и разводил свой маленький костер, так что в конце концов вся обочина дороги превратилась в сплошную цепочку костров. Огонь! Какими счастливыми он делал людей в такую вот ночь! Солдаты спрыгивали с грузовиков, чтобы хоть на несколько секунд ощутить тепло и почувствовать на лице горячее дыхание черного дыма, а потом бегом пускались вдогонку за своим грузовиком и на ходу взбирались на него.
Из Сталинграда тянулась нескончаемая процессия: грузовики, сани, орудия, крытые фургоны и даже верблюды, впряженные в сани, - мы видели, как они степенно шагали по глубокому снегу, словно это был песок. В ход были пущены все мыслимые виды транспорта. Тысячи солдат шли на запад в эту холодную, страшную ночь. Но они были веселы, удивительно веселы и счастливы и громко говорили про Сталинград и про то, что они совершили там. На запад, на запад! Многим ли - невольно спрашивал я себя - суждено увидеть конец пути? Но они знали, что направление это верное. Быть может, еще мало кто думал о Берлине, но многие, должно быть, думали о своем родном доме на Украине. В валенках и ватниках, в меховых шапках-ушанках, с автоматами в руках, со слезящимися глазами и инеем на губах, они шли на запад. Насколько это было приятнее, чем идти на восток! Но кое-кто двигался и с запада - то был не поток, а небольшая струйка. Но и у этих людей было что порассказать, у этих крестьян на санях и телегах, у этих жителей Сталинграда, что шли пешком или ехали среди ночи домой - домой, на родные пепелища. А вокруг всей этой неразберихи - грузовиков, фургонов, верблюдов, солдат, кричащих, ругающихся, смеющихся и весело пляшущих вокруг костров, наполнявших воздух едким дымом, - лежала молчаливая, покрытая снегом степь. И когда фары освещали степь, видны были в снегу трупы людей, павшие лошади и разбитые вдребезги орудия войны. Мы находились теперь на территории, которую еще недавно занимала окруженная немецкая группировка. А впереди прожекторы прощупывали небо - небо Сталинграда.
Было уже 4 часа утра, когда мы наконец добрались до Сталинграда. Стоял страшный мороз; в кромешной тьме только кое-где виднелись тусклые огоньки. Окоченевшие от холода, мы вылезли из своего фургона. В нескольких метрах от нас кто-то что-то кричал, кто-то размахивал фонарем. «Двое - сюда, - сказал человек с фонарем, - еще двое - вон туда, подальше». Он осветил какую-то дыру в земле. «Спускайтесь туда, погрейтесь». Дыра была немногим шире человеческого туловища. Сползая по скользким доскам и цепляясь за обледенелые стенки тоннеля, мы скатились в блиндаж, находившийся на глубине 7-7,5 метра. Какая теплынь! Какой уютной показалась нам эта жалкая нора и каким сладким запах махорки! В блиндаже было четыре человека - двое спали на койках, а двое других скорчились возле маленькой железной печки. Это были молодые ребята - один совсем еще мальчик с легким пушком на подбородке; второй, Николай, был более закаленный боец, хотя и ему, вероятно, было не больше 23 лет. Двое, что лежали на койках, зевнули и снова заснули. Нам предложили две койки, покрытые толстыми коричневыми армейскими одеялами, но в даже, освещаемом керосиновой лампой, сделанной из гильзы артиллерийского снаряда, было так тесно, что мы почти все время просидели. Николай угостил нас горячим чаем из старых консервныx банок. Немного отогревшись, мы начали разбираться в окружающей обстановке. Люди, находившиеся в блиндаже, принадлежали к одному из гвардейских полков, которые только что ершили ликвидацию немецкой 6-й армии и теперь несколько дней отдыхали перед отправкой на фронт. «Когда рассветет, - cказал Николай, - вы сможете увидеть «Баррикады» и тракторный. Кажется, они еще стоят, на самом же деле они уничтожены. Сталинграда ничего не осталось - камня на камне. Если бы это от меня зависело, я бы отстроил Сталинград заново где-нибудь в другом месте - это было бы куда проще. А это все я превратил бы в музей».
«Чудно, - сказал парень помоложе, - как тут теперь тихо. Еще три дня назад здесь вовсю шли бои. Это паршивый блиндаж, его наши строили. У немцев блиндажи гораздо лучше. Последние недели они терпеть не могли вылезать наружу - они не выносят холода… Вонючие, грязные - вы не поверите, в какой грязи они жили. Боялись холода, боялись наших снайперов и “катюш”. - Парень покачал головой и по-ребячьи хихикнул. - Вот типы! Пришли завоевывать Сталинград в лакированных ботиночках. Думали, что это будет увеселительная прогулка. Пойдите-ка в Питомник, поглядите на них. Паразиты!» - заключил он этим излюбленным словечком красноармейцев, которое вошло в моду еще в 1941 г.
«“Катюша”, - сказал Николай, - показала себя замечательно. Мы окружили в Гумраке громадную группу немцев, и они ни за что не хотели сдаваться. Тогда мы расставили вокруг них 50 или 60 «катюш» и открыли огонь… Бог мой! Посмотрели бы вы, какой был результат! Или, бывало, мы, артиллеристы, подкатим орудия к ихним дотам и с 30 метров начинаем бить по ним. В этой ликвидации наши орудия сыграли главную роль - у нас было полное превосходство в артиллерии. И все-таки немцы умеют держаться. Ух, как они не любят сдаваться! В последний день мы подошли к дому, где засело 50 офицеров. Они продолжали стрелять и сложили оружие только после того, как четыре наших танка подошли вплотную к самому дому. Но ничего, - добавил он, потягивая горячий чай из консервной банки, - еще один Сталинград, и им крышка!»
«Да, туго им пришлось, - сказал третий солдат, который теперь проснулся. Это был смуглый армянин с крючковатым носом и темными, похожими на бусинки глазами; по-русски он говорил со смешным акцентом. - В Карповке немцы ели кошек. Они голодали и страшно мерзли, многие даже умерли от холода. Местные жители кое-как держались: припрятали мороженую конину и ею питались - все-таки это было лучше, чем кошки. Одна старуха, которая жила там в землянке, рассказывала, что немцы отобрали у нее собаку и съели. Но корову немецкий комендант не разрешал зарезать. Фрицев это ужасно злило. В конце концов ему пришлось уступить. Был там еще старик священник, в августе немцы открыли для него церковь. Он все молился о даровании победы «возлюбленным господам хозяевам» - это можно было понимать как хочешь. Некоторые очень потешались над этой шуткой».
Солдаты рассмеялись. «Ничего, - сказал Николай, - теперь все уже скоро, может быть, кончится. Я сам - рабочий, и, когда мы освободим Харьков, я, надеюсь, смогу вернуться на свой завод».
Под конец нам все же удалось часа два поспать, а около восьми утра мы снова выползли из скользкого тоннеля на свет божий. Перед нами был Сталинград.
Он оказался не совсем таким, как я ожидал. На какой-то момент сверкание солнца на снегу совершенно меня ослепило. Мы находились в одном из тех рабочих поселков, которые советские войска оставили в сентябре. Большая часть домов и деревьев была совершенно уничтожена. Справа виднелись вдалеке большие, внушительного вида пяти- и шестиэтажные здания. На самом же деле это были только коробки домов, составлявших центр Сталинграда. Слева, в нескольких километрах от нас, поднималось к небу множество высоченных заводских труб. Впечатление было такое, что там раскинулся настоящий промышленный город; но рядом с этими трубами не было ничего, кроме развалин тракторного завода. В трубы попасть трудно, и они остались стоять, по-видимому, целые и невредимые. Было все еще очень холодно, хотя все-таки немного теплее, чем ночью.
Наконец мы двинулись к Волге, через развалины рабочего поселка, мимо разрушенных товарных складов и железнодорожных строений. Ветер, дувший с противоположного берега Волги, оголил землю; насквозь промерзшая, она лишь кое-где была покрыта снегом, а надо всем этим расстилалось бледно-голубое небо. У обочины дороги все еще попадались замерзшие трупы немцев. Мы пересекли железнодорожную линию. Здесь громоздились друг на друга паровозы и вагоны, образуя одну огромную, беспорядочную груду металла. Высокие цилиндры нефтехранилищ, стоявшие вдоль разбитого железнодорожного полотна, были смяты, словно выброшенные за ненадобностью старые карточки, и все изрешечены снарядами, а некоторые и вовсе рухнули. По ту сторону дороги траншеи, блиндажи, воронки от снарядов и бомб походили на пчелиные соты. Дальше, за железнодорожной линией, дорога делала крутой поворот, и мы увидели белую, скованную льдом Волгу.; На другом берегу видны были неясные очертания голых деревьев, а еще дальше - белая степь, тянувшаяся в глубь Азии. Волга! Она была сценой одного из самых мрачных эпизодов войны - по ней шла «дорога жизни» Сталинграда. Об этом напоминала вмерзшие в лед баржи и пароходы, по большей части разбитые. Сейчас по льду спокойно тянулась узкая цепочка транспорта: машины, сани, запряженные лошадьми; шли солдаты. Волга замерзла, но не совсем, несмотря на жестокие морозы, державшиеся последние две недели. Там и сям все еще сверкали голубые полыньи, из которых женщины черпали ведрами воду. Мы спустились с крутого обрыва к самому берегу, загроможденному сотнями «трофейных» немецких легковых машин и грузовиков, и очутились на русской земле, которую противнику так и не удалось захватить.
В тот вечер мы увиделись с генералом Чуйковым. Это был крепкий, коренастый человек - типичный офицер Красной Армии, наделенный, однако, добродушием и чувством юмора. Он громко и весело смеялся. У него был полон рот золотых зубов, и, когда он улыбался, они так и сверкали при свете электрических ламп. Кстати сказать, в этом большом блиндаже, вырытом в скале над Волгой и служившем его штабом на последнем этапе Сталинградской битвы, было электричество. С Чуйковым находился его начальник штаба, генерал Крылов, переживший до этого осаду Севастополя. Чуйков уделил нам целый вечер и рассказывал без умолку, по крайней мере часа полтора, о ходе Сталинградского сражения. Впоследствии он опубликовал обстоятельную книгу об этой битве, которую я неоднократно цитировал в одной из предыдущих глав. Здесь я приведу лишь несколько наиболее характерных моментов из его рассказа, услышанного сразу же после капитуляции немцев. То, что он рассказал нам в этот вечер, в основном совпадает с тем, что говорится в книге.
Чуйков говорил о важной роли, какую сыграла 62-я армия, задержавшая продвижение немцев на Дону в июле и августе, затем о мощном немецком натиске на Сталинград 14 сентября и об отдельных этапах битвы.
Потом он перещел к рассказу о дне 14 октября. «Это был день самых кровопролитных и ожесточенных боев за все время сражения. На фронте шириной в 4-5 километров немцы бросили в наступление пять совершенно свежих пехотных дивизий и две танковые дивизии, поддержанные пехотой и огромным количеством самолетов… В то утро невозможно было расслышать отдельные выстрелы или взрывы - все слилось в непрерывный оглушительный грохот… В блиндаже вибрация была такая, что стакан разлетелся на тысячи осколков. В тот день в моем штабе был убит 61 человек. После четырех или пяти часов этого ошеломляющего обстрела немцы продвинулись на полтора километра и наконец прорвались в районе тракторного завода. Наши бойцы не отступили здесь ни на шаг, и если немцы все-таки продвигались вперед, то только по трупам наших солдат. Но потери у немцев были так велики, что они не могли продолжать наступление с прежней силой и не сумели расширить свой клин на Волге».
Чуйков с похвалой отозвался о ряде сталинградских дивизий - Жолудева, которая чуть не до последнего солдата защищала тракторный завод, дивизиях Людникова, Родимцева и многих других.
Чуйков сказал также, что, после того как к северу и к югу от города советские войска начали большое контрнаступление, положение в самом Сталинграде стало немного легче. Однако 62-й армии было приказано «активизировать» свой фронт и непрерывно атаковать немцев, окруженных к тому времени в Сталинградском котле. Чуйков говорил о своих бойцах с отеческой любовью. Он и сам пользовался популярностью у солдат: многие из тех, кто воевал в Сталинграде, впоследствии говорили мне, что они бесконечно восхищались его необыкновенным личным мужеством и умением владеть собой: «На тысячу человек не нашлось бы второго такого, как наш Чуйков, который сумел не потерять голову в этот страшный день 14 октября».
Я снова увидел Чуйкова лишь в июне 1945 г. К тому времени он был уже одним из победителей Берлина. Брошенные нацистами великолепные виллы с их кустами роз и жасмина и моторные лодки на Ванзее были, казалось, далеко-далеко, за миллионы километров от этой насквозь промерзшей сталинградской земли, по которой мы ступали в ту зимнюю ночь, от скованной льдом Волги со вмерзшими в лед обломками барж и пароходов.
«Это, бы л длинный и трудный путь, - сказал мне в тот день в Берлине Чуйков. - Но, знаете ли, - добавил он, сверкнув своими золотыми зубами, - если уж говорить об этих баржах и пароходах, они были не так плохи, как вы думаете. Доставлять припасы в Сталинград было чертовски трудной задачей, и все-таки нам удавалось перебрасывать по реке 90 процентов грузов!»
На следующее утро после встречи с Чуйковым я вскарабкался на скалу, на вершине которой устанавливали небольшой памятник погибшим воинам. Этим делом занимались советский солдат и двое немецких военнопленных. У одного немца была черная щетина. У другого - рыжеватая. Ко мне подошел низкорослый солдат-башкир с веселым лицом монгольского типа и глубоко посаженными смеющимися раскосыми глазами. На ломаном русском языке он начал мне рассказывать, как в самые напряженные дни Сталинградской битвы он воевал в районе завода «Красный Октябрь». Потом, указывая на двух немцев, рывших мерзлую землю вокруг памятника, солдат спросил: «Вы можете говорить по-ихнему?» - «Да». - «В таком случае пошли, поговорите с ними». - «Ну, как дела?» Чернявый немец с радостным удивлением ответил: «Хорошо!» - «Значит, русские вас все-таки не убили?» - «Нет», - снова весело сказал он. Я перевел наш разговор башкиру. «Подумать только, что они натворили. Во время эвакуации они потопили на Волге пароход, на котором находилось 3 тысячи женщин и ребятишек. Почти все были перебиты или утонули. А теперь ходят в наших валенках!» И действительно, на обоих немцах были валенки. Один из них был одет в грязную немецкую серо-зеленую шинель, из-под которой виднелись клочки каких-то одежек, на другом был русский армейский ватник. У обоих меховые шапки на голове. «Да, - сказал немец с черной щетиной на подбородке, - это русские дали нам валенки. Очень хорошие!»
Оба немца были из Берлина. Я спросил, считают ли они и теперь Гитлера самым великим человеком в мире. Они энергично запротестовали. Рыжебородый заявил, что когда-то он был комсомольцем, а чернобородый уверял, что он бывший социал-демократ. «Ах, сколько горя Гитлер принес всему миру и Германии, - нравоучительным тоном изрек рыжебородый. - Сталинград - да, но и в Германии не лучше. Кёльн, Дюссельдорф и некоторые районы Берлина сильно пострадали, и дела идут все хуже и хуже». Оба немца были довольно тощие, но вид у них был вполне здоровый. По их словам, еды они получают вволю. Их поражало, что с ними так хорошо обращаются. Советский сержант, которому поручено было присматривать за этими двумя немцами, прислушивался к нашему разговору со снисходительной улыбкой. Наконец он решил, что им пора снова браться за работу. «Ну, как они?» - спросил я. «Да ничего, люди как люди».
На заводе «Красный Октябрь» и вокруг него бои продолжались несколько недель. Заводские дворы и даже помещения цехов были изрыты окопами. И сейчас еще на дне окопов лежали замерзшие зеленые трупы немцев, серые трупы русских и мерзлые куски человеческих тел. Среди обломков кирпичей валялись советские и немецкие каски, до половины наполненные снегом. Здесь была колючая проволока, и полузасыпанные мины, и снарядные гильзы, и причудливая путаница искореженных стальных ферм. Трудно было себе представить, как кто-то мог остаться в живых в таких условиях. Один из русских показал на стену, на которой было написано несколько имен. Возле этой стены одна из советских воинских частей полегла до единого человека. Теперь же в этом окаменелом аду все молчало и было мертво, как будто буйный сумасшедший внезапно умер от разрыва сердца.
Было все еще 30° ниже нуля. В этот день мы поднялись на страшные склоны Мамаева кургана по узкой тропинке длиной около 100 м. Русские уже водрузили на вершине горы грубый деревянный обелиск, выкрашенный в ярко-синий цвет, с красной звездой на верхушке. Между разбитыми стволами деревьев тоже валялись каски, снарядные гильзы, осколки снарядов и другой металлический хлам. На взрытой, промерзшей земле кое-где лежал снег, но мертвых не было видно - валялась только одна почерневшая от времени большая голова, скалившая свои белые зубы. Кто это был - русский или немец? Один майор сказал нам, что русских всех похоронили, но что 1500 немецких трупов еще ждут своей очереди - они сложены по ту сторону кургана. Сколько тысяч снарядов рвало эту землю, на которой каких-нибудь полгода назад зрели арбузы? На середине склона, повернутый к вершине, стоял обгорелый советский танк.
После этого мы поехали в центральную часть Сталинграда. Мы двигались по длинной улице, по обе стороны которой стояли разбитые деревья. Улица шла параллельно Волге. Вот проехали мимо скопления трамвайных вагонов. Многие из них, вернее, все, были разрушены, разбиты и сожжены. Неужели они стоят здесь с 23 августа - со дня гигантского воздушного налета?… Теперь мы убедились в том, что Сталинград был одним из современных городов; вся его центральная часть, так же как и его заводы, была построена за последние 10-12 лет. Здесь были обширные кварталы жилых домов - теперь, конечно, целиком выжженные, - общественные здания на центральной площади и разрушенный вокзал на ее краю. Он тоже несколько раз переходил из рук в руки во время жестоких боев в сентябре… Посреди площади стоял замерзший фонтан, вокруг которого еще плясали полуразбитые фигурки детей.
Здесь мы вышли из машины. В одном углу площади громоздилась огромная груда всевозможных бумаг - письма, географические карты, книги, фотокарточки немецких детей и пожилых женщин с ухмыляющимися самодовольными лицами, стоящих, по-видимому, где-то на мосту через Рейн, и зеленый католический молитвенник под названием «Духовная броня для солдат», и письмо от мальчика, по имени Руди, в котором говорилось: «Теперь, когда вы захватили мощную крепость Севастополь, война против заклятых врагов Германии, проклятых большевиков, скоро кончится».
Мы прошли пешком по главной улице, идущей в южную сторону, меж огромных кварталов сгоревших домов, до следующей площади. Посреди мостовой лежал труп немца. В тот момент, когда его настиг снаряд, он, должно быть, бежал. Его ноги, казалось, все еще бегут, хотя одна из них была срезана снарядом выше лодыжки, и из замерзшего красного мяса торчала расколотая белая кость; все это как-то несуразно напоминало витрину мясной лавки. Лицо убитого представляло собой замерзшее кровавое месиво, а рядом темнела замерзшая лужица крови.
На другой большой площади некоторые дома были разрушены, но два стояли, приземистые и крепкие, хотя и выжженные внутри, - Дом Красной Армии и универмаг.
Посетив место, где произошла капитуляция Паулюса, и поговорив с лейтенантом Ильченко, который взял в плен фельдмаршала, мы снова вышли на улицу. Вокруг царило какое-то странное молчание. В некотором отдалении все еще валялся труп немца с оторванной ногой. Мы пересекли площадь и вошли во двор большого, выжженного внутри Дома Красной Армии. Здесь как-то особенно ясно я представил себе, каково было многим немцам в эти последние дни в Сталинграде. На крыльце лежал скелет лошади с крохотными лоскутками мяса, еще уцелевшими на ребрах. Отсюда мы прошли во двор. Здесь валялось еще несколько конских скелетов, а немного правее видна была колоссальная и страшная выгребная яма, к счастью совершенно замерзшая. И вдруг в дальнем конце двора я заметил человеческую фигуру. Человек этот присел на корточки над другой выгребной ямой. Завидев нас, он начал поспешно подтягивать штаны, а затем шмыгнул в дверь подвала. Но пока он проходил мимо, я успел рассмотреть лицо бедняги, на котором страдание смешалось с идиотическим непониманием происходящего. В эту минуту мне захотелось, чтобы вся Германия была сейчас здесь и могла полюбоваться этим зрелищем. Этот человек, вероятно, уже был на пороге смерти. В подвале, куда он украдкой шмыгнул, было, кроме него, еще 200 немцев, умиравших от голода и обморожения. «У нас еще не было времени ими заняться, - сказал один русский. - Я думаю, их завтра уберут». А в дальнем конце двора, рядом с другой выгребной ямой, за низкой каменной стеной, были сложены штабелями желтые трупы тощих немцев - тех, кто умер в этом подвале, - около десятка восковых кукол.
Это зрелище грязи и страданий во дворе Дома Красной Армии было последним моим впечатлением от Сталинграда. Мне припомнились и долгие тревожные дни лета 1942 г., и ночи лондонского блица, и фотографии Гитлера, ухмыляющегося на ступеньках собора Мадлен в Париже, и тоскливые дни 1938 и 1939 гг., когда Европа нервно ловила берлинские радиопередачи и слушала вопли Гитлера, сопровождаемые людоедским ревом немецкой толпы. И я увидел знамение суровой, но божественной справедливости в этих замерзших выгребных ямах, в этих обглоданных лошадиных скелетах и желтых трупах умерших от голода немцев во дворе Дома Красной Армии в Сталинграде.
(обратно)Глава VII. «Кавказ - туда и обратно»
Кaukasus - hin und zuriick» («Кавказ - туда и обратно») - так не без иронии и горечи говорили немецкие солдаты, когда все уже было позади. Оккупация Кавказа немцами длилась полгода; в августе 1942 г. они захватили огромную территорию на Кавказе с такой же быстротой, с какой в январе - феврале 1943 г. им пришлось убраться оттуда.
Их поспешная эвакуация с Кавказа явилась, конечно, прямым результатом окружения немецких войск под Сталинградом и последующего занятия Красной Армией бассейна Дона. Если бы в январе 1943 г. советским войскам удалось закрыть Ростовскую горловину или, что было бы еще лучше, занять также и Таманский полуостров - этот путь отхода немцев в Крым через Керченский пролив, - все немецкие войска на Кавказе попали бы в ловушку. В последние пять месяцев 1942 г., когда все внимание было сосредоточено на Сталинграде, советская печать уделяла относительно мало внимания событиям на Кавказе, причем и потом в течение многих лет о боях в этом районе писали очень мало. Первый этап этой кампании был одним из самых тяжелых для советского командования, тем более что ему предшествовала потеря Ростова в конце июля 1942 г. Несмотря на сталинский приказ «Ни шагу назад!», части Красной Армии отступали на Кубани и на Северном Кавказе на протяжении всего августа так же поспешно, как в самые тяжелые дни 1941 г. В августе сообщения были весьма нерадостными; ясно было, что русские оставляют Кубань, богатейший сельскохозяйственный район, который оставался у них по эту сторону Урала, «под давлением превосходящих сил противника». К 20 августа группа армий «А» фон Клейста захватила огромную территорию. Теперь в руках у немцев была уже вся Кубань; они вторглись на территорию собственно Кавказа, а на западе после захвата главного города Кубани, Краснодара, и третьего по значению нефтяного центра на Кавказе, Майкопа, стали пробиваться дальше, к Черноморскому побережью. На востоке они продвигались к обоим самым крупным нефтяным центрам - Грозному и Баку.
Когда в начале августа советским войскам не удалось остановить немцев на Дону, наступление немецких войск на Кубани приняло характер самого настоящего блицкрига. Немцы имели подавляющее превосходство в танках и авиации, и лишь кое-где, особенно на водных рубежах, части Красной Армии вели арьергардные бои, хотя и без особого успеха. Дороги были забиты тысячами беженцев, пытавшихся вместе со своим скотом укрыться в горах или штурмовавших поезда на всех железнодорожных станциях, однако наступление немцев развивалось так быстро, что эвакуироваться удалось, вероятно, очень небольшой части гражданского населения[157]. По той же причине оказалось почти невозможным эвакуировать промышленные предприятия, и максимум, что удалось сделать в Майкопе, - это взорвать буровые вышки и другие сооружения и уничтожить еще оставшиеся запасы нефти; немецкие инженеры-нефтяники, которые вскоре прибыли туда, установили, что пройдет очень много времени, прежде чем Майкоп снова сможет давать нефть.
Потеря Кубани и северных районов Кавказа была особенно тяжелой, и все же почти все немецкие авторы, описывавшие кавказскую кампанию, сходятся в том, что русские предприняли тот разумный шаг, который только и оставался для них в создавшихся условиях, а именно: не дав быстро продвигавшимся немецким войскам загнать себя в ловушку, они отошли в горы, обеспечивавшие относительную безопасность.
Как оказалось, немецкий план захвата Кавказа был чересчур претенциозным. Это была одна из самых неудачных идей, осенивших Гитлера. Первоначальный его план, как мы уже видели, со стоял в том, чтобы вначале захватить Сталинград, причем гораздо более крупными силами, чем он направил туда в конечном счете, а затем занять весь Кавказ, начав с его прикаспийской стороны. «Объектом № 1» этого наступления должны были стать Грозный и Баку. После того как Гитлеру легко удалось захватить Ростов, он вообразил, что русские настолько слабы, что он может разделить свои силы на две части, из которых одна займет Сталинград, а другая захватит Кавказ. Он давно уже заглядывался на кавказскую нефть и считал, что, перерезав волжский путь снабжения и захватив три кавказских нефтяных центра, он в очень короткий срок может полностью вывести из строя экономику СССР. Захват Бак: намечался на середину или конец августа.
Безусловно, немцы недооценили способность Красной Армии к сопротивлению; на Кавказе, как и повсюду, они пытались добиться сразу слишком многого: а) на востоке - прорваться к Грозному, затем по Каспийскому побережью к Баку; б) в центре - прорваться к Владикавказу, пересечь Главный Кавказский хребет по Воев но-грузинской дороге и выйти в Закавказье, а одновременно, может быть, двигаясь по параллельной Военно-осетинской дороге, также дальше на запад через горные перевалы - Клухорский, Мгрухский и Санчаро - прямым путем выйти к Черноморскому побережью между Сочи и Сухуми, откуда фашистские войска мог л двинуться в Закавказье с запада и дойти до турецкой границы в) на западе - прорваться к Черному морю у Новороссийска и дальше к югу (что было гораздо важнее) у Туапсе, откуда они могли дойти по Черноморскому побережью до самого Батуми.
Командующий Закавказским фронтом генерал И.В. Тюленев писал впоследствии, что, если бы немцы сосредоточили свои основные силы на востоке, вместо того чтобы пытаться одновременно наступать на многих направлениях, они могли бы пробиться к Грозному и даже к Баку. Вместо этого они твердо решили захватить также и Черноморское побережье, отчасти чтобы уничтожить советский Черноморский флот, которому пришлось бы затопить свои корабли, а отчасти для того, чтобы втянуть Турцию в войну на стороне Германии. Тюленев прямо говорит, что часть вторгшихся на Кавказ немецких войск держалась в резерве для операций на Среднем Востоке и «для соединения с генералом Роммелем, действовавшим в то время в Египте!». Вряд ли приходится удивляться тому, что Черчилль очень беспокоился по поводу наступления немцев на Кавказе и предложил Сталину крупные силы англо-американской авиации для «обороны Кавказа». И, как мы видели, Сталин не отверг этого предложения сразу.
Советское командование, видимо, считало угрозу прорыва немецких войск к Грозному весьма реальной. В течение всего августа и сентября 90 тыс. человек, мобилизованных из гражданского населения, день и ночь работали на строительстве укреплений, орудийных окопов, противотанковых рвов и т.п. в Грозном, Махачкале, у «Дербентских ворот» на Каспийском побережье, а также в самом Баку, вокруг которого было построено десять линий оборонительных сооружений. Фактически, однако, наступление немцев было остановлено у Моздока, примерно в 100 км к западу от Грозного, и советские войска ценой недель и месяцев напряженных боев не дали немцам расширить захваченный ими на южном берегу Терека плацдарм и отсюда двинуться дальше, на Грозный. Полной неожиданностью для немцев было то, что, помимо войск, который удалось от них оторваться, у Красной Армии оказались на Кавказе достаточные резервы, чтобы остановить их у Моздока - города, название которого, как и название Сталинграда, впервые появилось в сводке Совинформбюро 25 августа и продолжало фигурировать в последующих сводках вплоть до самого января.
Советские войска в районе Моздока входили в так называемую Северную группу Закавказского фронта генерала Тюленева. Части, отступившие с севера на юг, были из состава двух фронтов - Южного и Северо-Кавказского. 28 июля они были объединены в Северо-Кавказский фронт под командованием маршала Буденного, а 1 сентября преобразованы в Черноморскую группу Закавказского фронта под командованием генерала Черевиченко. Эта группа удерживала побережье и близлежащие горы между Новороссийском и Сочи. Советское командование не только располагало на Кавказе значительными резервами, которые остановили немцев на самых решающих участках, после того как было истрачено все или почти все, что допускали стратегические расчеты, но начиная с сентября и до самого конца кампании оно сумело доставлять на Кавказ очень большие подкрепления, несмотря на огромные трудности с транспортом. Через Каспийское море из Краснове дека в Баку, а оттуда по железным и шоссейным дорогам доставлялись войска и огромное количество тяжелого оружия (орудий, танков и т.п.); советские войска на западе снабжались в основном в таком же порядке. Минометы, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое поступало с импровизированных фабрик и мастерских Закавказья. Закавказье в большой мере снабжало также войска Кавказского фронта необходимым им продовольствием. Войска и продовольствие доставлялись также морем из Батуми в Туапсе.
В течение всего августа наступление немецких войск было, несомненно, очень эффективным, а в сентябре немцы добились дальнейшего успеха на северо-западе, захватив весь Таманский полуостров и военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно использовать этот порт они, правда, не могли, ибо противоположная сторона бухты оставалась еще в руках советских войск, которые держали порт под артиллерийским огнем. Отчаянные попытки немцев пробиться дальше на юг, к Туапсе, который был подлинным ключом к Черноморскому побережью, оказались совершенно безуспешными. Генерал Тюленев объясняет этот провал несколькими факторами: стойкостью советских солдат и моряков, естественными оборонительными рубежами на пути к Туапсе (горы и леса), но больше всего, пожалуй, огромной подготовительной работой, проделанной солдатами и гражданским населением, которые строили огневые позиции, копали противотанковые рвы, а в отдельных случаях валили вековые деревья на дороги, которым угрожала опасность. Эта работа велась не только на путях, ведущих к Туапсе, но и на высокогорных перевалах, по дороге на Баку и на всем протяжении Военно-грузинской и Военно-осетинской дорог, пересекающих главный горный хребет.
Тюленев особенно хвалит командующего инженерными войсками Закавказского фронта генерала Бабина, которому удалось «наглухо закрыть подступы к горам Кавказа для танков и пехоты врага». Он сумел добиться этого, невзирая на крайне трудные условия, создавшиеся в связи с нехваткой оборудования и взрывчатки[158].
Таким образом, немцам не удалось прорваться к Грозному на востоке и к Туапсе на западе. В центре они пытались пересечь Кавказский хребет по трем знаменитым горным перевалам, но, хотя они и могли видеть Черное море с вершин Кавказского хребта, их наступление сдерживалось и здесь. Тюленев описывает особенно ожесточенные бои, которые велись высоко в горах в течение всего сентября, и огромные трудности, связанные с доставкой туда припасов для войск на маленьких самолетах У-2 и на ишаках. Еще более сложной проблемой была эвакуация раненых. Бураны, которые начали свирепствовать в горах в начале октября, вынудили немцев отказаться от попытки прорваться к Черному морю через высокогорные перевалы.
В начале ноября немцы сделали последнюю попытку прорваться к Грозному и Тбилиси другим путем, обойдя советские войска в Моздоке с юга. 2 ноября они захватили столицу Кабардино-Балкарии Нальчик и двинулись дальше, на столицу Северной Осетии Владикавказ, на северном конце Военно-грузинской дороги, и на Грозный с юго-запада. Но у советского командования хватило времени перегруппировать свои силы, и всего в нескольких милях к западу от Владикавказа они нанесли наступающим немецким танковым колоннам сокрушительный удар и в конце концов отбросили их обратно к Нальчику. Вокруг Владикавказа были построены три линии обороны, хорошо укомплектованные живой силой, и, действуя отсюда, советская артиллерия и танки нанесли немцам тяжелое поражение. По оценкам русских, потери немцев за пять дней боев составили 140 танков, 2500 автомашин и много другой боевой техники, а их людские потери достигли 5 тыс. только убитыми.
Во всяком случае, после этого немцы уже не предпринимали наступательных операций и перешли к обороне как у Моздока, так и у Нальчика. Они надеялись возобновить захват Кавказа новыми силами весной, если все пойдет хорошо под Сталинградом.
Как мы видели, этого не случилось. В начале января войска Сталинградского фронта, который был переименован в Южный фронт и из подчинения Еременко передан под командование Малиновского, продвигались в обход Котельникова в направлении Сальска и Тихорецка, ставя конечной задачей захват Ростова, чтобы закрыть Ростовскую горловину для немецких войск на Кавказе. Задачей Черноморской группы было двинуться на Восток с Черноморского побережья в направлении Краснодара и Тихорецка и соединиться там с войсками Южного фронта, чтобы не только закрыть Ростовскую горловину, но и отрезать немецкие войска на Кавказе от Таманского полуострова - их пути отхода в Крым. По целому ряду причин советскому командованию не удалось полностью осуществить этот план. Немцы быстро перебросили с Кавказа в район Зимовники, Сальск, Тихорецк большие танковые силы, чтобы сдержать наступление русских в направлении Ростова и Тихорецка. После тяжелых боев, начавшихся с наступления Манштейна на Котельниково, войска Южного фронта нуждались в танках и другом снаряжении, а новые танки, которых они просили, поступали медленно. Поскольку Сталинградский железнодорожный узел все еще находился в котле, железнодорожной связи с центральными районами страны не было, а подвоз по шоссейным дорогам требовал много времени, к тому же они были слишком растянуты (около 350 км от ближайшей базы снабжения). Что касается Черноморской группы, которой теперь командовал генерал Петров, то и у нее были трудности со снабжением: штормы на Черном море сделали ненадежными ее главные пути подвоза, а ливни и наводнения сильно тормозили продвижение войск к Краснодару. Краснодар был освобожден только 12 февраля, то есть через месяц с лишним после начала наступления Красной Армии.
Сейчас, говоря об отходе немецких войск с Кавказа, немецкие и советские комментаторы сильно расходятся: по словам немцев, это был «плановый» отход, тогда как русские называют его «беспорядочным отступлением». В частности, советские источники много говорят о полной деморализации румынских и словацких частей, участвовавших в немецком наступлении на Кавказе, и указывают на то, что при поспешном отступлении немцы оставляли множество материалов и техники на некоторых узловых железнодорожных станциях, например в Минеральных Водах, где советские части захватили 1500 вагонов с грузами. Но фактически имеется мало доказательств, что в ходе преследования отступавших немцев войскам Северной группы Закавказского фронта (среди которых были и части, сражавшиеся под Моздоком уже несколько месяцев) удалось захватить много пленных или нанести немцам значительные людские потери. Большей части немецких войск на Кавказе удалось уйти либо через Ростовскую горловину, либо на Таманский полуостров. По словам немецких комментаторов, у Гитлера была мысль удерживать этот полуостров как можно более крупными силами в качестве трамплина для нового завоевания Кавказа в будущем. Сегодня этот план считают одной из роковых ошибок Гитлера; вместо того чтобы оставаться в бездействии на Таманском полуострове, эти войска, численностью 400 тыс. человек, могли бы перетянуть чашу весов в пользу немцев в последующих боях на Дону и в восточных районах Украины[159].
Немцы отступали с Кавказа поспешно, но все же не настолько, чтобы не применять широко и здесь свои методы «выжженной земли». Отступая, они полностью или частично уничтожили множество сел и деревень. Ранее, в период их оккупации Кубани, они конфисковали или «закупили» у населения огромное количество продовольствия и скота.
Вторгаясь на Кавказ, немцы очень рассчитывали на «нелояльность» кавказских народов к Москве. Советские органы власти также беспокоились по поводу Кавказа, и особенно проживавших там мусульманских народов. Беспокоили их отчасти и некоторые мусульманские народы Средней Азии, хотя представители этих народов храбро сражались с врагом. Некоторые из самых стойких солдат Красной Армии были казахами; в целом на протяжении всей войны казахи проявили себя с самой хорошей стороны, а в самом Сталинграде среди лучших солдат были представители среднеазиатских народов - киргизы, казахи и башкиры. Очень хорошо показали себя также татары - не крымские, а волжские.
После потери в первые же недели войны таких нерусских районов, как Прибалтийские республики, война велась на русской и украинской территории, население которой можно было считать полностью - или почти полностью - лояльным. Но когда немцы прорвались на Кавказ и стали приближаться к границам Азии, советские власти столкнулись с множеством новых проблем. Их опыт с крымскими татарами был весьма неприятным, и теперь возник вопрос, как поведет себя Кавказ.
Нет необходимости говорить, что патриотическая советская пропаганда среди кавказских народов началась сразу же после захвата немцами Кубани. По всему Кавказу проводились антифашистские митинги. Очень много писалось об энтузиазме, с которым все кавказцы шли на эти митинги; особенно широко советская печать осветила многолюдный антифашистский митинг, состоявшийся в конце июля во Владикавказе. 1 сентября в «Правде» был напечатан крупным шрифтом следующий призыв:
«Горские народы… братья, храбрые джигиты, рожденные в горах Кавказа и на вольных просторах Дона, Кубани, Терека и Сунжи, в степях Калмыкии и Ставропольщины. Поднимайтесь на смертный бой!… Пусть равнины Северного Кавказа и подступы к Кавказским горам станут могилой для немецких разбойников!»
3 сентября в статье, озаглавленной «Народы Кавказа и Сталинская конституция», «Правда» писала:
«Тускло мерцала в старые времена жемчужина народов - Кавказ. Теперь она ярко сверкает в советском созвездии культур».
6 сентября в связи с другим антифашистским митингом, на этот раз в Закавказье, газета писала:
«…для гитлеровских подлецов народы Кавказа - «туземцы». Гитлеровское чудовище… хочет разорвать связь между всей страной и Кавказом. И точно так же враг стремится разорвать братские узы, которыми спаяны народы Кавказа со всей семьей советских народов».
Все это ясно говорило о том, что советские власти беспокоила немецкая политика на Кавказе. Это беспокойство, как оказалось, было в значительной мере необоснованным, тем более что немцы пробыли на Кубани и на Северном Кавказе очень недолго, а их политика была, мягко говоря, путаной и противоречивой. Тем не менее известная почва для таких опасений все же имелась.
Нам незачем останавливаться здесь на различных грандиозных «планах» немцев в отношении Кавказа - планов Розенберга и других; всем им суждено было остаться на бумаге. И все же немцы сделали несколько довольно непоследовательных попыток сыграть на «контрреволюционном прошлом» казаков. На Кубань были доставлены такие ярые враги большевиков времен Гражданской войны, как казачьи генералы Краснов и Шкуро, которые должны были помочь убедить казаков стать «коллаборационистами». Хотя Розенберг выразил мнение, что казаки, по существу, те же русские и что поэтому с ними надо обращаться более жестоко, чем с украинцами (которых в отличие от рейхскомиссара Украины Эриха Коха он не считал «недочеловеками»), немецкая армия проводила такую политику, что казаки являются-де ее потенциальными «друзьями» и их не следует относить к «недочеловекам»; казаков по мере возможности следовало вербовать в ряды немецкой армии. Как мы уже видели, в Котельникове, например, которое считалось казачьим или наполовину казачьим селением, немцы воздерживались от массовых зверств, хотя они фактически ничего не сделали для того, чтобы расположить к себе здешнее население, а, наоборот, относились к нему крайне презрительно. Что касается «реформ», например ликвидации колхозов, то немцы не пошли дальше туманных обещаний.
Примерно то же самое происходило и на Кубани, если не считать, что здесь некоторые германские офицеры создали экспериментальный «казачий округ» с населением около 160 тыс. человек. Немцы давали населению всякие обещания. Хотя вначале министерство Розенберга и эсэсовцы возражали против этого эксперимента, армия продолжала его вплоть до января 1943 г., когда немцам пришлось убраться с Кубани.
«Была набрана местная полиция. В январе 1943 г. было намечено расширить границы (казачьего) округа и назначить командующего казачьей армией… Намечались коренные реформы в области сельского хозяйства, хотя на практике сделано было очень мало. Были также планы набора 25 тыс. казаков-добровольцев для участия в войне на стороне немецкой армии, но для реализации этих планов также не хватало времени»[160].
Эта «реалистичная» политика армии имела целью, как говорит Александр Даллин, обеспечить как можно больше пушечного мяса для немецкой армии. Он также утверждает, что эксперимент должен был доказать, что, если «дать советскому населению возможность самостоятельно разрешать свои проблемы… оно в общем склонно будет более охотно сотрудничать с немцами».
Но при всем этом из рассказа Даллина достаточно ясно вытекает, что подавляющее большинство казаков Дона, Кубани и Терека не сотрудничало с немцами и что многие казаки оказывали им пассивное, а иногда и активное сопротивление. Казачьи партизанские отряды действовали во многих районах, и некоторые из них в феврале приняли активное участие в освобождении Краснодара. Даже если немцам и удалось набрать 20 тыс. казаков - или псевдоказаков - в большом районе с населением численностью несколько миллионов человек, то это «достижение» можно расценивать скорее как неудачу. Уже сам факт, что многие из этих «казаков» только «выдавали себя за казаков», говорит о том, что число настоящих казаков Дона, Кубани и Терека, примкнувших к немцам, было невелико.
С начала войны в рядах Красной Армии сражалось свыше 100 тыс. казаков, и некоторые их части, такие, как знаменитый корпус Доватора, в течение нескольких недель изматывавший немцев в боях под Москвой, завоевали себе почти легендарную славу. Тысячи и тысячи казаков, включая большинство бойцов корпуса Доватора, погибли, сражаясь с немцами.
Рассчитывать, что такой зловещей фигуре эмигранта-авантюриста, как глава Центрального казачьего управления в Берлине генерал Краснов, удастся перетянуть казаков на свою сторону и, выражаясь словами другого казака-авантюриста, немецкого наемника Василия Глазкова, «убедить их признать фюрера Адольфа Гитлера верховным диктатором казачества», было по меньшей мере наивно.
Немногочисленные так называемые казачьи отряды, которые немцам удалось сколотить для своей армии, впоследствии отличились, особенно на Украине, своими бандитскими действиями.
Заигрывание немцев с мусульманами на Кавказе было частью сумасбродных планов Гитлера, направленных к тому, чтобы втянуть в войну Турцию и через Кавказ проникнуть на Средний Восток; на Кавказе предполагалось создать мусульманские войсковые части для участия в операциях, которые имели бы целью втянуть в орбиту Германии весь Средний Восток. С другой стороны, Гитлер, видимо, крайне скептически относился к розенберговским теориям создания «оси Берлин - Тбилиси». В декабре 1942 г. он заявил:
«Не знаю, как поведут себя грузины. Они не принадлежат к тюркским народам. Надежными я считаю только мусульман… Я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов чрезвычайно рискованным делом, но не вижу опасности в создании чисто мусульманских частей… Несмотря на заявления Розенберга и военных, я не доверяю также и армянам»[161].
Вопрос, стали бы или нет сотрудничать с немцами грузины, армяне и азербайджанцы, так и не пришлось уточнить на практике: нам известно лишь, что осенью 1942 г. из представителей этих национальностей было сформировано несколько дивизий для участия в боях в составе Красной Армии, хотя было, конечно, и некоторое число эмигрантов, которые прибыли на Кавказ с немецкой армией и ожидали вступления немецких войск в Баку, Тбилиси и Ереван.
Но немцы все же установили контакт с некоторыми мусульманскими элементами на Северном Кавказе, а также и с буддистскими элементами среди калмыков к востоку от Кубани. Их столица Элиста в редко населенных калмыцких степях была оккупирована немцами около пяти месяцев, и эмигранты, вроде печально известного князя Тундутова, всячески старались сколотить какое-либо подобие калмыцких отрядов для немецкой армии. По отношению к тем горцам Северного Кавказа, среди которых преобладали мусульмане - чеченцам, ингушам, карачаевцам и балкарцам, - немецкая армия проводила «либеральную» политику. Им давали обещания ликвидировать колхозы, открыть мечети и церкви и уплатить за реквизированные товары, причем доверие народа намечалось завоевать «образцовым поведением», особенно по отношению к женщинам. В Карачаевском районе был создан Карачаевский национальный комитет. То же самое происходило и в Кабардино-Балкарии. Хотя немцам не удалось проникнуть глубоко в Чечено-Ингушскую АССР (к югу от Грозного), среди этих двух народностей нашлись отдельные элементы, сочувствовавшие немцам.
Немцы, видимо, сумели набрать среди своих мусульманских друзей на Кавказе лишь очень немного солдат, а когда немецкая армия стала отступать на север, самые активные коллаборационисты, естественно, последовали за ней. Грандиозный план завоевания Среднего Востока с помощью кавказских горцев провалился.
11 февраля 1944 г. Верховный Совет СССР принял постановление о «ликвидации» мусульманских районов. В 1946 г., когда я посетил Кисловодск, Нальчик, Владикавказ и другие города Северного Кавказа, там все еще говорили о «ликвидации» чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. В течение нескольких дней все граждане этих народов были погружены в железнодорожные вагоны и отправлены на восток, как сказал мне в Нальчике один кабардинец. «Страшно было видеть, как их всех отправляют - мужчин, женщин и детей; но организовано это было очень здорово - да, да, ужасно здорово». - «А как с кабардинцами?» - спросил я. «Знаете, - сказал он, - нам удалось отделаться несколькими синяками и шишками. Некоторые из наших людей тоже делали глупости. Одному кабардинскому князю, который жил высоко в горах, не пришло в голову ничего лучшего, как послать великолепного белого коня самому Гитлеру».
Этим пяти народам после смерти Сталина было разрешено вернуться домой[162].
(обратно) (обратно)Часть шестая. 1943-й - Год трудных побед
Глава I. После Сталинграда
С победой под Сталинградом Советский Союз выиграл свою «битву за жизнь», и теперь война вступила уже в совершенно новую фазу. Тревога за окончательный исход войны уже почти совсем исчезла, и наблюдались даже настроения чрезмерного оптимизма и уверенности, как, например, после освобождения Харькова в феврале 1943 г. Но менее чем через месяц советским войскам снова пришлось сдать Харьков.
Эта неудача подействовала как напоминание, что, несмотря на Сталинград, с немцами еще далеко не покончено. Тем не менее никто в СССР уже не сомневался в победоносном исходе войны, и теперь оставался только один вопрос: «Сколько времени для этого понадобится?» А этот вопрос был неизбежно связан с другим - что собираются предпринять Англия и США?
После Сталинграда бывали моменты оптимизма, когда солдаты говорили, что Красная Армия может разбить немцев в одиночку. Такое мнение опроверг сам Сталин, который однажды, в 1943 г., прямо заявил, что не сможет выиграть войну только собственными силами Советского Союза.
В 1943 г. отношение официальных кругов СССР к Англии и Америке стало гораздо лучше, чем в 1942 г., когда беспокойство за окончательный исход битвы под Сталинградом вызывало у них вспышки гнева, как это было в связи с Гессом. В 1943 г. уже можно было предвидеть победу, хоть и отдаленную, и важно было вместе с Англией и Америкой приступить к подготовке планов мирного урегулирования. Переговоры были начаты и в конце концов привели к Тегеранской конференции. Советская печать уделяла немало внимания победам союзников в Северной Африке. Хотя это и не было еще вторым фронтом, победы союзников никак нельзя было считать незначительными, особенно потому, что они, как и бомбежки Германии, безусловно, оттягивали с Восточного фронта хотя бы часть немецких войск.
Другим фактором, который значительно способствовал более дружественному отношению к союзникам, явился очень большой рост поставок по ленд-лизу в 1943 г. Если в момент битвы за Сталинград у Красной Армии было еще очень мало снаряжения, поставленного союзниками, то теперь положение изменилось. Помимо того что советские военно-воздушные силы получили с Запада значительное количество бомбардировщиков и истребителей, в Красной Армии теперь повсюду имелись «доджи», «студебеккеры» и джипы, а снабжение армии продовольствием в значительной мере облегчалось получением американских продуктов. Это давало немало поводов для острот: так, свиную тушенку неизменно называли «вторым фронтом», а яичный порошок называли «рузвельтовскими яйцами». И тем не менее русские были рады этим продуктам.
После Сталинграда значительно активизировалась также и советская внешняя политика. В 1942 г. Советское правительство постаралось избежать крупных неприятностей в отношениях с другими странами. Временами критиковались действия Турции и Швеции, но эта критика ни разу не приняла масштабов «кампании»; отношение к Японии, находившейся в то время в состоянии войны с Англией и США, было исключительно тактичным и осторожным, поскольку - по крайней мере вплоть до октября - нельзя было полностью исключать возможность удара в спину со стороны Японии. Крайняя сдержанность проявлялась на протяжении всего 1942 г. по отношению к польскому эмигрантскому правительству в Лондоне; почти ничего не сообщалось также и об отъезде из России армии Андерса.
Но вскоре после Сталинграда позиция СССР по отношению к правительствам других стран стала более дифференцированной. Если оставить в стороне Японию, с которой советские власти по-прежнему держали себя официально, но вежливо, стала проводиться четкая грань между «хорошими» и «плохими» правительствами. Польское правительство в Лондоне относилось к последней категории, и в феврале 1943 г. против него была развернута настоящая кампания, которая вскоре привела к разрыву (или, скорее, «временному прекращению») дипломатических отношений. За этим последовало формирование на советской территории польской армии, независимой от эмигрантского правительства. Можно было, конечно, предвидеть, что эти неприятности с польской эмиграцией создадут значительные осложнения и в отношениях с Англией и Америкой, но русские пытались, причем небезуспешно, «локализовать» эту ссору, хотя бы временно. В Тегеране обсуждение польской проблемы было отложено.
С другой стороны, дружеские отношения складывались у СССР с чехами, югославами и французами. Все они были представлены боевыми частями на советском фронте, причем особенно широко освещались действия французской воздушной эскадрильи «Нормандия». Эта эскадрилья доблестно сражалась на протяжении всего 1943 г. и понесла очень тяжелые потери. Она как бы символизировала собой солидарность между Советским Союзом и всеми странами оккупированной Европы.
После Сталинграда резко изменилось и отношение советских властей к сателлитам Германии. Разгром румынских и итальянских войск на Дону в период с ноября по январь и огромные потери, нанесенные венграм под Касторным несколько позднее, явились тяжелым ударом для фашистской Германии. Теперь гитлеровская «великая коалиция» в военном смысле фактически прекратила свое существование. Оставалось еще некоторое количество профашистских венгерских войск, оставались финны, но эти последние стояли особняком, ибо вели свою «собственную», «самостоятельную» войну. Две трети венгерских войск в Советском Союзе были уничтожены; Венгрия переживала политический кризис, и ее правительство уже пыталось «выйти из войны». Русские стали все более внимательно присматриваться ко всему, что свидетельствовало о нараставшем сопротивлении немцам в странах-сателлитах.
Короче говоря, после Сталинграда почва для активности СССР на международной арене была уже подготовлена. Знаменательно, что именно в 1943 г., спустя лишь несколько месяцев после Сталинграда, было принято решение о роспуске Коминтерна, бездействовавшего по меньшей мере уже два года. Это было необходимой предпосылкой для того внешнеполитического курса, к осуществлению которого приступило теперь Советское правительство.
Сталинградская. победа вызвала также ряд других перемели. Если в 1941 и 1942 гг. советская пропаганда сосредоточивала основное внимание на России, на великих русских национальных традициях, которым угрожала опасность, и т.д., то после Сталинграда снова вступило в свои права слово «советский». Все чаще стали подчеркивать, что такая победа, как Сталинградская, явилась не только результатом «русского мужества»: одно это мужество, как показала война 1914-1918 гг., могло ничего и не дать, если бы за ним не стояла мощная советская организация. А что было становым хребтом этой организации, как не партия?
Другим событием после Сталинграда явилось систематическое создание Сталину репутации военного гения. Именно после Сталинграда, но не раньше.
Здесь полезно будет оглянуться немного назад. Годы индустриализации, коллективизации и первых пятилеток были трудными для советского народа. Но к 1936 г. - году принятия новой Конституции - «жить стало лучше, жить стало веселей». Вся заслуга в этом приписывалась Сталину, и это способствовало огромному росту его личного авторитета. «Тридцать седьмой год», кульминационный период чисток, оставил о себе страшную память. И все же личный престиж Сталина пострадал поразительно мало. В то время советский народ остро ощущал угрозу со стороны «капиталистического окружения», и прежде всего нацистской Германии, и бесчисленное множество людей, по-видимому, верило, что нет дыма без огня и что для широких открытых процессов Каменева, Зиновьева, Рыкова, Пятакова, Бухарина, Радека и других были, должно быть, какие-то основания. Многие также, в том числе и многие из арестованных, искренне верили, что несправедливости в большой мере творились без ведома Сталина и что повинен в них был сначала Ягода, а затем Ежов. Когда чистки стали более или менее подходить к концу и в 1939 г. исчез Ежов, которого заменил Берия, стали распространяться слухи, что чистки пресек сам Сталин.
Прославлению Сталина способствовали улучшение экономических условий, наличие больших достижений в развитии промышленности и росте оборонной мощи СССР.
Советско-германский пакт 1939 г. был воспринят советскими людьми сдержанно, но расценен ими как наименьшее и неизбежное зло. Известное удовлетворение доставили широким массам воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии и вступление в СССР Прибалтийских республик. В то же время, бесспорно, возрастало и чувство тревоги, особенно после быстрого падения Франции, а еще больше после вторжения Германии в Югославию и Грецию. Однако все еще было широко распространено убеждение, что Сталин, «хозяин», знает, что делает.
А затем началась война, которая первое время казалась каким-то апокалиптическим бедствием. Миллионы людей стали задумываться над тем, как «великий» и «мудрый» Сталин мог допустить, чтобы все это случилось. Уж не произошла ли где-нибудь страшная ошибка в расчетах? Говорят, будто и Сталин сначала потерял голову. Но если он и почувствовал отчаяние, то он его, безусловно, не проявил - разве только однажды, в письме к Черчиллю в августе 1941 г. Выступление Сталина по радио 3 июля, несмотря на его тревожный тон, оказало успокаивающее воздействие на страну. Население, видимо, считало, что как бы там ни было, но Сталин с народом. И народ признал руководство Сталина.
В первые месяцы войны, вплоть до победы под Москвой, в печати значительно меньше упоминали о Сталине и его портреты появлялись в газетах редко. Но после победы под Москвой его престиж снова сильно возрос. В его пользу, безусловно, говорили два обстоятельства: во-первых, то, что он не потерял голову 16 октября и не бежал из Москвы; мысль, что «Сталин остался с нами», оказала очень большое психологическое воздействие и на население Москвы и на армию. Во-вторых, 7 ноября состоялся парад войск на Красной площади, где он произнес речь, которая была проникнута духом русского патриотизма и произвела огромное впечатление на народ. Для армии Сталин сделался - больше, чем в прошлом, - чем-то вроде отца. И солдаты действительно шли в бой с кличем: «За Родину, за Сталина!» Писатель Виктор Некрасов, который не любил Сталина, ибо в период чисток потерял многих своих друзей, говорил мне в 1963 г., что и он вел своих солдат в бой с этим кличем. Сталин, как он сказал, страшно напутал в начале войны, но все же впоследствии народ чутьем осознал, что это человек со стальными нервами, который в самый тяжелый для страны момент не потерял голову.
После битвы под Москвой престиж Сталина поднялся. Но в это время Сталин готов был делить заслугу победы под Москвой с другими, особенно с генералами, вроде Жукова и Рокоссовского.
Затем наступило «трудное лето» 1942 г. В известном смысле Сталин попал в еще более тяжелое положение, чем в 1941 г. Сильнейшим его аргументом в 1941 г. было то, что мощная армия, внезапно нападающая даже на самую сильную страну, располагает огромным начальным преимуществом. Но теперь, в 1942 г., этот аргумент уже потерял свою силу, если не считать того, что советская экономика все еще продолжала испытывать последствия потери обширной территории и многих ресурсов. Поэтому, когда настали «трудные дни» - сначала падение Керчи, поражение под Харьковом и потеря Севастополя, а потом наступление немцев на Сталинград и их проникновение на Кавказ, - потребовались уже новые объяснения. Как мы видели, теперь неудачи объяснялись прежде всего отсутствием второго фронта в Западной Европе, а также некоторыми недостатками самой Красной Армии, слабой дисциплиной, плохим руководством и т.д. Реформы, проведенные в армии после падения Ростова, начавшие творить чудеса, фактически были делом рук не лично Сталина, а целого коллектива советских военных руководителей. Но заслуга их проведения тоже была приписана Сталину. Именно это наряду с его приказом «Ни шагу назад!» и создало представление, что теперь, когда Сталин взял дело в собственные руки, все пойдет хорошо.
Утверждение Хрущева, что Сталин якобы не разбирался в военном деле, а равно и высказывания иностранных наблюдателей о том, что, будучи вежливым по отношению к иностранцам, с русскими, какое бы положение они ни занимали, он держал себя крайне грубо, кажутся нам несостоятельными. Они опровергаются воспоминаниями маршала Еременко о заседании Государственного Комитета Обороны, которое состоялось в первую неделю августа 1942 г., непосредственно перед битвой за Сталинград[163].
Из этого весьма интересного описания вытекает ряд важных выводов: во-первых, что Государственный Комитет Обороны осуществлял работу коллегиально; во-вторых, что Сталин хорошо разбирался в военном деле (это впечатление подтверждается Черчиллем, Гопкинсом, Дином и многими другими); в-третьих, что он и лица, работавшие с ним, поддерживали прямую связь со всеми фронтами и каждый день должны были принимать важнейшие решения и что, наконец, несмотря на моменты нервозности и раздражения, вполне понятные в крайне критической обстановке, сложившейся в августе 1942 г., Сталин умел хорошо слушать, когда у его генералов было что сказать. Не свидетельствует рассказ Еременко и о том, что в мрачные дни 1942 г. Сталин держал себя надменно или подчеркивал свое превосходство: наоборот, он умел относиться к людям дружески и заботливо. Его ближайшими соратниками в 1942 г. были, как нам известно, Жуков и Василевский, и планы контрнаступления под Сталинградом готовили фактически они - с благословения Сталина.
Об этом совершенно ясно было сказано в официальных сообщениях; о сталинградских операциях, и новые выражения, как, например, «сталинская стратегия», «сталинская школа военной мысли» и даже «сталинский военный гений», впервые стали появляться в советской печати, и отнюдь не исключая «Красной звезды», лишь в феврале 1943 г. О том, что думали об этом военные специалисты, можно только гадать. Но именно эти первые высказывания в советской печати, вскоре после Сталинграда, о «сталинском военном гении» положили начало новому процессу, который привел к некоторым неожиданным и в конечном счете крайне пагубным результатам.
Разгром 6-й немецкой армии под Сталинградом был частью широкого военного плана, «оптимальной» целью которого было обеспечить продвижение Красной Армии на широком фронте до Днепра еще до наступления весны. Задолго до капитуляции немцев под Сталинградом на целом ряде участков советские войска продвинулись на запад. Но с начала января сопротивление немцев на Дону и к востоку от Ростова значительно усилилось и план закрытия Ростовской горловины не удалось осуществить. Войска Южного фронта освободили Ростов лишь в середине февраля, а к этому времени немецкие войска, находившиеся на Кавказе, частью закрепились на Таманском полуострове, частью «ускользнули» через Ростовскую горловину на запад.
Гораздо более успешно - по крайней мере пока не началось контрнаступление немцев - проходили операции Красной Армии в верховьях Дона и в восточных районах Украины. 26 января Воронеж (превратившийся к этому времени в груду развалин) был освобожден войсками Воронежского фронта под командованием генерала Голикова, а первая половина февраля ознаменовалась рядом быстро следовавших одна за другой побед советских войск. После освобождения Воронежа они полностью разгромили 2-ю венгерскую армию к западу от Воронежа, под Касторным, где было убито и взято в плен свыше 100 тыс. венгров; немецкие комментаторы не отрицают, что при разгроме под Касторным венгерские части на Восточном фронте были почти полностью разгромлены. Хотя на юге (то есть к северу от Азовского моря) немцы прочно удерживали рубеж по реке Миус, прикрывавший южную часть Донбасса, однако советские войска теперь уже продвигались широким фронтом на севере, между Воронежем и Богучаром, освободив Курскую область и проникнув в северо-восточную часть Украины и в северный район Донбасса с востока и северо-востока. Валуйки, Лисичанск, Изюм и крупный центр машиностроительной промышленности Краматорск (хотя и он также лежал в развалинах) были освобождены русскими в первую неделю февраля, а несколько дней спустя они заняли также Волчанск, Чугуев и Лозовую, 16 февраля после тяжелых боев войска Голикова вступили в Харьков, четвертый по величине город Советского Союза. Тем временем дальше к югу войска Юго-Западного фронта под командованием Ватутина освободили крупный промышленный центр Луганск, а войска Южного фронта под командованием Малиновского освободили Новочеркасск и Ростов. После занятия Харькова войска Голикова и Ватутина продолжали наступать и с захватом Павлограда 17 февраля уже близко подошли к Днепру; оставалось каких-нибудь 36 км. Именно на этом этапе немцы стали готовиться к контрнаступлению, своему «реваншу за Сталинград». И действительно, в марте захваченным врасплох русским пришлось оставить часть территории, которую они вернули себе во время зимнего наступления, в том числе Харьков.
В период между победой под Сталинградом и первыми признаками готовящегося контрнаступления немцев настроение в СССР было приподнятым. Перспектива отвоевать у немцев до наступления весны весь Донбасс и достичь Днепра представлялась весьма заманчивой, а освобождение Курска и Харькова превосходило даже самые радужные надежды. В советской печати появилось множество статей о важности освобождения Донбасса, который обеспечил бы стране уголь и сталь. Тон печати стал еще более ликующим после освобождения Харькова; 17 февраля «Красная звезда» писала:
«Взятие Харькова - новая замечательная победа советского оружия, торжество сталинской стратегии, уже принесшей богатые плоды нынешней зимой. Враг судорожно держался за Харьков… На реке Северный Донец немцы пытались задержать наши наступающие части… но три немецких оборонительных пояса были прорваны один за другим.
Отчаянное сопротивление немецких дивизий, носящих громкие названия «Рейх», «Великая Германия», «Адольф Гитлер», было сломлено в жестоких уличных схватках… Теперь уже мы, а не немцы планируем дальнейший ход войны».
Два дня спустя та же газета превозносила-мастерство Красной Армии, которая не только освободила огромные советские территории, но при этом неизменно окружала и уничтожала силы противника; так, итальянцы были окружены и разгромлены под Миллеровом, а венгры - под Касторным, не говоря уже о разгроме немцев под Сталинградом. И опять в газете говорилось о «Каннах», где Ганнибал с его 50 тыс. карфагенян разгромил армию римлян, насчитывавшую 70 тыс. человек. «Канны» стали одним из элементов стратегии Красной Армии. Все случившееся за последние месяцы, писала «Красная звезда», окончательно доказало, что «пресловутое превосходство немецкой военной мысли» оказалось мифом, хотя этот миф не был разоблачен даже после войны 1914-1918 гг. Теперь же настало торжество «сталинской стратегии». Знаменательно, что вскоре после занятия Харькова Сталину было присвоено звание Маршала Советского Союза.
В течение этих недель ликования в феврале 1943 г. советская печать особенно подчеркивала заслуги коммунистической партии.
Так, в самый разгар торжеств по поводу взятия Харькова, 19 февраля, «Красная звезда» писала:
«Партия бросила в бой лучших своих сынов. Сколько раз в кризисные моменты сражений, и под Москвой в 1941 г., и под Сталинградом в 1942 г., стойкость и отвага коммунистов спасали положение! Партийные организации - это становой хребет наших войск… Все блистательные успехи нашей военной мысли… объясняются прежде всего тем, что в основе военной доктрины Красной Армии лежат испытанные принципы самого мудрого… учения в мире - учения Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина».
По мере приближения войны к победоносному концу концепция «советского патриотизма» все больше и больше заменяла собой концепцию «русского патриотизма» мрачных дней 1941-1942 гг. А символом этого советского патриотизма все больше и больше становился Сталин.
Показательно, однако, что Сталин никогда полностью не забывал о страшных днях 1941 и 1942 гг., когда ему, чтобы спасти положение, пришлось почти исключительно рассчитывать на чисто русский патриотизм, и в конце войны он выделил русских как народ, проявивший самую большую волю к победе и к защите Советского государства.
Глава II. Немцы на Украине. Харьков в период оккупации
Теперь, когда Красная Армия начала гнать немцев из Советского Союза, и в частности с Украины, мы должны ознакомиться с политикой немцев на оккупированных территориях, если только ее можно назвать политикой, ибо в действительности это была непрерывная цепь жестокостей и глупостей, иногда основанных на самых нелепых аспектах нацистской идеологии. Так, уже 16 июля 1941 г. Гитлер решил, что Крым должен стать чисто немецкой колонией, откуда всех «иностранцев» надлежит выслать или эвакуировать. Крыму предназначалась роль «немецкого Гибралтара» на Черном море. По мнению начальника немецкого Трудового фронта и руководителя организации «Сила через радость» Роберта Лея, Крым должен был стать гигантским курортом, излюбленным местом отдыха для немецкой молодежи. Позже Гитлер тешил себя также мыслью урегулировать с Муссолини южнотирольскую проблему путем переселения в Крым тех жителей итальянского Тироля, родным языком которых был немецкий.
После падения Севастополя в июле 1942 г. «герою Крыма» Манштейну был подарен один из бывших царских дворцов «крымской Ривьеры». Одним из самых сумасбродных «открытий» Розенберга было то, что с геополитической точки зрения Крым является-де частью германского достояния, ибо именно в Крыму еще в XVI веке жили последние готы. В декабре 1941 г. он предложил Гитлеру переименовать Крым в «Готенланд».
«Я сообщил ему, что думаю также о переименовании городов. Я считал, что Симферополь можно было бы назвать Готенбургом, а Севастополь - Теодорихгафеном…»[164]
Но, каковы бы ни были планы Гитлера на послевоенный период, пока шла война, было не совсем удобно приступать к поголовной эвакуации из Крыма «иностранцев», тем более что крымские татары не только охотно сотрудничали с немцами, но и давали вермахту некоторое число солдат.
Однако по сравнению с Украиной Крым все же был побочной проблемой. Украина представляла собой огромную территорию, насчитывавшую до войны почти 40 млн. населения, и за ней твердо установилась репутация «житницы» страны и источника угля, железной руды и стали.
Нет смысла подробно рассматривать здесь все и всякие противоречивые мнения различных представителей нацистской иерархии по вопросу о том, что надо было сделать с Украиной. Розенберг вначале явно пытался проводить грань между «плохими» великорусами и украинцами, которых-де можно использовать в качестве оплота против русских. В начале 1941 г. Розенберг выдвинул бредовую, как всегда, теорию, что Киев был когда-то центром варяжского государства, чем и объясняются резко выраженные «нордические черты», а стало быть, и расовое превосходство украинского народа над русским. Потом, в мае, он разработал инструкции для будущих немецких властей на Украине. Несколько отступив от выдвинутой им прежде задачи немедленного создания самостоятельного государства, он наметил теперь два этапа; во время войны Украина должна была поставлять рейху товары и сырье, а впоследствии «свободное украинское государство, в теснейшем союзе с германским рейхом», стало бы обеспечивать влияние Германии на востоке:
«Для достижения этих целей одну проблему… необходимо разрешить как можно скорее: украинских писателей, ученых и политических деятелей надо заставить заняться работой по возрождению украинского исторического самосознания, чтобы преодолеть результаты пагубного большевистско-еврейского нажима, осуществлявшегося все эти годы на украинский народ».
Частью этой программы было создание в Киеве нового «большого университета» и технических академий, широкое чтение лекций на немецком языке, запрещение русского языка и усиленная пропаганда немецкого языка и культуры. Розенберг говорил, что будущее «украинское государство» должно простираться от «Львова до Саратова на Волге»[165].
Этот «либеральный» на первый взгляд план Розенберга, как и все его последующие варианты, не встретил, однако, одобрения со стороны Гитлера, Геринга, Гиммлера, так же как и рейхскомиссара Украины Эриха Коха, подчеркнуто основавшего свою резиденцию в провинциальном украинском городе Ровно, а не в Киеве, который он не намерен был сделать даже похожим на «столицу». Ни один из высших нацистских руководителей, кроме самого Розенберга, не принимал всерьез всяких уже много лет толпившихся вокруг Розенберга эмигрантов, вроде дряхлого старика Скоропадского, которого еще в 1918 г. немцы назначали гетманом Украины. Даже Бандеру, украинского буржуазно-националистического «лидера» Западной Украины и заклятого врага поляков и евреев, немцы в начале войны арестовали и отправили в Берлин, где он и был интернирован вплоть до 1944 г., когда немцы, оказавшись в очень трудном положении, решили, что даже он им, может быть, пригодится. Тем временем Западная Украина была попросту включена в состав польского «генерал-губернаторства», управлявшегося немцами.
Для Гитлера, Геринга, Гиммлера и Эриха Коха украинцы, как и русские, были «недочеловеками». Говорят, что Геринг однажды сказал: «Лучше всего было бы перебить на Украине всех мужчин… а затем послать туда эсэсовских жеребцов».
В 1941 г. его также очень радовала перспектива, что в будущем году в России умрет от голода 20-30 млн. человек. Кох, представитель самого крайнего направления теории «недочеловеков», был назначен правителем Украины по настоянию Геринга.
После занятия немцами Украины кучка украинских буржуазных националистов какое-то время еще пыталась подавать свой голос, особенно в таких местах, как Харьков, которые номинально оставались пока под юрисдикцией армии, а не Коха. Но им никто не оказал серьезной поддержки.
Для немцев Украина была, во-первых (и главным образом), источником продовольствия, во-вторых, источником угля, железа и других полезных ископаемых и, в-третьих, источником рабского труда.
Однако сельскохозяйственных продуктов с Украины поступало в Германию гораздо меньше, чем немцы рассчитывали, а их попытки возродить Донбасс, Кривой Рог и другие промышленные районы закончились полным фиаско; фактически немцам пришлось посылать уголь на Украину из Германии! И в сельском хозяйстве, и в промышленности они сталкивались с упорным сопротивлением населения; к тому же в сельском хозяйстве не хватало техники, и немцам пришлось завезти на Украину некоторое количество сельскохозяйственных машин; многие промышленные предприятия были эвакуированы на восток, на тех угольных шахтах и железных рудниках, которые советские войска не вывели из строя при отступлении, немцам пришлось столкнуться с нехваткой квалифицированной рабочей силы (поскольку многие шахтеры были тоже эвакуированы) и с сопротивлением тех шахтеров, которые еще оставались там.
По данным немецкой статистики, общая стоимость всех продуктов (кроме сельскохозяйственных), отправленных в Германию с востока (то есть из всех оккупированных районов советской территории, а не только с Украины), составила 725 млн. марок. С другой стороны, из Германии было вывезено на восток на 535 млн. марок угля и оборудования; таким образом, чистая прибыль составила всего 190 млн. марок! К этому следует прибавить еще различные местные поставки немецким войскам, оцениваемые в сумме 500 млн. марок, но даже в этом случае общий итог остается не слишком внушительным. По подсчетам Даллина, основанным на официальных немецких статистических данных, даже вместе с сельскохозяйственными поставками «контрибуции, полученные рейхом с оккупированных восточных территорий… составили лишь одну седьмую того, что рейх получил за время войны из Франции!»[166].
Даже если большая часть того, что немцам удалось получить с оккупированных советских территорий, шла с Украины, все равно эта огромная богатая страна не дала рейху, не дала фашистам того, на что они рассчитывали. Население Украины не проявляло готовности даже к простому экономическому сотрудничеству[167].
Для немецкой оккупации Украины характерны были два явления - массовое истребление евреев и отправка миллионов молодых украинцев для рабского труда в Германию.
Если бы промышленность Донбасса, Криворожья и Запорожья и можно было пустить в ход (несмотря на то, что рабочий класс, или, вернее, то, что от него осталось, был настроен по отношению к немцам еще более враждебно, чем остальное население Украины), такая возможность исключалась еще из-за политики Заукеля, который обескровил промышленность на востоке, отправив всю наличную рабочую силу в Германию.
Отправка рабов с Украины началась в широких масштабах уже в феврале 1942 г.
Мы еще вернемся к вопросу об оккупационной политике немцев и о методах, применявшихся ими на советской территории, и на Украине в частности. А сейчас я приведу один из примеров того, как эти методы выглядели в чисто человеческом плане. Это рассказ о моей поездке в Харьков после того, как советские войска первый раз, причем на очень короткий срок, освободили его в феврале 1943 г., в самый разгар своего наступления после победы под Сталинградом.
До войны кое-кто спорил, является Харьков третьим или только четвертым по величине городом Советского Союза; по некоторым данным, в нем проживало на несколько тысяч человек больше, чем в Киеве. Но как бы то ни было, в феврале 1943 г. Харьков стал первым городом с почти миллионным населением, освобожденным от немецкой оккупации, а это уже само по себе было исключительно интересно. Как такой город жил полтора года под властью фашистов?
До войны это был крупный промышленный центр, но осенью 1941 г. его тяжелая промышленность была почти целиком эвакуирована. В национальном отношении город был преимущественно украинским, но почти треть его жителей составляли русские.
В феврале 1943 г., когда я поехал в Харьков, город был освобожден еще очень непрочно; советские линии коммуникаций были растянуты и находились в очень плохом состоянии; нельзя было исключать и угрозу немецкого контрнаступления.
Для немецкой оккупации Харькова (который находился в «военной зоне» и не был подведомствен Эриху Коху) были характерны следующие моменты:
сильнейший голод среди гражданского населения, особенно в первую зиму оккупации;
террор, особенно против людей, подозревавшихся в просоветских настроениях;
истребление евреев;
терпимость к «черному рынку», на котором очень активно действовали немецкие солдаты;
полное нежелание немецких властей поощрять какие-либо украинские националистические движения и в то же время стремление посеять рознь между украинцами и русскими;
искоренение русской и украинской культурной жизни и упразднение всякого образования (если не считать нескольких начальных школ);
известное поощрение кустарей и лавочников, но лишь очень вялые попытки немецких деловых кругов восстановить Харьков в качестве крупного промышленного центра;
стремление части украинской мелкой буржуазии (типа кустарей и лавочников) всеми силами приспособиться к трудным условиям, а главное выжить;
крайнее недовольство немцами из-за массовой отправки молодежи в Германию для рабского труда;
существование советского подполья и широкое распространение антинемецких настроений в городе, в первую очередь среди детей и подростков, лишившихся возможности учиться.
Те органы «местного управления», которые существовали в городе - украинский бургомистр и его городской совет, - всецело подчинялись немецким военным властям.
В этот вечер, через несколько дней после вступления Красной Армии в Харьков, фронт все еще проходил очень близко от города, и в течение получаса перед посадкой наш самолет летел под прикрытием истребителей.
Таяло. Большие кварталы домов около аэродрома полностью выгорели. На аэродроме валялись остатки «хейнкеля», но здесь же стояло полдесятка советских истребителей в полной боевой готовности. Два из них только что сопровождали наш самолет. Но сам аэродром был в очень плохом состоянии: ангаров и других сооружений не осталось. Молодой сержант авиации, покачивая головой, сказал: «Нам тут очень трудно. Из-за этой оттепели все дороги развезло, и даже бензин приходится доставлять по воздуху… Уходя, немцы все разрушили на аэродроме. Они причинили большой ущерб и Харькову своим воздушным налетом через день после того, как мы их отсюда выбили…»
От аэродрома до Харькова было далеко. Большинство крупных зданий по дороге выгорело, хотя небольшие домики с огородами сохранились. Дорога показалась нам бесконечной. Мы проехали несколько километров по пригородным и городским районам, пока не добрались до центра, выделявшегося высокой церковной колокольней, а дальше налево, высоко на холме, группой небоскребов по 14-16 этажей, построенных за короткий период конструктивизма в конце 20-х годов. Это были высотные здания на площади Дзержинского. Но, как мы обнаружили на следующий день, большинство из них немцы сожгли перед отступлением, и только два дома, где раньше помещались некоторые центральные руководящие органы промышленности Украины, остались неповрежденными, хотя, уходя, немцы их заминировали.
Нас поместили в небольшом домике хорошей архитектуры в жилых, почти неповрежденных кварталах Сумской улицы - главной улицы Харькова. Дом охраняли с полдюжины бравых солдат с пистолетами и автоматами. Считалось, что в Харькове далеко не безопасно и кругом могло быть множество немецких шпионов и агентов. Это были солдаты из дивизии генерала Зайцева, которая первой ворвалась в Харьков, и они были очень довольны своими успехами.
В доме, как и в большинстве домов Харькова, не было ни электричества, ни воды. Пришлось сидеть при свечах, а воду приносили откуда-то в ведрах.
До войны в Харькове жило 900 тыс. человек, но когда война докатилась до Украины и с запада начали стекаться беженцы, население города сразу увеличилось до 1200-1300 тыс. человек. Позднее, в октябре 1941 г., когда стали приближаться немцы, началась спешная эвакуация Харькова. Большинство крупных заводов, включая и огромный тракторный завод почти со всеми его рабочими, было более или менее успешно эвакуировано. К моменту прихода немцев в городе оставалось около 700 тыс. человек. Сейчас жителей было уже только 350 тыс. Что же случилось с остальными?
Советские власти объясняли исчезновение половины населения, остававшегося в городе в октябре 1941 г., следующими причинами: было установлено, что 120 тыс. человек, в большинстве своем молодежь, были угнаны в рабство в Германию; около 70-80 тыс. погибли от голода, холода и лишений, особенно в страшную зиму 1941/42 г.; около 30 тыс. было убито немцами, включая 16 тыс. оставшихся в Харькове евреев (мужчин, женщин и детей), остальные скрылись в деревнях. Проверка, которую я провел в последующие дни, показала, что данные о погибших от голода и т.п., как и данные о расстрелянных жителях - неевреях, были несколько (правда, немного) преувеличены, но в отношении евреев цифра была точной. С другой стороны, данные об отправленных в рабство в Германию были, безусловно, занижены.
На следующий день липы и тополя на Сумской улице покрылись инеем. Тополя! Это была Украина, юг, половина пути от Москвы до Черного моря. Повсюду еще виднелись немецкие объявления: «Стоянка запрещается», «запрещается» то, «запрещается» это. Названия улиц были тоже на немецком языке, а на одном доме висела зловещая вывеска: «Харьковская биржа труда». Здесь происходила мобилизация людей, угонявшихся в Германию.
На площади Дзержинского с ее огромными выгоревшими или заминированными домами стояли толпы людей; почти все были плохо одеты, измождены, с явными следами сильнейшего нервного истощения. Только ребята, собравшиеся толпами, выглядели нормально, и все они были веселы и общительны. Но, глядя на взрослых, легко было поверить, что многие тысячи людей умерли от голода - даже здесь, в этом богатом районе Украины.
Все эти люди на улицах Харькова были необыкновенно разговорчивы - чувствовалось, что каждый из них хочет рассказать что-то свое. Помнится, например, один уродливый, очень больной на вид маленький человечек. Он сказал, что вскоре после прихода немцев его арестовали и продержали под замком в гостинице «Интернационал» (теперь она сгорела), на этой самой площади, целые две недели почти без пищи. Затем его освободили. Но это было ужасно, каждую ночь он слышал, как людей уводили на расстрел: многие из них были коммунисты. До войны он был оптик; наконец немцы дали ему работу на большой харьковской электростанции, которая перешла в руки крупного немецкого концерна, но, поскольку советские рабочие вывезли все оборудование, немцам пришлось доставить сюда свое собственное. Раз в день рабочие получали горячую пищу, а хлеба по карточкам давали 300 г. «Платить, - сказал он, - полагалось 1 руб. 70 копеек за час, но, когда я через две недели пошел получать зарплату, немецкий чиновник подал мне 75 рублей. Когда я стал возражать, немец сказал: “Вычли налоги; можешь не брать, если не хочешь; еще одно слово, и я тебе дам в морду”». В дальнейшем он перебивался, продавая на рынке очки.
Ясно было, что тысячи людей ухитрялись сводить концы с концами торговлей на «черном рынке»: торговать приходилось всем - и тем, кто работал, и тем, у кого не было работы. «Если у вас были деньги, - сказала одна женщина, - то у немецких солдат можно было купить что угодно. Ручных часов у них были дюжины. Они их снимали у людей на улицах, а затем продавали на рынке». - «И не только часы, - добавила другая женщина. - Среди бела дня мою дочь остановил немецкий солдат; ему приглянулись ее туфли, и он велел ей снять их. Он их продал на рынке или отправил домой». - «Вашей дочке повезло, - сказал маленький человечек, - или она очень некрасивая. Они часто заставляли девушек следовать за ними». Многие из стоявших кругом закричали, что так оно и было и, что еще хуже, девушек силой загоняли в солдатские дома терпимости; немцы просто шли и выбирали хорошеньких девушек в очередях у «биржи труда». И в городе теперь, конечно, много случаев венерических заболеваний…
Затем люди стали рассказывать о казнях. О публичных казнях через повешение. Именно это, по-видимому, произвело на них самое глубокое впечатление. На углу Сумской улицы и площади Дзержинского стояло большое выгоревшее здание, в котором в дни оккупации помещалось гестапо. И вот несколько женщин стали взволнованно рассказывать, как в ноябре 1941 г. население созвали на площадь, чтобы зачитать объявление, а когда толпа собралась, нескольких человек сбросили с балконов здания гестапо с петлями на шеях, привязав концы веревок к перилам балкона. В городе были предатели, они-то и выдали немцам этих «красных».
Еще две-три женщины рассказали, какими разболтанными и деморализованными стали дети. Школы были закрыты, и ребятам приходилось нищенствовать на улицах или, у кого были маленькие ручные тележки, возить на них вещевые мешки и чемоданы немецких солдат или пакеты с «черного рынка», зарабатывая этим по нескольку рублей. «Половина наших, - сказала одна женщина с бледным лицом, - посылала своих детей самих зарабатывать себе на жизнь… Детишки, голодные, вынуждены были сами о себе заботиться - слыхали вы когда-нибудь подобное? При советской власти детям у нас давали все лучшее, а при этих немецких свиньях что стало? Теперь многие из этих ребят станут бездельниками, ворами и хулиганами. Но что им оставалось делать, когда кило хлеба на «черном рынке» стоило 150 рублей?»
Затем я разговорился с неким Черепахиным, рабочим на вид, который заявил, что во время оккупации он был в коммунистическом подполье, и рассказал много ужасающих историй о гестапо. В Харькове ему пришлось сталкиваться с некоторыми итальянцами, и те были совсем не такие, как немцы. Они ненавидели немцев, и он был убежден, что итальянцы вскоре выйдут из войны. «Многие из этих итальянцев были по-настоящему порядочные ребята, - сказал он. - Я достал одному из них струны для гитары, и он позвал меня в дом, где, кроме него жили еще несколько итальянцев; там они ругали Гитлера, играли на гитаре и пели. Еды у них было мало, но они дали мне хорошего вина из бутылки, оплетенной соломой. Хорошие ребята. Но они были несчастны, у них не было даже приличной обуви, и они страдали от холода. Я также разговаривал со многими венграми, большинство из них хорошие парни, и они ненавидят немцев».
«Немцы и их союзники не любят друг друга, - сказал Черепахин. - В главные рестораны Харькова пускали только немцев, а их так называемых союзников не пускали».
Затем он рассказал, как немцы проводили дискриминацию между русскими и украинцами: много украинцев служило в местной полиции - многих завербовали туда скорее насильно. Немцы почему-то предпочитали украинцев русским, хотя фактически украинцы ненавидели оккупантов не меньше, чем русские; даже украинским националистам, которые считали, что при немцах им будет жить замечательно, вскоре пришлось разочароваться.
С одним из них мне довелось поговорить в этот день на улице. Это был пожилой человек, круглолицый, с маленьким красным носиком; на нем было потертое пальто, обтрепанные серые брюки и расползшиеся по швам ботинки. Он сказал, что поступил на работу в городской совет, но нашел, что это не очень-то выгодно. Немцы платили ему только 400 рублей в месяц, а ему надо было содержать жену и детей, и он не мог прожить на эти деньги. Поэтому он и занялся спекуляцией на «черном рынке», ездил за Полтаву и привозил оттуда в Харьков муку. «Уж и натворили дел эти немцы, - сказал он. - Обещали нам новую Европу, да что-то ничего у них не получилось. Возможно, что немцы вернутся, - продолжал он, - но теперь уже никто от них ничего хорошего не ждет. Они упустили возможность». Даже этот маленький коллаборационист мало что получил от немцев…
Имелись, конечно, люди, особенно среди кустарей и лавочников, которые старались, как могли, приспособиться к условиям немецкой оккупации.
Одной такой оказалась женщина-парикмахер, которая приходила по утрам брить нас и офицеров Красной Армии, живших в том же доме. С ней приходил ее помощник, красивый мальчик лет пятнадцати, с голубыми глазами и длинными ресницами. Он относился к немцам гораздо враждебнее, чем она. Он повторил уже знакомую нам историю о том, как немцы вешали людей на балконах, а однажды днем он видел - это было в самом начале оккупации, - как они вели по улицам пятнадцать краснофлотцев. Гитлер велел, сказал мальчик, чтобы большевистских моряков не расстреляли, а утопили. Они были прикованы друг к другу наручниками, и, когда их вели, по обе стороны улицы люди стояли толпами и плакали. Моряки пели песню «Раскинулось море широко». И люди, все еще плача, стали петь вместе с ними. «Немцы, - сказал мальчик, - отвели их со скованными руками к реке и там утопили. Я этого не видел, но мне рассказывали другие…»
Он рассказал мне также, как немцы отвели 16 тыс. евреев - детей и старух, всех без разбору - к кирпичному заводу за городом и там, продержав две недели в лагере, всех убили; они также угоняли тысячи людей в Германию - заталкивали их в железнодорожные вагоны, как скот.
Молодая полная парикмахерша с нарумяненным лицом, накрашенными губами, маникюром и перманентом, облачившаяся теперь в красный берет и белый халат, призналась, что при оккупации ей жилось лучше, чем большинству людей. Она работала в парикмахерской у главного вокзала и 50% своей выручки отдавала хозяину-украинцу. Парикмахерская была маленькая, но работы было очень много. На прошлой неделе парикмахерскую разбомбили вместе с вокзалом и всеми зданиями вокруг. Она была болтлива, как все парикмахеры. «Что при немцах, что без немцев, - сказала она, - как-то жить надо. На триста граммов хлеба не проживешь. У меня четырехлетний ребенок, а муж уже больше трех лет в отъезде. Цены на рынке были просто ужасные - 130-150 рублей кило хлеба. Видели бы вы, как люди радовались в мае - думали, возвращается Красная Армия. Были, конечно, страшные вещи. Все эти повешенные - после этого несколько дней болеешь… И с евреями тоже было ужасно. Их гнали бесконечной вереницей по улицам; многие везли тачки или коляски с младенцами, и все плакали и причитали. Я могла бы еще понять, если бы они хотели выслать куда-нибудь евреев - но так убивать их всех, это уже слишком! - Затем она сказала: - Да, немцы бывают очень злые. Но были среди них и хорошие. А некоторые офицеры прямо с ума сходили по нашим женщинам, совсем голову теряли… Но наши женщины и правда гораздо интереснее немок. Немки эти были настоящие суки. Вели себя так, будто тут все ихнее. Здесь их были сотни. Лучшие квартиры отняли для немецких семей, и они тут с некоторыми украинцами пооткрывали магазины и рестораны… Если у какого-нибудь русского была хорошая квартира, то его обязательно из нее выкидывали…»
Я также узнал кое-что о трагикомедии, которую пережили украинские буржуазные националисты. Когда немцы впервые пришли в Харьков, группа украинских буржуазных националистов открыла газету под названием «Новая Украина». Судя по всему, среди сотрудников этой газеты не было ни одного известного человека: все писали под псевдонимами. Главный корреспондент подписывался именем старого украинского героя - «Петро Сагайдачный». Он возглавлял самозваный Украинский отдел пропаганды. Какое-то время немцы покровительствовали этим людям, но через два месяца сами расстреляли нескольких их главарей. Тем, кто остался в живых, немцы ясно дали понять, что хозяева теперь они. Они внушали это тысячами способов; так, например, все вывески и названия улиц были написаны сверху по-немецки и только внизу (да и то не всегда) по-украински. Хотя в театре ставилась украинская оперетта, программы печатались только на немецком языке. Профессор Харьковского технического института Крамаренко, который стал начальником управы одного из районов Харькова, вначале вел активную агитацию в пользу немцев; он выступал с речами, в которых пропагандировал идею развития «украинского национального самосознания». Когда же он и его друзья убедились, что немцы не заинтересованы в независимости или автономии Украины, они взбунтовались, после чего оккупанты выгнали Крамаренко с его поста и вскоре расстреляли.
Любченко и другие украинские интеллигенты, выпускавшие газету «Новая Украина», вскоре тоже поняли, что они сами себя обманывают; последней каплей явился для них момент, когда немцы в марте 1942 г. приказали им снять с первой страницы газеты гетманский трезубец, символ украинской автономии или независимости. С начала 1942 г., когда немцы стали рассматривать Украину прежде всего как источник рабского труда, не могло уже оставаться никаких сомнений в том, какую политику они будут проводить на Украине,
Для немецкой армии Украина была колонией, где положение подростков-украинцев было похоже на положение арабских мальчишек в Алжире в разгар французского колониализма. Самые молодые, кому советская власть дала больше всего, были и самыми фанатичными врагами немцев, да нельзя было не считаться и с тем, что миллионы украинцев оставались на «другой» стороне, сражаясь в рядах Красной Армии или работая в советской военной промышленности. Но для немецких солдат Харьков был чем-то вроде столицы, и многим из них жилось здесь очень неплохо. Театры посещали главным образом немцы, и в программах это учитывалось. В театрах ставили венскую оперетту, оперу («Аиду» и «Дон-Кихота»), часто устраивали «большие концерты из произведений Вагнера». Большинство артистов были немцы или австрийцы. В городе было множество ресторанов, кафе и домов терпимости; немцы ехали в Харьков целыми семьями, чтобы открыть какое-нибудь «дело». Кое-кому из местных жителей также удалось получить патенты на открытие лавок и киосков, а несколько дельцов завели в разных районах города рестораны и ночные клубы. Оккупация имела, конечно, своих спекулянтов, и не все они были немцами.
Одной из задач немецкой политики на Украине было истребление всей интеллигенции. Плохо обращались немцы с украинскими националистами, но еще хуже была судьба тех, кого они считали просоветски настроенными. Я видел несколько профессоров и преподавателей Харьковского университета и преподавателей 35 других учебных заведений, существовавших там при советской власти. Этим людям удалось выжить в условиях оккупации, но многие из их коллег погибли. Некоторых расстреляли как евреев, или членов партии, или по подозрению, что они члены партии, другие же покончили жизнь самоубийством. Были и такие, кто умер с голоду, особенно зимой 1941/42 г. Перед отступлением немцы уничтожили несколько университетских зданий, а библиотеки и лаборатории разграбили еще до этого. Преподаватели, оставшиеся в живых, кое-как перебивались, изготовляя кустарным способом спички или мыло для продажи на «черном рынке». Все высшие учебные заведения Харькова были закрыты, как и все 137 средних школ; потом разрешено было вновь открыть только 23 начальные школы. Больницы либо обслуживали немецкую армию, либо почти полностью бездействовали из-за отсутствия продовольствия и медикаментов.
Никакого строительства или восстановления разрушенного даже не намечалось. На Украине все постепенно разрушалось, гибло, но ничего не создавалось взамен. Во главе местных органов власти стояли немцы или украинские авантюристы, в некоторых случаях из белоэмигрантов, не обладавшие обычно ни чутьем, ни опытом. Украина была всего лишь источником продовольствия, сырья и рабского труда, хотя сырья и продовольствия оказалось меньше, чем надеялись оккупанты. Советская политика «выжженной земли» в промышленных районах с самого начала создала огромные трудности для немцев; рабочих, готовых работать на фашистов, не хватало, а в 1943 г. в Донбассе им пришлось превратить в шахтеров десятки тысяч советских военнопленных.
В течение этих трех дней обстановка в Харькове становилась все более тревожной. В городе все шире распространялись слухи о начавшемся большом контрнаступлении немцев - слухи, которые вскоре подтвердились официально. Железная дорога на Харьков еще не была восстановлена, и к тому же началась ранняя оттепель.
Харьков был фактически отрезан от тыла.
Правда, советские органы понемногу стали опять открывать школы и больницы и срывать немецкие уличные знаки, но чувство тревоги нарастало в городе с каждым часом.
В конце третьего дня моего пребывания здесь солдаты в нашем доме были уже не такие веселые, как раньше. Немцы, по их словам, развернули широкое наступление под Краматорском и на других участках к западу от Харькова, и в город начало поступать огромное число раненых. Раненые рассказывали, что наступление ведется крупными силами эсэсовских танковых соединений.
На следующий день мы выехали из Харькова с тяжелым предчувствием. Немцы вернулись в город, но не сразу, а через две недели, 15 марта. Эсэсовцы первым делом перебили 200 раненых, находившихся в госпитале, и подожгли его здание.
Вторичный захват немцами Харькова геббельсовская пропаганда назвала «реваншем за Сталинград», но реванш этот был неравноценный. Ранняя оттепель, которая застала Красную Армию врасплох и вынудила Советское Верховное Главнокомандование оставить Харьков, теперь начала работать против немцев. Лед на Донце настолько подтаял, что немецкие танки не могли больше переправляться через реку, а советские войска к этому времени уже закрепились на линии Донца. Здесь фронт более или менее стабилизировался до июля.
(обратно)Глава III. Успехи советской военной экономики. Весеннее затишье 1943 г.
В 1943 г. Красная Армия была уже очень не похожа на Красную Армию 1941 или даже 1942 г. Мы уже писали, что реформы, проведенные в армии после падения Ростова, украсили внешний облик командного состава, повысили его авторитет и укрепили дисциплину в войсках. После Сталинграда общее моральное состояние Красной Армии стало несравнимо выше, чем в 1941 и 1942 гг.; ей еще пришлось пережить немало отчаянно трудных моментов и несколько серьезных неудач, как, например, потерю Харькова в марте 1943 г., но в конечном разгроме немцев уже не могло быть сомнений. Значительно повысилась также боеспособность войск; как сказал Сталин Черчиллю в августе 1942 г., что это еще не очень хорошие солдаты, но они учатся и скоро станут первоклассной армией. Фактически именно в 1942 г. постепенно выработался тип закаленного солдата-фронтовика.
Но это общее повышение боеспособности Красной Армии объяснялось не только психологическими причинами. В 1941 и 1942 гг. у советских войск сложилось глубоко угнетавшее их впечатление, что они вынуждены сражаться против более сильного врага; героизм, мужество, самоотверженность - все это были прекрасные качества, но что они могли дать в борьбе с врагом, чья пехота, оснащенная разнообразным автоматическим оружием, обладала гораздо большей огневой мощью, чем они, и имела гораздо больше танков и самолетов?
Сейчас признается, что производство вооружения в Советском Союзе достигло удовлетворительного уровня только осенью 1942 г. Эвакуация с запада на восток сотен заводов осенью и зимой 1941 г. вызвала почти катастрофическое снижение производства вооружения, чем в большой мере и объяснялись ограниченные результаты контрнаступления под Москвой зимой 1941/42 г. и тяжелые поражения летом 1942 г.
После потери криворожской железной руды, донецкого угля и украинских электростанций на востоке (где теперь размещалось большинство военных заводов страны) наблюдалась серьезная нехватка электроэнергии и металла. Топливных ресурсов всех видов было теперь в два раза меньше, чем до войны. Предприятия черной металлургии Сибири и Урала не могли работать на полную мощность, и в течение первых 8-9 месяцев 1942 г. выпуск танков, самолетов, орудий и боеприпасов был значительно ниже потребностей Красной Армии. Для повышения выпуска продукции приходилось принимать чрезвычайные меры. Надо было спешно закладывать новые шахты и строить новые электростанции; на предприятия Наркомата угольной промышленности было направлено около 200 тыс. плохо подготовленных новичков шахтеров, причем для их снабжения пришлось выделить специальные продовольственные фонды. Десятки тысяч новых рабочих были направлены из различных районов страны на шахты Карагандинского угольного бассейна в Казахстане; в основном это были женщины и молодежь, которых приходилось обучать в возможно кратчайшие сроки. Особого восхищения заслуживало моральное состояние советских женщин, сознававших, что они работают на своих мужей, сыновей и братьев, сражавшихся в рядах армии. Хоть и не такой видный, как победа под Сталинградом, этот колоссальный по масштабам массовый трудовой подвиг, совершенный женщинами во время войны как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, не имел еще себе равного!
Но, несмотря на все эти усилия, в 1943 г. еще ощущалась серьезная нехватка угля, металла и электроэнергии. Хотя в 1943 г. темпы добычи угля на востоке значительно повысились[168], общая добыча угля по-прежнему сильно отставала от уровня 1941 г., составившего 166 млн. т.
Очень невелики в 1943 г. были и нефтяные ресурсы; Майкоп был выведен из строя русскими при отступлении; Грозный с его нефтеперерабатывающей промышленностью сильно пострадал от немецких бомбежек, а так как коммуникации в период битвы под Сталинградом оказались временно перерезаны, многие нефтяные скважины в Баку пришлось законсервировать. С другой стороны, прилагались огромные усилия к тому, чтобы в самые сжатые сроки создать на востоке страны «второй Баку».
Недостаток угля приходилось покрывать (в особенности для транспорта и городского хозяйства) заменителями - торфом и дровами; в Москве тысячи рабочих, служащих и учащихся выезжали на лесозаготовки.
Надо было спешно строить новые промышленные гиганты. Так, в 1942 г. в Челябинске была построена огромная новая электростанция для обеспечения электроэнергией десятков оборонных заводов в большом районе; в том же году на Магнитогорском металлургическом комбинате было закончено строительство новой гигантской доменной печи (знаменитой домны N° 6). Советская машиностроительная промышленность, хотя и потеряла в результате оккупации немцами Украины и других районов половину своего производственного потенциала, к 1943 г. уже в основном преодолела стоявшие перед ней трудности[169].
Все это имело решающее значение для советского военного производства. Прилагались величайшие усилия для того, чтобы создать военно-воздушные силы, превосходящие по своим боевым качествам немецкую люфтваффе; мрачные дни 1941 г., когда советские самолеты в большинстве своем были самоубийственно устаревшими, теперь уже были далеко позади. Основными типами самолетов, серийное производство которых началось в 1942 г., были штурмовики Ил-2 и тактические пикирующие бомбардировщики Пе-2, а также истребители Ла-5, которые были лучше истребителей «Мессершмитт-109», но уступали «Мессершмиттам-109-F» и «109-G». В 1943 г. был пущен в серийное производство самолет Ла-5ФН, оказавшийся лучше любого немецкого истребителя, включая и «фоккевульф-190», а в мае началось серийное производство самолетов типа Як-9 с 37-миллиметровой пушкой, значительно превосходивших немецкие истребители с их 20-миллиметровой пушкой. Серийное производство бомбардировщиков Ту-2 началось в сентябре, а конструкция штурмовика Ил-2 непрерывно совершенствовалась; к концу года он превратился в двухместный самолет с увеличившейся огневой мощью. Среднемесячное производство самолетов поднялось с 2100 в 1942 г. до 2900 в 1943 г., причем 2500 из них были боевые машины. Всего в 1943 г. было выпущено 35 тыс. самолетов - на 37% больше, чем в 1942 г., и 86% выпущенных машин составляли боевые самолеты. Особенно высоким был процент штурмовиков и истребителей. В самый разгар боев летом 1943 г. ежемесячно выпускалось свыше тысячи самолетов типа Ил-2, или более трети всех выпускавшихся в стране самолетов.
В советской «Истории войны» говорится о том, что на вооружении Красной Армии имелись и самолеты западных стран, однако истребители «харрикейн» и «томагавк» уже устарели и во многом уступали советским и немецким истребителям, а «аэрокобра» и «киттихаук», которые начали применяться на Восточном фронте осенью 1943 г., были превосходными, «но поступали… в недостаточном количестве»[170].
В результате эвакуации промышленности на восток сильно снизился также и выпуск танков; тем не менее в течение 1942 г. в танкостроении был достигнут огромный прогресс. Две трети всех советских танков выпускали три «гиганта советского танкостроения» на востоке - Уралмашзавод, Кировский завод в Челябинске и завод № 183. В 1942 г. были введены очень важные усовершенствования для увеличения выпуска танков; так, башни среднего танка Т-34 стали штамповаться, а не отливаться, как раньше. В общем Т-34 был лучшим средним танком из всех в период Второй мировой войны, как это впоследствии вынуждены были признать и многие немецкие эксперты, причем на протяжении 1943 г. в его конструкцию непрерывно вносились улучшения. В сентябре 1943 г., в ответ на выпуск немцами нового танка «тигр», русские приступили к серийному производству тяжелого танка ИС. Этот танк, с толщиной брони в 1,5 раза больше, чем у немецкого танка «тигр», характеризуется в советской «Истории войны» как «лучший тяжелый танк в мире».
Среднемесячный выпуск советских танков в 1943 г. составил свыше 2000, что было несколько меньше, чем в 1942 г., но зато в 1943 г. почти прекратилось производство легких танков, тогда как в начале 1942 г. они все еще составляли около половины всех выпускаемых танков. Всего в 1943 г. было выпущено 16 тыс. тяжелых и средних танков, 4 тыс. самоходных артиллерийских установок и 3,5 тыс. легких танков. Это было в 8,5 раза больше, чем в 1940 г., и почти вчетверо больше, чем в 1941 г.
Значительное количество танков было получено в 1942-1943 гг. из Англии и США, но советские историки относятся к ним еще более критически, чем к английским самолетам. Из танков, полученных от союзников в 1942 г., 55% составляли легкие танки; в 1943 г. легкие танки составляли уже 75%. Количество поступавших от союзников танков характеризовалось как «незначительное», качество же их оставляло желать много лучшего[171].
Значительно увеличился в 1943 г. также выпуск орудий и минометов; орудий разных калибров было выпущено в этом году не менее 130 тыс. В общем, как писал в 1943 г. нарком вооружения Д.Ф. Устинов, «плотность артиллерийского огня, большая насыщенность каждого километра фронта… стала теперь обычным явлением». С начала 1943 г. резко возросла и огневая мощь пехотных войск; в 1943 г. число пистолетов-пулеметов увеличилось втрое, а легких и тяжелых пулеметов - в 2,5 раза по сравнению с 1942 г. Огромное превосходство в огневой мощи, которым обладала в 1941 г. немецкая пехота, отошло в прошлое. Нетрудно понять, какое значение это имело для морального состояния советских воинов. Немецкий автоматчик не вызывал уже, как в 1941 г., ужаса или отчаяния; фактически каждый советский солдат сам теперь был автоматчиком.
Другой важной проблемой было производство продуктов питания. В ходе войны в армию было призвано почти все трудоспособное мужское население деревни и для нужд армии изъято огромное количество тракторов и лошадей. И все же оставшееся в деревнях население, состоявшее почти исключительно из женщин, подростков и стариков, трудилось героически, зачастую в самых ужасных условиях, чтобы давать стране продовольствие. В качестве тягловой силы широко использовались коровы, и известны даже случаи, когда женщины сами впрягались в плуги. Здесь еще больше, чем на заводах, женщины глубоко сознавали, что они работают для своих сыновей, мужей и братьев, ушедших сражаться с немцами.
О том, какой острый характер приняла продовольственная проблема, можно судить по тому, что в 1942 г. в СССР осталось только 58% довоенных посевных площадей, остальная же часть была оккупирована немцами. В 1943 г., после освобождения Северного Кавказа и других территорий, посевные площади увеличились до 63% довоенных, но поголовье рогатого скота составляло только 62% небогатого довоенного поголовья, поголовье лошадей - 37%, а поголовье свиней - 20%. Очень сильно снизилось производство искусственных удобрений, а для остававшихся еще в сельском хозяйстве тракторов часто не хватало бензина. И все же фактом является то, что удалось избежать острой нехватки продовольствия. В городах продовольственное снабжение было все время крайне скудным, особенно снабжение иждивенцев, получавших мизерные пайки; но армия питалась неплохо, особенно начиная с 1943 г. То же самое можно сказать и о большинстве квалифицированных рабочих в промышленности.
Вполне очевидно, что в улучшении продовольственного снабжения армии, особенно с начала 1943 г., заметную роль сыграли поставки по ленд-лизу. Огромное значение для Красной Армии имели также все возраставшие поставки автомашин «студебеккер», «додж» и «виллис», которые в очень значительной мере способствовали повышению маневренности Красной Армии. Во время боев под Сталинградом они встречались еще не слишком часто, но, как мне известно по собственному опыту, начиная примерно с марта 1943 г. они стали непременной частью боевой техники на всех фронтах. Эти грузовики и джипы, безусловно, способствовали приданию Красной Армии «нового облика» и непрерывному росту ее колоссальной боевой мощи после Сталинграда.
Вопрос об американской, английской и канадской помощи Советскому Союзу имел свои политические и психологические аспекты.
В 1942 г. помощь со стороны союзников, безусловно, не принималась особенно всерьез: в 1941-1942 гг. поставки из Америки грузов составили лишь 1,2 млн. т, а поставки из Англии - 532 тыс. т. Некоторые виды тяжелого вооружения, полученные в этом году (самолеты «харрикейн», танки «матильда» и т.п.), оказались неудовлетворительными. В 1943 г. английские поставки остались на том же уровне, тогда как американские поставки резко возросли, увеличившись до 4,1 млн. т (а если считать и первые четыре месяца 1944 г. - то превысили 6 млн. т). Сюда входило и более 2 млн. т продовольствия. Кроме этого, за период с 22 июня 1941 г. по 30 апреля 1944 г. США отправили Советскому Союзу следующие материалы:
6430 самолетов 3734 танка
10 минных тральщиков 12 канонерских лодок 82 корабля меньшего тоннажа 210 тыс. автомашин
3 тыс. зенитных орудий 1111 зенитных управляемых реактивных снарядов «эрликон» 23 млн. ярдов армейского сукна
2 млн. покрышек 476 тыс. т высокооктанового авиационного бензина 99 тыс. т алюминия и дюралюминия
184 тыс. т меди и изделий из меди
42 тыс. т цинка
6,5 тыс. т никеля
1,2 млн. т стали и стальных изделий
20 тыс. станков
17 тыс. мотоциклов
991 млн. патронов
22 млн. снарядов
88 тыс. т пороха
130 тыс. т тринитротолуола
1,2 млн. км телефонного провода
245 тыс. телефонных аппаратов
5,5 млн. пар армейской обуви
Другое промышленное оборудование на сумму 257 млн. долларов (включая оборудование нефтеперегонных заводов, энергосиловое оборудование, экскаваторы, краны, паровозы и т.п.)
За период с 22 июня 1941 г. по 30 апреля 1944 г. Англия отправила в Советский Союз грузов весом 1150 тыс. т, из которых прибыло 1041 тыс. т. Сюда входили:
5800 самолетов
4292 танка
12 минных тральщиков
103 тыс. т каучука
35 тыс. т алюминия
33 тыс. т меди
29 тыс. т олова
48 тыс. т свинца
93 тыс. т джута
Кроме того, Англия поставила небольшие количества других сырьевых материалов, взрывчатых веществ, снарядов и прочих военных материалов, а также свыше 6 тыс. станков и другого промышленного оборудования на сумму 14 млн. фунтов стерлингов. Общая стоимость канадских поставок за тот же период составила около 355 млн. долл.; сюда входило 1188 танков, 842 бронетранспортера, около миллиона снарядов, 36 тыс. т алюминия и 208 тыс. т пшеницы и муки, помимо других более мелких поставок[172].
К концу войны эти цифры стали еще выше. По словам генерала Дина, с октября 1941 г. и до конца войны в Россию было отгружено свыше 15 млн. т поставок. По его мнению, важнейшими из них были следующие:
1) 427 тыс. грузовиков, 13 тыс. боевых машин, свыше 2 тыс. машин артиллерийско-технической службы и 35 тыс. мотоциклов;
2) нефтепродукты (2670 тыс. т);
3) продовольствие (4478 тыс. т), включая муку. «Считая, что численность Красной Армии составляла 12 млн. человек, это означало, что на каждого из них приходилось по 200 г пищевых концентратов в день»;
4) железнодорожное оборудование.
Всего, говорит Дин, вместе с огромным количеством других товаров (медикаментов, одежды, обуви и т.д.), «стоимость наших поставок и услуг составила около 11 млрд. долл. Даже если и не они обеспечили русским победу, эти поставки, безусловно, принесли им большую пользу»[173].
Эти цифры выглядят внушительно. Видно, например, что значительная часть обуви и обмундирования для Красной Армии была изготовлена в Америке и что Америка и Англия поставляли также большое количество стратегического сырья, авиационного бензина и многое другое. Самолетов и танков, хотя и неодинаково хорошего качества, тоже было отправлено не так уж мало. Но все же они составляли сравнительно небольшой процент всех самолетов и танков, переданных на вооружение Красной Армии. По данным, содержавшимся в выступлении Сталина перед избирателями в 1946 г., за последние три года войны в Советском Союзе было выпущено около 100 тыс. танков, 120 тыс. самолетов, 360 тыс. орудий, свыше 1,2 млн. пулеметов, 6 млн. автоматов, 9 млн. винтовок, 300 тыс. минометов, около 700 млн. снарядов, около 20 млрд. патронов и т.д.
Если считать приведенные Сталиным цифры правильными, то они свидетельствуют, что тяжелое вооружение, поставленное союзниками (танки и самолеты), составило примерно 10-15% общего его количества. В своей книге «Военная экономика Советского Союза», опубликованной в 1948 г., председатель Госплана Н. Вознесенский утверждал, что поставки союзников в 1941, 1942 и 1943 гг. составили лишь 4% всей продукции Советского Союза. Но эта цифра скорее дезориентировала, ибо 1941 г. вообще нельзя считать годом ленд-лиза, а 1944 г., когда поставки союзников достигли максимального уровня, был вовсе не принят во внимание Вознесенским.
Исходя из своих личных наблюдений, я могу сказать, что начиная с 1943 г. Красная Армия, безусловно, ценила всякую помощь со стороны Запада, будь это самолеты «аэрокобра» и «киттихаук», автомашины «додж» и джипы, мясные консервы, армейская обувь или медикаменты. Особенно высоко ценились автомашины. Фактом остается и то, что сырьевые материалы, поступавшие от союзников, были огромным подспорьем советским оборонным предприятиям. Но это все же не устраняло острой психологической проблемы, создавшейся в результате того простого факта, что русские теряли в войне миллионы людей, а людские потери англичан и американцев были несравненно меньше.
Отчасти именно из-за этих настроений в стране Советское правительство предпочитало как можно меньше говорить о поставках с Запада. Понятно, что такая позиция вызывала недовольство Запада, и первый крупный инцидент из-за «неблагодарности» русских произошел в марте 1943 г., когда посол США в Москве адмирал Стэндли пожаловался на пресс-конференции на «неблагодарное» отношение советских властей к частным пожертвованиям в «Фонд помощи России» и к американской помощи вообще.
Русским очень не понравился этот протест, тем не менее несколько дней спустя советская печать опубликовала очень подробное сообщение о заявлении Стеттиниуса, в котором указывалось, сколько именно материалов было отправлено из США в Советский Союз с начала войны. Важно было, как указывал Стэндли, умиротворить конгресс, в котором эти обвинения русских в неблагодарности вызвали много шума[174].
Но, хотя это внезапное признание помощи со стороны Запада в советской печати в марте 1943 г. и было вызвано выступлением Стэндли, здесь видна была и политика дальнего прицела. Сталин уже готовился к Тегеранской конференции и думал о мире, который установит Большая тройка. Советское правительство в течение всего 1943 г. относилось к Западу гораздо лучше, чем когда-либо в прошлом. Как это ни парадоксально, в своих официальных высказываниях оно проявляло больше благосклонности к Западу, чем советский народ в целом.
Стремительное продвижение советских войск в зимнюю кампанию 1942/43 г. от Сталинграда до Харькова и дальше и вынужденное отступление немцев с Кавказа были не единственными крупными успехами Красной Армии в этот период. После всех потерь, которые немцы и их союзники понесли на юге, им явно все больше и больше не хватало обученных войск. Этим в значительной степени и объясняется принятое ими в марте 1943 г. решение оставить плацдарм Гжатск, Вязьма, Ржев, этот «нацеленный на Москву кинжал», за который они так яростно цеплялись после первых же поражений, понесенных ими в России зимой 1941/42 г. Читатель, вероятно, помнит, что, хотя русские и отогнали немцев от Москвы на широком фронте, им не удалось выбить их с плацдарма Гжатск, Вязьма, Ржев в каких-нибудь 150 километрах от столицы.
В течение всего «трудного лета» 1942 г. этот немецкий плацдарм оставался потенциальной угрозой для Москвы, но главной заботой русских была не столько перспектива наступления немцев на столицу, сколько возможность того, что они попытаются удерживать плацдарм минимальными силами, а остальные войска перебросят на юг, для наступления на Сталинград и Кавказ. Поэтому на протяжении всего лета и осени 1942 г. советское командование старалось во что бы то ни стало сковать как можно больше немецких войск к западу от Москвы, непрерывно атакуя и изматывая их. Бои под Ржевом были из числа самых тяжелых, какие когда-либо приходилось вести советским войскам. Они атаковали сильно укрепленные позиции немцев и несли гораздо большие потери, чем немцы; военные действия носили такой ожесточенный характер, что пленных было очень мало.
Я побывал на ржевском участке фронта дождливой осенью 1942 г., после того как советские части ценой страшных потерь вернули несколько деревень, но от окраин Ржева немцы их каждый раз отбрасывали. Меня поразило, с какой огромной горечью офицеры и солдаты говорили о своей неблагодарной задаче.
Дороги той осенью походили на реки грязи, и бесконечному количеству санитарных машин приходилось ехать по тряскому «ковру» из срубленных деревьев, уложенных на дороге, что было мучительно для раненых.
В эту осень я видел в нескольких освобожденных Красной Армией деревнях частицу того, что представляла собой немецкая «политика пустыни». Так, в селе Погорелое Городище значительная часть населения погибла от голода; многих жителей немцы расстреляли, а некоторых угнали в рабство в Германию, само же село было почти полностью разрушено.
Теперь, в марте 1943 г., немцы, опасаясь, что русские войска обойдут их с юга (и в конечном счете возьмут немцев в большое окружение «между Москвой и Смоленском», чего им не удалось сделать в феврале 1942 г.), просто отошли с московского плацдарма, хотя и с упорными арьергардными боями, особенно под Вязьмой; при этом они совершили столько разрушений, сколько им позволило время.
Опубликованное 7 апреля 1943 г. официальное советское сообщение о результатах «политики пустыни», которую немцы систематически проводили в районах к западу от Москвы, освобожденных теперь русскими, явилось ужасающим перечнем массовых расстрелов, убийств и повешений, изнасилований, истязаний и истребления голодом советских военнопленных, увода многих тысяч людей в немецкое рабство. По сравнению со всем этим бледнели даже расправы немцев в Харькове. В сообщении отмечалось, что расстрелы гражданского населения в большинстве случаев производили сами немецкие войска, а не гестаповцы и СД. Города были почти полностью уничтожены, как я и сам мог в этом скоро убедиться. В Вязьме из 5500 зданий уцелел лишь 51 небольшой дом; в Гжатске из 1600-300; в старинном городе Ржеве из 5443-495. Все знаменитые церкви были разрушены. Жителей немцы нарочно морили голодом. Только из этих трех небольших городов 15 тыс. человек было угнано в Германию. В деревнях положение было немногим лучше: так, в Сычевском районе из 248 деревень немцы сожгли 137. В списке военных преступников, содержавшемся в этом сообщении, на первых местах стояли имена командующего 9-й германской армией генерал-полковника Моделя и других командиров, которые «несли личную ответственность» за эти злодеяния. В сообщении отмечалось, что разрушение городов и сел было «не случайным, а являлось частью сознательной политики истребления», которая в этих исконно русских районах проводилась еще более методически, чем в других местах.
Естественно, что по мере продвижения Красной Армии все дальше на запад ее гнев при виде всех этих зверств и разрушений нарастал.
В начале 1943 г. Красная Армия одержала еще две крупные военные победы: она захватила стратегически важный демянский выступ к северу от Смоленска, а после нескольких дней исключительно тяжелых боев, когда войска Ленинградского фронта двинулись в восточном направлении, а войска Волховского фронта - в западном, через немецкий выступ у Ладожского озера, добилась еще большего успеха, прорвав сухопутную блокаду Ленинграда на участке шириной более 10 км. Через эту брешь, в которой оказался и город Шлиссельбург, за несколько недель была проложена железнодорожная ветка, соединившая Ленинград с Большой землей. Поездам приходилось идти по непрерывно обстреливавшемуся коридору, что требовало от железнодорожников огромного мужества. Но, несмотря на это, железная дорога, проходившая по «коридору смерти», как его называли, продолжала функционировать, и мысль о том, что они уже не отрезаны полностью от Большой земли, поднимала дух 600-тысячного населения Ленинграда. Тем не менее город еще год жил под артиллерийскими обстрелами немцев.
В общем положение было удовлетворительное. Однако мощное контрнаступление немцев, которое началось в конце февраля и привело к потере Красной Армией Харькова, Белгорода и значительной части Северного Донбасса, испортило под конец итоги славного зимнего наступления.
В своем приказе от 23 февраля Сталин дал высокую оценку зимнему наступлению Красной Армии, заявив, что «началось массовое изгнание врага из Советской страны». Но в то же время он предостерег армию и страну против чрезмерного оптимизма, несомненно предвидя еще серьезные трудности.
«Враг потерпел поражение, но он еще не побежден. Немецко-фашистская армия переживает кризис… но это еще не значит, что она не может оправиться. Борьба… еще не кончена, - она только развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли».
Заявление Сталина было примечательным в двух отношениях: во-первых, оно было предупреждением Красной Армии, что еще ее ждут суровые бои, как это вскоре и доказали события.
Во-вторых, из всех выступлений Сталина за время войны это было наименее лестным по отношению к союзникам. Не упоминая о Северной Африке, где успехи союзников в то время были очень небольшие, Сталин заявил, что «Красная Армия несет одна всю тяжесть войны». К комплиментам, которые он высказал по адресу союзников в ноябре 1942 г. в связи с их высадкой в Северной Африке, он теперь не счел нужным что-либо добавить. То, что делали союзники, не выдерживало никакого сравнения со Сталинградом и другими победами русских.
Но еще больше рассердило англичан и американцев то, что, дав высокую оценку работе советской промышленности, Сталин ни словом не обмолвился о ленд-лизе и других поставках с Запада, которые начали теперь поступать в очень больших количествах, частью по недавно реконструированному пути через Иран. Фактически именно этот приказ Сталина от 23 февраля и лежал в основе «инцидента со Стэндли».
На протяжении остального периода 1943 г. советская внешняя политика характеризовалась, с одной стороны, почти все время возраставшей сердечностью по отношению к США и Англии (что объяснялось подготовкой к Тегеранской конференции, которая состоялась в конце года), с другой же - крайне «антизападной» позицией в вопросе о Польше. Уже тогда создавалось впечатление, что Сталин, несмотря на его стремление поддерживать как можно лучшие отношения с западными союзниками, твердо решил, что проблему Польши Советский Союз будет решать самостоятельно. Именно эта проблема и стала самым серьезным испытанием; как отметил де Голль во время своего визита в Москву в конце 1944 г., этот вопрос был главным предметом его [Сталина] страсти и занимал центральное место в его политике.
С конца марта и до начала июля на советско-германском фронте наблюдалось относительное затишье - по существу, самый длительный период затишья с того момента и до конца войны. Но обе стороны лихорадочно готовились к летней кампании, которая началась 5 июля величайшей Курской битвой - последним крупным сражением, которое гитлеровские генералы (правда, не все) все еще надеялись выиграть, рассчитывая главным образом на свои новые танки «пантера» и «тигр» и самоходные артиллерийские установки «фердинанд». И все же через несколько дней немцы проиграли это сражение, а русские смогли пробиться к Днепру и, форсировав его, двинуться дальше.
Но это длительное, трехмесячное, затишье ознаменовалось очень важными политическими событиями, такими, как дальнейшее сближение СССР с Англией и Соединенными Штатами Америки, а также разрыв СССР с польским эмигрантским правительством в Лондоне и закладка фундамента для совершенно нового режима в Польше.
(обратно)Глава IV. Польская проблема
Польша занимала центральное место в дипломатической борьбе между СССР и его западными союзниками - борьбе, которая началась еще задолго до окончания войны. На протяжении всего периода «битвы Советского Союза за жизнь» в 1941-1942 гг., с момента вторжения немцев и до Сталинградской победы - или, во всяком случае, большую часть этого периода - Советское правительство придерживалось самой корректной позиции в своих взаимоотношениях с внешним миром. Даже в самые тяжелые времена, летом 1942 г., исключая вопрос о втором фронте и «дело Гесса», Советский Союз в основном стоял на примирительной позиции в отношении Запада.
Единственным союзным и «дружественным» правительством, с которым отношения Советского Союза постоянно были напряженными, являлось эмигрантское польское правительство в Лондоне. По существу, это был совершенно исключительный случай. Камнем преткновения здесь неизбежно оставался советско-германский пакт, воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии с СССР и то, что большое число поляков, плененных Красной Армией в 1939 г., было рассеяно по всему Советскому Союзу; среди них было 12-15 тыс. офицеров и сержантов.
Судьба пропавших без вести офицеров стала в дальнейшем величайшим яблоком раздора между Советским правительством и «лондонскими» поляками. Она также послужила основой для одного из самых ловких ходов геббельсовской пропагандистской машины - истории о массовых могилах в Катынском лесу под Смоленском.
Соглашение, подписанное в Лондоне Сикорским и Майским 30 июля 1941 г., предусматривало восстановление дипломатических отношений между двумя правительствами и создание в России польской армии «под командованием, назначенным Польским правительством с согласия Советского правительства». Эта армия должна была действовать под руководством Верховного Командования СССР, но в состав его должен был войти и представитель польской армии.
Далее в соглашении говорилось, что после восстановления дипломатических отношений СССР предоставит «амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях».
Генерал Сикорский прибыл в Москву в декабре 1941 г., когда немцы находились еще в нескольких километрах от советской столицы, и подтвердил обещание поляков создать на советской территории польскую армию, которая будет сражаться против немцев рядом с Красной Армией. Даже несмотря на крайне опасное военное положение, Сталин не согласился во время переговоров с Сикорским на восстановление польских границ, существовавших до сентября 1939 г., и польские территориальные притязания по-прежнему оставались неизменным предметом споров между русскими и их польскими «союзниками». Но гораздо более серьезной и срочной была в тот момент проблема создания польской армии в Советском Союзе.
Эту армию начал формировать в 1941 г. генерал Андерс, который сам побывал в плену у русских и был в душе настроен против них.
Впоследствии, после разрыва с «лондонскими» поляками, Вышинский выступил с резкими обвинениями по адресу Андерса и польского правительства в Лондоне. Он начал с напоминания о том, что польско-советским соглашением, заключенным в 1941 г., предусматривались следующие условия:
«О Польских воинских частях, формировавшихся в СССР… По договоренности между советским и польским командованием общая численность польской армии была определена в 30 тыс. человек, причем в соответствии с предложением генерала Андерса было признано также целесообразным, по мере того как та или иная дивизия будет готова, немедленно отправлять ее на советско-германский фронт.
Советские военные власти… полностью приравняли снабжение польской армии к снабжению частей Красной Армии, находящихся на формировании… Советским правительством был предоставлен Польскому правительству беспроцентный заем в сумме 65 млн. рублей, который впоследствии, после 1 января 1942 г., был увеличен до 300 млн. рублей. Помимо этих сумм… было выдано больше чем 15 млн. рублей безвозвратных пособий офицерскому составу».
Вышинский заявил, что «на 25 октября 1941 г. польская армия уже насчитывала 41 561 человек, из них 2630 офицеров». В декабре Сикорский предложил расширить контингент польской армии до 96 тыс. человек, или 6 дивизий.
Несмотря на трудные условия, в декабре 1941 г. польская армия развернулась уже в составе намеченных дивизий и насчитывала 73 415 человек.
Но в этот момент, по словам Вышинского, становилось все яснее, что генерал Андерс и его лондонские советчики ведут двурушническую политику: они отнюдь не собирались допустить, чтобы их солдат убивали на русском фронте, и выдвигали один предлог за другим, чтобы не пускать их в бой.
Сроком готовности польской армии было определено 1 октября 1941 г., но это обещание не было выполнено.
«Генерал Андерс… впоследствии заявил, что он считает нежелательным вводить в бой отдельные дивизии, хотя, - сказал Вышинский, - на других фронтах поляки дрались даже бригадами. Генерал Андерс дал обещание, что вся польская армия будет готова принять участие в боевых действиях с немцами к 1 июня 1942 г., но затем Польское правительство и формально отказалось от направления своих частей на советско-германский фронт».
Неудивительно, пожалуй, что польская армия под командованием Андерса не имела никакого желания сражаться на русском фронте.
После 1939 г. «полякам Андерса» в России, безусловно, пришлось несладко, хотя, когда началась германо-советская война, с их стороны было, пожалуй, бестактно и некорректно так часто жаловаться на свои плохие бытовые условия и питание: в конце концов, весь советский народ тоже терпел огромные трудности зимой 1941 г.
Неудивительно и то, что русским не очень-то хотелось содержать на своей территории реакционную польскую армию под командованием офицеров, крайне враждебно относившихся к СССР, тем более что эта армия не оказывала им никакой помощи в борьбе против немцев. Поэтому Сталин согласился с предложением Черчилля отправить поляков Андерса из Советского Союза через Иран. Многие русские только радовались, что избавились от них, но случилось так, что армия Андерса отбыла из СССР как раз накануне Сталинградской битвы. На русских отъезд поляков произвел впечатление бегства крыс с корабля, который, как им казалось, уже тонул.
Но у Сталина, во всяком случае, были свои идеи насчет будущего Польши. Он не собирался согласиться на «рижские границы», определенные в 1921 г. Не хотел он примириться и с тем, чтобы Польшей правили антисоветские элементы. В прошлом поляков и русских разделяла глубоко укоренившаяся вражда, созданная политикой царизма. Даже значительно позднее, через несколько лет после войны Сталин говорил, что потребуется, пожалуй, не меньше двух поколений, чтобы преодолеть врожденные предубеждения обеих сторон друг к другу.
Политика по отношению к Польше планировалась Сталиным заранее, хотя он вряд ли мог предвидеть пущенную в ход Геббельсом версию «катынского дела», которая произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Но фактически эта бомба лишь ускорила процесс, намечавшийся Сталиным. Широкая кампания против территориальных притязаний правительства Сикорского была развернута почти сразу же после Сталинграда, но до скандала по поводу Катыни. По существу, дипломатическая деятельность русских активизировалась именно после победы под Сталинградом (а не раньше), причем в этот период уже завершалась и разработка планов (в то время еще секретных) будущей судьбы Восточной Европы.
Конфликт из-за Польши, который назревал уже давно, разразился в феврале 1943 г.
Зимнее наступление, последовавшее за Сталинградской победой, было еще в самом разгаре, и Красная Армия продолжала продвигаться вперед к западу от Харькова. Украинское правительство прибыло в Харьков (правда, чтобы через несколько дней снова оттуда выехать), и в официальной газете украинского правительства «Радяньска Украина», вышедшей в Харькове 19 февраля, появилась статья известного украинского драматурга Александра Корнейчука, который в 1942 г. написал пьесу «Фронт»; в этой статье, перепечатанной на следующий день «Правдой», была ясно изложена советско-украинская точка зрения. Дело в том, что польская проблема, которая касалась Советского Союза в целом, в тот момент, как и позднее, рассматривалась также как вопрос, конкретно затрагивавший интересы Украинской ССР.
Вскоре после этого Корнейчук был назначен заместителем наркома иностранных дел СССР и ведал делами славянских стран.
Сразу же после восстановления дипломатических отношений между польским эмигрантским правительством и Советским Союзом летом 1941 г. проблема границ стала яблоком раздора в отношениях между ними. Хотя сам Сикорский в душе готов был занять реальную позицию в этом вопросе, он никогда официально не отказывался от притязаний на границы Польши, существовавшие до 1939 г. Он всегда считался со своими «твердолобыми», хотя есть указания на то, что в конечном счете он был готов пойти на компромисс. Впоследствии даже кое-кто утверждал, что, если бы Сикорский остался жив, отношения между Советским правительством и польским правительством в Лондоне не ухудшились бы в такой мере, как это произошло.
Следует отметить, что русские возлагали ответственность за «катынский скандал» не на Сикорского лично, а на некоторых «твердолобых» в его правительстве и близких к нему кругах, особенно на самую одиозную для них фигуру начальника генштаба генерала Соснковского; верно также и то, что после разрыва отношений с польским эмигрантским правительством в апреле 1943 г. советская печать ни разу не выступала с личными нападками на самого Сикорского. Но, оглядываясь теперь на этот период, следует отметить, что Сикорский вряд ли смог бы сыграть гораздо более значительную роль в этом вопросе, чем впоследствии сыграл Миколайчик.
Можно сказать, что основные принципы политики СССР в отношении Польши определились еще в начале 1943 г.
Восточная граница намечалась примерно по «линии Керзона»; расширение территории Польши должно было произойти в западную сторону, хотя об определенной линии границы еще не упоминалось.
Польскому правительству надлежало быть дружественным к СССР правительством.
Предполагалось твердо урегулировать вопрос о границах Польши, и, хотя вначале русские воздерживались от официальных указаний на то, какими будут границы Польши на западе, в марте 1943 г. новая польская газета «Вольна Польска» («Свободная Польша»), которая стала выходить в Москве, поставила этот вопрос открыто. Некто Анджей Марек писал, что Польше должна быть передана значительная часть Силезии и, естественно, устье Вислы, «с широким выходом к морю». Побережье от Данцига до Мемеля, заявил он, должно быть польским, а Восточная Пруссия должна «перестать быть вечным трамплином для немецкой агрессии против поляков, русских и прибалтийских народов. Она должна стать мостом Польши к морю, а не барьером между ней и морем».
Короче говоря, предполагалось, что поляки забудут о своих прежних распрях с русскими и украинцами и не будут больше думать о «санитарных кордонах» и других еретических идеях Пилсудского.
Как уже указывалось выше, полемику открыл Корнейчук 19 февраля.
«Казалось бы [писал он], что в это самое тяжелое время для польского народа все слои польского общества объединены одним национальным чувством, одной священной идеей - выгнать немецких оккупантов… Но оказывается, что сейчас есть большая группа польских эмигрантов в Англии… которые изо всех сил стараются расшатать единый фронт борьбы… против фашизма… польская газета, издающаяся в Лондоне на хорошей английской бумаге… писала, что требование второго фронта надо рассматривать как «дешевую демагогию». А профессор В. Вельгорский заявил: «Для каждого из нас стало святым долгом право борьбы за нерушимость наших восточных границ».
Они [польская шляхта] ничему не научились… Они никогда не признавали украинский народ…»
Затем Корнейчук привел длинный перечень благ, которые получила Западная Украина после ее вступления в Советский Союз, с 1939 по 1941 г.: создание школ и больниц, проведение аграрной реформы, ликвидация неграмотности, безработицы и проституции.
В опубликованном 2 марта сообщении ТАСС говорилось, что эта попытка поляков лишить украинцев и белорусов их национальных прав «противоречит Атлантической хартии… Даже… лорд Керзон, несмотря на его недружелюбное отношение к СССР, понимал, что Польша не может претендовать на украинские и белорусские земли…»
Затем в этом сообщении прозвучал мотив, что польское правительство в Лондоне не представляет польский народ.
Несколько дней спустя вышел первый номер газеты «Вольна Польска». Она объявила, что является органом Союза польских патриотов и ставит цель объединить всех польских патриотов, проживающих в СССР, независимо от их прошлого, их взглядов и убеждений, для совместной борьбы без каких бы то ни было компромиссов против немецких захватчиков. Целью этой борьбы, говорилось в газете, было «отвоевать для Польши каждый дюйм польской земли, но не требовать ни одного дюйма чужой земли».
В статьях, написанных Вандой Василевской, Виктором Грошем и другими, содержались призывы к дружбе с Советским Союзом и обвинения по адресу польского эмигрантского правительства в Лондоне и различных польских квислингов.
Вначале многие задавались вопросом, кто были эти люди из Союза польских патриотов. Только председателя союза, Ванду Василевскую, все хорошо знали. Затем шел полковник Берлинг, один из очень немногих офицеров, отказавшихся последовать за армией Андерса в Иран. Были там и другие поляки - редактор «Вольна Польска» Борейша, Виктор Грош, Ендриховский и Модзелевский - большей частью молодые люди, которых так или иначе привел в Советский Союз развал панской Польши. Кто же представлял собой общественность, к которой апеллировал Союз польских патриотов в СССР?
В марте это представлялось еще очень туманным. На значительной части территории Советского Союза были рассеяны сотни тысяч поляков и польских евреев; это были частично люди, высланные советскими властями в 1939-1940 гг. из Западной Украины и Западной Белоруссии, в том числе и часть бывших военнопленных, которые не хотели или не успели вступить в армию Андерса. Были и такие, кто приехал сюда добровольно, бежав от немцев в 1941 г. Но скольких из них можно было действительно называть «польскими патриотами» в том смысле, который придавала этим словам Москва, сказать было трудно.
Однако ни Союз польских патриотов, ни тем более польская дивизия (потом на советской территории были сформированы еще три дивизии) не оказались фикцией, как в то время думали не только противники всего этого плана, но и многие скептически настроенные друзья. Только в июле 1943 г., когда появилась на свет дивизия имени Костюшко, большинство скептиков вынуждены были признать, что русские так или иначе добились своего. Союз создал идеологическую основу той новой Польши, первым важным проявлением которой стала дивизия имени Костюшко.
Не случайно, конечно, что советская печать поднимала на щит в течение всего апреля всех верных друзей Советского Союза. Их деятельность как бы сравнивалась с «заслуживающим порицания и близоруким» поведением «лондонских» поляков. Так, например, всячески восхвалялась чехословацкая часть, впервые принявшая участие в крупных боях. Много внимания уделялось также движению Сопротивления во Франции, в Бельгии и Норвегии и, в частности, французской эскадрилье «Нормандия», которая уже воевала на русском фронте по инициативе де Голля.
Наибольшую славу снискала себе в эти дни чехословацкая часть, сражавшаяся на русском фронте. Это была отдельная бригада численностью 2-3 тыс. человек под командованием полковника Свободы, который впоследствии стал министром обороны чехословацкого правительства в Праге. В марте она впервые появилась на фронте, а 2 апреля в советской сводке было сообщено о ее боевом крещении. В политическом отношении величайшее значение имели два момента: во-первых, в отличие от армии Андерса чехословацкая бригада сражалась на советском фронте, а во-вторых, она делала это с благословения Верховного главнокомандующего Чехословакии, президента Бенеша, и чехословацкого правительства в Лондоне. Бригада эта находилась, конечно, под советским оперативным командованием.
8 апреля Александр Фадеев написал яркую статью о героизме чехов, а два дня спустя полковник Свобода получил горячие поздравления от имени президента Бенеша, от чехословацкого министра национальной обороны (также находившегося в Лондоне) и от находившихся в тот момент в Москве членов чехословацкого парламента коммунистов Готвальда, Конецкого и других. Капитан Ярош, который командовал одной из рот во время тяжелых боев в районе Харькова и был смертельно ранен, получил посмертно звание Героя Советского Союза. Полковник Свобода получил орден Ленина; еще 82 человека из чехословацкой бригады были награждены орденами и медалями.
Такие отношения с чехами были резким контрастом с той самой настоящей ссорой, которая происходила между Москвой и «лондонскими» поляками и которая уже достигла почти кульминационного пункта.
С самого начала после восстановления польско-советских дипломатических отношений генерал Сикорский, генерал Андерс, посол Кот и другие польские представители постоянно поднимали вопрос о судьбе польских офицеров, оказавшихся в Советском Союзе после разгрома Польши в 1939 г. Советские руководители (по словам поляков) не давали им определенного ответа, заявляя, что когда-нибудь эти пленные найдутся или что некоторые из них, возможно, бежали в Польшу, Румынию либо были захвачены немцами после их вторжения в Советский Союз.
Заявление геббельсовской пропаганды в середине апреля 1943 г. о том, что немцы обнаружили в Катынском лесу под Смоленском ряд массовых могил с трупами нескольких тысяч польских офицеров, весьма способствовало дальнейшему обострению и без того туго натянутых отношений между Москвой и «лондонскими» поляками.
Немцы создали широко разрекламированную следственную комиссию, которая «доказала», что эти польские офицеры были расстреляны русскими в 1940 г.
16 апреля в советской печати появилось следующее официальное сообщение:
«Геббельсовские клеветники в течение последних двух-трех дней распространяют гнусные клеветнические измышления о якобы имевшем место весной 1940 г. в районе Смоленска массовом расстреле советскими органами польских офицеров… Немецко-фашистские сообщения по этому поводу не оставляют никакого сомнения в трагической судьбе бывших польских военных, находившихся в 1941 году в районах западнее Смоленска на строительных работах и попавших, вместе со многими советскими людьми, жителями Смоленской области, в руки немецко-фашистских палачей… после отхода советских войск из района Смоленска… В своей неуклюже состряпанной брехне о многочисленных могилах, якобы обнаруженных немцами около Смоленска, геббельсовские лжецы упоминают деревню Гнездовую, но они жульнически умалчивают о том, что именно близ деревни Гнездовой находятся археологические раскопки исторического «Гнездовского могильника»… Распространяя клеветнические вымыслы о каких-то советских зверствах весной 1940 года… гитлеровцы… стараются… отвести от себя ответственность за совершенные ими зверские преступления…
Патентованным немецко-фашистским убийцам… истребившим в самой Польше многие сотни тысяч польских граждан, никого не удастся обмануть своей подлой ложью и клеветой…»
Все это наводило на мысль, что, хотя поляки были, несомненно, убиты, историю о массовых могилах в Смоленске немцы выдумали. Неясно было также, какое отношение к этому имеет Гнездовский могильник.
Через несколько дней положение немного прояснилось; теперь по крайней мере стало совершенно ясно одно - то, что Геббельс подстроил крупнейший дипломатический скандал.
19 апреля в передовой статье «Правды» с возмущением говорилось:
«Гнусные измышления Геббельса и К°… были подхвачены не только верными гитлеровскими холопами, но, к удивлению, и министерскими кругами генерала Сикорского… Польским министрам понятна и цель гитлеровских фальшивок и провокаций… Даже само коммюнике польского министерства национальной обороны заявляет: «Мы привыкли ко лжи германской пропаганды и понимаем цель ее последних разоблачений…»
И все же, вопреки здравому смыслу, польское министерство не нашло ничего лучшего, как… обратиться в Международный Красный Крест с просьбой «расследовать» то, чего не было. Вернее, то, что было сделано берлинскими заплечных дел мастерами, а затем жульнически приписано советским органам. Польские руководители… поддались на удочку… После этого не приходится удивляться тому, что Гитлер также обратился к Международному Красному Кресту… Гитлеровские лжецы не впервые прибегают к такому способу… Они теперь действуют таким же точно образом, как они уже пробовали действовать во Львове в 1941 году, по поводу так называемых «жертв большевистского террора». Тогда… сотни свидетелей… разоблачили гитлеровскую клевету». (Далее статья ссылалась на сообщение Совинформбюро по этому вопросу от 8 августа 1941 г.)
«Чувствуя величайший гнев всего прогрессивного человечества против расправ с беззащитным мирным населением и, в частности, с евреями, гитлеровцы изо всех сил стараются натравить легковерных и наивных людей на евреев. С этой целью гитлеровцы изобретают каких-то мифических еврейских «комиссаров», якобы участвовавших в убийстве 10 тысяч польских офицеров… В свете этих фактов обращение польского министерства национальной обороны к Международному Красному Кресту не может расцениваться иначе, как прямая и явная помощь гитлеровским провокаторам в деле фабрикации подлых фальшивок».
А затем, через два дня, в опубликованном сообщении ТАСС было указано, что передовая «Правды» «полностью отражает позицию руководящих советских кругов в данном вопросе».
«Заявление правительства г. Сикорского… ухудшает дело, так как оно солидаризируется с… провокационным коммюнике польского министерства национальной обороны… Тот факт, что антисоветская кампанця началась одновременно в немецкой и польской печати и проходит в одном и том же плане, - этот поразительный факт дает возможность предполагать, что упомянутая… кампания проводится по предварительному сговору немецких оккупантов с прогитлеровскими элементами министерских кругов г. Сикорского.
Заявление польского правительства свидетельствует о том, что прогитлеровские элементы имеют большое влияние в польском правительстве и что они делают новые шаги к ухудшению отношений между Польшей и СССР».
Советская позиция была ясна, но для ее обоснования не хватало подробных фактов и цифр. Тайна, окружавшая историю с «пропавшими без вести польскими офицерами», полностью не рассеялась. Полный ответ советские власти могут дать только тогда, когда Красная Армия дойдет до Смоленска. А пока им осталось только одно - сделать политические выводы.
Вечером 27 апреля было объявлено о прекращении Советским правительством дипломатических отношений с польским правительством. Об этом было сказано в ноте Молотова, врученной польскому послу в СССР Ромеру.
В ноте было употреблено слово «прервать», а не «порвать», и те, кто верил, что разрыв этот носит только временный характер, вначале придавали известное значение этой тонкости русской грамматики.
Польский посол и сам вначале полагал, что конфликт еще удастся уладить и что он «вскоре вернется в Москву». Он был явно расстроен тем, что произошло, но всячески старался быть абсолютно «корректным» по отношению к русским на пресс-конференции, устроенной им для английских и американских корреспондентов вечером, после опубликования заявления о временном прекращении отношений. Он сказал, что отказался принять советскую ноту, ибо мотивы ее были «неприемлемыми». Посол заявил, что в статье, помещенной в официальной польской газете в Лондоне «Дзенник польски» от 15 апреля, отвергалось предложение немцев об обращении к Международному Красному Кресту, но когда и в какой форме это обращение было наконец сделано и по чьему указанию, он не знал. В то же время, подчеркнуто выступая скорее в грустном, чем гневном, тоне, он высказал по адресу русских несколько упреков общего характера.
Однако свое выступление посол закончил на оптимистической нотке, сказав, что, по его мнению, конфликт еще будет улажен, но предположение Ромера, что «все еще уладится», не оправдалось. Советское правительство, порвав фактические отношения с польским правительством в Лондоне, теперь уже намерено было занять непреклонную позицию.
А на следующий день, когда «Правда» опять начала метать громы и молнии против «польских империалистов» и «немецких агентов», Ванда Василевская опубликовала в «Известиях» статью, ознаменовавшую собой поворотный пункт в истории польско-советских отношений. После обычных обвинений в том, что польское правительство в Лондоне препятствует активному сопротивлению немцам в Польше и взамен этого торгуется по поводу восточных границ Польши, она заявила, что польское правительство «заставляло молчать, душило в эмиграции все прогрессивные… элементы» и старалось «подорвать в поляках доверие к нашему естественному союзнику - Советскому Союзу».
И все же «каждый поляк понимает, что этот союз - это вопрос жизни и смерти для Польши, тем более теперь, когда на этом фронте решаются судьбы Европы, судьбы Польши».
Затем она перешла к главному вопросу, заявив, что вскоре на советской территории, возможно, будут созданы новые польские части, которые будут бороться плечом к плечу с Красной Армией, как это уже делают чехословацкие войска и французские летчики. Эта польская армия не будет подчиняться польскому правительству в Лондоне.
Вопрос о том, кто заменит лондонское польское правительство как орган власти, остался невыясненным, но пока что, до создания подлинного польского правительства, новая польская армия должна была подчиняться Советскому правительству. Многие скептики ошибочно полагали, что намечалось создать лишь «символические силы» или даже только «сделать жест».
С этих пор советская политика поставила перед собой две задачи: осуждать и разоблачать польское правительство в Лондоне как «непредставительное» и проявлять свое намерение оказывать поддержку тем, кто захочет строить «свободную, сильную и демократическую Польшу». 4 мая Сталин дал следующие ответы на вопросы московского корреспондента американской газеты «Нью-Йорк таймс» и английской газеты «Таймс» Ральфа Паркера:
«Вопрос: Желает ли Правительство СССР видеть сильную и независимую Польшу после поражения гитлеровской Германии?
Ответ: Безусловно, желает.
Вопрос: На каких, с Вашей точки зрения, основах должны базироваться отношения между Польшей и СССР после войны?
Ответ: На основе прочных добрососедских отношений и взаимного уважения, или, если этого пожелает польский народ, - на основе союза по взаимной помощи против немцев, как главных врагов Советского Союза и Польши».
6 мая Вышинский созвал пресс-конференцию, на которой выступил с пространным заявлением.
Он начал с приведенного выше сообщения о формировании армии Андерса, а затем стал возражать против обвинений в том, что эта армия плохо снабжалась продовольствием.
Он указал, что в результате войны на Тихом океане и других причин в России в 1942 г. не хватало продовольствия. Ясно, что невоюющие части не могли снабжаться так же хорошо, как воюющие. Поскольку польское командование не проявило никакого желания направить польские части на фронт, их приходилось рассматривать как невоюющие. Наконец, было принято решение с 1 апреля 1942 г. сократить количество продовольственных пайков до 44 тыс. и разрешить эвакуацию польских частей сверх 44 тыс. человек.
В марте 1942 г. было эвакуировано 31 488 польских военнослужащих и 12 455 членов их семей. Но, отказываясь направить свою армию на советско-германский фронт, сказал Вышинский, польское правительство в то же время добивалось проведения дополнительного набора в эту армию. Однако в ответ на польскую ноту по этому вопросу (от 10 июня 1942 г.) советские власти отказались разрешить дальнейшее формирование польских частей в СССР. Именно тогда был поставлен вопрос о полной эвакуации, и в августе 1942 г. были эвакуированы дополнительно 44 тыс. польских военнослужащих и 20-25 тыс. человек их семей.
Всего, таким образом, еще в 1942 г. из Советского Союза выехали 75 491 польский военнослужащий и 37 756 членов семей.
Вышинский сказал, что все утверждения, будто советские власти препятствовали выезду из СССР польских подданных («численность которых в действительности невелика») или членов семей польских военнослужащих, являются лживыми.
Это было, конечно, правильно. Считалось, что в Советском Союзе находится еще около 300-400 тыс. польских граждан, включая евреев. Но разве им «воспрепятствовали» бы выехать, если бы они выразили желание эвакуироваться в Иран, не ожидая «открытия» Польши, и если бы для этого имелись транспортные средства. Затем очень многие из тех, кого польское правительство считало польскими гражданами, в глазах советских властей уже не были таковыми - во всяком случае, когда речь шла об их вступлении в армию Андерса, хотя в отношении дивизии имени Костюшко и других формировавшихся новых польских дивизий требования были значительно менее строгими.
Вышинский отчасти разъяснил этот вопрос, заявив, что после восстановления польско-советских отношений в 1941 г. Советское правительство согласилось рассматривать лиц польской национальности из числа жителей Западной Украины и Западной Белоруссии как польских подданных, с тем чтобы они могли вступить в армию Андерса.
Однако польское правительство это не удовлетворило, и оно настаивало также на аннулировании советского гражданства у всех других жителей Западной Украины и Западной Белоруссии.
Русские не только не удовлетворили этого требования, но и решили, что поскольку армия Андерса выехала, то отпала необходимость делать изъятия из закона и в отношении поляков, и все бывшие польские подданные в Западной Белоруссии и на Западной Украине снова стали считаться советскими гражданами на основании первоначального советского Указа от 29 ноября 1939 г. Это решение было принято 16 января 1943 г.
Вторая часть заявления Вышинского касалась широкой сети польских организаций по оказанию помощи нуждающимся польским гражданам.
Упомянув о 20 «представительствах» и о широкой сети благотворительных учреждений, созданных польским посольством в Советском Союзе, Вышинский привел многочисленные примеры более чем некорректного поведения со стороны поляков и заявил, что представители польского посольства, в том числе и посол Кот, на деле занимались в СССР разведывательной деятельностью, вместо того чтобы заботиться о благополучии своих сограждан.
Вскоре после этого стало известно, что забота об этих школах, больницах и т.п. была в основном поручена Союзу польских патриотов.
9 мая было официально объявлено, что Совет Народных Комиссаров удовлетворил ходатайство Союза польских патриотов в СССР о формировании на территории СССР польской дивизии имени Тадеуша Костюшко для совместной с Красной Армией борьбы против немецких захватчиков. В сообщении было далее сказано, что «формирование этой дивизии уже начато».
В этот же день в Москве состоялся многолюдный Всеславянский митинг. Митинг послал приветствия Сталину, Черчиллю и Бенешу. Присутствовали представители всех славянских стран, в том числе командир чехословацкой части, отличившейся в боях на русском фронте в конце марта, полковник Свобода и митрополит Николай, там выступила также девушка, бежавшая из концлагеря в Дахау.
Но подлинным «гвоздем» митинга было присутствие на нем Ванды Василевской и полковника Берлинга. Василевская, высокая, смуглая, сильно взволнованная, воскликнула:
«Отсюда, с Восточного фронта, мы будем пробивать себе дорогу в Польшу, в великую, сильную и справедливую Польшу. Братья! Слушайте выстрелы с Восточного фронта!… Позор тем, кто призывает к гибельному бездействию!»
Полковник Берлинг, некрасивый коренастый человек с коротко остриженной головой, который выглядел старше своих лет, сказал:
«Путь на родину ведет через поле битвы, и мы, поляки в Советском Союзе, вступаем на этот путь!»
В последующие два месяца было еще множество дискуссий, посвященных польскому вопросу, резких редакционных статей о лондонских поляках, собраний, созывавшихся Союзом польских патриотов, и т.д. «Вольна Польска» продолжала публиковать разоблачительные статьи о командовании армии Андерса и о самом Андерсе, который, по словам Берлинга, ставшего теперь командиром дивизии имени Костюшко, заявил, что он рад, что польская армия обучается в районе среднего течения Волги, ибо после разгрома Красной Армии поляки смогут уйти в Иран по Каспийскому побережью, а потом «смогут делать все, что угодно». Берлинг так же сказал: «Какую возможность упустил Андерс, когда он мог бросить в битву под Москвой одну польскую дивизию, и не сделал этого!
Но все эти обвинения становились уже старой историей (хотя старой историей не без последствий), а живейший интерес представляло теперь развитие русской политики по отношению к «другой» Польше и в первую очередь формирование новой польской дивизии. 15 июля мне пришлось побывать в дивизии имени Костюшко, и то, что я увидел, в известной мере явилось для меня откровением.
Лагерь польской дивизии находился в прекрасном сосновом лесу, на крутом берегу Оки, примерно в двух третях пути от Москвы до Рязани. В окружающих деревнях, в этом самом сердце России, странно было видеть солдат в польской форме и прямоугольных конфедератках, беседующих с местными жителями. Ни один польский солдат никогда и близко не был к этим местам после 1612 г., со времен Ивана Сусанина! Правда, эти солдаты были в форме защитного цвета, а не в тех ослепительных костюмах, какие поляки носили в 1612 г., если верить художникам-костюмерам Большого театра!
Это был большой лагерь, с прочными деревянными бараками, и в нем повсюду виднелись польские надписи, лозунги и эмблемы. В лесу на каждом шагу - изображения белого польского орла. Мы прибыли туда вечером 14 июля, а 15-го была годовщина Грюнвальдской битвы, когда дивизии имени Костюшко предстояло принести торжественную присягу на большом плацу. Под Грюнвальдом в средние века объединенные силы славян - поляков и русских, - а также литовцев дали бой тевтонским рыцарям и в результате задержали натиск немцев на восток. Для поляков Грюнвальдекая битва имела такое же значение, как для русских Ледовое побоище - разгром Тевтонского ордена войсками Александра Невского на Чудском озере в 1242 г. Она также была великим символом славянского единства.
Вечером 14 июля вокруг стола в армейском бараке за ужином собралось множество гостей: несколько советских генералов, атташе военно-воздушных сил «Сражающейся Франции» майор Мир-лес, чешские офицеры - короче говоря, представители всех наций, сражавшихся на советско-германском фронте. Генерал Жуков - только однофамилец маршала - был главным советским представителем при польской дивизии, и он сыграл очень большую роль в ее обучении, организации и оснащении.
Там я впервые увидел многих поляков, которые впоследствии приобрели широкую известность. Здесь присутствовали майор Грош - впоследствии генерал Грош, ставший одним из главных политических советников польского генерального штаба, капитан Модзелевский, скромный и спокойный на вид человек небольшого роста, который впоследствии стал польским послом в Москве, а затем министром иностранных дел, и капитан Борейша, который в дальнейшем сделался руководителем польской печати.
Присутствовал там и ксендз, отец Купш, который, по слухам, был польский партизан, недавно пробравшийся в Россию.
Председательствовали на заседании 14 июля Ванда Василевская и полковник Берлинг.
Следующий день начался с богослужения под открытым небом. Это было абсолютно не похоже на порядки в Красной Армии. На лужайке в лесу был установлен под открытым небом католический алтарь, и отец Купш совершал богослужение. Алтарь был украшен цветами и сосновыми ветками, а вместо органа играл оркестр из двух скрипок и нескольких духовых инструментов. Сотни солдат, стоя на коленях, молились, а затем многие из них и десятки одетых в форму защитного цвета девушек из команд обслуживания причастились. Вся эта сцена в глубине соснового леса представляла собой незабываемую картину.
Самым значительным событием в тот день был долгий церемониальный марш дивизии имени Костюшко, состоявшийся после того, как войска принесли присягу и дивизии было вручено ее знамя с белым польским орлом на красно-белом фоне и надписью «За родину и честь» с одной стороны и портретом Костюшко с другой. Повсюду я видел множество польских национальных эмблем, и не было даже намека на то, что все это в какой-то мере организовано русскими, не считая того, что выступавшие поляки неизменно подчеркивали свою благодарность Советскому Союзу и Красной Армии. В присяге, которую, стоя на плацу, фразу за фразой хором повторяли польские солдаты, они не только обещали сражаться до последней капли крови за освобождение Польши от немцев, но и клялись в союзнической верности Советскому Союзу, «давшему им в руки оружие для борьбы». Затем начался парад. Он продолжался почти два часа. На трибуне, украшенной польским, советским, английским, американским, чешским и французским флагами, стояли Ванда Василевская, Берлинг и другие польские офицеры, советские офицеры и представители союзников. Большинство солдат было в возрасте 25-35 лет, и все они были в хорошем физическом состоянии; офицеры были одеты в щеголеватую форму защитного цвета и конфедератки с польским орлом, а солдаты, которые проходили мимо трибуны под звуки оркестра, игравшего военные марши, были в темно-зеленых кителях. Формирование дивизии началось в апреле, но к ее интенсивному обучению приступили лишь в начале июня. Дивизия еще не прошла полной боевой подготовки, но представители французов и других союзников заявили, что она добилась огромных успехов. Никто не делал тайны из того, что обучали дивизию почти исключительно советские офицеры. Но наибольшего внимания заслуживало оснащение дивизии. Вооружение ее было на 80% автоматическим или полуавтоматическим; несколько рот имели также реактивные противотанковые ружья; в дивизию входило несколько пулеметных и артиллерийских подразделений, минометных подразделений и, наконец, около 30 танков Т-34. Все оснащение, за исключением нескольких американских грузовиков и джипов, было советским.
С оснащением этой дивизии было особенно интересно ознакомиться, ибо оно полностью соответствовало оснащению регулярной советской стрелковой дивизии. А поскольку у нее было так много противотанкового оружия, мне стали понятны причины полного провала немецкого наступления под Курском в десятидневных боях перед этим. По словам одного польского офицера (которые впоследствии подтвердил и генерал Жуков), огневая мощь этой дивизии в семь раз превышала огневую мощь регулярной дивизии польской армии в 1939 г. Говорили, что в октябре дивизия имени Костюшко будет готова к боевым действиям. Это оказалось правильным, и дивизия отличилась в первых же боях, понеся, правда, тяжелые потери.
Что же представлял собой ее личный состав? Точные цифры получить не удалось, но подавляющее большинство - почти 15 тыс. офицеров и солдат дивизии, - видимо, составляли поляки. Те, кто говорил по-русски в дивизии - а почти весь ее состав говорил по-польски, - говорили с польским акцентом. Значительное число офицеров ранее служило в Красной Армии, и многие из них были награждены орденами и медалями. У одного была медаль за победу под Сталинградом. Но он был самый настоящий поляк, уроженец Львова, мобилизованный в Красную Армию в начале войны. Проблема «национальности» разрешилась теперь любопытным путем: любой житель Западной Украины или Западной Белоруссии, который «считал» себя поляком, мог вступить в дивизию. Очень немногие из офицеров и солдат дивизии служили в армии Андерса, но многие «собирались вступить» в нее перед ее отъездом в Иран. Солдатам говорили, что те из них, чья национальность вызывает сомнения, смогут впоследствии выбирать между польским и советским гражданством. Это относилось и к полякам, и к тем, у кого теперь были уже советские паспорта. Говорили, что в составе дивизии было 6% евреев, 2% украинцев и 3% белорусов. Многие из солдат раньше были польскими военнопленными и приехали сюда из отдаленных мест Советского Союза. Были среди них и высланные в свое время гражданские лица. Днем я увидел целое сборище таких людей - оборванных, обовшивевших и деморализованных; они долгое время жили в ужасных условиях, и, чтобы добраться сюда, им пришлось совершить очень тяжелое и длительное путешествие из Сибири или Средней Азии.
Когда я разговаривал с ними, один офицер заметил: «Многие наши солдаты выглядели так же, когда прибыли сюда, а посмотрите теперь, как элегантно они выглядят». Это было верно, и хотя никто не мог бы отрицать, что полякам на востоке было тяжело, эта дивизия наконец разрешала для них все проблемы, и большинство явно были рады этому. Их служба в дивизии обещала хотя бы, что, если их не убьют, они вступят в Польшу одними из первых, а теперь, после величайшей победы русских под Курском, такая перспектива казалась уже не слишком отдаленной.
Благоприятное впечатление производила группа польских юношей, которая при немцах ремонтировала дороги в районе Калинина, а потом примкнула к советскому партизанскому отряду и наконец перебралась через линию немецкого фронта. Что касается уже обученных солдат, то, хотя они и были довольно разношерстной массой, патриотическая пропаганда явно оказывала на них желаемое воздействие. Они были дисциплинированны, хорошо одеты и накормлены, а мысль, что они будут «первые поляки, которые вступят в Польшу», была для них заманчивой. Многие из них фактически были поляками, которых мобилизовал бы (и забрал с собой в Иран) и Андерс, если бы ему дали время это сделать.
Берлинг и Василевская устроили пресс-конференцию. Берлинг рассказал, что он родился близ Кракова в 1896 г. и в прошлую войну служил в польском легионе Пилсудского. Он работал в штабе армии Андерса, но был не согласен с политической линией Андерса.
Ванда Василевская заявила, что дивизия воочию показала всю абсурдность делавшихся за границей предположений, что это будет лишь символическая воинская часть. Она сказала, что родилась в Кракове в 1905 г., окончила Краковский университет и до разгрома Польши была членом Национального комитета Польской социалистической партии. Прежде она была журналисткой, а с 1934 г. стала писательницей. В Советский Союз она приехала в сентябре 1939 г.
«Союз польских патриотов, - сказала она, - был основан в апреле 1943 г. Союз сразу же обратился за помощью к маршалу Сталину, предложив также, что он, Союз, выделит людей, которые будут выполнять всю необходимую работу среди поляков. Союз польских патриотов ставит перед собой три задачи: 1) содействовать формированию польских вооруженных сил в Советском Союзе, 2) удовлетворять культурные нужды поляков, находящихся в Советском Союзе, и 3) создать сеть польских школ и взять на себя заботу о детях.
Полного списка всех поляков, находящихся в Советском Союзе, нет. Они рассеялись на такой обширной территории, что связаться с каждым из них оказалось невозможным.
Работа польских организаций - школ, больниц и т.п., которыми руководило польское посольство в Куйбышеве, - была абсолютно неудовлетворительной: все руководство ими взял теперь на себя Союз польских патриотов. К 1 сентября школ будет достаточно для всех польских детей в Советском Союзе.
Союз польских патриотов имеет дело только с поляками в СССР; он отнюдь не претендует на роль «заменителя» польского правительства.
Но Союз твердо убежден, что будущее правительство Польши должен создать народ, а не эмигранты. Польша должна быть демократической, а не феодальной страной.
Сикорский (который незадолго до этого погиб при воздушной катастрофе) был хороший, честный человек, но слишком слаб и не мог сопротивляться нажиму реакционеров.
Союз польских патриотов не ведет никакой пропаганды в самой Польше, но уже само существование здесь дивизии имени Костюшко, безусловно, произведет огромное впечатление на польский народ - особенно после того, как она вместе с Красной Армией начнет гнать немцев из Польши».
Ясно, что все это имело очень важное политическое значение, чего не изменил и тот факт, что как Василевская, так и Берлинг, хоть и по разным причинам, довольно скоро сошли со сцены как лидеры этого движения. Их место заняли другие, более сильные люди.
В сентябре 1943 г. Красная Армия отбила у немцев Смоленск, и в январе 1944 г. советские власти опубликовали результаты проведенного ими следствия по «катынскому делу» и пригласили представителей западной прессы в Москве поехать к месту массовых могил.
15 января 1944 г. большая группа западных корреспондентов в сопровождении Кэтлин Гарриман, дочери посла США Аверелла Гарримана, отправилась в свое страшное путешествие, чтобы увидеть сотни трупов в польском обмундировании, вырытых в Катынском лесу советскими органами власти. Утверждалось, что здесь было похоронено около 10 тыс. человек, но фактически было отрыто лишь несколько сот «образцов», которые пропитали даже морозный зимний воздух на всю жизнь запоминающимся зловонием. Специальная следственная комиссия, которая была создана для этой цели и руководила всей церемонией, состояла из представителей судебно-медицинской экспертизы, таких, как академик Бурденко, и ряда видных лиц; среди них были митрополит московский Николай, знаменитый писатель Алексей Толстой, нарком просвещения Потемкин и другие.
О выводах следственной комиссии, созданной немцами в апреле 1943 г., и советской специальной комиссии, созданной в январе 1944 г., уже написаны сотни страниц. Обе позиции были очень полно отражены в целом ряде книг.
Надо сказать, что советские органы мало что сделали для опровержения доводов, выдвигавшихся «лондонскими» поляками против советской версии. В частности, они даже не потрудились рассмотреть косвенные доказательства, которые, казалось, были благоприятными для них.
Во-первых, что бы ни говорили немцы, техника этих массовых убийств была немецкой; гестаповцы применяли в своих массовых убийствах точно такую же технику в бесчисленном множестве других районов.
Во-вторых, зачем было убивать поляков в 1940 г., когда Советский Союз жил в мирных условиях и истреблять польских офицеров не было никакой необходимости.
Далее, возникал вопрос о пулях: поляки были убиты немецкими пулями - факт, который, судя по его дневнику, сильно беспокоил Геббельса. Андерс приводит заявление одного свидетеля, указавшего, что Германия продала Прибалтийским странам большое количество патронов с такими пулями и что русские захватили их там. Но этот довод не безупречен: немцы утверждали, что русские расстреляли поляков в марте 1940 г., а Прибалтийские страны они заняли полностью только три месяца спустя.
Русские также выдвигали тот довод, что Катынский лес был излюбленным местом отдыха жителей Смоленска и что до июля 1941 г., когда туда пришли немцы, он не был окружен проволочными заграждениями. Русские утверждали, что, поскольку до вторжения немцев Катынский лес не был окружен проволочными заграждениями, нелепо было бы предполагать, что населению разрешалось устраивать пикники на свежих массовых могилах!
Наконец, говорили русские, немцы находились в Смоленске с июля 1941 г.; можно ли себе представить, что им стало известно о расстреле поляков только через два года? С другой стороны, разве не могло случиться, что немцы расстреляли поляков в 1941 г., чтобы через два года «подбросить» их русским?
Представленные русскими вещественные доказательства того, что поляки были расстреляны не в 1940-м, а в 1941 г., были, надо сказать, весьма скудными. Они не произвели особого впечатления на корреспондентов, которые их видели: в витринах были выставлены газеты и письма, датированные и 1940 и 1941 гг. (причем их было очень мало), а также другие предметы без дат, например табачные кисеты, медали и одна 50-долларовая банкнота.
Западные корреспонденты, которым было разрешено посетить Катынь при столь необычайных обстоятельствах, были поставлены в крайне затруднительное положение; единственное, что они могли сделать, - это рассказать о том, что им показали. Кроме того, ввиду военного времени нельзя было критиковать советскую версию - важно было не сыграть на руку немцам. Во всяком случае, мисс Гарриман заявила в январе 1944 г., что она убедилась в достоверности версии русских.
(обратно)Глава V. Политические события весны 1943 г.
Условия жизни и работы для большинства населения оставались в 1943 г. весьма тяжелыми. В важнейших отраслях промышленности люди работали сверх положенного, по 11-12 часов. Нехватка рабочей силы была настолько острой, что на некоторых заводах простейшие операции выполняли дети, работавшие по 4-6 часов в день. Карточное снабжение, особенно иждивенцев, было крайне скудным. Продуктов на колхозных рынках было очень мало, и все стоило дорого. В городах имелся «черный рынок», на котором сахар, например, продавался по 3 тыс. руб. за килограмм.
В 1943 г., по выражению Эренбурга, началась «глубокая война». Мирное время стало уже далеким воспоминанием, а победа все еще была далеко впереди, в туманном будущем. «Настоящий» второй фронт все еще не был открыт, и, хотя в период с марта по июнь официальные круги проявляли удивительную сердечность по отношению к западным союзникам, она странным образом противоречила гораздо более прохладному отношению к ним со стороны населения. Очень многие считали, что союзники, несмотря на их операции в Северной Африке и бомбардировки Германии, тянут свою лямку не в полную силу. Обычно предполагается, что «добрый русский народ» настроен гораздо больше в пользу Запада, чем его правительство. В тот момент наблюдалось обратное. Официальная сердечность отношений, несомненно, представляла собой тактический шаг.
Прежде всего, вскоре после неприятного для союзников приказа Сталина от 23 февраля советские власти реагировали на «инцидент со Стэндли» самым приемлемым для Рузвельта образом. Затем произошел разрыв с «лондонскими поляками» - событие, которое наверняка должно было вызвать сильные антисоветские настроения в Англии и Соединенных Штатах Америки. Поэтому русским важно было попытаться «локализовать» польский вопрос и не допустить, чтобы он оказал нежелательное влияние на советско-англо-американские отношения.
Несмотря на то что потеря Харькова все еще остро переживалась, зимняя кампания в целом принесла замечательные успехи. Сколько бы ни потеряли немцы и их союзники - 800 ли тыс. человек, как утверждали русские, или 470 тыс. человек, как признавали немцы, - своевременное восполнение этих потерь (даже в немецком их исчислении) для летнего наступления представлялось почти невозможным, тем более что сателлиты Германии не имели возможности, а главное - желания нести новые людские жертвы для «войны Гитлера», успешный исход которой теперь представлялся весьма маловероятным. Несмотря на это, советские люди ожидали летней кампании с некоторой нервозностью, поскольку в их памяти еще свежи были два ужасных лета - 1941 и 1942 гг.
Накануне решающей военной схватки в июле 1943 г. больше, чем в любой другой период войны, говорилось, будто немцы предлагают сепаратный мир то Советскому Союзу, то западным державам. В своем приказе 1 мая Сталин действительно упомянул об этом зондаже. Есть основания предполагать, что эта сердечность официальных кругов России по отношению к Западу объяснялась, по крайней мере отчасти, их нервозностью в связи с возможной сделкой Германии с западными державами. Такие же подозрения существовали и у другой стороны. Как нам известно, солдатам союзных армий в районе Средиземноморья говорили, что войну придется вести со всей энергией, «а то русские могут из нее выйти». Некоторые подозрения возникли также на Западе в связи с созданием комитета «Свободная Германия» под черно-бело-красным вильгельмовским флагом, который, как считалось, все еще был дорог сердцу значительной части офицерского корпуса Германии.
В отличие от приказа в День Красной Армии, 23 февраля, приказ, подписанный Сталиным 1 мая 1943 г., был полон дружеских слов по адресу западных союзников. Описав большую зимнюю кампанию и упомянув о немецком контрнаступлении под Харьковом, которое стало возможным только потому, что немцы перебросили сюда более 30 дивизий с Запада (единственный колкий намек по поводу второго фронта во всем документе), но которое тем не менее не стало «немецким Сталинградом», Сталин затем с большой похвалой отозвался о «победоносных войсках наших союзников», громящих врага в Триполитании, Ливии и Тунисе, а также о «доблестной англо-американской авиации», которая «наносит сокрушительные удары военно-промышленным центрам Германии, Италии, предвещая образование второго фронта в Европе…»
Положение немцев и их союзников, сказал он, становится все хуже, и в иностранной печати все чаще стали появляться сообщения о мирном зондаже со стороны немцев, рассчитанном на раскол англо-американо-советской коалиции. Германские империалисты сами вероломны, любят и других мерить на свой аршин. Никто не должен попасться на эту удочку. Мир может быть обеспечен лишь в результате полного разгрома гитлеровских армий и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
«Немецко-итальянский фашистский лагерь переживает тяжелый кризис и стоит перед катастрофой. Это еще не значит, что катастрофа гитлеровской Германии уже наступила… Поэтому народам Советского Союза и их Красной Армии, равно как нашим союзникам и их армиям, предстоит еще суровая… борьба… близится время, когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников сломает хребет фашистскому зверю».
В последующие дни советская печать проявляла большую благосклонность к союзникам, чем когда-либо раньше. 8 мая Сталин тепло поздравил Рузвельта и Черчилля с «блестящей победой» в Северной Африке. По всей стране были расклеены плакаты, на которых изображались три молнии равного размера, нарисованные в цветах английского, американского и советского флагов, поражающие отвратительную тварь, вроде гиены с головой Гитлера.
Завершение кампании в Тунисе породило большие, пожалуй даже чересчур большие, надежды в СССР.
Наибольшее впечатление на советских военных обозревателей производил тот факт, что в Тунисе англичане и американцы выиграли первую серьезную битву на суше. Этот факт преподносился как прелюдия к гораздо более крупным операциям на территории Европы. Военно-воздушные силы подготавливали почву для этих операций.
22 мая было объявлено о роспуске Коминтерна. Решение это было объявлено в форме Постановления Президиума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. В постановлении говорилось, что эта организация «устарела» и что она «становится даже помехой дальнейшему укреплению национальных рабочих партий». Война, указывалось далее, продемонстрировала следующее важное обстоятельство:
«В то время как в странах гитлеровского блока основная задача рабочих… состоит в содействии низвержению правительств, в странах антигитлеровской коалиции священный долг… рабочих состоит во всемерной поддержке военных усилий правительств этих стран…»
Постановление заканчивалось следующими словами: «Исполнительный Комитет призывает всех своих сторонников сосредоточить силы на сокрушении немецкого фашизма и его вассалов».
Документ подписали следующие члены Президиума: Готвальд, Димитров, Жданов, Коларов, Коплениг, Куусинен, Мануильский, Марти, Пик, Торез, Флорин, Эрколи (Тольятти), а также следующие представители секций: Биано (Италия), Д. Ибаррури (Испания), Лехтинен (Финляндия), Анна Паукер (Румыния), М. Ракоши (Венгрия).
Через несколько дней в интервью Кингу, корреспонденту агентства Рейтер, Сталин заявил, что роспуск Коминтерна является «правильным и своевременным».
«Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что «Москва» якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и «большевизировать» их… Он облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объединению прогрессивных сил своей страны, независимо от их партийности и религиозных убеждений… Роспуск Коммунистического Интернационала является вполне своевременным, так как именно теперь, когда фашистский зверь напрягает свои последние силы, - необходимо организовать общий натиск свободолюбивых стран для того, чтобы добить этого зверя и избавить народы от фашистского гнета».
Было хорошо известно, что и Черчилль, и Рузвельт настаивали на роспуске Коминтерна. Сталин всегда отвечал, что Коминтерн отмирает и не имеет значения. Однако он не говорил о том, что в состав этого «отмирающего», а теперь мертвого органа входили многие будущие лидеры новой демократии в Европе - Торез, Тольятти, Готвальд, Конецкий, Димитров и др. В то время они вели очень замкнутый образ жизни в Уфе или в Москве. В Москве большинство их жило в гостинице «Люкс» на улице Горького; они очень редко выступали в советской печати, редко появлялись в общественных местах, за исключением самого последнего периода войны.
30 мая состоялся весьма эффектный визит бывшего посла США в Москве Джозефа Дэвиса, известного по фильму «Миссия в Москву». - Прибыв в Москву, Дэвис попросил написать белой краской на фюзеляже его самолета: «Миссия в Москву». Он приехал повидаться со своими, как он выразился, «старыми друзьями» - Микояном, Вышинским и судьей Ульрихом. В фильме «Миссия в Москву» было полно всякого абсурда - Вышинский с большой черной бородой и т.п. Фильм показали в Кремле в тот же вечер, когда там принимали Дэвиса. Советские лидеры смеялись до слез, однако признали, что фильм выдержан в дружеских тонах и полезен для разоблачения мифа о «красной опасности», который, по словам Дэвиса, еще имеет большое распространение в США. Представители английского посольства были в ярости - в фильме фигурировал осел с моноклем, в котором многие увидели карикатуру на английского посла лорда Чилстона. Посольство США и американская пресса были единодушны против Дэвиса отчасти из-за свойственной ему склонности к саморекламе, отчасти же из-за того, что он слишком уж старался показать свои просоветские чувства.
В промежуток времени между роспуском Коминтерна и заявлением Сталина по этому поводу была торжественно отмечена первая годовщина англо-советского союза: в печати публиковались восторженные статьи, имел место обмен посланиями между Калининым и Георгом VI и т.д. 9 июня, в день годовщины заключения советско-американского соглашения, газеты были полны похвал по адресу США и выражений благодарности за поставки по ленд-лизу. «Правда» писала: «Советский народ не только знает, но и высоко ценит помощь, получаемую от великой заокеанской республики». Самое главное теперь, писала «Правда», - не давать Гитлеру никакой передышки.
Эта непрекращавшаяся шумная реклама союзников была, конечно, связана с военной обстановкой. Предстояли крайне напряженные бои, и советские руководители надеялись, что союзники в ближайшем будущем предпримут новые большие усилия (поскольку в Северной Африке дело уже было сделано).
В заявлении Совинформбюро от 22 июня 1943 г. («Два года Отечественной войны Советского Союза») даже указывалось, что «без второго фронта невозможна победа над гитлеровской Германией». Главная мысль заявления заключалась в том, что Красная Армия, сковав 200 немецких дивизий и 30 дивизий стран - сателлитов Германии, дала западным союзникам достаточно времени, чтобы подготовиться к массированному удару по державам «оси» на Европейском континенте.
Как следовало понимать заявление Совинформбюро: как очередной тактический шаг, чтобы польстить союзникам, или как проявление подлинного беспокойства перед крупными летними сражениями?
В июне 1943 г. обстановка действительно была напряженная. Все чувствовали, что буря может разразиться в любой момент. Многие удивлялись, почему немцы до сих пор не переходят в наступление. Авиация, как немецкая, так и советская, действовала весьма активно. В течение нескольких ночей немцы совершали налеты на Горький и произвели серьезные разрушения в промышленных районах города. Особенно сильно пострадал крупный завод по сборке танков. Налетам подверглись также Курск, Саратов, Ярославль, Астрахань и другие города. Немцы, кроме того, сбросили мины в Волгу в нижнем ее течении.
Советская авиация произвела налеты на Орел и другие пункты. В целом было ясно, что район Курск, Орел будет главным полем битвы. Поэтому когда началось немецкое наступление, оно было совершенно лишено элемента внезапности. Даже знаменитое новое оружие немцев - танки «тигр» и «пантера» - не было тайной. Несколько таких машин было захвачено под Ленинградом, и две даже демонстрировались на выставке трофеев в Москве в июне. Советское военное командование провело все необходимые эксперименты для разработки средств поражения этих машин.
11 июня я записал разговор с одним советским корреспондентом, только что вернувшимся из района Курска. Он сказал, что там сосредоточено поистине колоссальное количество военной техники; ничего подобного он еще не видел. А что еще сделает нынешнее лето не похожим на другие, так это огромное количество американских грузовиков. Подвижность советских войск вырастет неимоверно. Русские солдаты убеждаются, что американские грузовики - отличные машины.
В тот же день я сделал следующую запись:
«Сегодня Молотов устроил завтрак, чтобы отметить годовщину подписания советско-американского соглашения. Он был настроен очень дружелюбно и все время говорил о сотрудничестве Большой тройки не только во время войны, но и в послевоенный период. Все тосты провозглашались за продолжение тройственного союза после войны. Кларк Керр сказал, что он рад тому, что англо-советский союз оказался таким крепышом - сначала ребенок казался немного рахитичным. Адмирал Стэндли говорил о поставках по ленд-лизу. В первое время они поступали недостаточно быстрыми темпами, но теперь все обстояло очень хорошо - повсюду полно американской и английской техники - «эрликоны» на советских ледоколах, английские орудия на линкоре «Красный Октябрь»… Русские все больше думают (или говорят) о мире под эгидой Большой тройки в послевоенный период…»
Во второй половине июня в Москве два раза объявлялась воздушная тревога. 9 июня бомбы были сброшены в предместьях, но не на Москву. Немецкие самолеты шли на Горький. Тем не менее войскам противовоздушной обороны Москвы было приказано быть наготове.
19 июня Эренбург опубликовал статью о возможных налетах на Москву в будущем, написанную в весьма тревожных тонах: «Не забывайте, что они все еще в Орле; забудьте, что их больше нет в Вязьме. Они не возьмут Москву, но они ненавидят Москву - символ их поражений; они попытаются изуродовать и обезобразить ее».
В июне я часто встречался с летчиками из французской эскадрильи «Нормандия». Среди них были самые различные люди - от парижских рабочих-коммунистов, говоривших с восхитительным акцентом парижских предместий, до рыжеволосого виконта де ла Пуала. Русские были удивлены, почему виконт хочет сражаться на стороне большевиков. Но самой впечатляющей фигурой среди этих замечательных ребят был командир эскадрильи Тюлян - невысокий, красивый, отличавшийся утонченностью манер.
Эскадрилья была сформирована в Сирии в 1942 г. По политическим соображениям де Голль решил направить эту небольшую воинскую часть в СССР. Эти французы находились здесь с конца 1942 г., уже участвовали в боевых операциях и к июню сбили 15 немецких самолетов, потеряв три. Сейчас, в июне 1943 г., они готовились к тем большим сражениям, в ходе которых многим из них было суждено погибнуть. У них сложились хорошие отношения с советскими механиками на базе, и они очень весело проводили время с девушками из близлежащей деревни. Летали французские летчики на машинах Як-1, которые, как они говорили, нравились им.
Тюлян, с которым я встретился на завтраке 17 июня у генерала Пети (французский военный атташе), говорил, что в районе Брянска (где находилась база французской эскадрильи) пока все очень спокойно, но что «это» может начаться в любой момент. Советская авиация наносила удары с воздуха по немецким коммуникациям. В налетах участвовало по 200 бомбардировщиков и 200 истребителей сразу. Днем использовались советские бомбардировщики, а ночью - американские. У немцев здесь почти совсем не было ночных истребителей - они были заняты в боях над Германией.
Французы, говорил Тюлян, едят то же, что и русские. Им нравились каша и щи. Но им редко давали свежее мясо, а обычное блюдо - американская тушенка - надоело. Недавно прибывшим французским летчикам жизнь казалась крайне неблагоустроенной, но в остальном они чувствовали себя превосходно. Деревенские девушки были «весьма приветливы».
Эскадрилья «Нормандия» вписала одну из самых славных и вместе с тем самых трагических страниц в книгу боевых подвигов французов во время Второй мировой войны. В ходе боев под Курском и Орлом летом 1943 г. погибло примерно две трети первоначального состава эскадрильи, в том числе Лефевр и Тюлян… Позже их место заняли новые французские летчики, и свои последние бои эскадрилья вела в Восточной Пруссии. Имея на вооружении лучшие истребители Як-3, эскадрилья наносила страшный урон слабеющим военно-воздушным силам Германии. Однажды летчики эскадрильи за три дня сбили около 100 немецких самолетов. Виконт де ла Пуап родился под счастливой звездой: вместе с тремя другими французскими летчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза, и он в конце концов благополучно вернулся во Францию. Однако ветераны эскадрильи больше всего вспоминали Тюляна.
Страшные потери эскадрильи «Нормандия» дают некоторое представление о тех потерях, которые несла в целом советская авиация.
Проявления дружеских чувств к западным союзникам (все время с прицелом на мир под эгидой Большой тройки) были отчасти ослаблены одним новшеством. В июне стал выходить издававшийся профсоюзной газетой «Труд» новый журнал «Война и рабочий класс». В первом номере журнал провозгласил своей основной целью разоблачение профашистских элементов за границей, выступающих против советской концепции мира под эгидой Большой тройки. «Но было бы смешно и неумно скрывать от себя и от других, что существуют известные трудности во взаимоотношениях между участниками антигитлеровской коалиции». Журнал также обрушивался на американских изоляционистов, английскую «клайвденскую клику» и других «мюнхенцев». Эти «полусоюзники Гитлера» теперь стремятся делать свое грязное дело с помощью «определенных польских кругов, которые ничему не научились». Затем журнал положительно отзывался о «директорате главных держав», который будет «подотчетен» более широкой международной организации, включающей все страны мира. Так начинала складываться советская концепция Организации Объединенных Наций.
(обратно)Глава VI. Курская битва
В феврале, после Сталинграда, Гитлер заявил, что немецкая армия должна «наверстать летом то, что было упущено зимой». Сделать это было нелегко, так как немцы и их союзники потеряли более полумиллиона, может быть, даже 700 тыс. человек. Как видно из немецких источников, несмотря на проведенную в Германии «тотальную мобилизацию», восполнить к началу летних боев можно было лишь примерно половину этих потерь. Престиж Гитлера сильно пострадал в связи с поражением в Сталинграде, и то, что немцы снова заняли Харьков, делу не помогло.
Разгром немцев в Северной Африке и близкая перспектива вторжения союзников в Италию, политические последствия которого было трудно (или, вернее, очень легко) предугадать, - все это только усиливало замешательство, в котором находился Гитлер. Теперь вряд ли можно было рассчитывать на выигрыш войны в России. Однако Гитлеру крайне нужна была эффектная победа - что-нибудь вроде победы Красной Армии под Сталинградом. Курский выступ между Орлом на севере и Белгородом на юге (выступ, который советские войска заняли прошлой зимой) представлялся самым подходящим местом для нанесения сенсационного поражения русским.
Советское командование рассматривало Курский выступ как плацдарм для развития наступления с задачей освобождения Орловской и Брянской областей на северо-западе и Украины на юго-западе. Здесь оно сосредоточило колоссальные силы. Начиная с марта русские укрепляли выступ, вырыв тысячи километров окопов, соорудив тысячи огневых точек и т.д. Глубина обороны по северному, западному и южному краям выступа достигала 100 км.
По немецким источникам, весной 1943 г. Гитлер был намерен из политических, так же как и экономических, соображений удерживать фронт от Финского залива до Азовского моря и нанести сокрушительное поражение Красной Армии своей операцией «Цитадель» в Курском выступе. Окружение крупных советских сил в этом районе, думал он, приведет к серьезному изменению всей стратегической обстановки в пользу немцев и может даже сделать возможным новое наступление на Москву.
Теперь немцы пишут по этому поводу следующее: «Курский выступ представлялся особенно подходящим местом для нанесения такого удара. В результате одновременного наступления немецких войск с севера и юга окажется отрезанной мощная группировка русских войск. Надеялись также разгромить и те оперативные резервы, которые противник введет в бой. Кроме того, ликвидация этого выступа значительно укоротит линию фронта… Правда, кое-кто даже тогда утверждал, что противник ожидает наступления немцев именно в этом районе и… что поэтому есть опасность потерять больше своих сил, чем нанести потерь русским… Однако переубедить Гитлера было невозможно, и он считал, что операция «Цитадель» увенчается успехом, если предпринять ее в скором времени»[175].
Однако начало операции задерживалось в связи с неблагоприятными условиями местности, а также в связи с тем, что немецкие дивизии медленно получали пополнения. В этих условиях генерал Модель, командовавший немецкими войсками к северу от выступа, заявил, что операция не может быть успешной, если не будут получены сильные подкрепления танков новых образцов, превосходящих по своим боевым качествам лучшие советские машины. Поэтому наступление вновь было отложено до середины июня, а тем временем массы новых танков «тигр» и «пантера» и самоходных орудий «фердинанд» спешно подвозились на фронт прямо с военных заводов Германии. Но потом у немцев возникли новые колебания и задержки, вызванные в числе других причин опасениями Гитлера, что Италия вот-вот выйдет из войны. Убедившись, что Муссолини не собирается сдаваться, Гитлер решил придерживаться первоначального плана. Победа под Курском, заявил он, поразит воображение всего мира.
Тем временем Советское Верховное Главнокомандование не теряло времени зря. Ничто не могло устроить его в большей мере, чем намерение немцев нанести удар в том месте, где Красная Армия была сильнее всего. О сосредоточении советской боевой техники в районе основных боев можно судить по тому факту, что менее чем за три месяца из тыла в район Курского выступа было доставлено около 500 тыс. вагонов военных грузов всех видов.
Немцы сосредоточили вокруг выступа 2 тыс. танков (по советским данным - более 3 тыс.), из них более половины - на южном участке, где командовал генерал Гот, и около 2 тыс. самолетов.
Филиппи и Гейм пишут:
«При таком массовом сосредоточении немецких войск Гитлер ожидал сражения с большой уверенностью в победе. Он не сомневался, что северная и южная ударные группировки прорвут оборону русских и замкнут кольцо окружения восточнее Курска. Однако вопреки ожиданиям понадобилось очень мало времени, чтобы убедиться, что наступление провалилось, хотя наши войска напрягали силы до предела. Наши атакующие части глубоко вклинились в оборону русских, но несли очень тяжелые потери, а 7 июля русские бросили в бой еще большее количество тяжелых танков. Немецкая 4-я танковая армия вела особенно тяжелые бои. Максимум, на что она могла надеяться, - это не быть отброшенной назад. Возникли серьезные сомнения относительно исхода операции «Цитадель». Тем не менее 10 июля Гитлер приказал продолжать наступление. В этот день западные союзники высадились в Сицилии, и «курская победа» была нужна ему больше, чем когда-либо.
В действительности после первоначальных тактических успехов в Курской битве уже давно наступила пауза, а 12 июля русское командование неожиданно нанесло удар в направлении Орла - в тыл 9-й немецкой армии (северный край Курского выступа)…, 13 июля Гитлер неохотно отдал приказ прекратить операцию «Цитадель». Это решение было стимулировано также тем фактом, что итальянцы не сумели защитить Сицилию и вырисовывалась необходимость послать в Италию немецкие подкрепления»[176].
За четыре дня немцам удалось лишь кое-где и неглубоко вклиниться в Курский выступ - на севере примерно на 16 км по фронту шириной 20 км и на юге примерно на 50 км по фронту той же ширины. Около 150 км разделяли наступавшие навстречу друг другу немецкие войска, когда битва замерла.
Почти все танковые части немцев были потрепаны настолько, что восстановить их силы было невозможно. В конце концов немцы потеряли инициативу и ее перехватила Красная Армия.
Несмотря на то что Красная Армия также понесла тяжелые потери в битве под Курском, советское командование все же смогло начать летнее наступление на очень широком фронте и превосходящими силами.
В Москве наступила огромная напряженность, когда стало известно, что немцы начали наступление. Новость эта содержалась в проникнутой духом патриотизма статье, опубликованной в «Красной звезде»:
«Наши отцы и деды немалым жертвовали для спасения своей России, своей Родины-матери. Народ наш никогда не забудет Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, русских партизан времен Отечественной войны 1812 года. Мы гордимся тем, что в наших жилах течет кровь наших славных предков, мы никогда не отстанем от них».
В самом сердце России, на родине Тургенева, шла современная Куликовская битва, от исхода которой так много зависело.
В первый же день битвы стали ясны два немаловажных факта: то, что Германия бросила в бой огромные силы, и то, что эти силы несут невиданные по масштабам потери, не достигая при этом успеха. В сводке за первый день сражения говорилось:
«С утра 5 июля наши войска на орловско-курском и белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанных большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями, и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. По предварительным данным, нашими войсками на орловско-курском и белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 586 немецких танков, сбито 203 самолета противника. Бои продолжаются».
Мысли всех людей в стране были прикованы к цифре 586 уничтоженных танков противника - даже похожих на это результатов за один день никогда раньше не было. Впечатление было примерно таким же, какое в Лондоне, в разгар битвы за Англию, произвело сообщение о том, что за один день сбито 280 немецких самолетов.
В сводке за 6 июля снова говорилось, что советские войска немного отошли, а потери немцев составили 433 танка и 111 самолетов. 7 июля немцы потеряли еще 520 танков и 111 самолетов, а 8 июля советские войска уже наносили контрудары и сообщалось, что немцы потеряли за этот день 304 танка и 161 самолет.
К 9 июля, после четырех напряженных дней, тревога кончилась. Правда, она ослабла уже после сообщения о 586 уничтоженных немецких танках. «Тигры горят» - под таким заголовком было напечатано одно сообщение с фронта. Стали появляться заявления потрясенных немцев о «такой кровавой бойне, какой никогда раньше немецкие войска не видывали».
Вот что сообщил немецкий капрал, захваченный в районе Белгорода: «Наш медперсонал не успевал оказывать помощь всем раненым. Один санитар сказал мне, что медпункт похож на бойню».
В советской сводке за. 15 июля сообщалось о начале контрнаступления на Орел[177] и указывалось, что за три дня после прорыва на ряде участков орловского клина советские войска продвинулись на 25-50 км.
В приказе Сталина от 24 июля генералам Рокоссовскому, Ватутину и Попову было объявлено о «полной ликвидации летнего наступления немцев» и возвращении всей территории, занятой немцами после 5 июля. В приказе говорилось, что под Орлом, Курском и Белгородом немцы сосредоточили в общей сложности 37 дивизий - 17 танковых, 2 механизированные и 18 пехотных, но они не застигли русских врасплох и их планы прорыва к Курску потерпели полный крах. Раз и навсегда было покончено с легендой о том, что немцы летом всегда наступают. Потери немцев исчислялись в следующих размерах: 70 тыс. человек убитыми, 2900 танков, 195 самоходных орудий, 844 полевых орудия, 1392 самолета и 5 тыс. автомашин.
Во всех сообщениях с фронта подчеркивалась та необычайная уверенность, с какой действовали советские войска в этой битве. Несомненно, некоторые из приведенных цифр были преувеличены. Но даже если немцы потеряли не 3 тыс., а 2 тыс. танков (после войны немцы признали, что их танковые войска под Курском были просто стерты в порошок), это тоже было достаточно хорошим результатом. Если немцы потеряли 70 тыс. убитыми в Курской битве, то понятно, что и советские войска также должны были понести тяжелые потери. В сообщениях приводились примеры исключительного мужества и стойкости русских. Например, солдаты оставались в окопах, пропуская над головой тяжелые немецкие танки, и затем стреляли по ним сзади.
По имеющимся оценкам, в Курской битве участвовало с обеих сторон около 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов. Это была такая гигантская бойня на небольшой территории, страшнее которой еще не было. Когда через несколько недель я ехал по прекрасной земле Украины от Волчанска на Валуйки и дальше на Белгород и Харьков, то видел, что район к северу от Белгорода и Харькова (где немцы проникли примерно на 50 км в пределы Курского выступа) превратился в мрачную пустыню - даже все деревья и кусты здесь были сметены артиллерийским огнем. Поле боя все еще было усеяно сотнями сгоревших танков и разбитых самолетов, и даже за несколько километров отсюда в воздухе стоял смрад от тысяч полузарытых трупов.
Однако для тех в СССР, кто выжил, это были замечательные дни. 5 августа, после специального заявления Сталина об освобождении Орла и Белгорода, начался период, который можно назвать эрой победных салютов.
Диктор московского радио Левитан своим глубоким голосом впервые зачитал слова приказа Верховного Главнокомандующего, которые в последующие два года звучали для советских людей как приятная и знакомая мелодия:
«Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел.
Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород…»
После того как были названы части, первыми ворвавшиеся в эти два города, было сказано, что впредь они будут именоваться «орловскими» и «белгородскими»; далее диктор впервые объявил:
«Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины - Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий… Объявляю благодарность всем… войскам, участвовавшим в операциях по освобождению Орла и Белгорода. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины. Смерть немецким оккупантам!»
Эти формулировки с незначительными вариациями стали текстом, который миллионы радиослушателей еще более трехсот раз услышали до окончательной победы над Германией и Японией. Да, началась эра салютов победы.
На следующий день, 6 августа, сводка сообщила, что войска, взявшие Орел, преследуют противника в западном направлении, захватили Кромы и 70 других населенных пунктов и что на юге успешно развивается широкое наступление в направлении на Харьков.
Решение отметить победу под Курском первым салютом и фейерверком было принято отнюдь не случайно. Советское командование знало, что, выиграв Курскую битву, СССР фактически выиграл войну.
Такой же точки зрения придерживаются немецкие историки в послевоенный период. Так, Вальтер Гёрлиц считает, что Сталинград был поворотным пунктом войны на Востоке в политико-психологическом плане, а поражение немцев под Курском и Белгородом - поворотным пунктом с чисто военной стороны[178].
(обратно)Глава VII. Орел в период немецкой оккупации: личные впечатления
Освобождение древнего русского города Орла и полная ликвидация орловского клина, в течение двух лет угрожавшего Москве, было прямым результатом разгрома немецко-фашистских войск под Курском.
Орел был одним из первых чисто русских больших городов, освобожденных в 1943 г. Кроме того, здесь (в отличие от Дона и Кубани) немцы находились в течение почти двух лет - с октября 1941 г.
На второй неделе августа я смог проехать на автомобиле из Москвы до Тулы, а затем до Орла. В приводимом ниже рассказе, основанном на моих записях, сделанных в то время, описывается, как выглядел орловский клин на переднем крае, что я увидел внутри клина, и в частности в самом Орле.
Чертополох стоял в рост человека. Густые заросли чертополоха и другой сорной травы образовывали полосу шириной примерно в три километра, тянувшуюся на запад, затем на восток и юг - почти по всему периметру орловского клина.
В этих зарослях, через которые теперь шла пыльная дорога из Тулы, на каждом шагу человека подкарауливает смерть. «Minen» (по-немецки), «мины» (по-русски) - читал я на старых и новых дощечках, воткнутых в землю. Вдали, на холме, под голубым летним небом виднелись руины церквей, остатки домов и одинокие печные трубы. Эти протянувшиеся на многие километры заросли сорняков почти два года были ничейной землей. Руины на холме были развалинами Мценска. Две старухи и четыре кошки - вот все живые существа, которых советские солдаты нашли там, когда немцы отошли 20 июля. Прежде чем уйти, фашисты взорвали или сожгли все - церкви и здания, крестьянские избы и все остальное. В середине прошлого века в этом городе жила «Леди Макбет» Лескова и Шостаковича. Как-то не укладывалось в голове, что эта драма страстей и крови развертывалась в городе, где теперь стоял запах крови, пролитой по совсем иным причинам.
Сквозь заросли сорняков мы подъехали к Мценску. Нет, одно маленькое кирпичное строение каким-то образом уцелело. «Пункт питания, - гласило объявление. - Здесь вы можете получить дневную норму питания: завтрак, обед, ужин». Рядом другое объявление: «Враг разрушил и ограбил этот город, угнал в неволю его жителей. Они взывают к отмщению».
«Чертова выдумка эти мины, - сказал полковник, встретивший нас в Мценске. - На участке всего 100 метров по обочине этой дороги мы вырыли 650 мин». Он рассказывал о новых минах замедленного действия, обнаруженных в немецких блиндажах. Взрыватель срабатывает, когда кислота разъест металл. Некоторые взрываются через два месяца. Кроме того, есть мины-ловушки, таких ловушек полно. Мины и мины-ловушки стали одним из важнейших видов оружия немцев в 1943 г. Для советских солдат они были самой большой неприятностью и главной темой разговоров[179]. В сражении за Орел части Красной Армии понесли ужасные потери из-за мин. В будущем они вызовут новые потери под Харьковом и в других местах. Когда мы беседовали с полковником, мимо проехала повозка, на которой лежали два стонущих солдата. Головы их были в крови. Они только что подорвались на мине…
За последние несколько дней лишь около 200 человек вернулись в Мценск - из прежнего населения 20 тыс. Вернувшиеся прятались где-то по деревням.
По дороге на Орел, идущей по полям и прекрасным лесам, нигде не видно деревень. Только таблички стоят на развалинах, указывая, какая здесь была деревня.
Созданная немцами «зона пустыни» протянулась теперь от Ржева и Вязьмы до Орла.
Орел, этот не так давно приятный, тихий провинциальный город, все еще полный воспоминаний о Тургеневе, сильно пострадал. Более половины домов было разрушено; в некоторых местах развалины еще дымились. Мосты через Оку были взорваны, но уже был наведен временный деревянный мост, и по нему на запад шли военные грузовики, а в Орел прибывали санитарные машины из Карачева - в пятидесяти километрах к западу, где шли тяжелые бои. Как жил Орел в течение почти двухлетней немецкой оккупации?
Из 114 тыс. населения в городе сейчас осталось только 30 тыс. Многих жителей оккупанты убили. Многие были повешены на городской площади - на той самой, где теперь похоронен экипаж советского танка, который первым ворвался в Орел, а также генерал Гуртьев - прославленный участник Сталинградской битвы, убитый в то утро, когда советские войска с боем взяли город. Говорили, что немцы убили 12 тыс. человек и вдвое больше отправили в Германию. Многие тысячи орловцев ушли к партизанам в Орловские и Брянские леса, ибо здесь (особенно на Брянщине) был район активных партизанских действий.
Немцы назначили в городе русского бургомистра (который теперь бежал вместе с ними) и привезли на Орловщину нескольких бывших русских помещиков или их сыновей - их называли белогвардейцами. Однако не известно, получили ли они назад свои поместья. Поощрялись небольшие частные предприятия, но товаров было так мало, что все кончилось ничем.
Зима 1941/42 г. была самой тяжелой. Люди сотнями умирали от голода. Позже они стали получать по 200 г хлеба в день, если как-то работали на немцев. И затем весь этот ужас лагеря военнопленных. Здесь я впервые непосредственно познакомился с отношением немцев к советским военнопленным, а оно изменилось после Сталинграда. До этого им давали гибнуть массами. После Сталинграда шантажом или лестью их пытались вовлекать в армию изменника Власова.
Генерал Собенников, теперь начальник гарнизона Орла, принимал участие в большом июльском наступлении и сейчас рассказывал о нем. К 15 июля, после трехдневных тяжелых боев, советские части прорвались сквозь главные линии обороны немцев по периметру орловского клина. Никогда еще, сказал он, против оборонительных позиций немцев не сосредоточивалось столько советской артиллерии, сколько здесь. На многих участках ее огневая мощь превышала в десять раз мощь артиллерии под Верденом. Минные поля немцев были настолько густыми и их было так много, что нужна была артиллерийская «сверхподготовка» для того, чтобы уничтожить как можно больше мин и таким образом сократить потери частей, которые потом шли на прорыв обороны. 20 июля немцы попытались приостановить советское наступление, бросив в бок сотни самолетов. Советским зенитчикам и истребителям было нелегко справиться с ними. В бесчисленных воздушных боях обе стороны несли очень тяжелые потери. В эти дни погибло также много французских летчиков.
Насколько важно немцам было удержать Орел, продолжал Собенников, видно из приказа генерала фон Шмидта (потом замененного генералом Моделей) удерживать Орел до самой последней возможности.
«И, безусловно, немцы стояли до конца, - сказал генерал, - у немцев здесь были крепкие войска. Почти все держались стойко, и лишь незначительная часть сдалась. Среди пленных не было солдат старше тридцати лет - отборные войска, здоровые, хорошие войска. Товарищ Эренбург, рассуждая о том, что немецкая армия состоит из стариков, страдающих подагрой и геморроем, сам не знает, о чем говорит. Да, это были хорошие войска, но все же морально подорванные. Курск и все остальное оказало на них деморализующее влияние. Пленные рассказывали, что падение Муссолини также произвело глубокое впечатление на немецких солдат, хотя некоторые из них продолжали верить выдумке офицеров о том, что Муссолини тяжело болен».
Затем генерал рассказал сложную историю о том, как Орел был к 3 августа почти полностью окружен и как наконец ранним утром 5 августа русские ворвались в Орел.
«Наш броневик с радиоустановкой, игравшей «Интернационал», «Священную войну» и «Синий платочек», одним из первых ворвался в город. Впечатление наша музыка производила потрясающее - люди толпами выходили на улицы, хотя еще продолжались бои. Немецкие самоходные орудия и танки продолжали действовать, и много неприятностей доставляли автоматчики, засевшие на чердаках. Один из них убил генерала Гуртьева. Продолжали взрываться мины замедленного действия, и посреди всего этого шума из нашего репродуктора гремели патриотические песни. Только на следующий день были уничтожены автоматчики, хотя некоторые из них, возможно, где-то еще прячутся. В Орле, вероятно, остались еще сотни мин замедленного действия, хотя 80 тыс. мин уже нашли. В связи с этим войска в городе пока что не разместились…
Да, я въехал в Орел утром 5 августа. Представьте себе картину: светает, кругом еще горят дома, наши орудия и танки вступают в город - они покрыты цветами, из громкоговорителя несутся звуки «Священной войны», старухи и дети бегут среди солдат, суют им в руки цветы, целуют их. Кое-где еще продолжается перестрелка. Я запомнил старую женщину. Она стояла на углу Пушкинской улицы и крестилась, а по ее морщинистому лицу текли слезы. Другая пожилая женщина, образованная, судя по разговору, подбежала ко мне, протянула цветы и, обняв меня за шею, говорила, говорила, говорила без конца. Из-за шума вокруг я не мог расслышать, что она говорит, понял только, что о сыне, который в Красной Армии». Прошло лишь пять дней после освобождения Орла, однако органы советской власти были уже полностью в нем восстановлены. Большинство административных зданий немцы уничтожили, но в небольшом доме в переулке обосновался в качестве председателя Исполкома областного совета М.П. Ромашов - командир местных партизан, Герой Советского Союза. Он мог многое рассказать о партизанской войне - о схватках с карательными отрядами, об освобождении партизанами населения, которое угоняли на Запад. Партизаны убивали немецких конвойных, и люди разбегались по лесам.
Среди населения Орла проводилась проверка. Особенно должны были отчитываться члены партии о своем поведении в течение двадцати месяцев немецкой оккупации. Орел был захвачен 2 октября 1941 г. танками Гудериана настолько внезапно, что многие были застигнуты врасплох и не успели уйти. На столе у Ромашова я видел заявление, написанное малограмотной женщиной, которая сообщала, что она - член партии, оказалась запертой здесь с двумя детьми 2 октября и, чтобы обеспечить существование себе и детям, вынуждена была пойти работать уборщицей в немецкое учреждение.
У большого кирпичного здания орловской тюрьмы из рва выкапывали трупы. Издали они казались мягкими зеленовато-коричневыми тряпичными куклами - их складывали возле рва, откуда их извлекали. Два представителя советских властей сортировали черепа - некоторые были с пулевыми отверстиями в затылке, другие без таких отверстий. Из рва шел едкий, застоявшийся смрад. Выкопали 200 трупов, но, судя по длине и глубине рва, там находилось по крайней мере еще 5 тыс. трупов. Некоторые «образчики» были трупами женщин, но большинство - мужчин. Половину составляли советские военнопленные, умершие от голода и различных болезней. Остальные были солдаты или гражданские лица, которых убивали выстрелом в затылок. Казни совершались в 10 утра по вторникам и пятницам. Взвод гестаповцев, производивший расстрелы, методично появлялся в тюрьме два раза в неделю. Помимо этих, много других людей было убито в Орле. Некоторых публично вешали как «партизан» на городской площади.
Находясь в Орле, я как-то посетил очаровательный старинный дом с классическими колоннами и запущенным садом. Дом этот когда-то принадлежал родственнику Тургенева. Сам Тургенев здесь часто бывал, и, очевидно, именно этот дом он имел в виду, когда писал «Дворянское гнездо». Все здесь, наверное, осталось так, как было в 40-е годы прошлого века.
В доме помещался музей Тургенева, и я беседовал со стариком смотрителем. Он три месяца просидел в гестаповской тюрьме и слышал залпы расстрелов утром по вторникам и пятницам. Оба его помощника по музею были расстреляны как лица, «подозреваемые в принадлежности к коммунистам».
Старик (его фамилия Фомин) рассказал о страшном голоде в Орле. Длительное время населению вообще не выдавали никакого продовольствия, даже мизерного хлебного пайка. Проходя по улицам зимой 1941/42 г., люди спотыкались о тела упавших и тут же умерших. В ту зиму он с женой с большим трудом меняли свои пожитки на картофель и свеклу. Позже людям помогали выжить их огороды.
Фомин рассказал, что немцы забрали 10 тыс. томов из Тургеневской библиотеки, а многие другие экспонаты, например дробовик Тургенева, были просто украдены. Слава богу, говорил он, хоть дом уцелел. Дом Тургенева в Спасском-Лутовинове - между Орлом и Мценском - сгорел дотла.
Однажды вечером, когда звездное небо окрасилось на западе, в сторону Карачева, красным заревом горящих деревень, я повстречал в горсовете странную пару - местного врача и местного священника.
Доктор Протопопов, с маленькой бородкой и в пенсне, напоминавший чеховский персонаж, рассказывал, как, несмотря ни на что, ему удавалось лечить больных и раненых советских военнопленных. Они находились в кошмарном состоянии - голодные и запущенные. Лишь он и несколько преданных помощников пытались хоть немного облегчить их участь, собирая продовольствие среди местных жителей - хотя тем мало было чем делиться - и потихоньку пронося его в больницу. Некоторых тяжело больных пленных немцы в самые морозы решили перебросить на санях в другую больницу, за много километров. Русский персонал тщетно протестовал. Постарались как можно больше людей укутать в одеяла. Но почти половина умерла во время переезда. Как он слышал, эта другая «больница» мало чем отличалась от лагеря смерти.
Священник - старик 72 лет, в грязной одежде, совсем глухой, с седой бородой и крестом на серебряной цепи, сказал, что многие русские работали на немцев потому, что иначе умерли бы от голода. Ему разрешали посещать русских военнопленных. Их морили голодом. Иногда за один день умирало 20, 30 и даже 40 человек. Однако после Сталинграда немцы стали кормить их немного лучше, а затем начали уговаривать вступать в «русскую освободительную армию».
Отец Иван рассказал, что в какой-то мере немцы поддерживали церковь - в этом заключался один из элементов их антикоммунистической политики. Но в действительности именно церкви неофициально создали «кружки взаимной помощи», чтобы помогать самым бедным и оказывать посильную поддержку военнопленным. Священник сказал, что «в силу обстоятельств» он перестал отправлять функции деревенского священника в 1929 г. Когда пришли немцы, он подумал, что может помочь делу России, если снова пойдет служить в церковь. «Вокруг меня образовалась группа верующих, и нам дали церковь. Должен сказать, что при немцах церкви в Орле процветали, но они превратились, чего немцы не ожидали, в активные центры русского национального самосознания». Однако человек, которому немецкое командование поручило надзирать за церквами, оказался не епископом, как, естественно, многие ожидали, а просто гражданским чиновником по фамилии Константинов, из русских белоэмигрантов. Таким образом, церкви были лишены всякой самостоятельности, и даже резиновые печати каждой из них хранились под замком в столе у Константинова. Это казалось отцу Ивану особенно возмутительным. Его непосредственным начальством был отец Кутепов, служивший в церкви, которая была гораздо больше. Отец Кутепов сказал отцу Ивану, чтобы он никогда не упоминал московского митрополита Сергия и молился только за одобренного немцами митрополита Серафима, находившегося в Берлине.
«Мне это не нравилось, - заявил отец Иван, - и я не упоминал ни того, ни другого. Да, церкви были переполнены; в Орле их было пять…»
Священника, конечно, немцы ввели в заблуждение особенно тем, что разрешили открыть церкви, закрытые пятнадцать или более лет. Но какую цель имела такая «церковная политика» немцев в отношении людей, которых они все равно собирались уморить голодом? Может быть, они хотели посеять как можно большее смятение в умах русских? Любопытно, что церкви стали центрами «русицизма» вопреки ожиданиям немцев, что церкви превратятся в центры антисоветской пропаганды.
В Орле во время его почти двухлетней немецкой оккупации действовали и еще некоторые странные личности. Учебные заведения (кроме нескольких начальных школ и школы малолетних шпионов, вроде той, о какой я уже слышал в Харькове) были закрыты. Молодежь, избалованная советской властью, была особенно озлоблена. Учителям, даже из закрытых школ, приказали посещать лекции, которые читал по-русски со странным акцентом человек, называвший себя Октаном. Его лекции именовались «Курс педагогической переподготовки». Октан, кроме того, редактировал в Орле газету на русском языке «Речь», в которой пропагандировались основные положения его лекций, а именно: «Русские от природы не обладают творческими способностями и должны подчиняться приказам других», «Пересмотр исторического прошлого русских», «Каким должен быть ариец». В своей газете он проповедовал «полный пересмотр культурных ценностей»; Толстого объявил ничего не стоящим писателем; русскую музыку принижал, а Вагнера провозглашал величайшим музыкальным гением всех времен. Нет нужды говорить, что не все преподаватели были «приглашены» на лекции Октана. Многих арестовали, а другие скрылись.
Общее впечатление было таково, что в дни своих побед 1941-1942 гг. немцы еще имели в своем распоряжении сколько-то белогвардейских авантюристов и наемников, согласных выполнять какую-то, хотя еще не вполне определившуюся роль в деле германизации таких чисто русских районов, как город Орел.
А вот еще один дикий факт: в Орле искони жили люди, которые были немцами по происхождению. Их послали в Лодзь для проверки крови, чтобы установить, являются ли они настоящими арийцами.
Другое запомнившееся впечатление об Орле - это состояние железной дороги. Я никогда не видел картины столь полного разрушения. В районе Сталинграда, всего шесть месяцев назад, разрушения на железной дороге были еще примитивными, и все легко можно было восстановить. Здесь, в районе Орла, немцы использовали специальную машину, которая, продвигаясь, уничтожала и рельсы и шпалы. Чтобы восстановить железные дороги в этих недавно освобожденных районах, необходимо было фактически строить их заново.
1 сентября я отправился в Харьков, освобожденный советскими войсками 23 августа. Поездка оказалась ужасной. Когда мы ночью на нескольких джипах ехали из Валуек, одна машина налетела на мину и три наших спутника - Кожемяко и Васев из Отдела печати МИД и молодой капитан Волков, с которым я уже встречался в Сталинграде, погибли. Уцелел только водитель, хотя его тяжело ранило и он едва не потерял рассудок от потрясения. У Кожемяко оторвало обе ноги, и он умер через час, не приходя в сознание.
На рассвете, когда нашли еще два трупа - один был отброшен взрывом на 15 м от дороги, - мы продолжали нашу печальную поездку. Теперь мы ехали по страшно опустошенной местности к северу от Белгорода, где в июле происходили самые ожесточенные бои в ходе Курской операции. «Живого места нет», - как говорят русские. Такая картина простиралась перед нами на многие километры вокруг, и воздух был наполнен смрадом от полузасыпанных трупов.
Белгород пострадал от обстрелов меньше, чем можно было ожидать, и на улицах было много людей. Богатые земли между Белгородом и Харьковом были процентов на 40 возделаны. Но в 1943 г. к этому району уж очень близко подошла линия фронта и немцев урожай не интересовал.
В Харькове появились новые разрушения, которых не было в феврале. Однако, не считая убийства эсэсовцами 200 или 300 советских раненых в больнице, немцы, после того как они снова взяли Харьков в марте, вели себя более сдержанно по сравнению с первым периодом оккупации. Немцы нервничали, и расстрелы теперь производились тайно, а публичные казни больше не устраивались. Но все же людей ловили на улицах и отправляли в Германию. А с мая немцы повели себя еще мягче. В украинских газетах 2 мая был опубликован приказ об улучшении отношения к военнопленным. Это также было рассчитано на вербовку военнопленных в армию Власова.
(обратно)Глава VIII. Преступления немцев в Советском Союзе
Орел был местом, где немцы совершили множество преступлений, а Орловские и Брянские леса являлись районами активных партизанских действий. Поэтому представляется своевременным и уместным кратко рассмотреть два аспекта войны в России: а) преступления, совершенные немцами, и б) партизанское движение.
В книге о советско-германской войне 1941 - 1945 гг. преступлениям и зверствам немцев на огромной оккупированной ими территории за период с 1941 по 1944 г., казалось бы, должно быть отведено весьма большое место. Однако, если этот вопрос рассматривать детально, возникает опасность разрастания объема книги до слишком больших размеров.
Вопрос этот действительно огромен. На Нюрнбергском процессе, в частности, при рассмотрении отобранных для разбирательства преступлений и зверств немцев имели место многочисленные повторения, но рассмотрение это было отнюдь не исчерпывающим. И даже эти «отобранные» преступления из тех, которые немцы совершили в Советском Союзе, заняли значительную часть двадцати двух томов материалов процесса. Не может быть и речи о том, чтобы попытаться здесь хотя бы кратко суммировать выводы Нюрнбергского процесса, не говоря уже о других процессах над военными преступниками. И если мы перечисляем здесь основные категории немецких злодеяний, то делаем это просто ради обобщения тех многочисленных примеров поведения немцев в СССР и в Польше, которые мы приводили в ходе нашего рассказа. В той мере, в какой эти преступления вообще можно было как-то классифицировать, в Нюрнберге их подразделили на следующие категории:
1. В основе отношения немцев к русским лежала общая «философия» о «недочеловеках». Эту философию иллюстрируют инструкции фельдмаршала фон Рейхенау о поведении немецкой армии в 1941 г. на территории Советского Союза или знаменитая речь Гиммлера в Познани, когда он сказал: «Погибнут или нет от истощения или создании противотанкового рва 10 тысяч русских баб, интересует меня лишь в том отношении, готовы ли для Германии противотанковые рвы». Далее, имеются «реалистические» высказывания Гитлера, Геринга и других о том, что Германию не волнует, что 30 млн. русских может умереть от голода в самое ближайшее время и что немцы не считают своей заботой кормить население или военнопленных. В результате такой политики миллионы мирных жителей погибли, особенно в первые два года войны. Хотя некоторые нацисты, вроде Розенберга, делали различие между русскими - архиврагами - и украинцами и другими национальностями, которые должны были превратиться в своего рода подопечных рейха, такие люди, как Эрих Кох, рейхскомиссар Украины, совершенно не признавали подобных различий; Кох управлял Украиной согласно обычному для нацистов подходу с позиций «философии» о «недочеловеках».
2. Издавались специальные приказы, вроде приказа о комиссарах, предписывавшего с комиссарами (а фактически с каждым, кто признан коммунистом, евреем или вообще подозрительным лицом) не обращаться как с военнопленными, а просто расстреливать их. Некоторые немецкие генералы после войны пытались ссылаться на то, что этот приказ в основном носил-де «теоретический» характер, поскольку не применялся германской армией. Подобные утверждения сильно искажают истинное положение вещей или являются просто уверткой, поскольку, как правило, «комиссаров», забирали гиммлеровские отряды СД, прежде чем военнопленных отправляли в лагеря, находившиеся в ведении армии. Другой приказ, под названием «Кугель» (то есть «Пуля»), неукоснительно применявшийся к русским, предписывал расстреливать каждого военнопленного, который пытался бежать или подозревался в ведении какой-либо тайной деятельности в лагере.
3. В Германию было вывезено почти 3 млн. русских, белорусов и особенно много украинцев для использования в качестве черной рабочей силы. С ними обращались гораздо хуже, чем с гражданами других стран, находившимися в Германии на принудительных работах.
4. На оккупированной территории немцы без разбору расстреливали заложников и подозрительных» лиц, то есть людей, которые могли быть каким-то образом связаны с партизанским движением или советским подпольем. На территории Российской Федерации и Белоруссии многочисленные деревни сжигались дотла, а их жители, в том числе женщины и дети, просто уничтожались. Как часто отмечалось, в Советском Союзе был не один Орадур и не одно Лидице, а сотни. Во всех оккупированных советских городах - больших и малых - имелись органы гестапо, изощрявшиеся в зверствах и подвергавшие пыткам советских людей. Тюрьмы повсюду были переполнены. Прежде чем уйти, немцы обычно поголовно уничтожали всех заключенных.
5. Имела место характерная для немцев практика уничтожения еврейского населения. Истреблением евреев занимались главным образом подчиненные Гиммлеру специальные эйнзатцкоманды. Фактически все немецкие генералы утверждали после войны, что «никогда» не слышали о подобных массовых убийствах, хотя эти убийства часто происходили у них под самым носом. Истребление евреев проводилось в широких масштабах. Так, в Бабьем Яру близ Киева было убито около 100 тыс. евреев - мужчин, женщин и детей. Мы не говорим уже о бесчисленном множестве других городов, начиная с Краснодара на юге, где в душегубках погибло 7 тысяч человек, или Керчи в Крыму, где русские впервые обнаружили сотни трупов евреев и военнопленных, и кончая Таллином в Эстонии, на севере. Взять, к примеру, Таллин, который я видел сам: в расположенном поблизости от него местечке Клооге я видел обгоревшие останки 2 тыс. евреев, привезенных из Вильнюса и других мест, расстрелянных и затем сожженных на больших кострах, сложить и разжечь которые заставили их самих.
Поскольку Красная Армия приближалась, небольшому числу евреев удалось избежать массовой расправы, организованной СД, и они рассказали эту историю со всеми подробностями. Я особенно запомнил рассказ одного из уцелевших евреев: «добрый» немец из СД, стараясь успокоить плачущего ребенка, говорил ему: «Не плачь, маленький. Скоро смерть придет»[180].
Мы не говорим здесь об огромных лагерях смерти, вроде Освенцима, Майданека и многих других, где миллионы евреев (в том числе большое число евреев из СССР) были истреблены в газовых камерах, расстреляны и убиты другими способами[181].
6. Крупнейшим преступлением немцев после истребления евреев в Европе - их погибло б млн. от рук немцев (потребовалось гораздо больше, чем просто горстка «плохих» немцев, чтобы провести эту «работу»), - несомненно, является уничтожение голодом и другими способами, пожалуй, до 3 млн. советских военнопленных. Многие из них были расстреляны, многие умерли в концлагерях на поздних стадиях войны (особенно в Маутхаузене), некоторых даже использовали в качестве объектов для вивисекции и других «научных» экспериментов. Доказательств этого преступления так много и они столь убедительны, что можно просто наугад взять отдельные факты.
Так, в начале 1942 г. Розенберг писал Кейтелю о скандальном положении: из 3 млн. 600 тыс. советских военнопленных лишь несколько сот тысяч в состоянии работать, настолько ужасны условия, в которых они содержатся.
Отголоски презрительного отношения к советским военнопленным как к «недочеловекам» встречаются даже в недавних немецких книгах, например в таком отвратительном романе, как «Дорога на Сталинград» Бенно Цизера[182]:
«Русские были совершенно обессилены. Они едва держались на ногах, не говоря уже о том, что не могли совершать те физические усилия, которые от них требовались… Среди них были и совсем еще дети и пожилые бородачи, годящиеся им в деды… Это были человеческие существа, в которых не осталось ничего человеческого…»
И далее:
«Когда мы [кидали им дохлую собаку], разыгрывалась сцена, от которой могло стошнить. Вопя как сумасшедшие, русские набрасывались на собаку и прямо руками раздирали ее на куски… Кишки они запихивали себе в карманы - нечто вроде неприкосновенного запаса».
Просто тошнит, когда цитируешь такие вещи. И мы знаем по бесчисленным другим свидетельствам, что именно таково было положение сотен тысяч и даже миллионов советских военнопленных, особенно до Сталинградской битвы.
Один венгерский офицер, танкист, писал вскоре после войны:
«Мы стояли в Ровно. Однажды утром, проснувшись, я услышал, как тысячи собак воют где-то вдалеке… Я позвал ординарца и спросил: «Шандор, что это за стоны и вой?» Он ответил: «Неподалеку находится огромная масса русских военнопленных, которых держат под открытым небом. Их, должно быть, 80 тысяч. Они стонут потому, что умирают от голода».
Я пошел посмотреть. За колючей проволокой находились десятки тысяч русских военнопленных. Многие были при последнем издыхании. Мало кто из них мог держаться на ногах. Лица их высохли, глаза глубоко запали. Каждый день умирали сотни, и те, у кого еще оставались силы, сваливали их в огромную яму»[183].
Помимо того, что военнопленных специально морили голодом, их также массами убивали. Важные доказательства на этот счет были представлены на Нюрнбергском процессе, например, Эрвином Лахузеном из абвера (разведки) адмирала Канариса. В частности, он рассказал о двух особо «приятных личностях», с которыми совещался, когда началась война против СССР. Одним из них был генерал Рейнеке, известный как «маленький Кейтель», - начальник общего управления, входящего в состав ОКБ; другой - обергруштенфюрер гестапо Мюллер,, начальник главного имперского управления безопасности. Мюллер «отвечал за проведение мероприятий, касавшихся русских военнопленных», то есть за их истребление[184].
«Лахузен. Это совещание имело своей задачей комментировать полученные до этого времени приказы об обращении с русскими военнопленными, разъяснить их и, сверх того, обосновать… Содержание сводилось в основном к следующему. Предусматривались две группы мероприятий, которые должны были быть осуществлены. Во-первых, умерщвление русских комиссаров и, во-вторых, умерщвление всех тех элементов среди русских военнопленных, которые должны быть выявлены СД, то есть большевиков или активных носителей большевистского мировоззрения… Основа появления таких приказов была в основных чертах обрисована генералом Рейнеке. Война между Германией и Россией, мол, не война между двумя государствами или двумя армиями. Это война двух мировоззрений - мировоззрения национал-социалистского и большевистского. Красноармеец не рассматривается как солдат в обычном смысле слова, как это понимается в отношении наших западных противников. Красноармеец должен рассматриваться как идеологический враг, то есть как смертельный враг национал-социализма, и поэтому должен подвергаться соответствующему обращению».
Лахузен затем сказал, что Рейнеке, как ярый нацист, не был доволен тем, что некоторые офицеры пребывают мысленно где-то в «ледниковом периоде». От имени Канариса он [Лахузен] протестовал против этих экзекуций, особенно против того, что они совершались публично. Они оказывали ужасное, разлагающее влияние на моральное состояние и дисциплину немецких войск. Кроме того, такие меры могут лишь до предела усилить сопротивление русских.
«Мюллер отверг мои аргументы. Он пошел только на одну уступку - что отныне все эти экзекуции… должны производиться в стороне от воинских частей… Это должно было быть поручено эйнзатцкомандам СД, которые должны были проводить и отбор необходимых людей в лагерях и сборных пунктах для военнопленных; они также должны были проводить экзекуции… Отбор производили по совершенно своеобразному и произвольному принципу. Некоторые руководители этих эйнзатцкоманд придерживались расового принципа, то есть если практически какой-либо из военнопленных не имел определенных расовых признаков, или, безусловно, был евреем или еврейским типом, или являлся представителем какой-то низшей расы, над ним производилась экзекуция. Иные руководители этих эйнзатцкоманд производили отбор по принципу интеллекта или интеллигентности военнопленных.
Рейнеке придерживался той точки зрения, что в лагерях с русскими военнопленными, само собой разумеется, не следует обращаться так, как с военнопленными других союзных стран; однако в данном случае должны существовать принципиальные различия в обращении с русскими военнопленными. Поэтому охранники в лагерях должны иметь хлысты и должны иметь право применять оружие при малейшей попытке к бегству или других нежелательных действиях».
Далее Лахузен рассказал:
«Военнопленные, большинство военнопленных, оставались в зоне военных операций и никак не обеспечивались даже тем, что было предусмотрено для обеспечения военнопленных, то есть у них не было жилья, продовольственного снабжения, врачебной помощи и т.п., и ввиду такой скученности, недостатка пищи или совсем без пищи, без врачебной помощи, валяясь большей частью на голой земле, они умирали. Распространялись эпидемии…»
В создавшихся условиях, заявил Лахузен, Гитлер приказал не отправлять советских военнопленных в Германию.
На вопрос, в какой степени за дурное обращение с советскими военнопленными ответственна армия, Лахузен ответил:
«По моим сведениям, вооруженные силы Германии были связаны со всеми мероприятиями, касавшимися военнопленных, но не с экзекуциями, которые проводились командами СД и главного имперского управления безопасности. Жертвы казней отбирались до того, как пленники размещались в лагерях, находившихся в ведении вооруженных сил».
Если не считать попыток некоторых немецких генералов на Нюрнбергском процессе доказать, что прокормить такую массу появившихся вдруг военнопленных было-де трудно, нет никаких данных, которые бы говорили, что командование вермахта делало что-либо, дабы воспротивиться политике уничтожения военнопленных, по крайней мере в течение 12-18 месяцев войны.
Более того, некоторые из этих «рыцарски воспитанных» немецких генералов сознательно морили голодом военнопленных. На Нюрнбергском процессе фигурировал также изданный в начале русской кампании приказ фельдмаршала фон Манштейна, в котором говорилось следующее:
«Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена… Положение с продовольствием в стране требует, чтобы войска кормились за счет местных ресурсов, а возможно большее количество продовольственных запасов оставлялось для Рейха. Во вражеских городах значительной части населения придется голодать. Не следует, руководствуясь ложным чувством гуманности, что-либо давать военнопленным или населению, если только они не находятся на службе немецкого вермахта»[185] (курсив мой. - А. В.).
Именно эти «рыцарские» приказы, исходившие не от Гиммлера или Гитлера, а от генералов, привели к гибели от голодной смерти, вероятно, более двух миллионов советских военнопленных в течение первого года войны.
Хотя в конце концов Манштейн на Нюрнбергском процессе и вынужден был признать, что он подписал этот приказ, он начал с заявления, что «совершенно забыл об этом»[186]. Несомненно, он и его друзья генералы «совершенно забыли» и многие другие обстоятельства, в том числе факты частого и весьма тесного сотрудничества армии с эйнзатцкомандами и другими профессиональными убийцами.
Только примерно в середине 1942 г. к уцелевшим советским военнопленным начали относиться как к рабам. К концу 1942 г. немцы начали применять своеобразный шантаж в отношении к ним: либо вступайте в армию Власова, либо умирайте с голоду.
Однако подавляющее большинство не желало идти служить Власову, и многие, включая высших офицеров, в конце войны оказались в Дахау и Маутхаузене, живыми или мертвыми - в основном мертвыми.
Кроме того, на советских военнопленных в большей мере, чем на военнопленных из других стран, распространялась такая мера, как приказ «Кугель».
Это был один из многочисленных методов расправы с «нежелательными» элементами. Военнопленного, отнесенного к категории «К» (то есть «Кугель»), в Маутхаузене отправляли в «баню».
«Эта «баня», расположенная в погребе тюрьмы, недалеко от крематория, была специально оборудована для казней (расстрелов или отравления газом).
Расстрелы происходили при помощи специального «измерительного» аппарата. Заключенные должны были становиться спиной к «измерительному» аппарату, и как только движущаяся планка для определения роста Соприкасалась с их головой, автоматически производился выстрел в шею.
Если в эшелоне оказывалось слишком много пленных категории «К», то их, чтобы не терять время на «измерение», уничтожали газом, который поступал в «баню» вместо воды»[187].
Советских военнопленных использовали также для экспериментов по замораживанию и для различных других «развлечений», придуманных Гиммлером и некоторыми «учеными» третьего рейха. Все, что делали с советскими военнопленными, настолько ужасно, что просто трудно всему этому верить. Если учесть, что общие людские потери СССР определяются цифрой свыше 20 млн. человек, гибель 3-4 млн. в немецком плену не кажется невероятной. Помимо бесчисленных преступлений против человечности, немцы совершали в Советском Союзе также и преступления против личной и общественной собственности: они превратили в пустыню огромные территории; за 3 года они разрушили сотни городов и тысячи деревень. Если некоторые деревни и города, вроде Харькова, Одессы или Киева, были разрушены не полностью, а лишь частично, это объясняется исключительно тем, что отступавшие немецкие войска не имели достаточно времени, чтобы завершить свою разрушительную работу. Другие города, такие, как Ростов, Воронеж, Севастополь - я упоминаю лишь некоторые из виденных мною лично, - были разрушены почти на 100%.
(обратно)Глава IX. Партизаны в советско-германской войне
Партизанская война на оккупированной немцами территории занимала важное место в военных планах советского командования почти с самого начала войны. Сталин в выступлении по радио 3 июля 1941 г. призвал к широкому развертыванию партизанского движения во вражеском тылу.
18 июля Центральный Комитет ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск», в котором указывалось на необходимость «создать невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт» и т.д. Постановление призывало «советские подпольные организации» на оккупированной территории приложить все силы для достижения упомянутых выше целей. В пропаганде большой упор делался на исторические прецеденты - действия крестьянских отрядов в войне 1812 г., наносивших удары по «великой армии» Наполеона, и многочисленных отрядов советских партизан, сыгравших столь важную роль во время гражданской войны в Сибири, на Украине и т.д. Образ партизанского командира и бойцов-партизан был окружен романтическим ореолом. Печать, радио, театр и кино посвящали значительное внимание подвигам партизан в Белоруссии и в других оккупированных районах.
В декабре 1941 г., в разгар битвы под Москвой, Зоя Космодемьянская, партизанка, публично повешенная немцами в деревне Петрищево, недалеко от Москвы, стала народной героиней и символической фигурой. Однако Зою, как и многих других, направляли за линию фронта для выполнения конкретных «диверсионных» заданий, поэтому она не была образцом типичных, классических партизан, которые во время немецкой оккупации стихийно поднимались на местах на борьбу против захватчиков.
В историческом плане партизанское движение в СССР 1941-1944 гг. является одним из самых сложных и наименее исследованных аспектов советско-германской войны. В значительной мере оно не только не исследовано, но, так же как движение Сопротивления в Югославии, Франции и других странах, и не может быть исследовано по той простой причине, что участники многих партизанских операций погибли и некому рассказать об их делах.
Согласно распространенной немецкой версии, отчасти поддерживаемой некоторыми американскими исследователями, в Советском Союзе сначала не было никакого партизанского движения, и только впоследствии, в результате «ошибок», допущенных немцами, получило развитие антигерманское партизанское движение.
Такая трактовка чрезмерно упрощает подлинное положение. Истина заключается в том, что в суровые месяцы 1941 г., последовавшие за немецким вторжением, на огромной территории, недавно оккупированной противником, все находилось в неустойчивом и хаотическом состоянии и очень мало или вовсе ничего не было сделано заблаговременно для организации партизанского движения в этих районах.
Пользуясь советской терминологией, можно сказать, что для этого не было создано «материальной базы» - тайных складов оружия, запасов продовольствия, медикаментов.
Многие советские офицеры и солдаты - особенно в Белоруссии, - попавшие в окружение и скрывавшиеся в лесах, все еще надеялись выйти к линии фронта. Они существовали благодаря помощи местных крестьян, и в конце концов они сформировались в партизанские отряды.
В леса ушли также партийные, советские работники из белорусских городов, которым трудно было скрыть, кто они такие; железнодорожники и другие, кого немцы заставали за совершением актов саботажа (или подозревали в саботаже) и для кого поэтому не было другого выхода, кроме как «уйти в партизаны». Однако первое время все это делалось спорадически и неорганизованно. Хотя советские власти в Москве любили рассуждать о партизанах и их роли в борьбе во вражеском тылу, у них было слишком много более неотложных, чем партизанское движение, забот в период с начала войны до битвы под Москвой.
Для того чтобы сделать партизанское движение эффективным, Москва должна была затратить значительные материальные средства и провести большую организационную работу.
Хотя в 1942 г. к партизанскому движению на Украине, в Ленинградской области, в Белоруссии и некоторых районах Российской Федерации, вроде Смоленской и Брянской областей, стали относиться гораздо серьезнее, чем раньше, все же не приходится сомневаться, что в «черное лето» 1942 г. у партийных руководителей и военного командования нужды партизан стояли по-прежнему далеко не на первом месте.
Это не означает, что в 1942 г. не существовало довольно развитого партизанского движения, однако в то время оно еще не было таким широким, массовым движением, каким оно стало в 1943 г. Многие партизаны писали о колоссальной разнице между 1941 г., когда у них не было ничего, кроме какого-то числа винтовок и ручных гранат, и 1943 г., когда у них появились минометы и даже артиллерия. Недостатком оружия, а вовсе не хорошим отношением населения к немцам надо в первую очередь объяснять отсутствие широкого партизанского движения в 1941 г.
Современные советские историки различают более или менее спорадическое и в основном неорганизованное партизанское движение 1941-1942 гг. и (в основном) хорошо организованное движение в 1943 г.
Так Б.С. Тельпуховский не утверждает, что партизанское движение получило широкий размах в 1941 г.
«В Ленинградской области уже на 27 июля 1941 г. было создано около 200 партизанских отрядов и групп. В начале сентября 1941 г. в Орловской области действовало 54 партизанских отряда. К середине ноября в Курской области действовало 32 партизанских отряда»[188].
Автор не уточняет численность этих «групп» и «отрядов». Часто они состояли из нескольких десятков человек, а то и того меньше. Далее он пишет: «В первый период войны взаимодействие партизан с Советской Армией выражалось в нападении партизан на вражеские штабы, на небольшие гарнизоны, на автоколонны противника». Это свидетельствует о том, что действия партизан сводились главным образом к налетам, во время которых они и захватывали нужное им имущество.
Правда, в ходе битвы за Москву и часто в результате того, что значительные подразделения забрасывались в тыл противника, масштабы партизанских действий расширились. Так, в Московской, Тульской и Калининской областях в тылу врага действовало 10 тыс. партизан, и их нападения на эшелоны и автоколонны немцев имели определенное значение в тот период.
Уже тогда появились партизанские командиры вроде М. Гурьянова; его бойцы уничтожили около 600 немцев, но сам он был захвачен и повешен немцами, и ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Другой партизанский командир, Солнцев, был публично повешен в Рузе, в Московской области, 21 декабря 1941 г.
Те 10 тыс. партизан, которые (так или иначе) принимали участие зимой 1941/42 г. в битве за Москву, уничтожили, как утверждают, 18 тыс. немцев.
Только 30 мая 1942 г. по инициативе Центрального Комитета партии при Ставке в Москве был создан Центральный штаб партизанского движения, и позже в том же году были созданы такие же специальные центральные штабы по руководству партизанским движением на Украине и в Белоруссии.
В 1942 г. партизанское движение, безусловно, ширилось, но не приобрело еще того массового характера, который стал ему свойствен в 1943 г. Медленные темпы развития партизанского движения по крайней мере отчасти объяснялись недостатком оружия. В 1942 г. Москва могла перебрасывать партизанам по воздуху очень мало людей и припасов, и поэтому многим партизанским отрядам приходилось целиком или почти целиком полагаться на собственные средства, например устраивать налеты на немецкие склады оружия; они вынуждены были находиться в зависимости от более или менее добровольной помощи со стороны крестьян.
Тельпуховский признает, что немецкая политика на оккупированных территориях в огромной мере стимулировала рост партизанского движения, особенно в подходящих для партизанских действий «партизанских зонах», вроде многих районов Белоруссии или Орловско-Брянского лесного массива.
Террористический режим в городах, массовый угон молодежи в Германию, начавшийся уже в марте 1942 г., - все это оказывало сильное воздействие на население.
Аналогичное положение можно обнаружить и в других странах. Например, во Франции самым сильным стимулом для расширения рядов маки стала отправка французов на принудительные работы в Германию. В СССР отношение немцев к населению как к низшей расе явилось еще одним дополнительным стимулом, который заставлял советских людей подниматься на борьбу с немцами путем создания партизанских отрядов. Но, как и во Франции, численность эффективно действующих партизан в первое время неизбежно ограничивалась нехваткой оружия.
Нет смысла строить догадки о том, какой мотив был самым важным в момент, когда люди решались на такой крайне опасный шаг, как уход к партизанам: бескорыстный патриотизм, уязвленная национальная гордость, стремление уйти подальше от немцев, от их репрессий, избежать угона в Германию, привязанность к советскому строю? Все эти побуждения оказывали влияние, но степень его, очевидно, была разной в разных местах. В современной советской исторической литературе усиленно подчеркивается руководящая роль партии во всей партизанской деятельности, подчеркивается, что Центральный Комитет в Москве был связан с подпольными обкомами и райкомами, продолжавшими действовать на оккупированных немцами территориях, а те в свою очередь - с рядовыми членами партии, которые были командирами различных партизанских отрядов, и руководил ими.
Вместе с тем имеется тенденция к умалению роли, которую играли в партизанском движении, особенно на территории Белоруссии, советские офицеры, попавшие в 1941 г. в окружение, но избежавшие плена и продолжавшие воевать как партизаны[189].
Далее будут приведены некоторые конкретные примеры партизанских действий в 1941, 1942 и 1943 гг.
В сентябре 1942 г., когда тяжелее всего обстановка складывалась на южном и юго-восточном направлениях, Сталин издал специальный приказ, адресованный партизанам. Поскольку железнодорожные и шоссейные коммуникации немцев теперь стали более растянутыми и уязвимыми, говорилось в приказе, крайне важно разрушать железные дороги, мосты и взрывать эшелоны. Поэтому, вероятно, широкие диверсионные операции на путях подвоза начались к концу 1942 г.
В 1942 г. стали появляться партизанские края - районы, где немцев не было и где партизаны в большинстве случаев восстанавливали советскую власть. Такие «партизанские края» были созданы в северных (лесных) районах Украины, на значительной части территории Белоруссии, в Брянских лесах, в Орловской области, где 18 тыс. партизан (входивших в 54 отряда) контролировали территорию, на которой было 490 деревень; в Ленинградской области и южнее, где, например, существовал знаменитый «партизанский край» вокруг Порхова. Значительная часть Смоленской области также находилась под партизанским контролем - здесь действовало 22 тыс. партизан, объединенных в 72 отряда. По данным Тельпуховского, «партизанские зоны» зимой 1942/43 г. охватывали 73% территории Белоруссии (официальная «История войны» снижает эту цифру до 60%)[190].
Партизанские края являлись базами снабжения для партизанских отрядов. С середины 1942 г. в этих районах начали сооружать посадочные площадки для самолетов, доставлявших припасы с Большой земли и эвакуировавших раненых партизан и других лиц. Склады создавались и на местах. Так, на 1 января 1943 г. в Батуринском районе Смоленской области имелись склады, на которых было сосредоточено 207 т ржи и 700 т картофеля, там же партизаны держали тысячу голов крупного рогатого скота.
Несомненно, осенью и зимой 1942 г. партизаны оказали большую помощь армии своими диверсиями на растянувшихся немецких коммуникациях, идущих в район Сталинграда. Нам известно, например, что наступление группы Манштейна, начавшееся 12 декабря, откладывалось в связи с медленными темпами доставки военных припасов на Дон, что было вызвано действиями партизан.
Тем не менее партизанская борьба приобрела характер широчайшего массового движения только после Сталинградской битвы. Теперь появился новый стимул для участия в партизанской борьбе: вступающий в партизанский отряд присоединялся к тем, кто почти наверняка должен был победить, и он хотя и рисковал погибнуть, но не зря. Необходимо учитывать и тот простой факт, что в 1943 г. большинство партизанских отрядов хорошо снабжалось Москвой; у них теперь имелись минометы и даже артиллерийские орудия, в том числе специальные противотанковые пушки для уничтожения локомотивов; партизаны лучше обеспечивались продовольствием и, что очень важно, медикаментами и медицинским оборудованием. На начальной стадии партизанского движения тяжесть положения усугублялась, в частности, почти полным отсутствием медицинских припасов, из-за чего многие даже легко раненные партизаны были обречены на смерть.
Тельпуховский пишет, что ко времени перехода Красной Армии в контрнаступление под Сталинградом партизанское движение достигло широкого размаха. В этой связи он приводит следующие внушительные цифры по крупнейшему району партизанского движения - Белоруссии: «На 1 февраля 1943 г. в Белоруссии было учтено 65 тыс. партизан, весной и в начале лета 1943 г. в республике действовало более 100 тыс. партизан, а к концу 1943 г. - около 245 тыс.»[191].
На Украине к концу 1943 г. действовало 220 тыс. вооруженных партизан, и «многие десятки тысяч» партизан боролись в районах РСФСР, еще находившихся в руках немцев. Нередко, пишет Тельпуховский, целые семьи и даже деревни шли в партизанские отряды (хотя бы для того, чтобы избежать жестоких карательных операций немцев).
14 июля 1943 г. по указанию Ставки Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского движения издал приказ советским партизанам всеми силами начать «рельсовую войну». Подготовительная работа, по-видимому, была заранее проведена, поскольку в ночь на 21 июля партизаны нанесли мощные и одновременные удары по железным дорогам в Брянской, Орловской и Гомельской областях. Эти удары совпали с наступлением Красной Армии на Орел и Брянск, последовавшим после победы под Курском. За одну ночь тогда было взорвано 5885 рельсов, а всего с 21 июля по 27 сентября орловские и брянские партизаны взорвали более 17 тыс. рельсов.
В Белоруссии партизаны действовали еще успешнее. С января по май, даже до официального начала «рельсовой войны», они пустили под откос 634 эшелона. 3 августа партизаны приступили к проведению другой крупной диверсионной операции на железных дорогах Белоруссии. Две трети дорог были выведены из строя - на некоторых участках на целые недели. Например, участок Молодечно - Минск был полностью выведен из строя более десяти дней. Всего с августа по ноябрь 1943 г. партизаны в Белоруссии взорвали 200 тыс. рельсов, вывели из строя или пустили под откос 1014 эшелонов, взорвали или повредили 72 железнодорожных моста.
Действия партизан доставляли все больше беспокойства немцам. 7 ноября 1943 г. Йодль признал, что за июль, август и сентябрь на железных дорогах было совершено соответственно 1560, 2121 и 2000 взрывов, и это, по его словам, серьезно отразилось на ходе военных действий и на операциях по отводу войск.
В своей книге Тельпуховский утверждает, что за три года (1941-1944) белорусские партизаны истребили около 500 тыс. немецких солдат и офицеров, 47 генералов, в том числе гитлеровского комиссара Белоруссии фон Кубе.
На Украине, по свидетельству того же автора, партизаны убили 460 тыс. немцев, разбили или повредили 5 тыс. паровозов, 50 тыс. железнодорожных вагонов, 15 тыс. автомашин и т.д.[192]
Согласно книге Тельпуховского и другим советским историческим исследованиям, всеми основными действиями партизан руководила партия. В начале 1944 г. на оккупированной немцами территории Белоруссии насчитывалось 1113 первичных партийных организаций в партизанских отрядах и бригадах, 184 территориальные подпольные партийные организации, работали 9 подпольных обкомов и 174 горкома и райкома. Численный состав этих организаций возрос за время войны с 8,5 тыс. до 25 тыс. человек. В рядах партизан Украины в 1943 г. находилось почти 15 тыс. коммунистов и 26 тыс. комсомольцев.
С осени 1942 г. осуществлялась самая тесная координация между военным командованием, с одной стороны, и партизанским движением - с другой. Партизаны уничтожали эшелоны, взрывали железные дороги, истребляли немецкие гарнизоны и т.д., выполняя этим часть общего плана, разработанного в основном Москвой.
Эффективность действий партизан как военной силы колоссально возросла после того, как они стали получать командиров, припасы и пр. с Большой земли. Однако такая версия партизанской войны, согласно которой партизанские отряды были чем-то вроде второй Красной Армии, воевавшей во вражеском тылу, чрезмерно упрощает человеческие аспекты драмы партизанского движения. Ибо это действительно была драма. Партизаны не находились в положении армии, регулярно снабжаемой продовольствием, вооружением, обеспечиваемой медицинским обслуживанием и имеющей противника только перед собой и больше нигде.
Одна из основных особенностей, не характерная для регулярной Красной Армии, заключалась в необходимости для партизан постоянно бороться с предателями и физически уничтожать их - таких людей, как старосты, бургомистры, полицейские, назначенные немцами.
Другой постоянной заботой партизан было отношение к ним крестьян, которые снабжали их продовольствием, из-за чего сами крестьяне и их семьи рисковали подвергнуться свирепым репрессиям со стороны немцев - регулярных войск, отрядов СС, СД и т.д. - или их приспешников - власовцев, наемной немецкой полиции и т.д. Как уже отмечалось, если во Франции был один Орадур, а в Чехословакии одно Лидице, то в Советском Союзе их были сотни.
Первые партизанские отряды формировались в 1941 г. на оккупированной территории РСФСР и в Белоруссии; происходило это по-разному. Один из первых партизанских отрядов, образованный в Полотняном Заводе близ Калуги, существовал с 11 октября 1941 г. по 19 января 1942 г. Первоначально он состоял из бойцов противодесантного истребительного батальона, затем в него влились бежавшие от немцев военнопленные. В течение трех месяцев битвы под Москвой отряд совершал нападения на немецкие автоколонны. Предатель выдал отряд, и он был почти полностью уничтожен.
Партизаны очень ловко устраивали налеты на немецкие штабы и мелкие гарнизоны, нередко будучи вооружены всего лишь несколькими ручными гранатами. Но часто от таких налетов больше всего доставалось жителям деревень.
«Упорный бой с немецкой воинской частью партизаны провели 17 января за деревню Веснины. В этом бою гитлеровцы потеряли несколько десятков убитыми и ранеными. Оккупанты стали окружать деревню. У партизан к этому времени кончились патроны. Но они вырвались из вражеских клещей без потерь и отступили в лес. Взбешенные неудачей, гитлеровские мерзавцы свою злобу выместили на мирных советских людях… уничтожили более 200 стариков, женщин и детей»[193].
Точно так же жители других деревень, заподозренные в сочувствии партизанам, подвергались особо жестокой расправе. В Рессете было убито 372 человека, в Долине - 469, и здесь тоже в основном женщины и дети[194].
Угон жителей деревень и их расстрелы немцами под предлогом наказания за «сочувствие партизанам» - эти моменты постоянно встречаются в рассказах о партизанах. В упомянутой книге говорится, что только в района Калуги было расстреляно 20 тыс. человек из гражданского населения. Неподалеку от Брянска, в Людиновском и Дятьковском районах, немцы (и венгры) до ноября 1942 г. убили 2 тыс. мирных жителей и сожгли 500 домов. 5 тыс. человек из гражданского населения было угнано в рабство. Вследствие проводимой немцами тактики «выжженной земли» брянским партизанам пришлось особенно туго зимой 1942/43 г. Однако их дела пошли лучше, когда весной 1943 г. начала поступать помощь с Большой земли, и летом брянские партизаны уже готовились к широкой «рельсовой войне». Когда Красная Армия стала подходить к Орлу, они распространили листовки с «последними предупреждениями» предателям (в книге Глухова воспроизведены эти листовки) - старостам, бургомистрам, полицейским и «легионерам» (по-видимому, власовцам). Всем им предоставлялась последняя возможность обратить оружие против немцев, присоединившись к партизанам. Некоторые из них так и поступали. Многие, естественно, опасались, что это ловушка.
Еще более ужасный характер, чем многочисленные «орадуры» и «лидице» в Калужской, Орловской и Брянской областях, описанные в книге Глухова, носили зверства немцев в районах Освеи и Россоны на севере Белоруссии в марте 1943 г. Это был партизанский край. Хотя карательной экспедиции немцев не удалось захватить партизан, немцы на некоторое время заняли район Освеи. Когда после сорока дней боев партизаны вернулись на свою базу, они обнаружили, что немцы сожгли дотла 158 деревень. Все здоровые мужчины были угнаны в рабство, а все женщины, дети и старики убиты.
«Когда… партизаны вернулись… везде валялись трупы людей. В живых остались только те, кто ушел с партизанами в лес… Замучили несколько тысяч советских граждан»[195].
В состав карательных отрядов обычно входили солдаты регулярных немецких частей, подразделений СД и СС; иногда к ним добавляли полицейских, назначенных немцами, и даже словаков. Отдельные словаки переходили на сторону партизан.
Зверства немцев по отношению к захваченным партизанам, а также к крестьянам, обвиняемым в сочувствии партизанам, и к их семьям следует отнести к категории самых страшных злодеяний, совершенных немцами и их прислужниками. Это говорит о многом.
Лишь некоторые из названных книг о партизанах написаны хорошо; повествуют они почти об одном и том же. Тем не менее в целом они рисуют довольно мрачную картину. Это не только картина величайшего мужества и смелости - а нужно быть мужественным и смелым человеком, чтобы стать партизаном, - но и картина такого мира, где человеческая жизнь ценилась невероятно дешево.
В книгах оплакиваются тысячи женщин и детей, убитых в «партизанских районах» эйнзатцкомандами и другими карательными соединениями; реже речь заходит о потерях партизан; партизаны, должно быть, несли очень тяжелые потери, особенно вначале, когда мелкие, самочинно возникавшие группы либо уничтожались немцами, либо гибли от холода, голода, болезней и ран в лесных лагерях.
Некоторое представление о том, как немцы поступали с партизанами и «партизанскими краями», дают также немецкие документы. Так, на Нюрнбергском процессе оглашался отчет германского генерального комиссариата Белоруссии, датированный 5 июня 1943 г., о результатах антипартизанской операции «Коттбус». В отчете приводились следующие цифры: убитых партизан 4500; убито по подозрению в принадлежности к партизанам 5 тыс. человек; убито немцев 59.
«Упомянутые выше цифры (говорится далее в отчете) показывают, что опять следует ожидать больших потерь населения. Если при количестве 4500 убитых врагов на поле боя было подобрано только 492 винтовки, то из самого этого несоответствия совершенно очевидно, что среди этих убитых было множество местных крестьян. Батальон Дюрлевангера в особенности славится тем, что физически истребляет население. Среди 5 тысяч человек, подозревавшихся в принадлежности к бандам, было очень много женщин и детей.
По приказу начальника отрядов по борьбе с бандами обергруппенфюрера СС фон дем Баха-Зелевского в этой операции также принимали участие регулярные армейские подразделения»[196].
Фон дем Бах, поставленный Гиммлером руководителем антипартизанских операций в Советском Союзе и отличившийся впоследствии как убийца № 1 в ходе подавления немцами Варшавского восстания 1944 г., давая показания на Нюрнбергском процессе, заявил, что операции против партизан в основном проводились регулярными частями вермахта и что немецкое верховное командование отдало приказ самым жестоким образом расправляться с партизанами.
«Полковник Тельфорд Тэйлор (обвинитель от США). Скажите, приводили ли эти меры к ненужным убийствам большого количества гражданского населения?
Фон дем Бах. Да.
Тэйлор. Был ли издан верховным командованием приказ о том, что германские солдаты, совершившие насилия над гражданским населением, не должны наказываться военными судами?
Фон дем Бах. Да, такой приказ был издан… Бригада Дюрлевангера состояла в основном из преступников, которые уже были наказаны… но среди этих людей были и настоящие уголовники, которые были арестованы за кражу со взломом, убийства и т.д. …Я считаю, что здесь имеется очень тесная связь с речью Генриха Гиммлера в начале 1941 года в Везельсбурге, еще до начала похода на Россию. Гиммлер говорил тогда, что целью похода на Россию является истребление славянского населения на 30 миллионов и что в этой области следовало бы использовать именно такие неполноценные войска»[197].
Отсюда и уничтожение сотен деревень и истребление многих тысяч человек гражданского населения, в том числе женщин и детей, в «партизанских районах». Среди «убитых противников», как видно из упомянутого выше отчета, в ходе одной только этой операции были тысячи невооруженных крестьян. А таких операций проводилось множество. Большинство этих «антипартизанских действий», как подчеркивает Бах-Зелевский, «проводилось в основном воинскими частями», в то время как «главная задача отрядов оперативных групп СД заключалась в уничтожении евреев, цыган и политических комиссаров»[198].
В приказе Гитлера от 16 декабря 1942 г., подписанном Кейтелем, говорится также следующее:
«Если эта борьба против банд как на Востоке, так и на Балканах не будет вестись самыми жестокими средствами, то в ближайшее время имеющиеся в распоряжении силы окажутся недостаточными, чтобы искоренить эту чуму.
Войска поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства, без ограничения также против женщин и детей, если это только способствует успеху…
Проявление любого вида мягкости является преступлением по отношению к германскому народу и солдату на фронте… Ни один немец, участвующий в боевых действиях против банд, за свое поведение в бою против бандитов и их сообщников не может быть привлечен к ответственности ни в дисциплинарном, ни в судебном порядке»[199].
Этот приказ был отдан в период, когда немцы попали в окружение под Сталинградом и когда партизанское движение стало приобретать широкий размах.
Зверства немцев не остановили развития партизанского движения, которое все усиливалось в 1943 и 1944 гг. Партизан стало так много, что немцы даже предприняли попытки, правда слабые и запоздалые, перетянуть их на свою сторону с помощью «антикоммунистической пропаганды».
С приближением Красной Армии партизаны иногда захватывали целые города за день-два до ее прихода, прокладывая тем самым дорогу регулярным войскам. После их прихода партизаны почти автоматически вливались в ряды Красной Армии. Молодежи, вступившей в партизанские отряды на более поздней и «безопасной» стадии, сделать это было довольно легко, однако ветераны партизанских отрядов, со своей специфической психологией, а иногда и склонностью к анархизму, не всегда чувствовали себя хорошо, попав в регулярную армию. Эта ситуация в какой-то мере напоминает те трудности, которые испытывал де Голль во Франции, когда стал включать части «внутреннего Сопротивления» (франтиреров-партизан и другие формирования «Сражающейся Франции») в регулярную армию. Но было, однако, и большое различие. Дело в том, что бойцы «Сражающейся Франции» были не очень высокого мнения о регулярной французской армии, состоявшей в основном из бывших вишистов; русские же, белорусские и украинские партизаны гордились в 1943 и 1944 гг. тем, что могут вступить в Красную Армию, у которой за плечами Сталинградская победа. Партизан, оказавшихся в Красной Армии, часто использовали как разведчиков и для выполнения других специфически «партизанских» заданий.
Партизаны проходили медицинскую проверку, прежде чем их зачисляли в Красную Армию. Неудивительно, что примерно 20% партизан - многие из них были больны туберкулезом ~ оказывались непригодными по состоянию здоровья для военной службы после того физического и духовного напряжения, которое они испытывали в течение одного, двух или даже трех последних лет.
Таковы некоторые элементы человеческой драмы, которая была лишь частью драмы всего советского народа в 1941-1945 гг. Романтический образ партизана - такой, каким он сложился в воображении народа в период Гражданской войны, - стал анахронизмом в условиях Второй мировой войны. В 1941 г. «уход в партизаны» мог быть «личным выходом из положения» для многих людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Однако по-настоящему эффективной боевой силой, оказывающей прямое влияние на ход войны, партизанское движение стало только в конце 1942 г. или даже весной 1943 г.
Партизаны действовали во многих местах - от Ленинградской области до Крыма, - но активнее всего они действовали, конечно, на территории наиболее подходящих для этого географических районов - в лесистых районах РСФСР (Ленинград, Порхов, Брянск), в Белоруссии и некоторых северных районах Украины[200].
Помимо этих «сельских» партизан с их традиционными лесными базами, имелись «городские» партизаны, которых, однако, часто было трудно отличить от деятелей советского «подполья» вообще, существовавшего в большем или меньшем масштабе во всех оккупированных городах. Эти люди подвергали себя, пожалуй, еще большему риску, чем собственно партизаны.
Наиболее известным примером борьбы с немцами в условиях города является история организации «Молодая гвардия», существовавшей в Донбассе, в шахтерском городе Краснодоне. Этот пример коллективного проявления патриотизма и совместной мученической смерти отнюдь не единичен, так же как подвиг Зои, повешенной немцами в деревне под Москвой в декабре 1941 г. и ставшей, как и краснодонцы, символом народного героя. Превращение в народного героя и мученика очень часто зависело от случая: многие сражались и умирали, но не становились известными.
В период наибольшего развития партизанского движения, в 1943-1944 гг., в Советском Союзе действовало по крайней мере полмиллиона вооруженных партизан. Очень трудно сказать, сколько партизан или «связанных» с ними людей погибло в боях или уничтожено немецкими карательными отрядами. По имеющимся данным, только в Белоруссии около миллиона человек погибло в ходе партизанской войны.
(обратно)Глава X. Некоторые вопросы международных отношений и внешней политики СССР в 1943 г.
В октябре 1943 г. министры иностранных дел Большой тройки - Молотов, Корделл Хэлл и Иден - встретились в Москве. Это совещание наряду с решением других задач должно было подготовить почву для Тегеранской конференции «в верхах», состоявшейся через месяц. Однако на протяжении 1943 г., до того как были приняты твердые решения о проведении этих двух встреч, отношение Советского Союза к западным союзникам оставалось непонятным и полным явных противоречий.
В период Сталинградской битвы Сталин восхвалял высадку англо-американских войск в Северной Африке. В феврале, когда немцы собирались начать контрнаступление под Харьковом, Сталин снова начал сетовать на отсутствие второго фронта. Затем в марте, отчасти в ответ на упрек адмирала Стэндли о неблагодарности русских, советская пресса начала превозносить помощь, получаемую от Запада. За разрывом с «лондонскими» поляками, как мы видели, последовали восторженные сообщения о победах союзников в Северной Африке. Вскоре после этого произошел роспуск Коминтерна - это был жест, имевший целью произвести впечатление на общественное мнение Запада.
Невозможно, однако, отделаться от мысли, что эта великая сердечность, проявленная по отношению к союзникам, была в какой-то степени связана с положением на Восточном фронте. Дело в том, что накануне немецкого наступления на Курск в Советском Союзе народ был настроен весьма нервозно, и на этот раз явно представлялось целесообразным преувеличивать, а не преуменьшать военные усилия Запада.
Однако, как нам известно из переписки Сталина с Черчиллем того периода, отношения в действительности были далеко не сердечными. Черчилль пытался подбодрить Сталина сообщениями о налете 400 бомбардировщиков на Эссен (13 марта). Сталин, не отрицая значения таких налетов, оставался недовольным. 15 марта он жаловался на новую отсрочку крупных операций в Северной Африке и писал, что операция «Эскимос» - планировавшаяся высадка союзников на острове Сицилия «не заменит собою второго фронта во Франции».
«После того как советские войска (писал он) провели всю зиму в напряженнейших боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новые крупные мероприятия по восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против СССР, нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался… Считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с точки зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием второго фронта во Франции».
Черчилль продолжал посылать Сталину сообщения вроде того, что «мы сбросили 1050 тонн бомб на Берлин» (28 марта).
Сталин поблагодарил его за информацию и затем любезно добавил (может быть, он вкладывал в эти слова тонкую иронию?):
«Вчера я смотрел вместе с коллегами присланный Вами фильм «Победа в пустыне»… Фильм великолепно изображает, как Англия ведет бои, и метко разоблачает тех подлецов - они имеются в нашей стране, - которые утверждают, что Англия будто бы не воюет, а только наблюдает за войной со стороны… Фильм «Победа в пустыне» будет широко распространен по всем нашим армиям на фронте…»
Однако через несколько дней Сталина буквально взорвало, когда Черчилль сообщил ему, что отныне северным путем морские конвои в СССР больше отправляться не будут, ибо в этих водах немцы сконцентрировали свой линейный флот в составе «Тирпица», «Шарнхорста» и «Лютцова». «Я понимаю этот неожиданный акт, как катастрофическое сокращение поставок… - писал Сталин 2 апреля, - так как путь через Великий океан ограничен тоннажем и мало надежен, а южный путь (через Иран) имеет небольшую пропускную способность, ввиду чего оба эти пути не могут компенсировать прекращения подвоза по северному пути».
Черчилль 6 апреля снова сообщил о налете 348 самолетов на Эссен. Сталин приветствовал усиление бомбовых ударов по Германии, отмечая, что это «встречает живейший отклик в сердцах многих миллионов людей в нашей стране». 11 апреля Черчилль сообщил, что 502 самолета бомбили Франкфурт, и обещал прислать заснятые на кинопленку моменты бомбежки Германии, «так как они могут доставить удовольствие Вашим солдатам, которые видели так много разрушенных русских городов». Он также заверял Сталина в том, что 375 «харрикейнов» и 285 «аэрокобр» и «китихауков», которые предполагалось послать северным путем, будут присланы в Самый короткий срок через Средиземное море.
За этой странной смесью приятных и неприятных посланий последовал разрыв Советского правительства с «лондонскими» поляками.
Черчилль усиленно уговаривал Сталина не доводить дело до окончательного разрыва. Сикорский, писал он, полезный человек, и всякий, кто заменит его, будет хуже. Черчилль написал также, что, по сообщению Геббельса, русские создают новое польское правительство. Сталин незамедлительно опроверг это утверждение как «выдумки» (4 мая).
10 июня, когда нависла угроза немецкого наступления, Черчилль снова привел Сталина в состояние крайнего раздражения. В послании Рузвельту в тот день он заявил: «Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решения, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года… Это Ваше решение… [предоставляет] советскую армию… своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом».
В послании Черчиллю от 24 июня Сталин дошел до настоящей ярости:
«Советское Правительство не могло предполагать, что Британское и Американское Правительства изменят принятое в начале этого года решение о вторжении в Западную Европу… Ваше ответственное решение об отмене предыдущих Ваших решений насчет вторжения в Западную Европу принято… без участия Советского Правительства… Дело идет… о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям (курсив мой. - А. В.).
27 июня Черчилль, с гневом отвечая, что упреки Сталина «не трогают» его, напомнил, что Англия должна была в одиночку воевать с Германией до июня 1941 г. и что, во всяком случае, «может даже оказаться, что Ваша страна не подвергнется сильному наступлению этим летом. Если бы это было так, то это решительно подтвердило бы то, что Вы однажды назвали «военной целесообразностью» нашей средиземноморской стратегии».
Всего лишь через неделю после этого немцы начали наступление на Курск.
Гнев и упреки Сталина по адресу союзников, возможно, отчасти объяснялись тем, что его беспокоил исход Курской битвы. После того как битва была выиграна, его уже не очень волновал вопрос о втором фронте. Его линия теперь заключалась в следующем: пройдет время - и второй фронт откроют; Россия, хоть она и несет страшные потери в людях, должна быть благодарна за любую помощь Запада - будь то ленд-лиз или падение Муссолини, - готовясь тем временем к большой конференции трех держав. В связи с затяжкой открытия второго фронта Сталин более чем когда бы то ни было раньше не был склонен уступать по такому вопросу, как польский вопрос. Вместе с тем он полагал, что по германскому вопросу он может принять некоторые односторонние меры предосторожности.
Когда успешное наступление Красной Армии, начавшееся после поражения немцев под Курском, было в разгаре, произошло падение Муссолини.
До этого итальянская кампания освещалась в советской печати весьма бледно. Однако падение Муссолини внезапно убедило русских в том, что, хотя в чисто военном отношении значение итальянской кампании было «ничтожным», она может оказаться очень важной в политическом плане. Воздействие, которое окажет на Германию и ее сателлитов падение Муссолини, игнорировать было нельзя.
27 июля «Красная звезда» откликнулась на падение Муссолини острой статьей. Автор позаимствовал кое-какие словечки из лексикона Черчилля (например, эпитет «шакал») и поставил значение падения Муссолини и побед русских в ходе летней кампании на один уровень. В статье говорилось:
«10 июня 1940 года Муссолини бросил свои дивизии на истекающую кровью Францию… Шакал торопился…
Уже поход в маленькую Грецию показал перед всем миром слабость итальянской армии… Борьба в Африке тоже не принесла лавров Муссолини… Перешедшие в наступление английские войска вдребезги разгромили итало-германскую армию… Совершенно безнадежным стало военное положение фашистской Италии, когда она вместе с гитлеровской Германией очертя голову ринулась в авантюру против Советского Союза… Лучшие итальянские дивизии «Челере», «Сфорцеска», «Юлия», «Кунеэнзе» и другие… нашли себе могилу в донских и воронежских степях. В боях с Красной Армией итальянцы потеряли свыше 100 тысяч убитыми и пленными… пал Тунис… англичане и американцы за короткий срок овладели значительной частью Сицилии… Шакал обладал большой алчностью, но зубы его были гнилы… Не от хорошей жизни «всесильный дуче» вынужден был покинуть пост диктатора;… Двадцать один год диктатуры Муссолини были самым мрачным периодом итальянской истории… Муссолини продал Италию Гитлеру».
Статья уже тогда предвещала снисходительное отношение Советского Союза к итальянскому народу:
«Немцы, являющиеся исконными врагами итальянского народа… стали с помощью гитлеровского лакея Муссолини хозяевами Италии. Муссолини - предатель интересов итальянского народа, и таким он сойдет в могилу… Ликвидация германского наступления 1943 года на советско-германском фронте нанесла очередной удар Гитлеру. Банкротство его союзника Муссолини нанесло ему второй удар».
Но русские считали, что всего этого недостаточно. В то время в Советском Союзе много писалось о том, что, хотя союзники достигли блестящих политических результатов в Италии, теперь возрастает угроза затяжки войны с Германией; поэтому необходимо нанести удар по самой Германии, то есть высадиться во Франции.
Советская политика по отношению к самой Германии учитывала два момента, которые выявились летом 1943 г., после победы под Курском. Во-первых, в связи с освобождением большой территории Советского Союза стали известны некоторые страшные зверства, совершенные немцами; эти преступления требовали беспощадного наказания их виновников. С другой стороны, в ожидании выработки согласованной англо-американо-советской политики в отношении Германии надо было принять некоторые политические миры предосторожности, поскольку последняя надежда Гитлера победить Россию рухнула в ходе Курской битвы.
Итак, уже через несколько дней после этой победы проявились дне внешне противоречивые линии, характеризовавшие отношение к Германии. Проявлением первой из них был судебный процесс в Краснодаре, на котором группа русских изменников была приговорена к смерти за содействие гестапо в уничтожении 7 тыс. евреев и других советских граждан, главным образом с помощью душегубок. Это был первый открытый судебный процесс в СССР, на котором всему миру были показаны с массой подробностей зверства гестапо - а в то время о них еще почти ничего не было известно. По сравнению с дальнейшими открытиями, например Майданеком и Освенцимом, разоблачения, сделанные на процессе в Краснодаре, представляются малозначительными, но они были первым конкретным примером зверств немцев и произвели глубокое впечатление как на военных, так и на население. Процесс подробно освещался в печати несколько дней в начале наступления Красной Армии на Орел. Как средство «воспитания ненависти» процесс был первоклассным мероприятием, однако все эти подробности - о том, как плачущих детей запихивали в душегубки, - были настолько ужасны, что не только пресса за рубежом давала материал о краснодарском процессе приглушенно, но даже в самом СССР некоторые скептики думали про себя, не было ли все это немного преувеличено в пропагандистских целях; они не знали, что краснодарское дело, связанное «всего» с 7 тыс. жертв, - лишь незначительный эпизод в деяниях гестапо и СД во всей Европе.
Затем произошло другое поразительное событие. В тот самый день, когда в Краснодаре был вынесен приговор, советская печать сообщала, что из антифашистов-военнопленных и отдельных немецких эмигрантов, находившихся в России, сформирован комитет «Свободная Германия». Это сообщение выглядело странным сразу же после краснодарского процесса. За границей сообщение породило у многих серьезные подозрения. Поползли слухи, что русские готовятся заключить сепаратный мир с Германией, может быть, даже с самим Гитлером… Молотов заверил посла Великобритании, что все это делается, дабы породить смятение среди немецких солдат и народа и тем самым уменьшить их сопротивление, чего пропаганда типа «эренбурговской» явно не достигала. Однако тот факт, что решение о создании комитета «Свободная Германия» было принято в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций с союзниками, вызвал, во всяком случае, на какое-то время большие сомнения у недоброжелательных людей за границей.
Показательно, что в ходе боев в Италии, особенно осенью и зимой, когда приходилось переживать много тяжелых и удручающих моментов и когда почти не было надежды на успех в ближайшем будущем, английским войскам у Монтекассино и Монтекамино все время (как нам известно) повторяли:
«Мы должны держаться, так как если мы лишимся всякого плацдарма на Европейском континенте (во Франции ничего не произойдет до будущего года), то русские, устав от тяжелых людских потерь, могут выйти из игры».
В тот день, когда начался судебный процесс в Краснодаре, в советской печати было опубликовано письменное заявление немецкого офицера, обер-лейтенанта танковых войск Франкенфельда, который сообщал, что он всеми силами принял участие в наступлении (под Курском) и стоял до конца, но теперь считает упорное стремление Германии и дальше продолжать войну неразумным и равнозначным самоубийству. В заявлении говорилось:
«8 июля стало ясно, что план наступления провалился, а вся кампания этого года уже проиграна. Теперь я, как это мне ни больно, абсолютно уверен в неизбежном поражении Германии, и для меня существует только вопрос, наступит ли это поражение через два месяца или через полгода, и где раньше - на Востоке или на Западе.
Что мне оставалось делать? Погибнуть в ближайшие дни или месяцы, не улучшив ничем судьбу немецкого народа… сознавая, что дальнейшая борьба… приведет к бессмысленному применению газов и таким образом к еще более ужасным жертвам. Будущее немецкого народа полностью в руках победителей».
Думая о будущем, он решил «способствовать скорейшей катастрофе».
Но это заявление было лишь короткой прелюдией к тому, что произошло через 5 дней, когда крупные заголовки сообщили о создании Национального комитета «Свободная Германия». Сообщение об этом событии было сделано в своеобразной форме - путем воспроизведения в советской прессе первого номера газеты, издававшейся комитетом, - «Freies Deutschland». Газеты сообщали, что 12 и 13 июля (то есть как раз в то время, когда советские войска начали наступление на Орел) в Москве проходила конференция военнопленных немецких офицеров и солдат, а также антифашистов - депутатов рейхстага и писателей, которые находились в Москве еще до начала войны.
В советской печати указывалось, что на конференцию прибыли делегаты из всех лагерей немецких военнопленных. Они принадлежали к различным общественным кругам и придерживались различных политических и религиозных взглядов. Комитет был избран единогласно. Президентом комитета избрали известного немецкого поэта-коммуниста Эриха Вайнерта и вице-президентами - майора Карла Хетца и лейтенанта графа фон Эйнзиделя. (Он рассказал, когда его взяли в плен, что является внуком Бисмарка и что он сожалеет о том, что Гитлер нарушил золотое правило Бисмарка - не нападать одновременно на Россию и Запад.)
Комитет провозгласил, что Германии угрожает смертельная опасность. В манифесте комитета фигурировали многие аргументы из числа тех, которыми год спустя, в июле 1944 г., воспользовались лица, пытавшиеся организовать покушение на Гитлера.
«Гитлер тащит Германию в бездну. Взгляните, что происходит на фронтах. Беспримерны в истории Германии поражения последних семи месяцев: Сталинград, Дон, Кавказ, Ливия, Тунис. Вся ответственность за эти поражения падает на Гитлера. И он все еще продолжает оставаться во главе армии и государства… Войска Англии и Америки стоят у ворот Европы.
Взгляните, что происходит на родине: Германия стала уже театром войны… Факты свидетельствуют неумолимо: война проиграна. Ценой неслыханных жертв и лишений Германия может еще на некоторое время затянуть войну. Продолжение безнадежной войны было бы, однако, равносильно гибели нации.
Но Германия не должна умереть!
Если германский народ по-прежнему безропотно и покорно допустит, чтобы его вели на гибель… тогда Гитлер будет свергнут лишь силой армий коалиции. Но это будет означать конец нашей национальной независимости, нашего государственного существования, расчленение нашего отечества…
Если германский народ вовремя обретет в себе мужество …освободить Германию от Гитлера, то он завоюет себе право самому решать свою судьбу и другие народы будут считаться с ним. Но с Гитлером мира никто не заключит. Поэтому образование подлинно национального немецкого правительства является неотложнейшей задачей нашего народа… Это правительство может быть создано лишь в результате освободительной борьбы всех слоев немецкого народа. Оно будет опираться на боевые группы, которые объединятся для свержения Гитлера. Верные родине и народу силы в армии должны при этом сыграть решающую роль. Это правительство… отзовет германские войска на имперские границы… Только оно создаст для германского народа возможность свободного волеизъявления в условиях мира, возможность суверенного разрешения вопроса о государственном устройстве.
Наша цель - свободная Германия.
Это означает: сильную демократическую власть, которая не будет иметь ничего общего с бессилием Веймарского режима…»
Программа комитета включала такие положения, как отмена законов против национальных меньшинств и расистских законов, восстановление профсоюзов, свобода торговли, освобождение жертв фашистского террора, справедливый и беспощадный суд над военными преступниками и зачинщиками войны.
«Немецкие солдаты и офицеры на всех фронтах! - говорилось в заключительной части манифеста. - У вас в руках оружие!… Трудящиеся мужчины и женщины на родине!… Образуйте боевые группы… всюду, где вы находитесь…
За народ и отечество! За немедленный мир! За спасение германского народа! За свободную и независимую Германию!»
Этот документ подписали майор Карл Хетц, майор Генрих Хоман, майор Штеслейн, несколько капитанов и лейтенантов, десятки унтер-офицеров и рядовых; Антон Аккерман, профсоюзный деятель из Хемница; Марта Арендзее, депутат рейхстага; Иоганнес Бехер, писатель; Вилли Бредель, писатель; Вильгельм Флорин, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт - депутаты рейхстага; Густав Соботтка, руководитель профсоюза горняков Рура, и еще два писателя - Эрих Вайнерт и Фридрих Вольф.
Естественно, все это ни в коей мере не связывало Советское правительство. Ведь не Советское правительство, а комитет «Свободная Германия», не обладающий никакой властью, обещал немцам «суверенитет», если будет создано антифашистское «национальное правительство». Ясно, что Советское правительство не могло давать подобных обещаний Германии, не проконсультировавшись с союзниками.
И все-таки это был странный шаг с точки зрения как внутренней политики, так и международных отношений, и реакция на него в последующий период как в России, так и за границей в ряде случаев была любопытная.
Дело заключалось в том, что комитет «Свободная Германия» превратился в важную опору для советской пропаганды в Германии и особенно в немецкой армии. Представители комитета днем и ночью выступали по московскому радио в передачах для Германии. Сотни тысяч экземпляров газеты «Freies Deutschland» печатались еженедельно и разбрасывались с самолетов над немецкими войсками на фронте. Это была большая по объему, прекрасно оформленная и хорошо отпечатанная газета, содержавшая массу добротного материала. Однако на страницах этой газеты Советский Союз столь явно выражал благосклонность к немецкому народу, что предпринимались все меры для того, чтобы экземпляры газеты «Freies Deutschland» не попали в руки иностранцев, особенно дипломатов и иностранных корреспондентов, находящихся в СССР. Ведь если бы они не восприняли все это исключительно как пропаганду, рассчитанную на подрыв морального состояния Германии, могли бы появиться всевозможные нежелательные суждения, особенно в американской прессе, враждебно настроенной к России. Эта газета предназначалась для Германии, и только для Германии.
Комитет «Свободная Германия» вначале имел лишь небольшое практическое значение, однако в 1943 г. будущее рисовало самые раз личные ситуации. Следует помнить, что все это происходило до Тегеранской конференции. Возможно, русские надеялись также, что поражение немцев под Курском получит более серьезный отзвук в Германии, чем это произошло в действительности. Если комитету «Свободная Германия» не суждено было сыграть крупной политической роли, то это объясняется тем, что фашисты до самого конца сохраняли контроль над Германией и немецким народом. Позже, после капитуляции Германии, многие члены комитета «Свободная Германия» стали видными деятелями, активными борцами за денацификацию и демократизацию политической и общественной жизни Германии[201].
После большой победы под Курском в июле 1943 г. в Советском Союзе стало складываться убеждение, что война фактически выиграна, хотя окончательная победа все еще очень далека и обойдется, пожалуй, ценой еще миллиона или больше человеческих жизней.
Ленинград все еще обстреливался немецкой артиллерией, но Москва, где часто гремели победные салюты, была в полной безопасности. Знаменательно, что в августе 1943 г. всему составу дипломатического корпуса - японцам, болгарам и остальным - разрешили вернуться из Куйбышева, в Москву.
22 августа было опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Цель его заключалась в том, чтобы в пределах возможного поставить освобождаемые районы на собственные ноги, дабы они не остались надолго бременем для всей страны.
В числе прочих мер планом предусматривалось выделение семенного фонда для посева озимых, возвращение скота и тракторов, вывезенных при отступлении, быстрейшее восстановление железных дорог, железнодорожных строений и постройка элементарных жилищ для железнодорожников.
Тем временем - с июля по ноябрь 1943 г. - Красная Армия делает блестящие успехи, ведя наступление на Украине и на других фронтах. 23 августа войска генерала Конева (Степной фронт) при поддержке войск генерала Ватутина (Воронежский фронт) и генерала Малиновского (Юго-Западный фронт) взяли Харьков.
Следующая большая победа была одержана войсками генерала Толбухина на самом южном участке фронта. Его войска, осуществив прорыв из района Луганска к Азовскому морю, взяли Таганрог, находившийся в руках немцев с осени 1941 г. Пять тысяч немцев было взято в плен.
31 августа войска Рокоссовского (Центральный фронт) захватили Глухов и продвинулись в глубь северных районов Украины.
Южнее быстрыми темпами происходило освобождение Донбасса. Немцы, боясь попасть в окружение, отходили, уничтожая заводы и шахты.
8 сентября во всех газетах первую полосу занимал приказ Сталина генералам Толбухину и Малиновскому. В приказе говорилось, что в результате шестидневных умелых и стремительных действий советских войск освобожден весь Донбасс.
10 сентября Толбухин и Малиновский взяли Мариуполь, город на Азовском море, при поддержке морского десанта, высаженного западнее этого города.
На самом южном участке фронта Красная Армия очищала два последних опорных пункта немцев на Кавказе. После тяжелых пятидневных боев войска генерала Петрова и соединения военно-морских сил под командованием вице-адмирала Владимирского захватили 16 сентября Новороссийск, или, точнее, руины этой важной морской базы. Таманский полуостров был очищен от противника к 7 октября. Большинство немецких войск бежало в Крым через Керченский пролив.
21 октября Рокоссовский занял древний город Чернигов, превращенный в развалины в результате массированных налетов немецкой авиации летом 1941 г., а 23 октября Конев взял Полтаву (также почти полностью разрушенную отступавшими немцами); 29 октября войска Конева, форсировав Днепр, взяли Кременчуг.
25 октября Соколовский (Западный фронт) взял Смоленск.
К концу октября, как указывалось в официальных сообщениях, Красная Армия на Украине вела наступление на Киев, а в Белоруссии - на Витебск, Гомель и Могилев.
Если сентябрь был примечателен тем, что в этот месяц была освобождена большая территория, то октябрь был отмечен еще более важным событием - форсированием Днепра. Надежды немцев «удержаться на линии Днепра» рухнули.
О том, какой прилив оптимизма вызвало форсирование Днепра, можно судить по стихотворению Суркова, опубликованному 8 октября:
В косом дожде, по косогорам Сквозит полей осенних грусть. В грозе и буре шагом скорым Идет карающая Русь.
Идет, гневна и непреклонна, Тяжелый меч ее остер. Ярмо немецкого полона Она собьет с родных сестер.
Уже раскована равнина На юг и запад от Кремля. Жди и надейся, Украина! Жди, белорусская земля!
Не век врагам глумиться люто. Дни чужеземцев сочтены. С Днепра нам виден берег Прута И плесы Немана видны.
Много статей в то время посвящалось теме русско-украинского единства, которое символизировала учрежденная тогда новая высокая награда - орден Богдана Хмельницкого.
14 октября Малиновский взял Запорожье, а 23 октября Толбухин взял Мелитополь. Теперь Красная Армия должна была в скором времени отрезать Крым от Большой земли. Однако проникнуть на территорию Крыма русским не удалось - это пришлось отложить до весны 1944 г. Блестящую операцию осуществили войска Малиновского: нанеся внезапный удар по Днепропетровску, расположенному в нижнем течении Днепра, они взяли этот город 25 октября. Немецкая «днепровская линия» трещала по всем швам.
(обратно)Глава XI Дух Тегерана
Нет необходимости рассматривать историю конференции министров иностранных дел, проходившей в Москве в октябре 1943 г, или Тегеранской конференции, состоявшейся месяцем позже, поскольку обе эти конференции детально описаны в мемуарах Черчилля, в записках Гопкинса, в книге генерала Джона Дина «Странный союз» и в других изданиях. Здесь нас главным образом интересует реакция советского общественного мнения на эти два важных события, явившиеся, безусловно, крупными вехами в развитии взаимоотношений Советского Союза с Западом во время войны.
Может показаться удивительным, что антигитлеровская коалиция СССР, Англии и США существовала уже более двух лет и что лишь в конце 1943 г. состоялись эти первые настоящие совещания лидеров Большой тройки. Правда, в 1941 г. Гопкинс, Бивербрук, Гарриман и Иден побывали в Москве; в мае 1942 г. Молотов летал в Вашингтон и в Лондон, а в августе 1942 г. в Москву приезжал с визитом Черчилль. Этот визит проходил в мрачной обстановке. Сталин и другие советские руководители показались Черчиллю настроенными не очень радостно и приветливо. Советским людям предстояли в скором времени самые тяжкие испытания в Сталинграде, и немцы уже проникли на Кавказ.
В октябре 1943 г. Красная Армия изо дня в день одерживала все новые и новые победы. Если до Курской битвы, которая в июле 1943 г. положила начало непрерывной цепи побед, русские были обеспокоены и нервничали - они требовали активных действий на Западе, которые могли бы отвлечь 40-50 немецких дивизий с советского фронта, - то в октябре 1943 г. Советское правительство и советская общественность относились ко всему происходящему гораздо спокойнее. Советские войска ежедневно теряли тысячи солдат, но открытие второго фронта уже не было для них вопросом жизни и смерти. Теперь они стали считать чем-то само собой разумеющимся, что война будет в любом случае выиграна и что западные союзники, хоть и готовы воевать до победного конца, намерены воевать так, чтобы СССР нес максимальные людские потери, а они - минимальные. Такое положение теперь воспринимаюсь как горькая необходимость.
Даже и при таком положении вещей союзники приносили пользу - они направляли в Советский Союз большие поставки по ленд-лизу. Кроме того, как заявил Сталин Идену в октябре 1943 г., он не упускает из виду то обстоятельство, что угроза открытия второго фронта в Северной Франции заставила немцев летом 1943 г. держать 25 дивизий на Западе, помимо 10-12 немецких дивизий, которые были скованы в Италии. Пока что Сталин был более или менее удовлетворен, хотя и продолжал высказывать беспокойство по поводу новой и, пожалуй, необоснованной отсрочки операции «Оверлорд» - высадки через Ла-Манш на северном побережье Франции. В Москве широко было распространено мнение (этому способствовали неосторожные разговоры американцев), что Черчилль все еще стремится к расширению операций в Средиземноморском бассейне, а план операции «Оверлорд» продолжает обставлять всевозможными условиями и отговорками.
По мнению русских, это был вопрос № 1, подлежащий выяснению на конференции министров иностранных дел, открывшейся в Москве 19 октября 1943 г.
Как уже отмечалось, между Советским правительством и правительствами Англии и Америки было очень мало контактов на высоком уровне. Московская конференция Большой тройки была первой встречей такого рода. Конференция состоялась в благоприятное время - после трех месяцев непрерывных побед Красной Армии.
Конференция проходила в Москве; а не в каком-либо другом месте потому, что Сталин, слишком занятый войной, не хотел выезжать за границу и не хотел даже отпускать Молотова - например, в Касабланку. Это был не просто технический вопрос. Сталин придерживался такой линии:
Советский Союз несет на своих плечах основное бремя войны, и поэтому пусть «другие» ездят в Москву.
Для встречи с Рузвельтом и Черчиллем Сталин был готов пойти на уступку - поехать в Тегеран, расположенный недалеко от советской границы, но он не хотел ехать в Хаббанию или Басру, не говоря уже о Каире. Дело было не только в том, что Сталин, как Верховный Главнокомандующий, не мог отлучиться больше чем на несколько дней. Соображения безопасности также не играли решающей роли. Это был прежде всего вопрос престижа: «Мы не пойдем на поклон к Западу с шапкой в руке. Пусть Запад идет к нам». Такая позиция производила в Советском Союзе именно то впечатление, на какое рассчитывал Сталин.
Итак, к октябрю 1943 г. обстановка изменилась. Появились возможности для разработки совместных военных планов. Через несколько месяцев Красная Армия вполне могла перейти советские границы, и поражение Германии становилось все более реальной перспективой. Теперь важнейший вопрос заключался в том, как долго будет продолжаться война. Если за месяц до победы под Курском советские руководители официально заявили, что Советский Союз не сможет выиграть войну один, то теперь они несколько отошли от этой позиции. Они не отказывались от этих заявлений, но не выражали их в столь категорической форме.
Московская конференция продолжалась 12 дней и была отмечена колоссальным числом пышных обедов, балетных спектаклей, приемов в посольствах и грандиозным банкетом в Кремле, описанных со всеми сенсационными подробностями генералом Дином, возглавлявшим незадолго до того прибывшую в СССР военную миссию США. За все время войны Москва, находившаяся теперь в глубоком тылу, не видела ничего подобного.
Иден имел несколько встреч со Сталиным и убедился, что он в целом находится в хорошем расположении духа, хотя по-прежнему с иронией отзывается о военных усилиях Запада - за исключением налетов авиации на Германию, которыми он очень доволен. Больше всего его интересовал вопрос о сроке начала операции «Оверлорд», и он был рад, что встречает в этом вопросе полную поддержку со стороны американцев. Американцы в свою очередь стремились заручиться обещанием СССР принять участие в войне против Японии. Оба эти вопроса обсуждались на Московской конференции, хотя определенные решения по ним были приняты только на Тегеранской конференции.
Сталин был доволен, что американцы поддерживают план операции «Оверлорд». Генерал Дин писал несколько позже - во время Тегеранской конференции: «Большинство американцев, участвовавших в конференции, впервые встретились со Сталиным. Он произвел на них сильное и благоприятное впечатление, возможно, потому, что поддерживал американскую точку зрения в наших спорах с англичанами. Независимо от этого нельзя было не заметить черты величия в этом человеке…»
В техническом плане генерал Дин добавляет:
«Сталин прекрасно знаком с деталями… он поразительно сведущ в таких вопросах, как тактико-технические свойства различных видов оружия, конструктивные особенности самолетов, советская методика боевых действий и даже незначительные тактические приемы»[202].
В определенном смысле Московская конференция явилась репетицией Тегеранской. Однако и сама она дала некоторые «позитивные» результаты: была учреждена Европейская Консультативная Комиссия, Консультативный Совет по вопросам Италии (в состав которого должны были войти представители Англии, США, Франции, Греции и Югославии; Вышинский представлял в ней Советский Союз); состоялись «исчерпывающие и искренние дискуссии» по поводу мероприятий, которые следует предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов, а также для того, чтобы создать базу для «теснейшего военного сотрудничества в будущем между тремя странами»; было также решено, что «тесное сотрудничество» трех держав должно продолжаться и после войны. Была подписана «Декларация четырех держав по вопросу о всеобщей безопасности» (подготовленная в основном Корделлом Хэллом). Правительства четырех держав провозглашали свою решимость «продолжать военные действия против тех держав оси, с которыми они соответственно находятся в состоянии войны». Помимо представителей Большой тройки, этот документ от имени своего правительства подписал посол Китая в Москве. (Теперь русские не очень опасались, что они могут спровоцировать Японию, и стремились угодить Хэллу, придававшему большое значение этой Декларации, которая наделяла Китай статусом великой державы.) В Декларации содержались также положения, подготавливающие создание Организации Объединенных Наций. На конференции была принята «Декларация об Австрии», предупреждавшая австрийцев о том, чтобы они не шли за Германией до самого конца, и призывавшая их внести свой собственный вклад в дело своего освобождения. Этот принцип получил в дальнейшем широкое применение в отношении Румынии, Болгарии и т.д. Наконец, конференция приняла подписанную Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным «Декларацию об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». Декларацией устанавливался принцип, требующий отсылки этих преступников для суда в те страны, где ими были совершены преступления.
Иден и Корделл Хэлл были настроены оптимистически как в ходе конференции, так и после ее окончания. Помню, как Иден во время антракта в Большом театре (давали неизменное «Лебединое озеро») сказал мне: «Это хорошая конференция; лучше поздно, чем никогда. Но эти поездки в Москву - страшно сложное дело. Мы здесь решили создать хороший механизм - мы хотим этого, и русские тоже. Когда механизм станет функционировать, нам гораздо легче будет решать такие проблемы, как проблема Польши. Мы и стараемся создать такой механизм и записать на бумаге как можно больше согласованных положений».
Иден получил такой «механизм» в виде Европейской Консультативной Комиссии, но было совершенно ясно как во время Московской конференции, так и позже, во время Тегеранской конференции, что Польша была одной из таких проблем, решение которых неизменно откладывалось. На Московской конференции было много разговоров о вовлечении в войну Турции и Швеции, но из этого ничего не получилось. Русские все еще сдержанно относились к идее прямого военного сотрудничества между Советским Союзом и Западом. Первоначально они дали не очень благоприятный ответ на предложение американцев об организации челночных операций бомбардировочной авиации и о создании в этой связи американских военно-воздушных баз на территории СССР. Никаких решений по этому поводу не было принято до февраля 1944 г.
Хотя Корделл Хэлл очень устал к концу конференции, он принял журналистов в посольстве США. Из выступления перед журналистами было видно, что он весьма доволен результатами конференции.
«Когда я отправился сюда, - сказал он, - преобладало мнение, что эта встреча ничего не даст, поскольку Россия имеет тенденцию стать на путь изоляционизма, тем не менее состоялся широкий обмен взглядами, и мы почувствовали огромное удовлетворение, обнаружив, что советские государственные деятели все больше и больше склоняются к выводу о том, что изоляционизм вреден… Теперь, когда возник дух сотрудничества, мы можем приступить к созидательной работе. Наступило время собраться. Основы для этого уже заложены. Некоторые проблемы, стоящие перед нами, деликатны и сложны, но в атмосфере единства никакие проблемы не вызовут чувства отчужденности».
Хэлл намекнул, что в скором времени состоится встреча глав трех правительств. .Он высказал особое удовлетворение «Декларацией четырех держав по вопросу о всеобщей безопасности», которую подписал и Китай. Союзникам, однако, предстоял исполинский труд - такие проблемы, как будущее Польши и Германии, еще не были решены, но консультации по обеим проблемам уже велись.
Хэлл также заявил, что союзная военная администрация оккупированных территорий постепенно будет утрачивать свои полномочия и Европейская Консультативная Комиссия будет заниматься все более широким кругом вопросов.
Далее Хэлл сказал:
«Сталин - удивительная личность. Он наделен необыкновенными способностями и разумом, а также умением схватывать суть практических вопросов. Он один из тех лидеров, наряду с Рузвельтом и Черчиллем, на плечи которых ложится такая ответственность, какой не будет знать ни один человек в ближайшие 500 лет… Среди русских, насколько мне известно, нет нежелательных для нас настроений в связи с вопросом о втором фронте… Я не знаю двух других государств, у которых было бы меньше антагонистических интересов и больше общих интересов, чем у США и России…»
Иден также был весьма доволен работой конференции.
«Прибыв сюда, - сказал он, - мы полагали, что шансов на успех очень мало и что русские только и будут делать, что требовать открытия второго фронта. Я удивлюсь, если они начнут выступать с такими требованиями сейчас, ибо им теперь известно, что это событие приближается. Напротив, конференция оказалась весьма серьезным делом, она положила начало новой форме сотрудничества между нами. Мы чудесно поработали вместе».
30 октября я в качестве председателя Англо-американской ассоциации печати выполнял обязанности хозяина на завтраке, устроенном нами в честь Идена и Корделла Хэлла (его представлял Гарриман) в ресторане гостиницы «Националь». Мы не предполагали, что могут приехать Молотов и другие высокопоставленные советские руководители, однако, к нашему великому удивлению, нам позвонили из протокольного отдела и намекнули, что приглашения будут приняты с удовольствием. Вот подлинная сердечность отношений! Правда, Молотов не приехал, но Вышинский и Литвинов явились. Приветствуя советских гостей, я упомянул о той мужественной борьбе, которую Иден и Литвинов вели в Женеве и Нионе, и отпустил пару шуток по адресу Чемберлена, не называя его, и все это было воспринято очень хорошо. Вся атмосфера, в которой проходил завтрак, была весьма дружественной. Вспомнив слова Черчилля об «осенних листьях», произнесенные им в начале года, Вышинский сказал: «Обычно осенние листья падают осенью, но если они начнут падать весной, - что ж, это, пожалуй, будет хорошо, лишь бы они вообще падали». (Он теперь явно смирился с мыслью об открытии второго фронта только в 1944 г.) Литвинов сказал, что Лига наций, к сожалению, оказалась Вавилонской башней, а не прочной пирамидой. И что в следующий раз народы мира должны создать нечто лучшее.
Гарриман был настроен несколько агрессивно и подчеркнуто резко говорил о войне на Тихом океане, отметив, что, если бы война там не развивалась столь успешно, было бы мало шансов на содействие Америки в вопросе открытия второго фронта в Европе.
На роскошном банкете в Кремле, которым завершилась конференция, Сталин был в великолепном настроении. Несмотря на все недовольства, высказывавшиеся им ранее по поводу отправки конвоев северным путем, теперь Сталин отдал должное военно-морским силам и торговому флоту Англии: «Мы о них много не говорим, но мы знаем, что они делают». Новый глава английской военной миссии, генерал Мартель, в восторженных выражениях поздравил Сталина в связи с форсированием Красной Армией Днепра незадолго до конференции: «Никакая другая армия в мире не смогла бы совершить подобный подвиг!» Наступил непродолжительный период взаимных комплиментов и поздравлений.
Два главных военных представителя США в ССОР - антисоветски настроенный генерал Микела и генерал Феймонвил (известный своими оптимистическими докладами о военной обстановке в Советском Союзе, которые он направлял все время начиная с 1941 г. Рузвельту, чем зачастую вызывал недовольство государственного департамента) были теперь отозваны, и на их место прибыла постоянная военная миссия во главе с генералом Джоном Р. Дином. Русские вскоре убедились, что вести переговоры с ним - дело нелегкое. Особенно придирчив Дин был в вопросе о поставках по ленд-лизу - он всегда добивался от русских подробных разъяснений, действительно ли им нужны те или иные поставки для военных целей или они требуются просто для послевоенной реконструкции.
Советская печать высказывала большое удовлетворение итогами конференции министров иностранных дел. Праздник годовщины Октябрьской революции, отмеченный грандиозным салютом в ознаменование освобождения Киева войсками Ватутина, проходил в весьма радостной атмосфере.
Сталин в своем докладе, делая обзор событий за 1943 г. - «года коренного перелома», - очень высоко оценил успехи Красной Армии и военные усилия страны в целом, и вместе с тем он особенно сердечно говорил о действиях английских и американских союзников.
«В этом году удары Красной Армии по немецко-фашистским войскам были поддержаны боевыми действиями наших союзников в Северной Африке… и в Южной Италии. Вместе с тем союзники подвергали и продолжают подвергать основательной бомбардировке важные промышленные центры Германии… Если ко всему этому добавить тот факт, что союзники регулярно снабжают нас разным вооружением и сырьем, то можно сказать без преувеличения, что всем этим они значительно облегчили успехи нашей летней кампании. Конечно, нынешние действия союзных армий на юге Европы не могут еще рассматриваться как второй фронт… Понятно, что открытие настоящего второго фронта в Европе, которое не за горами, значительно ускорит победу над гитлеровской Германией и еще больше укрепит боевое содружество Союзных государств».
Сталин был особенно доволен выходом Италии из войны. Он полагал, что прочие сателлиты Германии, понимая, что «им придется теперь делить между собой синяки да шишки», предпринимают отчаянные попытки вырваться из объятий Гитлера. Сталин высказывал мнение, что в 1944 г. Германия потеряет всех своих союзников. Она теперь явно стоит «накануне своей катастрофы».
Вечером 7 ноября Министерство иностранных дел устроило самый большой за всю войну прием. К этому времени весь дипломатический корпус снова собрался в Москве. Прием был устроен шикарный, и пили на нем непомерно много. Тут были десятки звезд из литературной, музыкальной, художественной, научной и театральной сфер. Первыми с приема ушли японские дипломаты, которых принимали подчеркнуто холодно, но вскоре за ними последовала целая процессия «их превосходительств», которых просто выносили - ногами вперед. Английский посол свалился ничком на стол, уставленный бутылками и рюмками, и даже слегка порезался.
Было что-то от великолепия Московии в этом пиршестве, где можно было наблюдать, как послы при полном параде падают на стол и как их выносят служители, чьих насмешек не могло скрыть выражение глубокой озабоченности на их лицах.
Нет нужды пересказывать здесь то, что всем известно о Тегеранской конференции[203]. Следует лишь сказать, что русские были ею удовлетворены - пока она шла. Было наконец-то принято твердое решение начать операцию «Оверлорд» в мае. Было также решено усилить помощь партизанам Тито.
Но некоторым другим «военным» решениям, принятым на конференции, например об эвентуальном вступлении Турции в войну на стороне Большой тройки, было суждено остаться на бумаге.
Вопрос о будущем Германии обсуждался, но определенного решения принято не было; удалось достичь чего-то вроде согласия о приблизительных границах будущей Польши, хотя вопрос о границе по Нейсе остался нерешенным, а рассмотрение вопроса о польском правительстве было отложено.
Черчилль призывал СССР проявить снисхождение к Финляндии и получил от Сталина половинчатые обещания. В конечном счете русские дали возможность Финляндии весьма легко расплатиться за участие в войне - и не столько в силу полуобещаний, данных Черчиллю, сколько в силу специфической «скандинавской» политики СССР, стержнем которой является нейтралитет Швеции.
Сталин пообещал вступить в войну против Японии после капитуляции Германии, но на условиях, подлежащих определению в дальнейшем.
Об этих условиях в то время открыто не сообщалось. В «Декларации трех держав» говорилось:
«Мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга… Наше наступление будет беспощадным и нарастающим».
Советские люди предвкушали, что наконец они получат настоящий второй фронт. Именно с этим чувством, вызывавшим большое удовлетворение в СССР, заканчивался победный, но очень тяжелый для него 1943 г. Это был год, в течение которого Красная Армия прошла путь от Сталинграда и Кавказа до Киева и дальше на запад. Было освобождено более двух третей захваченной немцами территории. Но путь до Берлина все еще был долог.
Пожалуй, Сталин не преувеличивал, когда говорил в Teгеране, что Красная Армия начинает уставать от войны и над ее чем-то подбодрить. Это сделала тегеранская «Декларация трех держав».
Многие были поражены, когда менее чем через два месяца после Тегеранской конференции в «Правде» было напечатано знаменитое сообщение «Слухи из Каира» - о тайных сепаратных переговорах о мире между Англией и Германией, происходящих «в одном из прибрежных городов Пиренейского полуострова». Преследовала ли публикация этого материала цель ослабить чрезмерные чувства благополучия, появившиеся в СССР после Тегеранской конференции, или она отражала раздражение, которое Черчилль вызвал у Сталина, оказавшись гораздо более «трудным» партнером на Тегеранской конференции, чем Рузвельт? Показательно, что американцы не упоминались в этом сообщении про «Слухи из Каира». К Рузвельту все время относились, как к верному другу и союзнику Советского Союза.
На такое отношение не повлияло то обстоятельство, что Рузвельт не рассматривал серьезно выдвигавшиеся Москвой в виде опыта предложения - они делались и в 1943-м, и в 1944 г. - о широком экономическом сотрудничестве между СССР и Америкой после войны, и в частности о предоставлении займа в 7 млрд. долларов для восстановления советской экономики. Идею такого «сотрудничества» поддерживали, как было известно, некоторые влиятельные деловые круги Америки, но она вызывала отрицательную реакцию у других, в том числе у посла США в Москве Аверелла Гарримана.
(обратно) (обратно)Часть седьмая. 1944-й - Год решающих сражений
Глава I. Некоторые характерные черты 1944 г.
В оценке советской историографии 1943 г, стал переломным годом коренного поворота в ходе военных действий. После Сталинграда и особенно после Курска Красная Армия, почти не задерживаясь, стремительно продвигалась на запад. К концу 1943 г. было освобождено две трети обширной территории, оккупированной немцами в 1941-1942 гг., и хотя большая часть Западной Украины и Белоруссии, а также вся Прибалтика все еще находились в руках немцев и они все еще обстреливали Ленинград, Советское Верховное Главнокомандование готовилось к окончательному их изгнанию из пределов Советского Союза в 1944 г. Более того, на своем пути к Германии Красная Армия оказалась на всем протяжении фронта от Балкан до Польши на несоветской территории» и это обстоятельство не могло не породить целого ряда новых политических, дипломатических и психологических проблем. Со времени Сталинграда и в особенности с момента падения Муссолини сателлиты фашистской Германии (Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия) искали путей и средств выйти из «гитлеровской войны» с минимальным ущербом для себя. Уже в самом начале 1944 г. Финляндия, Венгрия и Румыния начали зондировать почву в целях заключения мира. Тегеранская конференция окончательно убедила эти страны в том, что боевой союз между русскими и англо американцами был значительно более солидным предприятием, чем это старалась изобразить немецкая пропаганда. Наиболее консервативные элементы в этих странах надеялись на смягчение суровых условий советской оккупации, если Англия и США примут активное участие в любом мирном урегулировании. Так, адмирал Хорти в своей первой попытке подобного зондажа проявил готовность порвать с Гитлером при условии совместной оккупации Венгрии советскими и англо-американскими войсками.
Польша по-прежнему оставалась центральной проблемой во взаимоотношениях между Востоком и Западом, проблемой, которая должна была вызвать на протяжении 1944 г. множество новых осложнений. И дело тут не в том, что проблема Польши по сути своей резко отличалась от проблемы Румынии, Болгарии или даже Чехословакии, но именно она оказалась тем критическим вопросом, по которому как СССР, так и западные державы заняли, по-видимому, непреклонную позицию. Так, например, хотя по поводу Чехословакии и возникли известные трения и разногласия между Бенешем и чехословацким эмигрантским правительством в Лондоне, с одной стороны, и Готвальдом, Копецким и другими «московскими чехами» - с другой, до открытого конфликта дело дошло только через много времени после окончания войны. Советские власти поддерживали достаточно корректные отношения с чехословацким «лондонским правительством» и не делали никаких попыток создать в противовес ему прокоммунистическое чехословацкое правительство в Москве или в освобожденной части Чехословакии. Они, казалось, были готовы провести в Чехословакии эксперимент с демонстрацией образчика сосуществования Востока с Западом.
Визит президента Бенеша в Москву в декабре 1943 г., почти сразу же после Тегеранской конференции, и подписание советско-чехословацкого договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве были, по-видимому, большим успехом, хотя атмосфера, в какой проходил этот визит, и говорила о наличии у обеих сторон кое-каких задних мыслей, что не в последнюю очередь касалось отношений между Бенешем и Зденеком Фирлингером, чехословацким послом в Москве, который тесно сотрудничал с Готвальдом и Копецким. Однако многое сделало благословение, которое Бенеш дал частям чехословацкой армии, сражавшимся на советском фронте, и их командиру, полковнику Свободе. 18 декабря Сталин принял Бенеша и Фирлингера, но в официальном сообщении об этой встрече не было обычной в таких случаях фразы о «сердечной атмосфере», что вызвало некоторое удивление. Было известно, что чешские коммунисты стали с некоторых пор обвинять Бенеша в том, что он не стремится к активизации движения Сопротивления. Готвальд, например, критиковал чехословацкое правительство в Лондоне (в нескольких статьях в газете «Правда» и в других выступлениях) за то, что оно не поощряло более энергичное сопротивление немцам в самой Чехословакии.
Тем не менее прощальная речь Бенеша 23 декабря отличалась большой сердечностью, хотя русским, может быть, и не совсем понравилось то, что он назвал новый советско-чехословацкий договор лишь одной из важнейших основ, на которых будет строиться будущая политика Чехословакии.
Оглядываясь назад, на 1943 г., СССР имел все основания для оптимизма, но для каждого советского гражданина в отдельности война с ее страшными жертвами продолжала оставаться весьма суровой действительностью. День за днем в Красную Армию призывалось все больше молодежи, и часто можно было встретить пожилых мужчин и женщин, потерявших на войне уже несколько - или всех - своих сыновей. Согласно официальным цифрам, опубликованным после войны, к началу 1944 г. в действующей армии находилось около 7 млн. человек, и, поскольку за два с половиной военных года погибло не менее 5 млн. человек (не говоря о раненых), нетрудно себе представить, как глубоко задела война каждую семью.
Работа на предприятиях оборонной промышленности, где трудились в основном женщины, подростки и старики, была невероятно тяжелой, с постоянными сверхурочными, практически полным отсутствием отпусков, а питание зачастую было очень плохое. Многие рабочие питались в заводских столовых, но отдавали им значительную часть своей нормы продуктов, получаемых по карточкам. Прикрепленные к каждому заводу подсобные хозяйства, обычно представлявшие собой всего-навсего огороды, обеспечивали рабочим некоторое дополнительное количество овощей, но снабжение основными продуктами оставляло желать много лучшего. Колхозные рынки были плохой поддержкой из-за непомерно высоких цен.
Врачи, хирурги и учителя были чудовищно перегружены работой. Хирургов было далеко не достаточно для того, чтобы как следует обслужить всех раненых во время крупных военных операций, в результате чего обязанности хирургов выполняли и врачи других специальностей.
Об обстановке в некоторых - хотя и не во всех - средних школах Москвы в 1944 г. можно судить по тому, что рассказал мне примерно в ту пору один 11-летний мальчик. В его классе было 35 учеников, а занятия по всем предметам: истории, географии, арифметике, естествознанию и русскому языку - вела одна только учительница, страшно перегруженная работой. Питание, которое дети получали в школе, состояло из ломтика хлеба с каким-то «противным горьким американским джемом из апельсинов». У большинства детей отцы находились в армии (или погибли), а матери допоздна работали на заводах. Война оказала на школьников явно отрицательное воздействие.
В 1944 г. не хватало педагогов, отчего страдала как начальная, так и средняя школа. С другой стороны, профессиональные и ремесленные училища, задачей которых было готовить трудовые резервы для промышленности, пользовались особым вниманием; первоочередное внимание уделялось также подготовке все большего числа новых солдат.
Моральное состояние советского рабочего класса оставалось, как и прежде, хорошим, несмотря на несомненные признаки физического переутомления. Еще более высоким было моральное состояние армии. Солдаты испытывали не только чувство большого подъема - ибо каждый день приносил новые победы, - но и великую национальную гордость, ощущение выполненного долга и достигшее высокой степени стремление заслужить новые знаки отличия, медали и ордена. Эти медали и ордена, которыми были награждены уже многие миллионы, служили огромным стимулом для каждого солдата. Существовали уже медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя» и «За оборону Москвы», а в конце войны появились еще и медали «За освобождение Варшавы», а также Белграда и Праги и за взятие Будапешта, Вены и Берлина; появился и целый ряд новых орденов.
В армии как Сталин, так и генералы были очень популярны. Помню трагическую, но типичную судьбу одного моего знакомого, 19-летнего юноши Мити Хлудова. Он был выходцем из известной московской купеческой семьи, членам которой, оставшимся в живых, естественно, пришлось пережить в первые годы революции тяжелые времена. Митя служил в одной из артиллерийских частей и участвовал летом 1944 г. в Белорусской операции. Он написал мне письмо, где говорил: «Я могу с гордостью сообщить Вам, что моя батарея совершила чудеса и задала фрицам жару. За последний бой я был представлен к награждению орденом Отечественной войны, а самое главное - меня приняли в партию. Да, знаю, мои родители были буржуи, но, черт побери, я русский, стопроцентный русский, и горжусь этим, и народ наш сделал эту победу возможной после всех ужасов и унижений 1941 года. Я готов отдать жизнь за мою Родину и за Сталина; я горжусь тем, что я - член партии, что я - один из победоносных сталинских воинов. Если мне повезет, я еще попаду в Берлин. Мы придем туда - а мы заслужили право прийти туда - раньше наших западных союзников. Если Вы увидите Оренбурга, передайте ему от меня привет. Скажите ему, что мы все читали его статьи… Скажите ему, что мы действительно ненавидим немцев после того, как увидели столько зверств, совершенных ими здесь, в Белоруссии, не говоря уже о причиненных ими разрушениях. Они превратили этот край чуть ли не в пустыню».
Десять дней спустя Митина сестра получила от него новое письмо, на этот раз из госпиталя. Он был ранен, но уверял, что чувствует себя лучше и скоро вернется на свою батарею. Он не сообщал никаких подробностей о своем ранении. Но через несколько дней он умер…
Восторженная гордость, какую чувствовал Митя оттого, что он был одним из воинов великой армии, была не единственным чувством, владевшим солдатами. Но подобные настроения с сопутствовавшей им ненавистью к фашистам были, пожалуй, наиболее широко распространены и разделялись большинством крестьянских парней, находившихся в армии. Были и другие настроения - сознание принадлежности к потерянному и обреченному поколению, осужденному быть принесенным в жертву; они нашли отражение в маленьком литературном шедевре Эммануила Казакевича, его повести «Звезда», написанной в конце войны и рассказывающей об одном рейде советских разведчиков. Сознание постоянной близости смерти красной нитью проходит через большинство произведений советской литературы военных лет, будь то стихи Суркова или стихи и пьесы Симонова, рассказы и романы Гроссмана или Казакевича. Стихи Семена Гудзенко, замечательного поэта, говорили о несколько иных умонастроениях фронтовиков. Для людей такого душевного склада война - рискованная, но тем не менее необыкновенно увлекательная игра, и после войны такие люди испытывали тоску по ней.
Победы Красной Армии в 1944 г. были выдающимися, но лишь очень немногие из них оказались легкими. Немцы дрались с чрезвычайным упорством в Польше (особенно в августе, когда русские были остановлены на подступах к Варшаве), под Тернополем в Западной Украине (где три недели шли напряженные уличные бои, напоминавшие бои в Сталинграде), и позднее в Венгрии и в Словакии. Особенно ожесточенным было сопротивление немцев на всех участках, лежавших на прямом пути к Германии, в частности на подступах к Восточной Пруссии, а затем и в самой Восточной Пруссии.
Немцы наконец-то явно утратили свое былое численное превосходство. Союзные войска с июня вели наступление на Западе, и к сентябрю Германия потеряла всех своих союзников - на ее стороне сражалось теперь всего несколько венгерских дивизий.
Тем не менее наметившаяся уже ранее тенденция немцев сопротивляться Красной Армии любой ценой, союзникам же оказывать менее сильное сопротивление становилась по мере приближения конца войны все более заметной. Оборонительный рубеж на Висле напротив Варшавы, Будапешт, Восточную Пруссию и позднее оборонительный рубеж на Одере немцы защищали гораздо упорнее, чем любой рубеж или участок на Западе. Ни одна из наступательных операций советских войск в 1944 г. - если не считать их стремительного продвижения по Южной Украине в марте и по Румынии в августе (и то и другое происходило после окружения крупных немецких группировок), а также операций второстепенного значения в Северной Норвегии - не давалась им легко, и чем ближе Красная Армия подходила к Германии, тем яростнее становилось сопротивление немцев.
Если в 1941 г. и даже в 1942 г. очень многие советские люди представляли себе немецкого солдата бездушным, но невероятно искусным роботом, то на протяжении 1943 и 1944 гг. их отношение к немцам заметно изменилось, однако изменилось в двух разных аспектах. Были еще, конечно, среди немецких солдат, особенно в войсках СС, люди страшные, готовые драться до последнего патрона и иногда, как известно, предпочитавшие самоубийство плену. Но обычные немецкие военнопленные уже не были более такими высокомерными, как в 1941 и 1942 гг. Теперь все больше немецких пленных были склонны скулить, старались напускать на себя жалкий вид и твердили: «Гитлер капут». Желание избивать немецких пленных, наблюдавшееся у советских солдат в 1941 и 1942 гг., ныне в значительной мере исчезло. Гнев советских солдат скоро остывал, и они даже давали вновь захваченным немцам поесть, говоря: «Нате, сволочи, жрите».
Но «германская проблема» имела еще и другую сторону. Почти каждый освобожденный город и деревня в России, Белоруссии или на Украине являли собой нечто ужасное.
В Белоруссии в так называемом «партизанском крае», были сожжены сотни деревень, а жители их либо зверски убиты, либо угнаны в неволю. Крупные города повсеместно были разрушены. На Украине, где условия для партизанской войны были неблагоприятными, немцы угнали огромную часть молодежи. Повсюду в городах действовало гестапо, и множество людей было расстреляно или повешено. Эйнзатцкоманды и другие части истребляли партизан или их мнимых «сообщников», причем нередко уничтожалось все население деревень, включая женщин и детей… В сотнях городов систематически проводилось истребление евреев. Каждый украинский и белорусский город имел свою страшную историю. По мере того как Красная Армия двигалась на запад, бойцы ее ежедневно слышали рассказы о зверствах, унижениях и угоне людей; они видели разрушенные города; они видели массовые могилы советских военнопленных, зверски убитых или погибших голодной смертью; они видели Бабий Яр с бесчисленными трупами, в том числе трупами маленьких детей; они видели все это - и в их сознании вырисовывалась с отвратительной ясностью реальная правда о фашистской Германии, с ее Гитлером и Гиммлером, с ее теорией низших рас, с ее неописуемым садизмом. Все, что писали о немцах Алексей Толстой, Шолохов и Эренбург, звучало мягко по сравнению с тем, что советский боец услышал собственными ушами, увидел собственными глазами, обонял собственным носом. Ибо где бы ни проходили немцы, они везде оставляли после себя зловоние разлагающихся трупов. Но Бабий Яр был всего-навсего мелкой дилетантской проделкой по сравнению с Майданеком - лагерем смерти близ Люблина, который Красная Армия захватила в августе 1944 г. почти в полной сохранности, - где за каких-то два года было умерщвлено полтора миллиона человек. И, помня запах Майданека, тысячи советских солдат стали с боями пробивать себе путь в Восточную Пруссию…
Итак, были «простые фрицы» образца 1944 г., а вместе с тем были и тысячи гиммлеровских профессиональных убийц. Но существовала ли между ними какая-нибудь четкая грань? Разве «простые фрицы» не принимали участия в уничтожении «партизанских деревень»? И, во всяком случае, разве «простой фриц» не одобрял того, что творили его коллеги в войсках СС и в гестапо? Или он этого не одобрял? Вот та и психологическая и политическая проблема, которая должна была принести Советскому правительству и командованию Красной Армии, особенно в 1944 и 1945 гг., много забот.
Сообщение о Тегеранской конференции вызвало в СССР огромную радость, но по целому ряду причин она не была продолжительной. Сталина, по-видимому, раздражали пассивная позиция Черчилля в отношении операции «Оверлорд», а также неоднократно выражавшееся им недовольство в связи с польским вопросом. И вот в январе 1944 г. «Правда», как уже говорилось, опубликовала сообщение «Слухи из Каира» о сепаратных мирных переговорах «двух английских руководящих лиц с Риббентропом… в одном из прибрежных городов Пиренейского полуострова». Вслед за тем Заславский обрушился в «Правде» с очень резкими нападками на Уэндела Уилки, который выступил - хотя и в мягкой форме - с рядом вопросов о том, что Советский Союз намерен предпринять в этношении Польши, Прибалтийских государств, Балкан и Финляндии.
Уилки пользуется фразеологией «враждебного нам лагеря», заявил Заславский; дальше он писал:
«Пора бы уже понять, что, скажем, вопрос о Прибалтийских республиках является внутренним делом СССР, куда не следовало бы вмешиваться господину Уилки. Кто интересуется такого рода вопросами, пусть лучше познакомится с Советской Конституцией и с тем демократическим плебисцитом, который был в свое время проведен в этих республиках, и пусть запомнит, что мы умеем по-настоящему защищать нашу Конституцию. Что же касается Финляндии и Польши, не говоря уже о Балканских странах, то Советский Союз сумеет сам договориться с ними и не нуждается здесь в помощи господина Уилки».
Заславский, несомненно, считал «весьма странным» и в высшей степени подозрительным, что Уилки посмел выразить мнение, будто между Объединенными Нациями назревает «кризис» из-за вопроса о соседних с СССР малых государствах. Но, будучи напечатана в «Правде» через месяц после Тегеранской конференции, эта статья говорила о нарастающих разногласиях между союзниками.
Советская печать продолжала наносить союзникам всякого рода легкие булавочные уколы - в особенности англичанам; так, в марте «Правда» напечатала заметку о немецких военнопленных, которые были обменены на английских военнопленных в Северной Африке (и теперь были снова взяты в плен советскими войсками) на том условии, что они не будут больше воевать против англичан, однако вольны драться против русских.
Главное же - постоянную нервозность вносил польский вопрос. Советское предложение изменить линию Керзона в пользу Польши, отдав последней Белосток и немалую территорию вокруг него не встретило у эмигрантского польского правительства в Лондоне доброжелательного отклика. Этому же правительству не без оснований вменялись в вину антисоветские выступления в Польше Армии Крайовой[204], в подпольной прессе которой писалось, что «Гитлер и Сталин - это два обличья одного зла», и которая даже прямо сотрудничала с немцами, выдав им некоторых руководителей белорусского подполья как коммунистов. Советская печать сообщала также, что генерал ан дере арестовал 50 польских офицеров в Тегеране за то, что те хотели вступить в ряды Польской армии в Советском Союзе.
И все же по мере приближения срока открытия второго фронта в Нормандии отношение советских властей к западным державам стало значительно более сердечным, хотя польский вопрос и продолжал по-прежнему отравлять атмосферу, ставшую особенно напряженной во время Варшавского восстания в августе. Но к октябрю наступили изменения к лучшему, и, казалось, никогда еще англо-советские отношения не были такими превосходными, как во время состоявшегося в этом месяце визита Черчилля и Идена в Москву. Даже самые заядлые скептики пришли к убеждению, что к этому времени и Сталин и Черчилль сочли целесообразным сохранять наилучшие отношения между собой, по крайней мере пока продолжалась война с Германией. И действительно, польский вопрос снова обострился только через несколько недель после Крымской конференции в феврале 1945 г.
В 1944 г., когда конец войны был уже недалек, Коммунистическая партия и Советское правительство занялись подведением некоторых предварительных итогов. Задачи восстановления народного хозяйства и улучшения жизни населения требовали принятия каких-то долгосрочных решений; нужно было также навести порядок в вопросах идеологии, покончив с различного рода отрицательными моментами, явившимися результатом войны. И наконец, сам тот факт, что миллионы советских солдат воевали теперь в буржуазных странах Восточной и Центральной Европы, порождал целый ряд совершенно новых психологических проблем.
Глава II. На Украине: личные впечатления
Нелегко было Гитлеру сказать «прости» как Никополю с его марганцем, так и Кривому Рогу с его железной рудой и всей Правобережной Украине, этой обширной колонии Эриха Коха и будущей (если не нынешней) житнице № 1, которая должна была утолить ненасытные аппетиты алчной «расы господ». Без всего этого «Зеленую папку»[205] и остальные планы немецкого сверхчеловека можно было бы спокойно выбросить в мусорную корзинку - ни для чего другого они не годились.
В конце 1943 г. советские армии уже вгрызлись на известное расстояние в глубь Правобережной Украины. К исходу сентября и в начале октября они совершили один из самых поразительных своих подвигов: под покровом ночи тысячи и тысячи людей форсировали во многих пунктах мощную водную преграду - реку Днепр. Они сделали это с ходу. Как только советские войска достигли Днепра, тысячи солдат начали переправляться на другой его берег на рыбачьих лодках, катерах или импровизированных плотах, на связанных друг с другом бочках или даже просто вплавь, уцепившись за доски или садовые скамейки. Немцы, похвалявшиеся своим неприступным Восточным валом на правом берегу Днепра, были захвачены врасплох. Их хваленых мощных укреплений, которые якобы были сооружены по всему течению Днепра, фактически не существовало вообще, а те укрепления, какие там имелись, не были своевременно укомплектованы людьми. Стоило только немцам попытаться оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление, как это сопротивление сразу же подавлялось советской артиллерией с восточного берега реки. В одном месте 60 советских танков с тщательно задраенными люками и щелями форсировали реку. Переправившихся частей хватило для создания ряда плацдармов на другом берегу реки; войска 1-го Украинского фронта под командованием Ватутина заняли несколько таких плацдармов около Киева, а войска 2-го Украинского фронта под командованием Конева - не менее 18 южнее, и, хотя в последующие несколько дней немцы захватили семь из них, нанеся советским войскам очень тяжелые потери, остальные одиннадцать плацдармов слились в один. Как только все крупные плацдармы были прочно закреплены, русские навели через реку понтоны и налеты немецкой авиации обычно удавалось с успехом отбивать благодаря мощной концентрации здесь советских истребителей. Для образования плацдармов были использованы также две бригады парашютных войск. На банкете в Кремле, состоявшемся во время Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в октябре 1943 г., глава английской военной миссии генерал Мартель заявил, что ни одна армия в мире не могла бы совершить такого подвига, какой совершила Красная Армия, форсировав Днепр.
На первый взгляд могло показаться, что операция эта была не чем иным, как импровизацией; на самом деле она вместе со всеми ее атрибутами: бочками, садовыми скамейками и т.д. - была заранее разработана во всех деталях, и тем, кто особенно отличится при форсировании Днепра, были обещаны высокие награды (за участие в форсировании Днепра свыше 2 тыс. человек удостоились звания Героя Советского Союза). Немецкая линия Мажино на Днепре оказалась в значительной степени блефом, и, как только наведение понтонов и паромов было закончено, русские перебросили на противоположный берег огромное количество боевой техники. 6 ноября Красная Армия освободила столицу Украины Киев. Несмотря на то что удачи перемежались отдельными неудачами (такими, как временное оставление Ватутиным - несколько позднее в том же ноябре - Житомира, города, лежащего к западу от Киева), войска 1-го и 2-го Украинских фронтов овладели к январю обширными территориями на правом берегу Днепра. Войска Ватутина продвинулись на широком фронте примерно на 200 км к западу от реки, а войска Конева - примерно на 150 км. Еще южнее действовали войска 3-го Украинского фронта под командованием Малиновского и войска 4-го Украинского фронта под командованием Толбухина. В период с января по начало мая 1944 г. войска этих четырех фронтов освободили всю Правобережную Украину.
Явно переоценивая свои силы и недооценивая наступательный дух и искусство Красной Армии, немцы - или по крайней мере Гитлер - были по-прежнему исполнены решимости не позже января 1944 г. вновь захватить для начала всю Правобережную Украину. Имея в виду эту цель, они отчаянно цеплялись за свой Корсунь-Шевченковский выступ на Днепре, километрах в 80 к югу от Киева, растянувшийся примерно на 50 км вдоль западного берега реки. К северу от этого относительно узкого выступа находились войска Ватутина[206], к югу - войска Конева. Согласно плану Гитлера, немецкие войска должны были атаковать советские армии с этого выступа одновременно в северном и южном направлениях и таким образом вернуть Германии всю Правобережную Украину - затея, столь же нереальная, сколь и многие другие гитлеровские планы на позднейших этапах войны.
Советское командование думало иначе. Здесь, полагало оно, открывалась блестящая возможность устроить немцам «второй Сталинград», хотя, конечно, и в меньших масштабах.
И действительно, между обеими этими операциями существовало поразительное сходство. Речь шла о том, чтобы зажать немецкие войска двойными клещами - с севера (Ватутин) и с юга (Конев), - сомкнуть эти клещи где-то западнее образовавшегося таким образом котла и помешать немецким армиям, находившимся за пределами его, прорваться к своей окруженной группировке. В данном случае роль армии Манштейна играла 8-я немецкая армия под командованием генерала Хубе. Главное различие между обстановкой в Сталинграде и в Корсунь-Шевченковском состояло в том, что немцы, окруженные в районе Корсунь-Шевченковского, все же попытались вырваться из котла, в результате чего Красной Армии пришлось сражаться, так сказать, «на два фронта», по обе стороны от кольца, которым она окружила «корсуньских» немцев.
3 февраля была объявлена важная весть о том, что после трехдневных тяжелых боев войска 1-го и 2-го Украинских фронтов, нанося удар - одни с юго-востока от Белой Церкви, другие с северо-запада от Кировограда, - соединились в районе Звенигородки и тем самым отсекли крупную немецкую группировку на Корсунь-Шевченковском выступе от основных сил противника. Немецкие дивизии оказались в окружении, и теперь начались шестнадцатидневные бои по их ликвидации. 9 февраля было взято Городище, находившееся внутри котла, а 14 февраля и сам город Корсунь-Шевченковский, и, хотя немецким войскам, пытавшимся прорвать кольцо окружения извне, удалось в тот день незначительно вклиниться в оборону советских войск, уже 15 февраля все их дальнейшие попытки прорыва были успешно отражены. 18 февраля закончилось уничтожение немецких войск во всем корсунь-шевченковском котле. По сообщению советской печати, 55 тыс. немецких солдат и офицеров было убито, 18 тыс. захвачено в плен; противник потерял также 500 танков, 300 самолетов и много другой боевой техники и вооружения.
В феврале и начале марта все четыре Украинских фронта пришли в стремительное движение. После ликвидации немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковского войска 2-го Украинского фронта за несколько недель проделали весь путь до румынской границы и вступили в северо-восточные районы Румынии. Действуя севернее, войска 1-го Украинского фронта встретили значительно более упорное сопротивление противника (войска этого фронта находились ближе к Германии, чем все остальные); тем не менее им удалось продвинуться широким фронтом до самых Карпат и почти до Львова и попутно овладеть украинской «столицей» Эриха Коха, городом Ровно. К югу от 2-го Украинского фронта развернулось чрезвычайно стремительное наступление войск 3-го Украинского фронта в направлении Херсона, Николаева и Одессы, освобожденной в начале апреля. Войска 4-го Украинского фронта выбили в феврале немцев с никопольского плацдарма на левом берегу Днепра, после чего приступили к осуществлению блестяще выполненной ими в конце концов задачи по освобождению Крыма.
Счастье улыбнулось мне вскоре после ликвидации корсуньшев-ченковского котла, и на следующий день, после того как Конев овладел Уманыо, я оказался единственным иностранным корреспондентом западной прессы, которому было разрешено посетить 2-й Украинский фронт, где я провел одну из поучительнейших недель за все мои военные годы в Советском Союзе. Главным моим спутником был майор Кампов, офицер из штаба Конева, ставший мне другом и прославившийся после войны, как писатель Борис Полевой.
12 марта я на военном самолете вылетел из Москвы и, пролетев над Днепром и Черкассами, прибыл в село Ротмистровку, которое вплоть до февраля находилось в северной части Корсунь-Шевченковского выступа. На другой день меня должны были перебросить на маленьком самолете У-2 в Умань, только что освобожденную войсками Конева.
Именно в Ротмистровке и произошла моя первая встреча с майором Камповым. Он выглядел бледным и усталым - правда только телом, а не душой; военная форма его была запачкана, сапоги до колен забрызганы грязью. Он воевал уже три года; в суровую осень 1941 г. он попал в Калининской области в окружение, из которого ему удалось вырваться, потеряв, однако, при этом большинство своих людей. В 1942 г. он вместе с войсками Конева принял участие в трудном Ржевском наступлении, но сейчас у него за спиной было восемь месяцев непрерывных побед. Это был стройный темноволосый человек со смеющимися серыми глазами и спокойно-юмористическим выражением лица.
«Вы не могли бы выбрать лучшего времени для приезда, - сказал он, - знаете, что случилось сегодня? Наши войска уже форсировали Буг». Это была замечательная новость. По разговорам, Южный Буг, лежавший на пути к Одессе и Румынии, был одним из наиболее сильно укрепленных оборонительных рубежей немцев. (Фактически, как мне стало известно позднее, это оказалось совсем не так, поскольку немцы потеряли все свое тяжелое оружие, еще не дойдя до Южного Буга.)
«Наступление через слякоть и грязь» развернулось на полную мощь. Это был один из самых удивительных подвигов за все время войны, совершенный, казалось, вопреки всем правилам военного искусства. Через какие-нибудь три недели после ликвидации немецкой группировки в районе Корсунь-Шевченковского Конев нанес удар по войскам противника в такой момент, когда немцы меньше всего этого ожидали - настолько глубокой и непролазной была грязь на дорогах Украины.
В течение недели, проведенной мной на Украине, мне довелось много услышать (да и увидеть собственными глазами) о том, что произошло в Корсунь-Шевченковском - «маленьком Сталинграде». С тех пор я прочел как советские, так и немецкие отчеты об этой операции и должен сказать, что если в отношении Сталинградской битвы и советская, и немецкая версии в основном совпадают, то между обеими версиями Корсунь-Шевченковской операции имеется ряд значительных расхождений.
Согласно советской официальной «Истории войны», немецкие войска, все еще остававшиеся в котле после двух недель тяжелых боев и провала всех усилий пробиться к ним извне, предприняли в ночь на 17 февраля последнюю отчаянную попытку вырваться из сжимавшего их кольца. Несмотря на сильный буран, на них обрушился сначала мощный артиллерийский и минометный огонь, затем легкие бомбардировщики, затем пулеметный огонь, и, наконец, их атаковали советские танки и кавалерия.
«Лишь небольшая группа вражеских танков и бронетранспортеров с генералами и старшими офицерами, бросившими войска на произвол судьбы, прорвалась под прикрытием пурги в направлении Лысянки. До этого гитлеровское командование сумело вывезти из котла самолетами 2-3 тыс. солдат и офицеров… Корсунь-Шевченковская операция завершилась… ликвидацией десяти дивизий и одной бригады врага. 55 тыс. фашистских солдат и офицеров было убито и ранено, 18 200 человек взято в плен. Противник потерял все вооружение и боевую технику»[207].
Все это оказало крайне деморализующее влияние на другие части немецкой армии на Украине.
Немецкие авторы, напротив, пытались умалить значение катастрофы. По утверждению Манштейна[208], в окружение попало только шесть дивизий и одна бригада, или в общей сложности 54 тыс. человек; русские опровергают эту цифру, ссылаясь на захваченные ими в то время немецкие военные документы. Другие немецкие историки, в частности Филиппи и Гейм, сваливают (как обычно) всю вину на Гитлера, упрекая его в том, что он вообще пытался удержать «совершенно бесполезный» Корсунь-Шевченковский выступ; при этом они утверждают, что, когда остававшиеся еще здесь 50 тыс. окруженных солдат и офицеров предприняли 17 февраля свою отчаянную попытку прорваться, 30 тыс. человек удалось выйти из кольца окружения, а около 20 тыс., а также вся боевая техника окруженных дивизий «были потеряны»[209].
Можно, однако, с уверенностью сказать, что прорыв, осуществленный 17 февраля - безуспешно, по советской версии, и с частичным успехом, согласно немецкой версии, - обошелся немцам очень дорого.
Учитывая противоречивость послевоенных версий, быть может, интересно будет привести здесь живой рассказ очевидца всех этих событий - майора Кампова, который я услышал от него в ту нашу встречу.
Начав с описания того, как войска Ватутина и Конева сомкнули 3 февраля кольцо вокруг выступа, Кампов сказал:
«Прорвавшись с танками, орудиями и моторизованной пехотой сквозь оборону противника, мы были вынуждены действовать на два фронта внутри кольца, а это было сначала очень трудно. Нас обстреливали с обеих сторон, и нам приходилось непрерывно атаковать противника, чтобы расширить свое кольцо, а оно вначале было всего каких-нибудь три километра шириной. Само собой разумеется, мы несли очень тяжелые потери. Но даже и в этих условиях нам уже через шесть дней удалось расширить кольцо почти до 30 километров в самом узком его месте.
В начале окружения площадь котла была почти 400 квадратных километров, и долгое время нам надо было драться не только с войсками, находившимися в самом котле, но и с теми, что наступали извне, a их было не менее восьми танковых дивизий[210]. Командовал ими генерал Хубе. Внутри котла оказалось десять дивизий, включая одну танковую, а также бельгийская мотобригада СС «Валония». Среди ее командного состава был и главный бельгийский фашист Дегрель, однако ему удалось бежать вместе с несколькими немецкими генералами на самолете. А жаль: было бы интересно «проинтервьюировать» его. Все бельгийские фашисты - головорезы-уголовники и авантюристы худшего пошиба.
В нашем кольце были сосредоточены очень крупные силы, и войска Хубе мало чего могли добиться. Что касается котла, то тут нашей тактикой было расчленить его на части и ликвидировать каждую часть отдельно. Так мы сметали деревню за деревней, где окопались немцы, - мы устроили им настоящее кровавое побоище. Боюсь, что во время него погибли и некоторые из наших - жители этих деревень; это одна из самых жестоких сторон такой войны.
Так или иначе, за четыре-пять дней до конца немцы располагали всего лишь участком площадью около 10 на 10,5 километра; главными узлами сопротивления были Корсунь-Шевченковский и Шендеровка. К этому времени вся территория котла простреливалась нашей артиллерией, но немцы продолжали держаться в надежде на то, что случится чудо и Хубе прорвется к ним извне. Однако скоро все их сладкие мечты начали испаряться. А затем пал Корсунь-Шевченковский, и единственное, что у них еще оставалось, был крошечный клочок земли вокруг Шендеровки.
Как сейчас, помню ту последнюю, решающую ночь на 17 февраля. Поднялась страшная пурга. Конев в танке сам разъезжал по насквозь простреливавшемуся коридору. Я был верхом и носился из одного пункта в этом коридоре в другой, выполняя поручения генерала; было так темно, что я не мог разглядеть ушей своего коня. Я говорю об этой темноте и пурге, потому что они сыграли важную роль в том, что произошло…
Именно в эту ночь, или накануне вечером, окруженные немцы, потеряв всякую надежду на помощь со стороны Хубе, решили предпринять последнюю отчаянную попытку вырваться из котла.
Шендеровка - большое украинское село примерно в 500 домов, и здесь войска Штеммермана (это был последний генерал, который еще оставался в котле; все другие бежали) вознамерились провести последнюю ночь и хорошенько выспаться. Конев узнал об этих планах и твердо решил любой ценой помешать немцам отдохнуть и осуществить на следующее утро организованный - или вообще какой бы то ни было - отход. «Знаю, что ночь черт знает какая, метет пурга, но мы должны применить ночные бомбардировщики, чтобы использовать обстановку», - сказал он. Ему возразили, что в такую погоду бомбардировщики просто не смогут ничего сделать, тем более что Шендеровка - такой мелкий объект. Но Конев заявил: «Это очень важно, и я не считаю ваши возражения вполне основательными. Я не хочу ничего приказывать летчикам, но свяжитесь с комсомольской авиачастью и скажите, что мне нужны для этого добровольцы». Нам выделили авиачасть, состоявшую почти из одних комсомольцев; все они без исключения пошли на выполнение задания добровольно. И вот как это все произошло. Самолеты У-2 сыграли здесь огромнейшую роль. Видимость была настолько плохая, что вначале никакой самолет, кроме такого тихохода, как У-2, не мог бы ничего сделать. «Уточки» засекли Шендеровку, несмотря на снегопад и темноту. Немцы их никак не ждали. Они пролетели вдоль всей Шендеровки и сбросили на нее зажигательные бомбы. Вспыхнуло множество пожаров. Теперь цель была ясно видна. Очень скоро после этого - а только что пробило два часа ночи - прилетели бомбардировщики и в течение целого часа бомбили село. Наша артиллерия, находившаяся теперь всего в 5 км от Шендеровки, также открыла по ней сосредоточенный огонь. Особенно радовало нас во всем этом то, что, как мы знали, немцы выгнали всех до единого жителей деревни в степь. Они хотели чувствовать себя здесь полными хозяевами, хотели, чтобы ничто не могло потревожить их сна. Начавшаяся бомбежка и обстрел заставили их, однако, покинуть теплые хаты и бежать.
Весь предыдущий вечер немцы находились в каком-то полуистеричном состоянии. Немногие оставшиеся в деревне коровы были зарезаны и съедены чуть ли не с каннибальской прожорливостью. Когда кто-то обнаружил в одной из хат бочку с кислой капустой, поднялась дикая драка. Острую нехватку продовольствия они ощутили сразу, как только оказались в окружении: непрерывно отступая, немецкая армия не имела крупных продовольственных складов поблизости от линии фронта. Поэтому войска, попавшие в корсунь-шевченковский котел, жили главным образом грабежом местного населения. Впрочем, тем же они занимались и до окружения.
У них была в ту ночь грандиозная попойка, однако зажженные «уточками» пожары, а также бомбежка и обстрел сразу заставили их протрезветь. Изгнанные из теплых хат, они были вынуждены бежать из Шендеровки и искать прибежища в оврагах за деревней. Здесь они приняли отчаянное решение прорываться рано утром. У них уже почти не оставалось танков - вся их боевая техника была уничтожена или брошена во время боев в предыдущие дни, а те немногие танки, какие у них еще имелись, стояли без горючего. За последние несколько дней территория, на которой они сосредоточились, сократилась настолько, что транспортные самолеты не могли им что-либо доставить. Но еще и до этого к ним добиралось лишь небольшое число транспортных самолетов, а иногда случалось так, что грузы продовольствия, горючего и боеприпасов сбрасывались прямо на наши позиции.
Итак, в то утро все немцы построились в две маршевые колонны примерно по 14 тыс. человек каждая и так прошли до Лысянки, где сходятся два оврага. Лысянка находилась внутри коридора, за пределами нашей передовой линии. Немецкие дивизии по другую сторону этого коридора пытались пробить себе дорогу на восток, но теперь коридор стал настолько широк, что это вряд ли могло бы им удаться.
Странное зрелище представляли собой эти две немецкие колонны, пытавшиеся вырваться из окружения. Каждая из них походила на колоссальную толпу. Голова и фланги колонны были образованы эсэсовцами из бригады «Валония» и дивизии «Викинг» в жемчужно-серых мундирах. Они были в относительно хорошем физическом состоянии. Внутри же треугольника брели простые немецкие пехотинцы, имевшие гораздо более жалкий вид. В середине толпы шла горстка «избранных» - офицеры. Они также выглядели сравнительно хорошо. И так эти колонны двигались на запад вдоль двух параллельных оврагов. В путь они тронулись рано утром, в пятом часу, когда было еще совершенно темно. Мы знали, с какой стороны они идут, и подготовили для их встречи пять линии - две линии пехоты, затем линию артиллерии и, наконец, еще две линии, где их подстерегали танки и кавалерия… Мы пропустили их через первые три линии, не сделав ни единого выстрела. Думая, что им удалось обмануть нас и прорваться через все наши укрепления, немцы разразились громкими, ликующими воплями, на ходу стреляли в воздух из пистолетов и автоматов. Теперь они выбрались из оврагов и шли по открытой местности.
И вот тогда-то все и произошло. Было около шести часов утра. Наши танки и кавалерия внезапно появились из своих укрытий и устремились прямо в гущу обеих колонн. Трудно описать, что тут началось. Немцы бежали во все стороны, и в течение четырех часов наши танки носились взад и вперед по равнине и сотнями давили их. Наперегонки с танками наша кавалерия[211] гнала их по оврагам, где танкам было трудно продолжать преследование. Большую часть времени танки не стреляли, опасаясь задеть свою кавалерию. Многие сотни кавалеристов рубили фрицев саблями и крушили их так, как никогда еще не крушила врага кавалерия. Брать пленных было некогда. Это была бойня, которую ничто не могло остановить, пока она не закончится. На небольшом участке было перебито более 20 тыс. немцев. Я был в Сталинграде, но мне никогда не доводилось видеть такого сконцентрированного в одном месте побоища, как здесь - в полях и оврагах на этом маленьком клочке земли. К девяти утра все было окончено. В этот и следующие несколько дней нам сдалось в плен 8 тыс. человек. Это были те, кто убежал как можно дальше от главной арены бойни и прятался в лесах и оврагах.
Три дня спустя мы обнаружили в Дюржанцах тело генерала Штеммермана. А вскоре после этого Конев мог от души посмеяться, когда германское радио сообщило со всевозможными подробностями о том, как Гитлер лично вручал Штеммерману высокую награду. В том, что генерал Штеммерман был мертв, никаких сомнений быть не могло. Я сам видел его труп. Наши бойцы положили его на грубо сколоченный деревянный стол в каком-то сарае. Там он и лежал, со всеми своими орденами и медалями на груди. Это был старик небольшого роста, седой. Судя по глубокому сабельному шраму на щеке, он принадлежал в молодости к какой-нибудь студенческой корпорации дуэлянтов. Мы сначала подумали, не было ли это инсценировкой - может, это простой солдат, переодетый в генеральский мундир. Однако все личные документы Штеммермана были при нем. Конечно, немцы могли подделать документы, но вряд ли им пришло бы в голову подделывать удостоверение с фотокарточкой на право ношения охотничьего ружья, выданное в 1939 г. в Шварцвальде… Мы похоронили Штеммермана как подобает. Мы можем себе позволить хоронить генералов подобающим образом. Остальных мы зарывали в ямы; если бы мы вздумали рыть для каждого отдельную могилу, нам потребовалась бы в Корсунь-Шевченковском целая армия могильщиков… А терять время мы не могли. Конев очень придирчив, он требует, чтобы трупы были убраны за два дня летом и за три зимой… Однако мертвые генералы попадаются не так уж часто, поэтому мы могли устроить Штеммерману надлежащие похороны. Во всяком случае, он был там единственный генерал, который не струсил. Все остальные драпанули на самолетах.
- Он что, покончил с собой? - спросил я.
- Нет, его ударило в спину осколком снаряда, но многие эсэсовцы действительно кончали самоубийством, хотя, пожалуй, только они.
- А что они делали со своими ранеными? Правда ли, что они их убивали?
- Да. И это, несомненно, способствовало той атмосфере истерии, какой была отмечена их последняя ночь в Шендеровке. Приказ убивать раненых выполнялся очень строго. Они не только застрелили сотни своих раненых - так, как они обычно расстреливали русских и евреев, в затылок, - нет, они еще зачастую поджигали санитарные машины с мертвыми. Что может быть более жутким, чем зрелище, представшее нашим глазам, когда мы открыли эти обгорелые фургоны? Все они были полны обуглившихся скелетов со слишком просторными гипсовыми повязками вокруг рук или ног. Ведь гипс не горит…
Разгром корсунь-шевченковской группировки подготовил почву для нашего нынешнего весеннего наступления. Он явился фактором огромнейшей психологической важности. Немцы до известной степени забыли Сталинград; во всяком случае, впечатление от Сталинграда отчасти уже потеряло для них остроту. Важно было напомнить им о нем. Теперь они будут еще больше бояться окружения».
Мне трудно сказать, являются ли приведенные Камповым факты и цифры более правильными, чем те, которые назывались немцами после войны. Трудно мне также судить о том, действительно ли ни одному немцу, как явствует из его рассказа, не удалось вырваться из котла; вероятно, некоторым, в частности генералам, все же удалось. А может быть, они бежали на самолетах за несколько дней до того. Однако рассказ Кампова, даже если сделать скидку на некоторую склонность последнего к романтизации событий (в частности, что касалось кавалерии), по-видимому, дает удивительно живую и правдивую картину того, что произошло на самом деле. Слушая его, я отчетливо представил себе как истерическое состояние полной безнадежности, охватившее закаленные фашистские войска, когда они оказались в котле, так и то ожесточение («брать пленных было некогда»), с которым дрались советские войска.
Надо самому увидеть украинскую весеннюю распутицу, чтобы понять, что это такое. Вся страна превращается в сплошное болото, а дороги уподобляются потокам грязи, нередко полметра или даже метр глубиной, с глубокими ямами, которые делают еще более трудным передвижение по этим дорогам любого вида транспорта, кроме советского танка Т-34. Большинство немецких танков оказалось не в состоянии преодолеть эту грязь.
8-я армия генерала Хубо, не сумев пробиться в корсунь-шевченковский котел и понеся при этом очень тяжелые потери, решила, несмотря ни на что, удержать свой участок линии обороны, проходившей от Кировограда на юге до Винницы на севере, то есть линию, начинавшуюся южнее Корсунь-Шевченковского выступа (находившегося теперь в руках советских войск) и кончавшуюся примерно в 65 км к северу от Умани. Немцы считали, что, пока период распутицы не кончится, бояться им абсолютно нечего; поэтому они спокойно занялись укреплением своей новой оборонительной линии севернее Умани, мобилизовав для этого тысячи украинцев - из местных жителей.
Однако 5 марта, в самую распутицу и бездорожье, Конев начал свое фантастическое «молниеносное наступление через слякоть и грязь». Оно началось с артиллерийской подготовки, в результате которой на немецкие позиции обрушился шквал огня. Не прошло и шести дней, как немцы были оттеснены и выбиты из Умани. Грязь была настолько непролазной, что они бросали на произвол судьбы сотни танков, грузовиков и орудий и бежали - по большей части «своим ходом» - к Умани и за нее. На одной из железнодорожных станций советские войска захватили только что прибывший сюда немецкий эшелон с 240 новехонькими танками. Обычно, однако, немцы сжигали или взрывали при отходе все свои грузовики и танки.
Хотя советские танки и были способны передвигаться по грязи, артиллерия от них отставала, и преследовать немецкую пехоту очень часто приходилось пехотным частям, иногда при поддержке танков, а иногда и без нее. Коневское «наступление через слякоть и грязь» «противоречило всем правилам», и немцы, конечно, не ожидали его. Советская пехота и танки быстро продвигались к Южному Бугу, а затем, форсировав его, устремились к границам Румынии. Снабжение их продовольствием, боеприпасами и горючим осуществлялось с помощью авиации. Самолеты также бомбили немецкие войска и, если бы не отвратительная погода, нанесли бы им еще больший урон. Единственный вид транспорта (не считая танков Т-34), который довольно успешно преодолевал грязь, были грузовики «студебеккер», и советские солдаты не могли ими нахвалиться.
Особенно поразил меня в последующие дни высокий боевой дух советских армий и плохое состояние немецких войск, деморализованных корсунь-шевченковской катастрофой, внезапностью советского наступления и утратой практически всей тяжелой боевой техники.
На следующий день с разрешения генерала Конева мы с майором Камповым вылетели на двух маленьких самолетах У-2 из Ротмистровки в Умань. Только У-2 позволяет испытать неповторимое ощущение полета, каким мы представляем его себе в детстве. Душные, закупоренные пассажирские самолеты ничего подобного дать не могут. Сидя на открытом сиденье позади пилота, я испытывал такое чувство, будто лечу впервые в жизни. Мы пролетели над домами Ротмистровки со скоростью, не превышавшей 90 км в час; игравшие в садах дети, люди на дорогах приветственно махали нам руками, и мы отвечали им тем же. Большую часть времени мы шли на высоте 20-30 м от земли. Вначале глаза мои резало от холодного ветра, но, когда пилот дал мне защитные очки, блаженство мое стало полным. Подобно птице, самолет то нырял в долины и овраги, то снова взмывал вверх, над холмами и лесами, или кружил над городами и деревнями, смотреть на которые было особенно интересно. Снег уже исчез, и в воздухе чувствовалась весна. Земля была темно-бурого, почти черного цвета, деревья стояли голые, но воображение уже рисовало картину полей с густой пшеницей, поднимающейся из влажной, тучной почвы. Мы сделали круг над Корсунь-Шевченковским выступом. Некоторые деревни сохранились в целости, но были почти безлюдны, и совсем не было видно скота. От других деревень, особенно от Шендеровки, где немцы провели свою последнюю ночь, остались только груды обломков, хотя среди развалин все еще росло много вишен и яблонь. Между холмами к западу от Шендеровки вились, подобно двум блестящим коричневым лентам, две дороги, по которым в ту ночь на 17 февраля немцы двинулись навстречу смерти.
Затем мы сделали круг над какой-то равниной; ее все еще усеивали сотни немецких касок, но все трупы были уже захоронены. Пройдет немного времени, и земля, в которой лежат тысячи убитых, зарастет травой.
Вот впереди показалось несколько линий траншей - до 5 марта это были немецкие траншеи Миновав линию разрушенных немецких укреплений, мы пролетели много километров над дорогами, являвшими собой престранное зрелище. Они были завалены тысячами сгоревших грузовиков и сотнями танков и орудий, брошенных немцами во время панического отступления по слякоти и грязи. И эта странная, неподвижная процессия сгоревших машин и танков тянулась до самой Умани.
После почти двухчасового полета наши У-2 приземлились на уманском аэродроме. Здесь мы увидели несколько искореженных немецких самолетов, а на дальнем конце летного поля высился огромный стальной каркас сгоревшего немецкого транспортного самолета.
Майор заговорил о генерале Коневе. «Конев, - сказал он, - старый солдат. Во время гражданской войны он воевал в Сибири. Здесь он организовывал партизанские отряды. Он был военным комиссаром одной из партизанских дивизий и командовал бронепоездом, сражавшимся с японцами. Позднее он с винтовкой в руках участвовал в штурме Кронштадта - во время кронштадтского мятежа в 1921 г. Как в Сибири, так и в Кронштадте с ним был писатель Фадеев - с тех пор они остались друзьями на всю жизнь.
Вы никогда с ним не встречались? Ему 48 лет, он почти совсем лысый и седой. У него широкие плечи, и он может быть очень строгим. Но обычно в глазах у него мелькает веселая смешинка. Он почти всегда носит очки. Очень любит читать, поэтому всегда возит с собой целую библиотеку. Увлекается чтением Ливия, а также наших классиков, которых любит цитировать в разговоре, - то тут, то там ввернет что-нибудь из Гоголя, или Пушкина, или же из «Войны и мира». Живет он в простой крестьянской хате, а когда ездит по фронту, то надевает плащ, чтобы не смущать своим присутствием солдат. Очень аскетичен в своих привычках, не пьет и терпеть не может, когда кто-нибудь напивается; очень требователен к самому себе и к другим. Из всех его увлечений мирного времени ему больше всего недостает охоты на куропаток; он прекрасный стрелок. Ну, что еще можно сказать о нем? Он прилично знает английский язык и довольно легко читает по-английски».
В один из следующих дней военные власти в Умани сообщили мне, что потери немцев за неделю с начала советского наступления 5 марта составили в общем свыше 600 танков (из них 250 в хорошем состоянии), 12 тыс. грузовиков (в большинстве выведенных из строя), 650 орудий и 50 складов боеприпасов и продовольствия. За ту же неделю они потеряли около 20 тыс. убитыми и 25 тыс. попавшими в плен; советские войска также понесли за время прорыва большие потери, но, после того как немцы были обращены в бегство, потери стали гораздо меньше.
Помню также весьма многозначительную беседу, состоявшуюся у меня на той неделе в Умани с одним полковником авиации. Я называю ее многозначительной, поскольку отношение этого полковника к западным союзникам было теперь - в марте 1944 г. - несравненно более теплым, чем то, какое наблюдалось в Красной Армии до сих пор. Он рассказал, как авиация обеспечивала снабжение армии продовольствием, боеприпасами и горючим во время продвижения «к Румынии», а потом заметил:
«Немецкая авиация сейчас значительно слабее, чем прежде. Немцы только в очень редких случаях посылают на операцию пятьдесят бомбардировщиков сразу, обычно они используют для этого не более двадцати. Нет никакого сомнения в том, что все эти бомбежки Германии сильно отразились на немецкой технике - как авиационной, так и сухопутной. Наши солдаты понимают важность этих союзнических бомбардировок; они теперь называют англичан и американцев «нашими»… Масса немецких истребителей вынуждена сейчас действовать на Западе, и мы имеем возможность интенсивно бомбить немецкие войска, иногда даже не встречая сколько-нибудь энергичного отпора в воздухе». Помолчав, он добавил: «Все эти «китихауки» и «аэрокобры» - чертовски хорошие машины, не то что прошлогодние «томагавки» и «харрикейны» - от тех было мало толку. Но здесь у нас главным образом советские самолеты, низко летящие штурмовики, при одном приближении которых немцы со страху теряют штаны…»
Небольшой городок Умань представлял собой в некотором смысле как бы всю Украину в миниатюре. Численность его населения упала теперь с 43 тыс. до 17 тыс. человек. Прожив здесь неделю, можно было составить себе известное представление почти о всех сторонах жизни Украины во время немецкой оккупации - если не считать тяжелой промышленности, которой здесь не было во всей округе. Умань являлась центром обширного сельскохозяйственного района, одного из богатейших на Украине, славящегося пшеницей, сахарной свеклой, кукурузой, фруктами и овощами. Как и во многих других украинских городах, до войны почти четверть населения составляли здесь евреи. Сейчас на улицах нельзя было увидеть ни одного еврейского лица. Половина евреев бежала в 1941 г. на восток, а те 5 тыс. человек, которые остались в городе - в том числе и дети, - были однажды ночью согнаны в большой склад; окна и двери здания немцы заколотили досками и герметически закрыли, и все, кто здесь находился, умерли через два дня от удушья. Теперь в городе были партизаны, а во время оккупации здесь существовало советское подполье. Нашлись в Умани и разного рода коллаборационисты, а также украинские националисты. Все разговоры, с чего бы они ни начинались, неизменно сводились к рассказам об угоне немцами местных жителей. Около 10 тыс. уманских девушек и юношей были вывезены отсюда в качестве рабов в Германию. Лишь очень небольшому числу молодежи удалось избежать этой участи, примкнув к партизанам, которых в этой степной части Украины было не так уж много.
В день нашего приезда Умань представляла собой фантастическое зрелище. Одно из больших зданий в центре города еще тлело. Улицы были загромождены сгоревшими немецкими машинами и усыпаны тысячами втоптанных в грязь обрывков бумаги: канцелярских дел, личных документов, писем, фотографий, а также целых пачек хорошо отпечатанных красочных листовок на украинском языке, превозносивших «германо-украинский союз».
Эти листовки были, по-видимому, элементом одной из наспех предпринятых немцами попыток создать антисоветскую и профашистскую «украинскую армию» по типу власовской. Эти попытки не принесли желаемых результатов. В проулке между двумя домами лежал среди всего этого мусора мертвый немецкий солдат - парнишка не старше 18 лет.
Неистощимым объектом для шуток служил здесь один немецкий генерал, который бежал из Умани на полуразвалившемся стареньком тракторе, переваливавшемся, как верблюд, - это было одно из немногих средств передвижения, способных совладать со страшной грязью.
Улицы Умани были в тот день почти безлюдны: жители города, по-видимому, все еще боялись выходить из домов после непрерывной стрельбы предыдущих дней. Нигде не видно было также и милиции; вместо нее по улицам расхаживали или разъезжали верхом на лошадях какие-то странные фигуры - мужчины в меховых папахах с прикрепленными к ним алыми ленточками. На многих из них были немецкие шинели. Это были партизаны из близлежащей местности. Я вступил с некоторыми из них в беседу. Один из них, молодой парень в запятнанной кровью немецкой шинели, рассказал мне длинную историю о том, как его схватила и пытала немецкая охранка, как ему удалось бежать и как немцы потом убили его жену, которая оставалась в Умани. Он рассказывал все это с навевающим ужас спокойствием. «В нашем городе оказалось много предателей, - заявил он, - самым худшим из них был главный палач охранки, сволочь, по фамилии Воропаев; но сейчас он сидит под замком в НКВД. Мы уж позаботимся о том, чтобы он не избежал веревки».
Другим партизаном, с которым я беседовал, оказался чисто выбритый толстяк в сдвинутой на затылок засаленной шапке, похожий на завсегдатая какого-нибудь трактирчика в Лидсе или Манчестере. Он работал в уманском железнодорожном депо и осуществлял связь с партизанами. «Мы помогаем советским властям вылавливать всех шпионов и предателей», - объяснил он.
Мы с майором Камповым устроились в импровизированном общежитии советских офицеров и за эту неделю повидали в Умани множество самых удивительных людей. Всего лишь несколько дней назад в этом доме жили немецкие офицеры, поэтому пришлось организовать здесь тщательные поиски мин и «сюрпризов». Одна мина была обнаружена внутри старого, дребезжащего фортепьяно; если бы кому-нибудь вздумалось нажать на его клавиши, дом взлетел бы на воздух.
На следующий день на улицах Умани появилось не только много солдат, но и несколько больше, чем накануне, штатских. Дома в центре города были маленькие, ничем не примечательные; до войны в них жили в основном евреи. Окраины были застроены более приятными для глаза украинскими хатками, крытыми соломой и окруженными садами. Я смешался с большой толпой штатских, которые пришли на центральную площадь города, чтобы присутствовать на военных похоронах погибшего экипажа советского танка. Чуть ли не все разговоры велись на одну тему - как жителей города угоняли в Германию. Из Умани была вывезена фактически вся молодежь. «Техника» угона время от времени менялась. Кое-где немцы начали с того, что стали предлагать молодежи соблазнительные трудовые контракты, несколько десятков молодых людей попалось однажды на эту удочку, остальных забрали силой. Однако существовали способы избежать мобилизации; для этого надо было обладать достаточной ловкостью и деньгами, чтобы суметь подкупить какого-нибудь немецкого врача или чиновника. Среди немцев процветала коррупция. Чтобы уклониться от отправки в Германию, довольно часто практиковалось также нанесение самому себе каких-либо увечий.
Я слышал также рассказы о «казаках», поступивших на службу к немцам. Это был всякий сброд. За несколько дней до ухода немецких войск из Умани некоторые из этих «казаков», как мне рассказали, получили от своих хозяев полную свободу действий; они разграбили часть города и изнасиловали нескольких девушек. Говорили, что немцы одели их в красноармейскую форму и объявили, что они из передовой советской части. По этому поводу ходили толки, что немцы хотели, чтобы население испугалось приближения Красной Армии и бежало на запад.
Гестапо и СД действовали в Умани чрезвычайно активно. Все евреи были убиты; однако гестапо энергично истребляло также и людей нееврейской национальности. Несколько позднее я побывал на поле позади тюрьмы и видел там трупы 70-80 гражданских лиц, расстрелянных немцами перед уходом из Умани. Среди них было много простых крестьян и крестьянок, заподозренных в «партизанской» деятельности и арестованных. Среди трупов мне бросилось в глаза тело маленькой девочки, лет шести, с дешевеньким колечком на пальце. Ее, очевидно, расстреляли, чтобы она не могла ничего рассказать. Я видел также штаб-квартиру гестапо с отвратительными орудиями пыток, вроде тяжелой деревянной дубинки, которой гестаповцы разбивали арестованным руки во время допросов.
Один из вечеров мы провели в городском Совете. Председатель горсовета Захаров, невысокий человек, с бледным лицом и зачесанными назад темными волосами, был одним из главных партизанских вожаков на Украине. Он был трижды ранен.
Как рассказал нам председатель горсовета, партизаны могли действовать на Украине, где лесов мало, лишь небольшими группами; самыми крупными из организованных им пяти отрядов были два отряда по 200-300 человек каждый, действовавшие в лесах вокруг Винницы. У них имелись радиоприемники, и они размножали листовки с советскими сообщениями о военных действиях, распространяя их в городах и деревнях. У них не хватало оружия, и, как правило, они не принимали в свои отряды людей без оружия; добровольцам предлагалось вступать в украинские полицейские отряды, чтобы добыть как можно больше оружия и боеприпасов, а потом вернуться обратно в отряд. Винницкие партизаны имели много кровавых схваток с немецкими карательными отрядами и «казаками» и по сравнению с партизанами Белоруссии и других, более богатых лесами областей страны понесли очень тяжелые потери. Особенно трудно приходилось им в районе Умани, где почти совсем не было лесов. Тем не менее этим пяти отрядам удалось в одном только 1943 г. пустить под откос 43 вражеских эшелона с военным снаряжением; были на их счету и другие смелые подвиги.
В июле 1941 г., продолжал свой рассказ Захаров, он был ранен и не смог следовать за своей частью. Немцы захватили его в плен, но он бежал и добрался до Умани, которая к тому времени уже была оккупирована врагом. Он прибыл сюда в октябре 1941 г. и с тех пор «работал на благо родины». В 1942 г. Захаров попал в лапы гестапо, где его зверски били и повредили ему позвоночник, «так что теперь я знаю, как гестаповцы допрашивают людей». Позднее он был выпущен на свободу и на некоторое время исчез, после чего появился в Виннице - уже с бородой и в облачении священнослужителя. Иногда он надолго уходил в леса, где партизаны знали его как дядю Митю.
«Это была трудная и суровая жизнь, - сказал он. - Враг был беспощаден, и мы отвечали ему тем же. А сейчас мы будем беспощадны к предателям». Захаров говорил тихим, усталым голосом. «Плакать, когда идет война, бесполезно, - заметил он. - Хотя нас было и немного, мы все же ухитрялись доставлять немцам массу неприятностей. Мы расклеивали по ночам в городках и деревнях вокруг Винницы объявления, в которых писали: «Вы здесь хозяева с 7 утра до 7 вечера, а с 7 вечера до 7 утра хозяева мы, и мы запрещаем вам выходить из ваших домов». И, черт возьми, они обычно подчинялись этому приказу, а если когда-нибудь нарушали его, то потом горько об этом жалели…»
Что касается жизни в период оккупации в самой Умани, то она, хоть и в меньших масштабах, весьма напоминала то, что я уже видел в Харькове: все школы были фактически закрыты, медицинское обслуживание населения значительно ухудшилось, число поликлиник было сокращено на три четверти. С уничтожением евреев большинство мелких мастерских исчезло. Единственное крупное промышленное предприятие города - большой сахарный завод - было разрушено немцами. Предстояло срочно восстановить его. В одном отношении, правда, положение в Умани сильно отличалось от того, что наблюдалось в Харькове: в этом богатом сельскохозяйственном районе всегда было достаточно продовольствия, чтобы население могло хоть как-то жить.
Я спросил у Захарова, какова была сельскохозяйственная политика немцев и как было организовано городское управление.
В целом немцы рассматривали эту часть Украины как свою житницу и делали все, что могли, чтобы не позволить сельскому хозяйству прийти в упадок. Они не распустили колхозы или, вернее, кое-где в пропагандистских целях распределили между крестьянами землю одного колхоза из каждых ста, дав понять, что то же самое будет рано или поздно сделано и с землей остальных колхозов. Не скупились они также и на другие обещания, однако никто им не верил, а пока суд да дело, продолжали придерживаться колхозной системы организации сельского хозяйства как наиболее легко управляемой… Обработка земли проводилась в большинстве случаев менее тщательно, чем до войны, - не хватало тракторов, даже с теми, которые немцы ввезли сюда из Германии; нередко крестьянам приходилось распахивать поля на лошадях и даже на коровах. Два фактора обеспечили, однако, хорошее проведение сева озимой пшеницы: резиновая дубинка немецких чиновников, а еще больше твердая вера в то, что снимать урожай в 1944 г. будут не немцы, а украинцы… Во многих деревнях обстановка была ужасная. Староста назначался немцами - он мог быть хорошим или плохим человеком или попросту человеком слабым, но над ним всегда ставился начальник из эсэсовцев. «Я знаю одну деревню, - сказал Захаров, - а таких было много, - где эсэсовец приказал старосте каждую ночь приводить к нему девушек, даже девочек 13-14 лет.
Здесь, в Умани, - продолжал он, - у нас сменилось три гебитскомиссара (гебитскомиссар - чиновник, ведавший делами гражданского населения). В помощь ему придавались офицеры из войск СС. Имелись военная комендатура, районный начальник по сельскому хозяйству, или ландвиртшафтсфюрер, - скотина, по фамилии Ботке, который в выходные дни ходил в тюрьму, чтобы присутствовать при допросах и пытках заключенных и самому в них участвовать; это был настоящий садист. Бургомистром Умани был фольксдейче Генш, а помощником у него служил украинец, некто Квяткивский. Полиция состояла из гестапо, охранки и вспомогательного украинского полицейского отряда. В этот отряд немцы просто насильно мобилизовывали людей, и некоторые украинские полицейские сразу же бежали к партизанам, захватив с собой полученное или каким-то образом добытое оружие. Оставшиеся здесь украинские полицейские (хотя немцы и пытались увести большинство их с собой, хотели они того или нет) будут каждый в отдельности тщательно проверены. Некоторые из них, несомненно, работали на родину, хотя и находились на службе у немцев; те же, кто стал предателем, получат по заслугам.
В отношении Правобережной Украины существовала, по-видимому, целая масса самых противоречивых приказов, - рассказывал дальше Захаров. - Мне известны три таких приказа. Первый из них гласил «не разрушать» и исходил от самого Гитлера в такое время, когда немцы все еще были уверены в том, что смогут вернуть себе всю потерянную ими территорию на правом берегу Днепра. Затем вышел второй приказ, изданный одним из генералов 8-й армии и повелевавший «разрушать». И, наконец, третий приказ снова предписывал «не разрушать». Кто его отдал, я не знаю. Так что, возможно, немцы все еще питают какие-то иллюзии, но теперь это ненадолго! В городах, однако, они всегда старались разрушить хотя бы главные здания - вы видели это здесь, в Умани. Но поскольку они чертовски торопились унести отсюда ноги, пострадали в основном лишь крупные здания на окраинах города, особенно в районе аэродрома. Ну и, конечно, электростанция - за них немцы почти повсюду принимаются в первую очередь…»
Дороги все еще представляли собой потоки грязи, но в одно прекрасное утро майор выпросил «студебеккер», на котором мы отправились к Южному Бугу, на запад от Умани. Хотя Красная Армия на своем пути к Румынии уже была далеко за Бугом, на дороге было еще множество людей. Мы встретили здесь солдат, пробивавшихся через грязь к Южному Бугу, веселых, в прекрасном настроении; новые рабочие батальоны из крестьян, которых послали ремонтировать железную дорогу и которые, видно было, не очень-то были довольны, что их вытащили с их усадеб; наконец, новобранцев, шедших в Умань записываться на службу в Красной Армии - теперь, когда эта часть Украины была освобождена, появилась возможность их мобилизовать.
Мы останавливались в одной или двух деревнях. Они не очень сильно пострадали от войны; к тому же здесь никогда не размещалось больше двух немцев одновременно. И все же немецкие чиновники регулярно приезжали сюда для проведения еженедельной инспекции, и всякое проявление нерадивости к работе или попытка уклониться от нее сурово карались; поля постоянно объезжал немецкий инспектор в бричке с кнутом в руке и чинил над крестьянами расправу. В случае возникновения беспорядков вызывалась полиция. Люди, заподозренные в лодырничестве, беспощадно избивались. Из этих деревень было вывезено в Германию значительно меньше молодежи, чем из городов. От деревень требовали неукоснительного выполнения продовольственных поставок,, и крестьяне рассказали, что фактически немцы забирали всю продукцию колхоза, а самим им приходилось жить только тем, что давали их приусадебные участки. Летом, однако, им оставляли также большую часть скоропортящихся фруктов и овощей, поскольку у немцев не хватало транспорта, чтобы вывозить эти продукты. Немцы в довольно туманных выражениях обещали раздать крестьянам после войны всю землю, но никто не питал иллюзий на этот счет.
Эта часть Украины рассматривалась немцами как важный источник продовольствия для Германии. Тем не менее площадь распаханной земли не превышала здесь и 80% довоенной; и все-таки даже это было лучше того, что я видел под Харьковом, где мне довелось побывать прошлым летом: там обрабатывалось только 40% всей пахотной земли. Месяца за два до своего ухода немцы начали вывозить в Германию много скота. Это, несомненно, сильно восстановило против них население.
Почти 4 млн. «восточных рабочих» было вывезено из Советского Союза - в основном с Украины - на подневольный труд в Германию. И на Украине это было главное, что вызывало недовольство населения. Украинцы были возмущены не только самим фактом угона людей, но, пожалуй, еще больше тем, как их угоняли.
В Умани я долго разговаривал с двумя здешними девушками, Валей и Галиной, которым удалось вернуться из Германии. Валя, невысокая 20-летняя брюнетка, еще всего два года назад была, очевидно, хорошенькой, но сейчас она была совершенно сломлена и выглядела маленьким, запуганным зверьком. Чтобы выбраться из Германии, она подставила руку под нож льнорезки, и у нее отрезало четыре пальца. Вот что она рассказала:
«В 2 часа утра 12 февраля 1942 года к нам домой пришли украинские полицаи и несколько немцев-жандармов в зеленых мундирах и меня под конвоем отвели в школу № 4. Отсюда меня и многих других девушек повезли в 5 часов утра на железнодорожную станцию и посадили в товарные вагоны. Всего нас было семьдесят человек…
Мы долго ехали, потом попали в какой-то город, где нас отправили в лагерь. Всех женщин заставили раздеться догола и послали на дезинфекцию. Затем, не доезжая до Мюнхена, нас высадили и повезли в деревню, которая называлась Логов. Там мы жили в лагере, пока не приехал фабрикант и не забрал нас всех на льночесальную фабрику. Нас поселили в бараках при фабрике - это тоже было что-то вроде лагеря. Немного дальше жили французские и бельгийские военнопленные, а в другой части лагеря - польские и еврейские девушки. В этом лагере я пробыла семь с половиной месяцев. Мы вставали в 5 часов утра и натощак работали до 2 часов дня. Потом нам давали по две ложки вареной репы и по ломтю хлеба из опилок и других заменителей муки. После этого приходила вторая смена, работавшая до 11-12 часов ночи. На ужин мы получали по три или четыре маленьких печеных картофелины и чашку эрзац-кофе - это было все наше питание.
Немцы на фабрике были очень грубы. Как-то раз меня избила немка. Я сказала ей, что машина не в порядке. Она ударила меня по лицу и начала бить кулаками, как будто я была в этом виновата. В другой раз, когда машина испортилась, мастер тоже стал бить меня, назвав проклятой большевичкой. Он бил и бил меня, а я плакала.
Там было столько льняной пыли, что приходилось весь день жечь электрический свет. Это было страшно унылое место. Денег нам не платили совсем. Мне все это до того опротивело - и пыль, и скверная еда, и побои, и пришедшая в лохмотья одежда (нам не выдавали никакой спецодежды), и оскорбления, и холодный, презрительный вид, с каким немцы разговаривали с нами и смотрели на нас, словно мы не люди, - так мне все это опротивело, что нервы мои уже не выдерживали. Около фабрики рос дикий чеснок, мы собирали его и натирали им десны, потому что у всех нас началась цинга и стали выпадать зубы. Но как-то пришел директор и заявил, что жевать чеснок запрещается, потому что он, директор, не выносит чесночного запаха. Другой скандал из-за чеснока случился как-то раз на железнодорожной станции, куда нас каждую неделю гоняли разгружать уголь. Один из мастеров увидел, что я жую чеснок, и ударил меня ногой в колено и стал бить по лицу, но другие девушки начали на него кричать, и ему пришлось прекратить избиение. У меня так было тяжело на сердце, что в тот день мне хотелось броситься под поезд, но я вспомнила своих родителей, и мне стало их жаль. Иногда я думала, что можно попытаться, чтобы кто-нибудь из бельгийцев или французов сделал меня беременной, - беременных девушек иногда отправляли домой. Но даже сама мысль об этом была мне противна - что я - животное, что ли, чтобы родить ребенка от какого-то чужого? Я была девушкой; и что сказали бы мои родители, если бы я вернулась домой в таком положении?
Я не бросилась под поезд, но отчаяние мое росло с каждым днем. Я знала, что если не сделаю чего-нибудь, то погибну медленной смертью. И тогда в одно прекрасное утро, без всякого предварительного обдумывания я это сделала. Мне это пришло в голову как-то сразу. Я работала на машине с большим ножом, который двигался вверх и вниз, перерезая волокна льна. И, не успев ничего подумать, я вдруг подставила под нож руку. Я не потеряла сознания, я была тогда еще довольно выносливой. Я просто закрыла глаза, а когда это случилось, мне было страшно посмотреть. Тогда я позвала работавшую рядом со мной немку. Она за кричала и побежала за мастером. Это был толстый светловолосый человек лет тридцати восьми, совсем глухой, и ей пришлось долго растолковывать ему, что произошло. Он прибежал, и меня доставили на медпункт, где мне наложили жгут и перевязали рану. Мастер очень беспокоился: в тот день ожидалась какая-то комиссия, которая должна была осмотреть фабрику, и он думал, что у него могут быть неприятности. Потом несколько французов и бельгийцев отвели меня в наш барак. Когда меня туда доставили, я была почти без сознания. Директор еще ничего не знал. Мастер попел к нему докладывать, и директор приказал послать за санитарной машиной, чтобы отвезти меня в больницу в Мюнхен, в 16 км от нас. Находиться в больнице было чуть ли не наслаждением. Рука болела, но меня уложили в чистую постель с белыми простынями. Есть давали немного, но все было вкусно приготовлено. Я пробыла там около месяца, а затем директор потребовал, чтобы меня прислали обратно на фабрику. Он уговаривал меня остаться, обещал назначить одной из начальниц лагеря. Не знаю в точности, какую цель он этим преследовал, - думаю, ему не хотелось платить за мой проезд до Украины. Так он продержал меня целых четыре месяца.
Наконец меня отправили домой через мюнхенский арбейтсамт (отдел труда). Это произошло по чистой случайности. Как-то раз, когда я ехала в Мюнхен на перевязку, я разговорилась с одной немкой, которая посоветовала мне обратиться в арбейтсамт. Она была добрая женщина и даже заплатила за мой проезд и подробно объяснила мне, куда мне надо идти. В арбейтсамте мне выдали документ, и на другой день полиция отвезла меня на станцию и посадила в товарный вагон вместе с несколькими другими украинками. Накануне вечером директор фабрики казался очень раздосадованным, но ничего мне не сказал. Мне выдали ведро вареной репы и буханку хлеба, а люди в лагере отдали мне свой суточный паек и всякую мелочь, какую им удалось сэкономить. Но дорога была долгой, и последние дни пути мне было нечего есть. Сейчас я вспоминаю, что мне два месяца ничего на фабрике не платили, а потом стали платить по семьдесят пфеннигов в неделю. Когда же мы спрашивали мастера, который выдавал нам деньги: «Почему так мало?» - он кричал: «Тихо!»… Боже, как они мучили нас, - вымолвила Валя чуть ли не с содроганием. - Они обращались с нами так грубо и оскорбительно. Они смотрели на нас с таким презрением. Почему? Я спрашиваю вас, почему? Разве я такой жизни ждала? Я счастливо росла на нашей Украине. Зачем они разбили мою жизнь?» И, как будто спохватясь, добавила: «Там, на фабрике, была еще одна девушка, которая решила последовать моему примеру. Но на этот раз немцы догадались, что она сделала это умышленно, и ей не позволили уехать домой. Так что она искалечила себе руку совершенно напрасно».
Судьба Галины Ивановны была очень похожа на Валину, однако по характеру Галина была совсем другой человек, чем Валя, в некотором смысле более типичной представительницей Украины, с ее саркастическим юмором и своеобразным презрением к немцам, «которые не знали, что такое хорошая еда, пока не попали на Украину».
Это была маленькая бойкая блондинка с лицом законченной комедийной актрисы, быстрыми голубыми глазами и вздернутым носиком. Она очень много смеялась, но в смехе ее не слышалось доброты. Рассказывая, она все изображала в лицах и рисовала людей в сатирическом свете. На ней было светло-голубое платье и задорная маленькая шляпка с пером. Ей было лет 30, но она выглядела слегка увядшей, что отнюдь неудивительно после всего, что она пережила. До войны она была актрисой в первом Колхозном театре Киева, где играла небольшие роли в комедиях из жизни крестьян. Она прочла несколько отрывков из своих ролей, но все время себя обрывала… «О боже, я все забыла, - говорила она. - Кажется, прошел целый век с тех пор, как я была актрисой в Киеве… Актрисой, - повторила она с горькой усмешкой. - Специальность пуц-фрау (уборщицы) сейчас подходит мне больше. Муж мой в свое время был в театре режиссером, Сейчас он где-то в Красной Армии.
Уже несколько лет я ничего не слышала о нем… Он родом из Умани».
Галина Ивановна тоже побывала в Германии, и ее история - это история миллионов европейцев, с некоторыми отклонениями от шаблона.
«Настоящие беды, - рассказала она, - начались здесь, в Умани, когда в феврале 1942 г. сюда приехал для вербовки рабочей силы немец граф Шпретти[212]. Немцы объявили о большом собрании, которое должно было состояться в помещении кинотеатра. Многие из нас пошли туда просто послушать, о чем будет идти речь. Шпретти сказал: «Я хочу, чтобы вы, уманцы, добровольно отправились в Германию и помогли германской армии». И он обещал нам звезды с неба. Но нам было прекрасно известно, чего стоят подобные обещания, и мы сказали ему: «А что нам будет, если мы не захотим ехать?» Тогда граф Шпретти злобно посмотрел на нас и ответил: «В этом случае вас вежливенько попросят все же поехать». Это произошло 10 февраля, а два дня спустя немцы устроили облаву на людей, обыскивая дом за домом. Вооруженные винтовками полицейские ходили по домам и забирали всех, кто помоложе. Нас отвели в большую школу и в пять утра повезли на станцию. Здесь нас посадили в вагоны и заперли на замок. Несколько человек взяли с собой немного еды и теперь поделили ее на всех. Нам сказали, что нас накормят во Львове, но, когда мы туда приехали, нам не дали ровно ничего, даже воды.
Здесь мы пробыли на вокзале всю ночь, а затем двинулись дальше, на Перемышль. В Перемышле немцы открыли вагоны и начали осматривать наш багаж.
- Какие это были вагоны? - спросил я.
- Какие? - переспросила она, как будто удивясь моему вопросу. - Самые обыкновенные товарные вагоны; все мы сидели или лежали на полу, скамеек не было. В каждом вагоне ехало человек по 60-70. Так или иначе, как я уже сказала, в Перемышле к нам явились немцы, чтобы проверить наш багаж. «Зачем вам весь этот багаж? - сказали они. - В Германии можно купить все, что только душе угодно, - подумать только, везти все это грязное тряпье в Германию!» И они забрали почти всю одежду, которая у нас была с собой, а также все наиболее тяжелые вещи и оставили нам только маленькие узелки…
Все путешествие, длившееся месяц, было сплошным кошмаром. В лагере близ Перемышля, где угнанных продержали две недели, их почти не кормили. Несколько девушек заболело, и часть из них умерла. Затем, в Западной Германии, девушек привезли в другой лагерь. Здесь по крайней мере находились английские и французские заключенные, которые бросали им через забор кое-что из еды.
- Дружественное отношение англичан и французов немного подбодрило нас, - продолжала Галина. - Они бросали нам маленькие кусочки шоколада и каких-то вафель, очень вкусных, внутри них были сладкие маленькие семечки. Мы всегда считали, что англичане, французы и русские очень разные люди, но оказалось, что все мы в основном одинаковы. Только немцы другие.
А потом в лагерь явились какие-то женщины, директора фабрик и разные другие личности. Нас построили на снегу - в четыре шеренги, - и эти люди стали ходить взад и вперед вдоль шеренг и рассматривать нас. Один из директоров отобрал 200 наших девушек, в том числе и меня. Нас посадили в поезд и привезли в городишко близ Ульма. Поселили в барак с решетками на окнах, который находился на территории фабрики. Здесь нас встретила группа жандармов, приветствовавших нас словами: «Ага, коммунистки». Тут было гораздо хуже, чем в том лагере. Прежде чем отправить нас на работу, нас продержали три дня в бараке на одной только сырой репе и сырой картошке… Мы лишь немного погрызли их: к чему набивать желудок такой едой… Но у нас, во всяком случае, было какое-то подобие коек, на которых мы могли спать; они были очень твердые и страшно грязные, но все же это были койки.
Потом стали топить печь, и мы могли хоть варить то немногое из еды, что у нас было. На четвертый день нас повели на работу. Раньше фабрика изготовляла шляпы, теперь здесь делали подкладку для касок или, скорее, какие-то колпаки, которые надевались под каски, их шили из кроличьих шкурок. Нам не дали перчаток, наша обувь разваливалась. От работы с этими кроличьими шкурками руки у нас пришли в ужасное состояние, тем более что нам приходилось иметь дело с какой-то кислотой».
Галина Ивановна показала свои руки; это были маленькие, красивой формы руки, но они, казалось, сплошь были покрыты рубцами, а кожа вокруг ногтей была словно чем-то изъедена.
«Да, - продолжала она, - я прожила в этом фабричном бараке 8 месяцев и 20 дней, а чтобы вы могли составить себе некоторое представление об условиях, в каких мы, девушки, жили, я скажу вам такое, что может показаться нескромным, но я надеюсь, что вы поймете меня правильно. Там работало 180 девушек, и у большинства из них не было того, что бывает у девушек ежемесячно. Бараки помещались метрах в 30 от фабрики, и мы никогда не выходили за пределы фабричной территории, только по «выходным дням». Мы были всегда под охраной.
Работали мы по 10-12 часов в сутки, а в «выходные дни» нас всегда отправляли на товарную станцию разгружать платформы. Всех нас заставили носить специальные нашивки для «восточных рабочих» - синие нашивки с надписью белыми буквами «Ост», но никогда не отпускали в город. С нас даже вычли по 50 пфеннигов за эти нашивки. За 7 рабочих дней мы получали 1 марку 20 пфеннигов, из них 50 пфеннигов мы тратили на «шпрудель» - содовую воду; ничего другого мы купить не могли. Теперь я вспомнила, как граф Шпретти говорил нам, что мы будем носить шелковые чулки и получать по 100 марок в неделю. Сначала, когда мы только приехали, нам обещали новую одежду и одеяла, но выдали только по одному одеялу да раз в две недели давали по крохотному кусочку мыла, которого должно было хватить и на умывание, и на стирку. В нашей части барака размещалось 180 девушек, но в этом же здании жило еще 200 женщин - с Украины или из Курска - и 200 парней от 15 до 23 лет. Есть нам давали синюю капусту, репу и иногда немного шпината да 100 граммов маргарина в день, чтобы из всего этого что-нибудь приготовить, - 100 граммов на 100 человек, то есть по одному грамму на человека! Очень сытно, не правда ли? В других зданиях жили чехи, поляки, греки, бельгийцы, французы. Нам не разрешалось разговаривать с ними, но мы все равно разговаривали.
Полякам и французам жилось лучше, чем нам. Они получали по 25-35 марок в неделю. Поляков заставляли носить нашивки с желтой буквой «П», но от бельгийцев и французов этого не требовали. Никакой разницы между украинцами и русскими здесь не делалось - и с теми, и с другими обращались одинаково. И бельгийцы, и чехи, и французы, и итальянцы относились к нам очень хорошо и давали нам то одно, то другое. Поляки держались в стороне. Итальянцы с тоской говорили о макаронах.
Мы встречались с другими девушками в уборной и здесь болтали, болтали на ломаном немецком языке. Как-то одна из итальянок сказала мне: «Вам даже еще хуже, чем нам. Говорят, с вами обращаются так плохо потому, что вы коммунистки. Но, уверяю вас, мы гораздо больше коммунистки, чем вы. Давайте споем “Интернационал”». И здесь же, в уборной, мы с ней тихо запели «Интернационал», каждая на своем языке.
Однажды мы даже пригрозили объявить голодовку: еда стала совсем скверной, и у нас началась цинга; руки у нас распухали до самого плеча, брови стали выпадать, волосы секлись…
Во время воздушных налетов нас загоняли в большой сцементированный подвал и закрывали дверь с наружной стороны на замок. Немцы отправлялись в свое убежище. При первых же звуках сигнала воздушной тревоги «шефы», как их называли, неслись к нам, размахивая хлыстами, и гнали в подвал. Мне пришлось пережить 7 или 8 крупных налетов. Одна большая бомба упала поблизости от Ульмского собора, повредила ратушу и разрушила небольшой завод, изготовлявший какие-то металлические трубы. 120 наших украинцев, работавших там, погибли при этом…
- Ну, а какие отношения у вас сложились с французами? - спросил я.
- Французы относились к нам очень дружески, как настоящие товарищи. Там был один француз, которого я знала. Ему удалось бежать с фабрики. Вечером накануне побега он сказал мне: «В цехе есть укромный уголок возле печки, и я оставлю там для тебя записку - постарайся подобрать ее завтра утром». Наутро я пошла туда, поискала записку и действительно нашла ее; вместе с запиской лежало три плитки шоколада. В записке было написано: «Это все, что у меня есть. Желаю тебе счастья. Я бежал. Надеюсь, меня не поймают». Его не поймали, хотя полиция обыскала всю территорию. Никто из нас не сказал, что нам что-то известно. Между всеми нами - ненемцами - существовала удивительная солидарность, настоящее чувство товарищества, общая ненависть к фрицам… И сознание, что мы не одиноки, поддерживало нас какое-то время, несмотря ни на что… Но мое здоровье настолько ухудшилось, что мне стало ясно - если только я пробуду здесь еще немного, то заболею и умру. А мне не хотелось умирать. В нашем цехе работал австриец, которого звали Ганс. Он показал мне брошюру о Тельмане и добавил: «Хотя Тельман и немец, он хороший человек». Я возразила, что вряд ли какой-нибудь немец может быть хорошим человеком. Он как-то странно посмотрел на меня, и я на минуту подумала, не провокатор ли он. Потом я сказала: «Боже ты мой, да какое мне в конце концов до всего этого дело? Я хочу уехать отсюда, хочу вернуться домой, а если не уеду, то отравлюсь…» Тогда Ганс шепнул: «Ты меня не выдашь? Вот шесть сигарет, - и он сунул их мне в руку. - Свари их и дай настою постоять час, а затем выпей его. Он подействует тебе на сердце, и тебя, может быть, отправят домой. Только смотри меня не выдавай». Я сделала как он сказал, но здоровье у меня было такое плохое, что желудок отказался принять это варево, и меня вырвало. Я сообщила Гансу о случившемся, и он дал мне еще шесть сигарет, посоветовав попытаться снова. На этот раз все обошлось благополучно. У меня началось страшное сердцебиение, и я впала в полное изнеможение. Бывали минуты, когда мне казалось, что я умираю. Меня положили в больницу и трижды делали рентген. Врачи решили, что сердце у меня настолько плохое, что я либо скоро умру, либо на всю жизнь останусь инвалидом. Поэтому они дали мне свидетельство, разрешающее вернуться на Украину. Но, прежде чем это случилось, я пролежала 2 месяца и 5 дней в больнице. Здесь мне кое-как залечили руки, которые были в ужасном состоянии. В больнице меня навещало много людей, в том числе одна девушка из Греции и две сербские девушки - они были, пожалуй, самыми лучшими из всех. Вообще-то сербы и чехи были там всех лучше, но и французы тоже были хорошие. Взять хотя бы Анри, который бежал и оставил мне три плитки шоколада, - он был настоящий коммунист. Да и все иностранцы в Германии были очень порядочные люди, и мы находили с ними общий язык, а с немцами никогда… Нет, это, пожалуй, не совсем верно; я знала там двух порядочных немок. Одна из них была девушка, по имени Фрида. Она знала обо всем, что происходит в мире, гораздо больше, чем я. Я не знала ничего - за исключением того, что слышала от нее. Это она рассказывала мне о ходе войны в СССР, о том, где теперь Красная Армия. Она страшно разволновалась, когда немцев остановили в Сталинграде. Мне казалось, что она агент, работающий на две стороны. Она делала вид, что работает на фашистов, однако являлась одновременно работником Народного фронта. Она часто разговаривала со мной и предупреждала меня (сказав, чтобы я в свою очередь предупредила других девушек), что каждая украинка, которая будет уличена в близости к какому-нибудь французу или другому иностранцу, подлежит расстрелу. Фрида была славная девушка. Была там еще и другая девушка, Амалия, - ее я знала не так хорошо. Но позднее я слышала, что гестапо расстреляло и Фриду и Амалию».
В конце концов Галина вернулась в Умань, проделав снова мучительный двухмесячный путь. К этому времени физически она стала совсем развалиной и пролежала три месяца в постели в доме у приютивших ее людей.
Немецкие пленные, которых я видел в районе Умани, представляли собой очень пеструю массу. Все они горько сетовали на то, что попали в плен, когда большая часть немецких войск ушла уже за Южный Буг. Австрийцы кричали, что они «совсем не такие, как немцы», хотя тот, с которым мне довелось разговаривать, был воспитан явно в духе фашистских традиций. Нашелся и весьма оптимистически настроенный немец, дезертир. Он завел себе украинскую подружку, и та спрятала его, когда немцы стали отходить из Умани. Сейчас он надеялся, что «русские, быть может, разрешат ему обосноваться на Украине. Это такая чудесная страна, говорил он, и он так предан своей фрейлейн. Однако, несмотря на то, что те немецкие солдаты, которых я видел, и были подавлены понесенными ими на Украине поражениями, растеряны и, конечно, расстроены тем, что попали в плен и что перспектива скорого возвращения в Германию стала для них теперь весьма маловероятной, многие из них все еще не утратили боевого духа. Они все еще на что-то надеялись - на что именно, они и сами не знали. Выходцы из Рейнской области выражали свои чувства определеннее других. Налеты союзной авиации вызывали в них скорее негодование, чем уныние. Мне вспоминается один сержант, некий Вилли Ершаген, из Ремшейда на Рейне. Город был вдребезги разбомблен, но жена Ершагена и родители его все же продолжали жить среди развалин. Его жена работала на сталелитейном заводе и не имела ни малейшего намерения уезжать в какой бы то ни было другой район Германии. «Повсюду будет то же самое, так что я могу с таким же успехом остаться здесь», - написала она ему недавно.
И она, и сам Вилли, и другие люди в Германии лелеяли одну заветную мечту - о «фергельтунге» (возмездии). Фюрер обещал им отомстить Англии, но их терпение приходило к концу, и теперь в Западной Германии говорили: «Где же все-таки это оружие?» Налеты самолетов-снарядов ФАУ-1 на Лондон начались несколько позже.
По мере того как немцев гнали все дальше за пределы Украины, песни, которые распевал вермахт, стали звучать все более и более минорно. Все эти частушки были на один лад, хотя у каждого полка был как будто свой собственный вариант. Вот некоторые из таких вариантов:
Нема курка, нема яйка, До свидания, хозяйка!
Нема пива, нема вина, До свиданья, Украина!
Нема курка, нема брот, До свиданья, Белгород!
Нема курка, нема суп, До свиданья, Кременчуг!
Все это распевалось на какой-то причудливой тарабарщине, смеси из немецкого, ломаного русского и ломаного украинского языков. Подобных частушек существовало множество. Но в более общем виде горькое разочарование и досада немцев нашли выражение в следующих строках, известных каждому немецкому солдату:
Все прошло, миновало, все навеки прощай, Три года в России - и никс понимай.
(обратно)Глава III. Одесса: личные впечатления
В апреле - мае 1944 г. немцы были окончательно изгнаны из южных районов Украины. Войска 2-го Украинского фронта под командованием Конева, развивая стремительное наступление, вступили в Северную Румынию, и только когда они достигли линии, проходившей километрах в двадцати восточнее Ясс, фронт временно стабилизировался. 2 апреля Советское правительство объявило о вступлении Красной Армии на румынскую территорию и о том, что оно не преследует цели изменения «существующего общественного строя» (то есть капитализма) в этой стране. Тем временем войска 3-го Украинского фронта под командованием Малиновского продолжали свое наступление вдоль Черноморского побережья и освободили Херсон, Николаев и Одессу. 11 апреля было объявлено о переходе Красной Армии в наступление в Крыму, который являлся последней крепостью Гитлера на Черном море. Не прошло и месяца, как Крым был очищен от врага.
В Одессе - этом «русском Марселе» - существовала весьма своеобразная обстановка: в течение всего периода оккупации (за исключением последних нескольких недель, когда всю власть взяли в свои руки немцы) она находилась не под немецким, а под румынским господством. Чтобы вознаградить королевскую Румынию за ее участие в войне против Советского Союза, Гитлер отдал ей обширную и богатую территорию, на юге Украины, простиравшуюся от Бессарабии до Южного Буга; сюда входил и крупный черноморский порт Одесса. Вся эта территория была включена в состав так называемой «великой Румынии» в качестве новой провинции под названием «Транснистрия» (то есть Заднестровье).
Войска Малиновского освободили Одессу 10 апреля, и немцы, боясь попасть в окружение, в панике бежали из нее: одни - морем, под почти непрерывной бомбежкой и артиллерийским обстрелом советских войск, другие - по последней остававшейся еще в их распоряжении дороге между Одессой и устьем Днестра, откуда их переправляли на пароме в те части Бессарабии и Румынии, которые еще не были заняты Красной Армией. К моменту освобождения Одессы вся эта дорога была усеяна разбитой техникой, брошенной немцами при отступлении. Однако при всей поспешности, с какой немцы покидали Одессу, они успели превратить портовые сооружения, большинство заводов и фабрик города и многие другие крупные здания в дымящиеся груды развалин.
В одно чудесное весеннее утро в середине апреля я выехал из одного населенного пункта, севернее Николаева, на восточном берегу Южного Буга, в Одессу. Южный Бут служил границей между оккупированной немцами и аннексированной румынами частями Украины, и гражданскому населению было запрещено переходить через эту границу без специального разрешения. Но с февраля 1944 г. немцы совсем перестали считаться с фиктивной принадлежностью Транснистрии к Румынии.
Немецкие войска пытались угнать с собой скот, но, поскольку им так и не удалось переправить коров через Южный Буг, они перестреляли их, и зеленые берега реки были завалены десятками трупов животных, которые уже начали разлагаться.
Местность между Южным Бугом и Одессой представляла собой типичную степь, и, проезжая среди расстилавшихся по обе стороны дороги бескрайних зеленых ковров озимой пшеницы, мы иногда на протяжении многих километров не видели ни одной деревни.
Кое-где нам попадались поля под паром, но их было немного. Однако что больше всего поразило нас на нашем пути - это несколько совершенно безлюдных деревень. Они не походили ни на русские, ни на украинские деревни. Дома в них пестрели яркими красками, к небу тянулись шпили церквей - лютеранских, а может быть, католических, поскольку мы видели несколько придорожных католических распятий. Это были деревни немецких колонистов, которые жили здесь на протяжении полутора веков, а в последние годы выполняли функции квислинговцев, занимая различные административные и полицейские должности, предоставлявшиеся им немцами на восточном берегу Южного Буга. Те, кто остался жить в «великой Румынии», выступали здесь в роли высокомерного немецкого меньшинства и, несомненно, уже готовили весьма неприятные сюрпризы для румынского «большинства». Однако стремительное наступление Красной Армии вынудило их покинуть свои жилища. Позднее, в Одессе, мне попалась на глаза газета на немецком языке под названием «Дер дейче ин Транснистриен» («Немец в Транснистрии»), в которой этот край фактически рассматривался как часть «германского достояния», а о румынах даже не упоминалось! Однако всего лишь несколько недель назад Гитлер еще считал своим долгом поддерживать миф о «великой Румынии» и делать вид, что признает Транснистрию румынской провинцией, а Одессу - румынским городом.
Мы подъезжали к Одессе уже в сумерках, и по мере нашего приближения к Черному морю местность становилась все холмистее, и то тут, то там были заметны следы боев. Повсюду вдоль дороги валялось множество трупов лошадей, а здесь, на этих оголенных ветрами холмах на побережье Черного моря, мы опять видели конские трупы, воронки от бомб, а время от времени и трупы людей. В одном месте мы проехали мимо огромного памятника, воздвигнутого румынами в память о взятии Одессы в 1941 г. Именно здесь, по этим холмам, проходило тогда кольцо советских оборонительных укреплений вокруг Одессы.
И вот мы уже в Одессе, на улицах которой чувствовался едкий смрад пожарищ.
Одесса была погружена в непроглядную тьму. Немцы, которые на протяжении последних двух недель хозяйничали в городе, взорвали в нем перед уходом все электростанции; и, что было еще хуже, город остался без воды, если не считать небольших ее количеств, которые давали артезианские колодцы. В нормальных условиях Одесса снабжалась водой из Днестра, но теперь трубопроводы были взорваны. Сейчас, как и в те два месяца суровой осени 1941 г., пока длилась осада города, он целиком зависел от собственных колодцев.
В гостинице «Бристоль», где мы остановились, для умывания выдавалась бутылка воды в день. Все окна в здании были выбиты. Гостиницу обслуживали два швейцара - старик с черной бородой, бывший одесский портовый рабочий или биндюжник, с хриплым голосом и резким, неприятным смехом, и его помощник - жуликоватого вида старикашка с седой бородкой. Оба обычно стояли на тротуаре перед гостиницей.
Здесь не существовало никаких запретов. Это была Одесса с ее неистребимым душком уголовного мира, воскрешавшим в памяти похождения бабелевского Бени Крика - короля одесских гангстеров.
Правда, это была уже не та Одесса, какую мы знали в прошлом. Прежде всего это была Одесса без евреев, а они составляли в свое время очень большую часть населения этого черноморского порта, - они, армяне, греки и другие представители средиземноморских или около-средиземноморских народов.
И все же здесь по-прежнему можно было встретить одессита, который независимо от того, украинец он, русский или молдаванин, всегда прежде всего одессит, говорящий на собственном жаргоне, с характерными словечками и выражениями, а также с присущим только одесситу акцентом. Очевидно, многие из таких одесситов чувствовали себя как рыба в воде во внешне беспечной Одессе, какой она была при Антонеску, - с ее ресторанами и «черным рынком», ее домами терпимости и игорными притонами, клубами для игры в лото, кабаре и всеми другими атрибутами «европейской культуры».
Здесь действовала сигуранца - румынская тайная полиция, ибо здесь было большевистское подполье (причем подполье буквальное, скрывавшееся в одесских катакомбах) и были евреи, многие тысячи которых потом сигуранца истребила. Но оккупационный (или, вернее, аннексионный) режим румын имел много других черт, отличавших его от немецкого оккупационного режима, следы которого я видел в таких городах, как Воронеж, Орел или Харьков.
Пока шансы держав «оси» на победу казались благоприятными, румыны намеревались превратить Одессу во второй, только более веселый и беззаботный Бухарест. И дело заключалось не только в том, что они открыли здесь рестораны, магазины и игорные притоны и что Антонеску торжественно появлялся в бывшей царской ложе Одесской оперы, - здесь была предпринята также серьезная попытка убедить население города, что оно является и останется частью населения «великой Румынии». В отличие от того, что делали в оккупированных городах немцы, румыны не закрыли ни университета, ни школ. Школьников заставляли изучать румынский язык, а студентов предупредили, что, если они в течение года не научатся говорить по-румынски, их исключат из университета (правда, после Сталинграда румыны больше не настаивали на этом). Они продолжали распространять румынский учебник географии, переведенный на русский язык, где доказывалось, что практически вся Южная Россия «с геополитической точки зрения» является частью Румынии и населена в основном потомками древних даков. Тем, кто мог доказать, что в его жилах течет хоть капля молдаванской крови, были обещаны всевозможные привилегии; иметь бабушку-еврейку грозило серьезными неприятностями, наличие предков-молдаван приравнивалось чуть ли не к обладанию дворянским титулом.
Одна особенность отличала Одессу от городов, оккупированных немцами. Одесса была полна молодежи. Это была счастливая случайность: румыны считали Транснистрию составной частью своей страны, а ее жителей - будущими румынскими гражданами. Конечно, после Сталинграда они уже не были столь твердо уверены в том, что им удастся сохранить Одессу, но продолжали поддерживать эту фикцию. Потому-то подавляющее большинство одесских юношей и девушек не были угнаны ни в Германию, ни в какое-либо другое место. Не призывали молодых одесситов и в румынскую армию, поскольку, с точки зрения румын, на них абсолютно нельзя было положиться. Только в последние несколько недель оккупации, когда власть в городе перешла к немцам, небольшое число одесситов, которым просто не повезло, было все же угнано в Германию; однако большинству молодежи удалось избежать этого - отчасти благодаря советскому подполью.
В эти первые дни после освобождения Одесса все еще сохраняла множество следов румынской оккупации, длившейся два с половиной года.
Вдоль всей Пушкинской улицы, а также на других, знаменитых своей белой акацией улицах Одессы, названных по именам видных деятелей XVIII в. - основателей города (Ришелье, де Рибаса, Ланжерона), все еще красовались объявления лотошных клубов и кабаре, вывески с написанными на них по-румынски словом «Боде-га» (теперь эти «бодеги» были закрыты) и обрывки воззвания на румынском, немецком и русском языках (но не на украинском): «Мы, Ион Антонеску, маршал Румынии, профессор Л. Алексяну, губернатор Транснистрии» и т.д. и т.д. На одном из больших зданий виднелась вывеска «Гувернэмынтул Транснистрией», а таблички на автобусных остановках (отнюдь не означавшие, что в городе продолжали ходить автобусы) гласили, что первый автобус «Аэропорт - латара» (вокзал) отходит в 7 часов 15 минут утра. Театральные афиши сообщали о музыкальных спектаклях в «Театрул де опера ши балет». В Одессе имелось также много других развлечений, даже симфонический оркестр германских ВВС дал здесь концерт (правда, он состоялся 27 марта, когда власть была в руках немцев). Существовало здесь и несколько пошивочных ателье и множество других мелких мастерских, чьи владельцы теперь исчезли. Свободное предпринимательство всевозможного рода, как видно, вовсю процветало в Одессе при румынах. Румынские генералы возили из Бухареста целыми чемоданами дамское белье и чулки и заставляли своих ординарцев продавать все это на рынке. Даже и сейчас еще на рынке можно было купить много различных мелочей - немецкие карандаши, венгерские сигареты, немецкие сигареты (называвшиеся «Крым» и изготовлявшиеся в Крыму) и даже флаконы духов, а также чулки, правда, последние уже становились редкостью и продавались только из-под полы. Милиция зорко следила за подобного рода торговлей, и одесситы на рынке выглядели несколько притихшими.
На рынке продавали варенье по 20 рублей банка и хлеб по 10 рублей кило (что было очень дешево); на прилавках было много молока; кое-кто продавал также немецкий яблочный сок в бутылках. Пара шелковых чулок из-под полы теперь стоила 300 рублей, А продавщицы все еще называли цену в марках, хотя имели в виду рубли. В качестве оберточной бумаги употреблялись немецкие газеты.
Хотя порт с его доками и элеваторами представлял собой груды дымящихся развалин, на Приморском бульваре с его видом на порт и на море, как обычно, толпилась молодежь. Многие сидели на скамейках или на ступенях знаменитой лестницы (увековеченной в эйзенштейновском «Броненосце “Потемкине”»). Припоминаются мне, в частности, двое парнишек - один белокурый, другой с начинавшими пробиваться черными усиками, - которые рассуждали на своем одесском жаргоне о страшных разрушениях, причиненных немцами порту и другим районам города, а особенно промышленным предприятиям на Молдаванке и на Пересыпи. Они вспоминали также, как в последние две недели немецкой оккупации им приходилось скрываться со своими приятелями в подвалах и в катакомбах - выходить на улицу, даже до наступления комендантского часа (3 часа дня), было опасно: немцы могли схватить их и отправить в Германию или же просто застрелить. Упоминая о немцах, они прибегали к самым изощренным ругательствам и говорили, что румыны здесь здорово откормились к тому времени, когда в феврале все захватили немцы. В общем они были довольны приходом Краской Армии, потому что при немцах было действительно ужасно. Румыны по крайней мере оставляли «большинство людей» в покое, хотя некоторым, особенно евреям, здорово досталось от сигуранцы. Однако в общем-то румыны не очень придирались к людям. «Можно было жить» - на рынке было полно продуктов, и у румынских солдат всегда можно было купить множество всяких вещей.
«Что же случилось с евреями?» - спросил я. «О, - ответил блондинчик, - говорят, очень много их отправили на тот свет, но сам я этого не видел. Некоторым удалось спастись - за небольшие деньги у румын можно было купить что угодно, даже паспорт на имя Ришелье. У нас в подвале жила одна еврейская семья; раз в неделю мы носили ей что-нибудь поесть. Румынские «фараоны» знали о ней, но и ухом не вели. Они говорили, что столько евреев было истреблено лишь потому, что этого требовали немцы. «Не уничтожите евреев, не получите Одессы», - заявляли немцы румынам. По крайней мере так нам говорили румыны».
«Губернатор Транснистрии» профессор Алексяну избрал в качестве своей резиденции чудесный Воронцовский дворец на Приморском бульваре, в котором до оккупации размещался Дворец пионеров. Теперь, после освобождения, он снова станет Дворцом пионеров. Алексяну, как рассказывали в Одессе, предоставил сигуранце полную свободу рук. В феврале 1944 г. его сняли в связи с колоссальными растратами, в которых, по разговорам, он был замешан. Алексяну тратил казенные деньги не на общественные нужды, а больше на хорошенькие ножки.
После смещения Алексяну губернатором был назначен генерал Потопяну, руководивший осадой Одессы в 1941 г. Его власть была уже сильно ограничена. Ибо с февраля 1944 г. неофициально - а с 1 апреля вполне официально - в Одессе всем распоряжались немцы.
К концу оккупации немцы отказались даже от самого названия «Транснистрия» и взяли под свой контроль железные дороги и все остальное (что сильно возмутило Антонеску). Их чрезвычайно тревожили два обстоятельства: во-первых, возможность того, что кто-либо из румынских генералов в Одессе или где-нибудь еще может «поступить, как Бадольо»[213], и, во-вторых, распространение среди румынских солдат коммунистических идей и пораженческих настроений.
До перехода Транснистрии под контроль немцев румыны разделили ее на тринадцать округов; во главе каждого округа стоял префект; в самой Одессе имелся мэр, Герман Пинтя, бывший мэр Кишинева. Полиция состояла из румын. Но, кроме того, здесь имелась сигуранца.
При румынах в Одессе было открыто тридцать церквей, в том числе несколько лютеранских и римско-католических. Православному духовенству Одессы румыны приказали порвать все связи с Московским патриархом и признать власть Одесского митрополита Никодима, человека, жившего со своими новыми хозяевами душа в душу. Священники, приехавшие из Бухареста, захватили несколько лучших домов в Одессе, в том числе дом митрополита и других высших духовных лиц. Они забрали себе также все лучшие приходы. Настоятель Успенского собора отец Василий рассказал мне, что из-за этого русские священники были поставлены «в весьма неблагоприятные условия, и многим из них пришлось искать себе другие приходы в сельской местности». Отец Василий сказал, что румынские священники вели в Одессе очень разгульный образ жизни.
Румыны не изображали из себя или почти не изображали «расу господ», и, по правде говоря, они и немцы недолюбливали друг друга (исключением являлись разве что лишь высшие сферы). Победители и побежденные нашли общий язык на почве бизнеса и «черного рынка». Но ни украинцы и русские, ни румыны не могли в конце концов долго принимать Транснистрию всерьез. В течение одного года (до Сталинграда) - но не дольше - еще могло казаться, что румыны обосновались здесь надолго. Но потом многим энтузиастам «свободного предпринимательства» среди одесситов пришлось действовать гораздо осторожнее, сотрудничая с новыми хозяевами. К тому же после поражения румынских войск на Дону оккупанты явно впали в уныние и все больше боялись, что немцы вообще выкинут их из Транснистрии. Все знали, что даже Антонеску возмущался теперь неизменно возраставшими требованиями Гитлера, которому нужны были все новые и новые партии румынского пушечного мяса.
Что делала в Одессе сигуранца? Многие одесситы утверждали, что она была не лучше гестапо и что, помимо расстрелянных ею 40 тыс. евреев[214] на так называемом Стрельбище, она уничтожила, особенно в первый период оккупации, еще около 10 тыс. человек, в числе которых было много коммунистов, людей, заподозренных в том, что они коммунисты, и заложников, схваченных после того, как на улицах кто-то стрелял в румынских офицеров или где-то были брошены бомбы и т.д. Единственным смягчающим обстоятельством для сигуранцы являлась ее чрезвычайная продажность. Пользуясь ею, многие евреи, которым это было по средствам, приобретали «арийские» документы или по крайней мере получали разрешение уехать в деревню. Есть доказательства того, что, хотя румыны готовы были и сами убивать евреев, они оказывали сопротивление немецкому «вмешательству» в Одессе.
В Одессе много рассказывали о советском подполье, которое действовало из запутанного лабиринта одесских катакомб - подземных коридоров, протянувшихся на десятки километров в длину, иногда на глубине до 30 метров под землей. О «единственных в мире городских партизанах» и некоторых их коммунистических руководителях, таких, как С.Ф. Лазарев, И.Г. Илюхин и Л.Ф. Горбель, которые действовали на протяжении всего периода румынской оккупации, держа захватчиков в состоянии вечного страха, было написано к концу войны (особенно В. Катаевым[215]) много романтических историй. Создается впечатление, что на деле советское подполье в Одессе использовало катакомбы (а потайные входы в них вели из многих зданий) только в случаях крайней необходимости и что, хотя там были спрятаны некоторые запасы продовольствия и оружия, лишь очень незначительное число людей фактически жило в катакомбах в течение сколько-нибудь продолжительного времени.
Можно, однако, с уверенностью сказать, что с конца 1943 г. (но не раньше), и особенно в последний месяц немецкой оккупации, катакомбы приобрели гораздо большее значение. Благодаря усилиям советских подпольных организаций они стали прибежищем для одесской молодежи, которой грозила высылка, и для многих эльзасцев, поляков и особенно словаков, дезертировавших из германской армии. Некоторые из партизанских руководителей, встреченных мной в Одессе вскоре после ее освобождения, утверждали, будто в катакомбах скрывалась хорошо вооруженная десятитысячная армия, а ее вооружение было по большей части куплено у румынских и немецких солдат на «черном рынке»; будто в катакомбах был развернут «катакомбный госпиталь» с «12 хирургами и 200 человек обслуживающего персонала»; и, наконец, будто там имелась не только «катакомбная пекарня», но даже и «катакомбная колбасная фабрика». Все это, однако, отнюдь не является достоверным и должно приниматься с серьезными оговорками. Я лично увидел в катакомбах лишь несколько пулеметных гнезд, прикрывавших важнейшие входы, некоторое количество неприкосновенных запасов продовольствия, ряд артезианских колодцев и складов оружия. Вполне возможно, что в последние критические недели в катакомбах и вправду скрывалось несколько тысяч человек. Однако серьезные советские послевоенные исследования, посвященные истории войны, уделяют «партизанам из катакомб» очень мало внимания и, уж конечно, не изображают их как крупную подпольную армию, которая (как уверяли меня 14 апреля 1944 г. некоторые руководители партизан) «была в состоянии занять Одессу и вышвырнуть из нее немцев, если бы Красная Армия не подоспела вовремя».
За эту неделю я видел в Одессе много военнопленных, и среди них примкнувших к партизанам словаков и эльзасцев. У них, особенно у словаков и некоторых поляков, чувствовался высокий боевой дух; эти настроения были типичны для оккупированной Европы тех дней, для ее быстро возраставших надежд. Румынские военнопленные были и физически и морально надломлены, а когда одного из них спросили, что он делал во время войны, тот бодро ответил, что он вот уже три года как дезертир. Все румыны с надеждой задавали один вопрос: «Что, Бухарест уже взяли?» Немцы, однако, выглядели мрачными, и лишь немногие из них отваживались признать, что Гитлер проиграл войну.
Центральная часть Одессы в основном сохранилась, хотя большинство заводов и фабрик в ее предместьях было разрушено. Но жизнь - новая, советская жизнь - начинала уже кое-где налаживаться. Детей уже приглашали снова записываться в Воронцовский дворец - ныне снова Дворец пионеров, - стеклянный купол которого был разбит советским снарядом, предназначавшимся для порта.
Мне довелось увидеть Одессу еще раз через год, в марте 1945 г. К этому времени она превратилась в порт отправления тысяч английских, американских, французских и других военнопленных, освобожденных Красной Армией в Польше, Силезии, Померании и Восточной Пруссии. Они жили в бараках, школьных зданиях и виллах близ приморского курорта Аркадии. Моряки - в большинстве английские и американские - танцевали и много пили, сидя под запыленными пальмами в комнате отдыха гостиницы «Лондон», теперь полностью разминированной (в мой первый приезд она была оцеплена канатом). Положение с продовольствием было тяжелым даже в гостинице «Лондон». Автобусы и трамваи по-прежнему не ходили, а рынок имел нищенский вид. Порт, правда, работал, и пленные немцы, худые, с желтыми лицами, очищали его территорию от обломков кирпича и мусора. Но хотя много развалин уже расчистили, использовать можно было только небольшую часть порта; у причалов стояли всего два транспорта - американский и английский, а мол был все еще в двух местах разрушен. Сотни английских, французских и американских военнопленных весело шагали по разрушенной территории одесского порта к ожидавшему их транспорту; они осыпали немцев насмешками, а те обменивались друг с другом философскими замечаниями по поводу превратностей военной судьбы или просто с грустным видом пристально смотрели им вслед.
(обратно)Глава IV. Крымская катастрофа Гитлера: личные впечатления
Послевоенные западногерманские историки считают Гитлера единственным виновником «бессмысленной катастрофы», которая постигла немецкую армию в Крыму в апреле - мае 1944 г., включая и неудачную ее попытку организовать в Севастополе своего рода «Дюнкерк»; это было, пожалуй, самое сенсационное поражение, понесенное немцами после Сталинграда.
Решимость Гитлера любой ценой удержать Крым, хотя вся Украина к северу от Крымского полуострова находилась уже в руках Красной Армии, была продиктована его обычными политическими и экономическими соображениями; но теперь к этим соображениям добавился еще всякий сентиментальный вздор относительно того, что Крым-де является «последней крепостью готов» и т.п.
Поскольку Турция после Тегерана начала весьма определенно склоняться на сторону противников Германии, было важно внушить ей, что Германия по-прежнему сильна на Черном море. К тому же, исходя из соображений экономического порядка, Гитлер был исполнен решимости не дать советской авиации использовать Крым в качестве трамплина для массированных воздушных налетов на румынские нефтепромыслы, этот важнейший источник снабжения Германии нефтью. По иронии судьбы, ровно за два дня до того, как Красная Армия развернула свое наступление в Крыму, американцы, действуя из Южной Италии, сбросили свои первые бомбы на Плоешти; а между тем Гитлер полагал, что сможет сделать этот район неуязвимым для нападения с воздуха, продолжая удерживать в своих руках Крым[216]. Так или иначе, к маю 1944 г. советские войска были уже в Одессе, находившейся от Плоешти на том же расстоянии, что и Севастополь.
Крым был полностью освобожден за один месяц. Наступление началось в северной части Крыма 11 апреля 1944 г. Минувшей зимой войска 4-го Украинского фронта под командованием Толбухина захватили плацдарм южнее Сиваша, мелководного залива, отделяющего Крым от материка. Это была одна из самых дерзких операций такого рода. После мощного артиллерийского обстрела относительно слабых румынских позиций на южном берегу Сиваша значительные силы советских войск при помощи подручных средств форсировали Сиваш и захватили плацдарм на его южном берегу. Вслед за тем сотни солдат, часами стоя по грудь или по самые плечи в ледяной и очень соленой воде Сиваша (соль въедалась им во все поры, причиняя почти нестерпимую боль), навели через залив понтонный мост. Хотя при осуществлении этой двойной операции русские войска понесли тяжелые потери, плацдарм был захвачен и надежно укреплен.
Итак, 8 апреля после мощной артиллерийской подготовки тысячи советских солдат и сотни танков ринулись с сивашского плацдарма в Крым.
Одновременно другие советские войска атаковали немецкую оборону на Перекопском перешейке, но эта операция носила характер скорее вспомогательного удара. Опасение, что наступавшие с сивашского плацдарма армии отрежут Перекоп с юга, вынудило немецко-румынские войска поспешно покинуть сложную систему оборонительных сооружений глубиной тридцать километров, которую они создали на перешейке.
За два дня войска Толбухина заняли всю северную часть Крыма и освободили его административный центр, город Симферополь. Тем временем Отдельная Приморская армия под командованием Еременко, наступавшая с плацдармов в восточной части Крыма (также захваченных зимой), нанесла удар в западном направлении вдоль южного берега Крымского полуострова и, освободив Керчь, Феодосию, Гурзуф, Ялту и Алупку, продолжала преследовать немецкие части, отходившие к Севастополю.
Решение Гитлера удерживать Крым было одной из самых бредовых его идей. Согласно нынешним советским источникам, Красная Армия имела здесь подавляющее превосходство в живой силе и технике. В то время как численность немецко-румынских войск в Крыму составляла 195 тыс. человек, советские войска насчитывали около 470 тыс. солдат и офицеров; таким же огромным было превосходство Красной Армии и в танках, артиллерии и авиации[217]. Соотношение сил на Черном море было также явно не в пользу немцев.
Около половины 17-й немецкой армии, оборонявшей Крым, составляли румынские части, и Антонеску уже много месяцев убеждал Гитлера дать согласие на их эвакуацию; он считал попытку удержать полуостров абсолютно нереальной. Но Гитлер ни о какой эвакуации и слышать не хотел. Многие румынские солдаты и офицеры в Северном Крыму, в Симферополе и на Черноморском побережье, несомненно, понимали, что Севастополь, куда быстро стекались сейчас все немецкие войска, окажется для них смертельной западней и что их-то, во всяком случае, будут эвакуировать в последнюю очередь, и поэтому спешили сдаться в плен русским.
К 18 апреля основная масса немецких войск поспешно отошла к Севастополю, который Гитлер объявил теперь «крепостью Севастополь». Задача удерживать его в течение неопределенно долгого времени была возложена на войска численностью до 50 тыс. человек; остальную часть войск можно было эвакуировать. Красная Армия удерживала Севастополь в 1941 - 1942 гг. в течение 250 дней; немцам надлежало теперь проявить себя по меньшей мере так же хорошо[218]. 18 апреля фронт проходил по дуге к востоку от Севастополя, и протяженность его составляла 40 км.
В ходе своего отступления к Севастополю немецкие войска, несмотря на всю поспешность этого отступления, уничтожали все, что только могли. Хотя они разрушили всю приморскую часть Ялты, основная часть города (в том числе Дом-музей Чехова, где некогда жил писатель) уцелела. Сохранились также дворцы в Ливадии и Алупке, один из которых был в 1942 г. преподнесен «благодарным немецким народом» в подарок «покорителю Крыма» Манштейну. Именно в этих дворцах меньше чем через год после этого состоялась Ялтинская конференция.
Можно задать себе вопрос, почему, несмотря на подавляющее превосходство немецко-румынских войск в танках и авиации, а также на значительное превосходство в живой силе, Севастополь смог продержаться в 1941-1942 гг. 250 дней, а в 1944 г. Красная Армия овладела им за четыре дня. Немецкие авторы объясняют сейчас этот факт просто огромным превосходством советских войск в живой силе, авиации и другой боевой технике. Но разве немецко-румынские войска не имели такого же превосходства в 1941-1942 гг.? Дело в том, что в 1941-1942 гг. русские действительно были готовы защищать город русской славы Севастополь до последней капли крови, а в апреле 1944 г. боевой дух немцев - по крайней мере в таком отдаленном месте от Германии, как Крым, - не мог уже находиться на должной высоте. Ибо мы знаем, что потом, когда война пришла на территорию Германии, немецкие солдаты все еще могли там оказывать противнику самое отчаянное, сопротивление.
Вопрос о том, какое количество немецких войск было фактически эвакуировано из Крыма между 18 апреля и 13 мая, остается спорным. По словам одного советского генерала, которого я видел тогда в Севастополе, из Крыма выбралось только 30 тыс. немецких солдат, по утверждению немецких военнопленных - по меньшей мере вдвое больше. В послевоенных немецких материалах говорится, что эвакуировать удалось 150 тыс. человек, но что вместе с тем «потери» составили в Крыму «не менее 60 тыс. немецких солдат и офицеров», а также огромное количество боевой техники и 60 потопленных кораблей. Советские источники называют гораздо более высокие цифры потерь противника в Крыму: 50 тыс. человек (почти исключительно немцев) убитых и 61 тыс. пленных (из них 30 тыс. на мысе Херсонес), то есть в общей сложности 111 тыс. человек. Но эти данные (особенно число пленных), вероятно, включают большое число румын. Немецкие авторы сейчас удивляются тому, что советский Черноморский флот позволил уйти такому большому числу кораблей; советские отвечают на это, что море между Севастополем и Румынией было сильно заминировано, но, несмотря на это, множество немецких кораблей с 40 тыс. солдат и офицеров на борту, было потоплено, в большинстве случаев авиацией, в период между 3 и 13 мая.
Как бы то ни было - потеряли ли немцы не менее 60 тыс. человек или их потери достигали 100 тыс. человек, - вся Крымская операция, равно как и безуспешная попытка Гитлера инсценировать немецкий вариант «героической обороны Севастополя», признается теперь как одна из серьезнейших ошибок фюрера. Западногерманские историки твердят сейчас, что фюрер сделал командующего 17-й немецкой армией генерал-полковника Йенике козлом отпущения. В действительности он информировал Гитлера, что не сможет удержать Севастополь, и 3 мая был снят с должности командующего армией; на его место был назначен генерал Альмедингер. Трудно сказать, питал ли последний в душе больше надежд удержать город, чем Йенике, однако он был, по-видимому, более преданным нацистом. Широкое советское наступление началось через два дня после его назначения.
В своем прощальном обращении, захваченном тогда частями Красной Армии, Йенике писал:
«Фюрер приказал мне взять на себя новые обязанности. Это значит, что я должен сказать моей армии горькое «прости». Я буду с глубоким волнением вспоминать ваше образцовое мужество. Фюрер доверил вам выполнение задачи всемирно-исторического значения. В Севастополе стоит 17-я армия, и в Севастополе Советы будут обескровлены».
Уже с 18 апреля шли тяжелые бои на внешнем оборонительном обводе Севастополя, особенно в Инкерманской долине; но только 5 мая советские войска крупными силами атаковали Севастополь с севера, чтобы отвлечь сюда возможно больше немецких войск. Достигнув этой цели, советское командование предприняло 7 мая решительный штурм Сапун-горы - холма с несколькими ярусами немецких траншей, который был «ключом к Севастополю». Мощная артиллерийская (с участием «катюш») и авиационная подготовка продолжалась несколько часов, после чего на штурм горы двинулась пехота. Обе стороны понесли тяжелые потери, но с захватом Сапун-горы дорога на Севастополь была открыта. Два дня спустя, 9 мая, Гитлер смирился с необходимостью оставить Крым и приказал эвакуировать войска. Но этот приказ пришел слишком поздно, и 50 тыс. немецких солдат и офицеров, оставшихся в районе Севастополя, были теперь обречены.
Успешный, правда стоивший больших потерь, штурм Сапун-горы сопровождался атаками на другие узлы сопротивления в «неприступной» системе севастопольских укреплений, и к 9 мая советские войска ворвались в Севастополь. Несколько тысяч немцев было убито или захвачено в плен в самом Севастополе, остальные - около 30 тыс. человек - оставили город и отступили на мыс Херсонес. Здесь было три перешейка, один шириной менее трех километров, оба других - менее полутора километров. На первом немцы устроили минные поля и соорудили «земляной вал» с различными укреплениями, состоявшими из проволочных заграждений и ряда дотов и пулеметных гнезд; эти в общем весьма слабо укрепленные оборонительные сооружения были труднодоступными из-за минных полей.
Первая полоса обороны проходила на расстоянии около пяти километров от оконечности мыса Херсонес с его разрушенным белым маяком. Укрепления на двух других перешейках были еще более примитивными. Именно этот небольшой клочок земли размером около пяти на два километра немцы и решили сделать своим последним узлом сопротивления, все еще надеясь, что за ними придут транспорты.
Итак, 9 мая 30 тыс. немецких солдат и офицеров, оставив Севастополь, отступили к мысу Херсонес - тому самому месту, куда в июле 1942 г. отступили последние советские защитники Севастополя, - лишь для того, чтобы найти здесь смерть или оказаться в плену.
Позднее немецкие пленные рассказывали, что боевой дух немецких войск был весьма невысок, но что офицеры продолжали поддерживать в них надежду на прибытие транспортов. Так обещал фюрер… В течение трех дней и ночей мыс Херсонес представлял собой то «неописуемое пекло», о котором говорят сейчас немецкие авторы. Правда, в ночь на 10 мая и на следующую ночь два небольших судна все же пришли и забрали что-то около тысячи человек. Это чрезвычайно ободрило всех остальных людей.
Немцы все еще имели на Херсонесе небольшой аэродром истребительной авиации, но, поскольку он подвергался теперь непрерывному обстрелу артиллерией, особой пользы он уже принести не мог.
Однако русские не намеревались дать немцам возможность эвакуировать морем своих людей; в ночь на 12 мая несколько судов сделали попытку подойти к Херсонесу, но два из них были потоплены огнем артиллерии, остальные поспешили уйти обратно. Это произошло в ту ночь, когда советское командование решило покончить с 30 тыс. скопившихся здесь немцев. В этот момент вид судов, которые приближались, но затем ушли, так и не причалив к берегу, серьезно деморализовал немецкие войска. Они уже до того в течение двух дней и ночей подвергались ожесточенной бомбежке и артиллерийскому обстрелу, а в ночь на 12 мая заговорили еще и «катюши» («черная смерть», как прозвали эти минометы немцы). То, что за этим последовало, превратилось в настоящую бойню. Немцы в панике бежали за вторую, а потом и за третью линию своей обороны, а когда в предрассветные часы на поле боя появились советские танки, немецкие солдаты и офицеры начали сдаваться большими группами в плен; вместе с ними сдался и их командир, генерал Бёме, а также несколько штабных офицеров, скрывавшихся в погребе единственного уцелевшего крестьянского дома на мысе Херсонес.
Тысячи раненых были перенесены к оконечности мыса; здесь же скопилось человек 750 эсэсовцев, которые отказывались сдаваться в плен и продолжали вести огонь. Несколько десятков уцелевших попытались в конце концов уйти морем на лодках и на плотах. Некоторым из них действительно удалось выйти в море, но здесь многих настигли пулеметные очереди советских самолетов. Эти безумцы надеялись добраться до Румынии, Турции или рассчитывали, что их подберет какой-нибудь немецкий или румынский корабль.
Моя поездка в Крым 14-18 мая явилась, пожалуй, самым странным «отпуском в Крыму», какой только приходилось провести там кому бы то ни было.
Утром 14 мая я вылетел из Москвы в Симферополь. Самолет совершил круг над Сивашем, где месяц назад началось наступление советских войск, а затем над Перекопским перешейком, где немцы построили глубоко эшелонированную оборону. И наступавшие советские части правильно сделали, что обошли Перекоп стороной.
Местность вокруг Симферополя, с ее многочисленными тополями, напомнила мне французскую провинцию Турен. Все яблони, груши, вишни и абрикосовые деревья были в цвету. Симферополь, небольшой, ничем особенно не примечательный город (если не считать нескольких невысоких мечетей), хотя и пострадал от бомбежки, но незначительно. Более типичными для крымского ландшафта были татарские деревни с их мечетями и своеобразными татарскими жилищами с плоскими крышами и открытыми верандами. По пути к морю мы проехали несколько таких деревень; татары смотрели нам вслед с угрюмыми и испуганными лицами.
Затем мы выехали на Южный берег Крыма. В Алуште было сожжено множество домов, а пляж заминирован и оцеплен проволочными заграждениями; тем не менее открывшийся нашим взорам пейзаж выглядел, как на почтовой открытке, - чудесный край виноградников и кипарисов, с цветущими фруктовыми деревьями и сиренью, с домами, скрывающимися за алым пламенем бугенвилей и бледно-лиловыми кистями глицинии, в окружении садов, ослепительно ярких от обилия в них кустов золотого дождя. Дальше на запад на синем фоне моря вырисовывался огромный массив Аю-Дага, гранитной горы, в которую, согласно местной легенде, был обращен медведь, тщетно пытавшийся осушить Черное море, выпив его до дна. Справа высоко в небо уходили фиолетовые очертания Ай-Петри, чьи вершины были окутаны облаками.
В Ялте, этой «крымской Ницце», немцы сожгли всю приморскую часть города, но между Ялтой и тем местом, где дорога поворачивает в горы, разрушения были незначительными. Мы миновали дворцы в Алупке и несколько санаториев, ныне переполненных советскими ранеными. Когда мы проезжали мимо, многие из них, с повязками или на костылях, приветственно махали нам руками.
Ничто не могло бы быть разительнее контраста между тем, что мы видели, когда ехали по картинно прекрасному побережью, и местностью вокруг Севастополя. Здесь не было ничего, кроме унылых низин, над которыми гулял ветер, да развалин домов. Инкерманская долина походила на долину смерти. От Севастополя ее отделяет Сапун-гора; последняя, вся изрытая воронками от снарядов, как и окружающая местность, тоже казалась одним из самых унылых мест на земле. Одному богу известно, сколько людей погибло здесь! На равнинах вокруг Сапун-горы и вдоль дороги, Идущей через Инкерманскую долину к Севастополю, чувствовалось зловонное дыхание смерти. Оно исходило от трупов сотен все еще лежавших у обочин дороги лошадей, раздувшихся и разлагающихся, и тысяч убитых, многие из которых были зарыты недостаточно глубоко или даже вообще еще не были захоронены.
Здесь, как нигде в другом месте, вы испытывали чувство, будто едете по многим и многим пластам человеческих костей, - костей людей, погибших в Крымскую войну прошлого столетия, в сражениях 1920 г. и в период страшной 250-дневной осады Севастополя, и вот теперь опять…
Издали казалось, что Севастополь, с его длинной, узкой бухтой, живет, но и он тоже был мертв. Даже в пригородах его, на дальнем конце Инкерманской долины, не уцелело почти ни одного дома. Железнодорожный вокзал представлял собой гору щебня и искореженного металла. В последний день своего пребывания в Севастополе немцы спустили под откос огромный товарный состав, который свалился в овраг и лежал здесь вдребезги разбитый, вверх колесами. Разрушения, всюду разрушения!
Сам Севастополь, до войны такой яркий и оживленный, имел сейчас невыразимо грустный вид. Гавань была забита обломками судов, потопленных в последние дни эвакуации немецких войск.
Непривычно было бродить по пустынным улицам Севастополя. Здесь все напоминало об исторических событиях Крымской войны, например Михайловский редут, возвышавшийся по ту сторону бухты и оставшийся сейчас более или менее невредимым, одним из защитников которого в период Севастопольской обороны 1854-1855 гг. был молодой Лев Толстой. Да, все здесь было связано с воспоминаниями о далеком прошлом города и другими, более мучительными воспоминаниями о 1942 г.
В одном из немногих больших зданий (кое-как восстановленных немцами после 1942 г.) я увидел председателя Севастопольского горсовета Ефремова. Он был председателем горсовета и во время обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Сейчас, пояснил он, городские улицы пустынны, потому что живущие в предместьях люди никак не могут еще отвыкнуть смотреть на сам город как на запретную зону. Солдаты тоже ушли из города, кроме небольшого отряда черноморских моряков-зенитчиков. В течение последних двух лет они только и мечтали о том дне, когда снова будут стоять на страже Севастополя… Знаменитый Военно-морской музей в основном уцелел во время осады, но все его экспонаты были вывезены организацией Розенберга в Германию - «с разрешения вермахта», как гласило висящее в музее объявление. Оно было написано на немецком, румынском, татарском и русском языках, причем на русском в последнюю очередь.
После осады Севастополя 1941-1942 гг. в живых осталось 30 тыс. человек гражданского населения, но из них около 20 тыс. было угнано немцами в Германию или расстреляно по подозрению в том, что они являются переодетыми солдатами. 10 тыс. человек получили разрешение проживать в городе, вернее, в его северных пригородах. Ефремов упомянул также о крымских татарах, которые отличались особой жестокостью, выслеживая переодетых в штатское советских солдат. В общем татары показали себя как нельзя хуже. Они сформировали полицейские отряды, подчинявшиеся немцам, и принимали самое активное участие в деятельности гестапо…
Вид Херсонеса внушал ужас. Вся местность перед земляным валом и позади него была изрыта тысячами воронок от снарядов и выжжена огнем «катюш». Здесь все еще валялись сотни немецких автомашин, однако часть их советские солдаты успели уже вывезти. Земля была сплошь усеяна тысячами немецких касок, винтовок, штыков и другим оружием и снаряжением. Советские солдаты собирали сейчас все это имущество в большие кучи; им помогали присмиревшие немецкие военнопленные; по их виду чувствовалось, как они счастливы, что остались в живых. Вокруг было также множество немецких орудий и несколько тяжелых танков - последних было немного, поскольку большинство их немцы потеряли или эвакуировали еще задолго до этого.
Земля была густо усыпана также обрывками бумаг - фотографий, личных документов, карт, частных писем; валялся здесь даже томик Ницше, который до последней минуты таскал с собой какой-нибудь нацистский «сверхчеловек». Почти все трупы были захоронены, но вода вокруг разрушенного маяка кишела трупами немцев и обломками плотов, которые покачивались на волнах, плескавшихся у оконечности мыса Херсонес. Это были трупы тех, кто пытался спастись бегством на плотах, а также некоторых из тех 750 эсэсовцев, которые сделали маяк своим последним рубежом и не сдались. Здесь же, среди всех этих трупов, у кромки воды виднелся еще какой-то странный предмет, нечто похожее на человеческий скелет. На нем не было уже ничего, кроме нескольких рваных лоскутьев, и на одном из этих лоскутьев сохранились следы белых и синих полос - тельняшки моряка-черноморца. Кто был этот моряк? Не был ли он одним из тех, кто почти два года назад сражался до последнего патрона - подобно погибшим здесь немцам - на этом же самом мысе Херсонес?
Синее море вокруг маяка было спокойно, но, быть может, не очень далеко отсюда по морю все еще плыли плоты с дошедшими до отчаяния людьми - плыли там, где всего лишь три года назад прогулочные пароходы совершали свои рейсы между Одессой, Севастополем и Новороссийском. Из всех этих трех портов одна только Одесса была еще похожа на город. Новороссийск, как и Севастополь, представлял собой груду развалин.
(обратно)Глава V. Политические события весны 1944 г. СССР и высадка союзников в Нормандии
К середине мая 1944 г. на советско-германском фронте наступил период относительного затишья. Теперь фронт (за исключением огромного белорусского выступа в центре, где немцы все еще вклинивались чуть ли не на 400 км в глубь советской территории) проходил в непосредственной близости от западных границ СССР. Правда, Прибалтийские республики все еще находились в руках немцев; так же обстояло дело и с большей частью Белоруссии. Но большая часть Украины была освобождена, и фронт приблизился к Львову. Ожидалось, что в ближайшие несколько месяцев Красная Армия не только очистит от немцев всю советскую территорию, но и продвинется далеко в глубь Восточной и Центральной Европы - в Польшу, Чехословакию, Румынию и Венгрию, а возможно, также и в Германию. Финляндия еще не вышла из войны, поскольку предпринятые в Москве предварительные переговоры с Энкелем и Паасикиви относительно заключения перемирия были прерваны. Об этом объявил 22 апреля Вышинский, сказавший, что Красной Армии придется в скором времени заставить финнов образумиться. Так как Финляндия не потерпела военного поражения, в этой стране все еще имелась весьма сильная оппозиция принятию условий перемирия, одним из пунктов которого было требование о выплате Советскому Союзу репараций в сумме 600 млн. долларов.
Советская политика в отношении стран Восточной Европы требовала некоторых разъяснений, и почти сразу же после того, как советские войска вступили на румынскую территорию, Молотов созвал 2 апреля пресс-конференцию и официально заявил, что Советский Союз не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения «существующего общественного строя Румынии». Вступление советских войск в Румынию, сказал он, диктовалось исключительно военной необходимостью и продолжавшимся сопротивлением войск противника в этой стране. Таким образом, предполагалось, что никакой насильственной «социализации» Румынии не произойдет и что в ней не будут ликвидированы ни частные предприятия, ни даже монархический строй. Все это было в принципе таким делом, решать которое должны были сами румыны. Отказ от претензии на румынскую территорию не затрагивал, конечно, Бессарабию или Северную Буковину, поскольку и та и другая были в 1940 г. включены в состав Советского Союза.
Было уже известно, что до открытия второго фронта, вопрос о котором был решен в Тегеране, оставались считанные недели. Среди советских солдат и населения было широко распространено мнение, что сейчас, когда Красная Армия уже вытащила из огня большую часть каштанов, союзникам будет «очень легко» высадиться и что если англичане и американцы высадятся теперь в Европе, то они сделают это не столько из чувства товарищества, сколько из чисто эгоистических побуждений, ради защиты собственных интересов, поскольку они боялись теперь, как бы русские не разгромили Германию «одни».
Сталин, однако, скоро положил конец подобным разговорам, когда в своем первомайском приказе 1944 г. отозвался о западных союзниках с исключительной сердечностью. Напомнив, что за год с небольшим Красная Армия прошла с боями от Волги до Серета, он отметил:
«Этим успехам в значительной мере содействовали наши великие союзники, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые держат фронт в Италии против немцев и отвлекают от нас значительную часть немецких войск, снабжают нас весьма ценным стратегическим сырьем и вооружением, подвергают систематической бомбардировке военные объекты Германии и подрывают таким образом военную мощь последней».
Красная Армия, указал он, вышла на советскую государственную границу на протяжении более 400 км и освободила более трех четвертей оккупированной советской территории. Но изгнать немцев из Советского Союза еще недостаточно. Раненого немецкого зверя нужно добить в его собственной берлоге.
Эта фраза (где слово «немецкого» обычно заменялось словом «фашистского») в последующие двенадцать месяцев стала для Советского Союза лозунгом № 1.
И как бы для того, чтобы покончить со всякими разговорами, будто Красная Армия уже сделала все и что открытие второго фронта имело теперь не такое уж большое значение, он добавил, что освобождение Европы и разгром Германии на ее собственной территории - задача, которую можно решить «лишь на основе совместных усилий Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, путем совместных ударов с Востока… и с Запада… Не может быть сомнения, что только такой комбинированный удар может полностью сокрушить гитлеровскую Германию.
С политической точки зрения это было важное заявление.
Май 1944 г. явился свидетелем многих проявлений сердечности по отношению к союзникам. 10 мая в посольстве Великобритании состоялась церемония награждения начальника советского Генерального штаба маршала Василевского орденом Большого креста Британской империи. Английскими орденами и медалями были награждены еще сотни других лиц. Молотов и Кларк Керр обменялись речами.
26 мая центральные советские газеты тепло отметили в своих передовых статьях вторую годовщину советско-английского союзного договора.
25 и 27 мая в советской печати было опубликовано пространное изложение речей Черчилля и Идена; поздравительные телеграммы, которыми обменялись по случаю этой годовщины Молотов и Иден, носили исключительно сердечный характер.
Иден явно намекал на предстоящие события, когда говорил в своей телеграмме о том «мощном штурме», который «рука об руку и вместе с нашими американскими и другими союзниками наши оба народа доведут до победоносного конца». Такая победа, отметил он, укрепит узы дружбы и понимания, на которых основывался англо-советский союз.
Приостановка поступления дипломатической почты из Великобритании породила в СССР радужные настроения. Это явно указывало на то, что долгожданные события приближаются - и уже очень близки. Алексей Толстой как-то заметил мне в шутку: «Если бы мы, большевики, позволили себе столь грубое нарушение установленного порядка, никто бы не удивился; но если подобные вещи делают корректные англичане, значит, у них есть для этого веские основания».
Открытие второго фронта - высадка союзных войск в Нормандии - произошло несколько дней спустя.
Поскольку советское командование готовилось к летнему наступлению, а оно, по его расчетам, должно было привести Красную Армию в Польшу, эта страна, как ни одна другая, продолжала занимать мысли Советского правительства.
Слово «Польша» не сходило с первых полос газет на протяжении всего мая. 19 мая советская печать с явным удовлетворением сообщила о том, что генерал Желиговский, очень популярный польский ветеран, находившийся в то время в Лондоне, в известной мере восстал против «лондонского правительства», заявив, что единственное спасение для Польши - это союз славянских народов и что, отказываясь принять этот лозунг, «лондонское правительство» играет на руку немцам. В Лондоне многие поляки пытались объяснить такую перемену в настроениях Желиговскоф просто старческим маразмом.
Но самый большой сюрприз был еще впереди.
24 мая Президиум Союза польских патриотов опубликовал в «Правде» сообщение, в котором говорилось:
«На днях прибыли в Москву… уполномоченные Национального Совета Польши («Крайовой Рады Народовой»). Национальный Совет Польши был образован 1 января 1944 г. демократическими партиями и группами, борющимися против немецких оккупантов. В состав Национального Совета Польши вошли представители следующих политических партий и общественных групп: оппозиционной части крестьянской партии «Строництво людове», Польской социалистической партии, Польской рабочей партии, Комитета национальной инициативы, группы беспартийных демократов, подпольного профессионального движения, Союза борьбы молодых («Валки млодых»), группы писателей, группы кооператоров, группы работников умственного труда, группы ремесленников, а также представители подпольных военных организаций: Народной гвардии, Народной милиции, крестьянских батальонов, местных военных формирований Армии Крайовой… и некоторые другие».
Далее в сообщении говорилось:
«Стало необходимо создание центра, организующего борьбу с немцами и координирующего все усилия польского народа в деле освобождения родины от оккупантов… Эмигрантское правительство… не вело борьбы с оккупантами… призывало народ к бездействию… не останавливаясь даже перед… коварными убийствами отдельных руководителей… борющихся за национальное освобождение Польши… События конца 1943 г. возбудили в польском народе большие надежды… Одновременно усилился… гитлеровский террор… Национальный Совет Польши на первом же заседании принял важнейшее решение об объединении всех партизанских групп, вооруженных отрядов и военных формирований, борющихся с оккупантами, в единую Народную Армию (Армию Людову). В состав этой армии вошли Народная гвардия, Народная милиция, значительная часть крестьянских батальонов и другие военные организации. Создание Национального Совета и образование Народной Армии… польский народ приветствовал с радостью и энтузиазмом. За несколько месяцев… Национальный Совет смог создать… целую сеть своих местных организаций (сельских, городских и областных), а также значительно усилил… борьбу… против оккупантов».
Сообщение заканчивалось словами о том, что уполномоченные Национального Совета Польши прибыли в Москву, во-первых, для ознакомления с деятельностью Союза польских патриотов в СССР . состоянием 1-й Польской армии и, во-вторых, для установления связи с союзными правительствами, в том числе и с правительством СССР.
Сообщалось также, что 22 мая Сталин принял польских уполномоченных во главе с г. Моравским, что беседа продолжалась более двух часов и что на ней присутствовали Молотов и Ванда Василевская.
Таким образом, на весь мир было объявлено о «левом подполье» в Польше и о Национальном Совете Польши, существовавшем там уже более пяти месяцев. Впервые было упомянуто также имя Моравского, позднее известного как Осубка-Моравский. «Лондонские поляки» не замедлили назвать прибывших в Москву уполномоченных горсткой коммунистических ставленников и авантюристов, у которых-де нет никаких сторонников, Национальный Совет Польши - претенциозным обманом и т.д. и т.п.
Моравский и другие уполномоченные, чьи имена (или хотя бы псевдонимы) были сохранены в ту пору в тайне (хотя многие знали, что среди них находились Берут, Анджей Витое и ряд других лиц, которые вскоре заняли видные посты в Польше), еще в течение известного времени пробыли в Советском Союзе. 8 июня Моравский дал корреспонденту ТАСС интервью, в котором заявил, что численность польских войск в Советском Союзе достигла теперь почти 100 тыс. человек; во главе этих войск стояли генерал Берлинг, Александр Завадский (недавно произведенный в чин генерала) и генерал Кароль Сверчевский, прославившийся во время гражданской войны в Испании под именем генерала Вальтера!.[219] Уже выполняя роль своего рода временного правительства, уполномоченные Национального Совета Польши наградили от его имени генерала Берлинга Крестом Грюнвальда первой степени.
Одна из целей приезда уполномоченных в Москву заключалась в том, чтобы просить оружие. Просьба эта была до известной степени удовлетворена, но англичане и американцы продолжали снабжать оружием Армию Кракову. Однако политическое значение приезда в Москву этой делегации было гораздо важнее его военного значения. Фактически она представляла собой ядро того самого Люблинского комитета, который должен был в недалеком будущем стать правительством Польши.
В кампании за объединение славян не были забыты и югославы.
В апреле в Москву прибыла направленная сюда Тито регулярная военная миссия, а 20 мая было объявлено, что Сталин принял накануне «представителей Народно-освободительной армии Югославии», генералов Терзича и Джиласа. Tepзич, пояснялось в сообщении, являлся «главой военной миссии» Югославии в СССР. Вопрос о том, признавало ли этот факт югославское королевское правительство, теперь не имел значения: Советский Союз уже признал правительство Тито де-факто. Посол Югославии Симич заявил еще за некоторое время до того, что он является сторонником Тито; таким образом, два сотрудника югославского посольства, возвращавшиеся в Москву, увидели на встретившей их посольской машине флажок Тито с красной звездочкой. Они потребовали от шофера снять этот флажок. Тот отказался сделать это и сказал обоим дипломатам, что они могут добираться до Москвы хоть пешком, его это мало интересует. Как они добрались до города - неизвестно, известно, однако, что они отказались признать то, что для посольства было уже свершившимся фактом, пробыли несколько дней в гостинице «Националы», а потом их отозвало королевское правительство.
Одновременно с сообщением о встрече Сталина с югославскими генералами советская печать опубликовала на видном месте заявление Тито корреспонденту агентства Ассошиэйтед Пресс. Тито разъяснил в нем, что под властью Национального комитета освобождения находится 130 тыс. кв. км освобожденной территории с населением свыше 5 млн. человек; он просил помощи от ЮНРРА и признания Национального комитета освобождения Югославии в качестве правительства этой страны.
Итак, Польша, Чехословакия, Югославия - будущее начинало принимать ясные очертания.
Официально отношения между СССР и западными союзниками весной и летом 1944 г. оставались прекрасными. Всего за несколько дней до высадки в Нормандии на Украине вступили в строй американские базы для челночных бомбардировок. На них начали прибывать «летающие крепости», которые на пути сюда из Италии сбрасывали бомбы на военные заводы, нефтяные промыслы и другие объекты в Венгрии и Румынии; на обратном пути в Италию они снова бомбили эти и другие объекты.
Странно было видеть здесь, в Полтаве и Миргороде, в самом сердце воспетого Гоголем края, сотни американских солдат, поглощавших огромные количества американских консервированных продуктов - свиной тушенки, жареных бобов, яблочного пюре, - выпивавших целые галлоны хорошего кофе, пристававших к бойким украинским официанткам и расхваливавших украинский ландшафт, «в точности такой же, как у нас в Индиане или в Кентукки». Правда, многие из них серьезно сомневались в целесообразности этих баз и считали, что их действительное назначение скорее состояло в том, чтобы служить политической демонстрацией «советско-американской солидарности» или прецедентом, который мог бы пригодиться на Дальнем Востоке в случае, если…
Судя по тому, что пишет генерал Джон Р. Дин[220], русские никогда не проявляли энтузиазма ко всей этой затее и в течение многих месяцев до того, как в начале июня 1944 г. американские базы для челночных бомбардировок вступили в строй, чинили ее осуществлению всяческие препятствия.
Вскоре после этого в результате внезапного ночного налета на главную (полтавскую) базу немцы уничтожили на земле сорок девять из семидесяти «летающих крепостей». Самому мне в то время казалось, что хотя советские власти были чрезвычайно смущены тем, что не сумели обеспечить эффективную защиту базы с помощью истребителей или зенитных орудий, они вздохнули с облегчением, когда некоторое время спустя эти американские базы были свернуты, несмотря на то, что создание их стоило огромного труда и больших денег.
Базы для челночных бомбардировок вступили в строй всего за несколько дней до высадки союзников в Нормандии. Когда пришло это долгожданное известие, я как раз находился на полтавской базе, но сразу же вылетел обратно в Москву, куда прибыл вечером 6 июня.
Первая волна радости по случаю открытия второго фронта несколько спала, но люди были довольны.
Известие о высадке союзников в Нормандии не успело попасть в утренние газеты, но Московское радио передало ряд специальных экстренных выпусков последних известий, в которых сообщалось о ходе высадки. В ночь на 6 июня главы американской и английской военных миссий, генерал Дин и генерал Баррос, выступили по Московскому радио (последний на некотором подобии русского языка). 5 июня советские газеты опубликовали восторженные статьи о взятии Рима, а теперь, 7 июня, радостное известие о высадке в Нормандии заняло целых четыре колонки с большой фотографией Эйзенхауэра.
Статьи в газетах принадлежали перу главным образом военных и военно-морских специалистов, и в них описывалась техническая сторона десантных операций, та роль, которую играла в них авиация союзников, и т.д., причем в течение нескольких дней газеты избегали давать какие-либо обнадеживающие прогнозы.
Оправданными были, пожалуй, частые упоминания в советской печати о том, что Красная Армия в огромной степени облегчила задачу союзников и уже проделала большую часть работы по разгрому немцев. Газеты с удовольствием цитировали слова обозреватели Би-би-си Патрика Лейси, заявившего, что, «если бы не русские, высадка войск союзников во Франции вряд ли была бы возможна». 11 июня появилась карикатура Кукрыниксов, изображавшая Гитлера в виде гиены, голова которой была уже придавлена захлопнувшимся русским капканом, а англо-американский меч вонзался в ее заднюю часть.
Через неделю после начала высадки в ответе на вопрос корреспондента «Правды» Сталин заявил:
«Подводя итоги семидневных боев… можно без колебаний сказать, что широкое форсирование Ла-Манша и массовая высадка десантных войск союзников на севере Франции, - удались полностью. Это - несомненно блестящий успех наших союзников.
Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству выполнения.
Как известно, «непобедимый» Наполеон в свое время позорно провалился со своим планом форсировать Ла-Манш и захватить Британские острова. Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он проведет форсирование Ла-Манша, не рискнул сделать даже попытку осуществить свою угрозу. Только британским и американским войскам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой высадки десантных войск.
История отметит это дело как достижение высшего порядка».
После этого высказывания газеты начали отзываться о союзниках с большой теплотой; к тому же по инициативе Наркомата внешней торговли всего через несколько дней после открытия второго фронта в советской печати впервые был опубликован (и причем не просто в форме заявления Рузвельта или Стеттиниуса) длинный перечень поставок оружия и других военных материалов, полученных Советским Союзом с начала войны от Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады.
Спустя некоторое время после высадки союзных войск в Нормандии все внимание в СССР опять было приковано к советско-германскому фронту. В известном смысле это было вполне естественно, ибо Красная Армия предпринимала теперь решительные усилия, чтобы вывести из строя всех сателлитов Германии и прорваться на территорию самой Германии. Всего через четыре дня после высадки союзников в Нормандии советские войска под командованием маршала Говорова нанесли удар по финским войскам и после одиннадцати дней тяжелых боев на Карельском перешейке овладели Выборгом. 23 июня началось мощное наступление в Белоруссии, в результате которого Красная Армия полностью освободила территорию Белорусской ССР и продвинулась далеко в глубь Польши. Как только в августе фронт здесь более или менее стабилизировался, советские войска нанесли удар по Румынии, Болгарии и Венгрии - ив глазах советских граждан война на Западе снова стала делом относительно маловажным.
16 июля «Правда» выступила со статьей, в которой говорилось:
«Наступление Красной Армии не только пробило… «зияющую брешь в Восточном вале европейской крепости Гитлера», оно пробило такую же брешь в немецко-фашистской «пропаганде». Лопнул, как мыльный пузырь… миф о том, будто «главный фронт» - на Западе… Немецкие комментаторы сегодня говорят уже с ужасом о сражениях на Востоке, «принявших апокалиптические размеры».
Высказанная некоторыми английскими военными комментаторами мысль, что немцы по собственному почину оставляли территорию Белоруссии в результате высадки союзников в Нормандии, естественно, пришлась русским очень не по вкусу. Как выразился один советский обозреватель, «эта глупая болтовня продолжалась до тех пор, пока мы не провели 57 тыс. только что захваченных немецких военнопленных, в том числе несколько десятков генералов, по улицам Москвы». Это было 17 июля, после сокрушительного разгрома немецких войск под Витебском, Бобруйском и Минском.
Даже тогда, когда кампания во Франции развертывалась исключительно успешно, советская пресса продолжала ограничиваться опубликованием почти только одних официальных сводок с Западного фронта, и лишь незначительная часть сообщений советских корреспондентов, прикомандированных к штабу Верховного командования союзных экспедиционных сил, увидела свет. Только в конце 1947 г. один из этих корреспондентов, Д. Краминов, написал пространный репортаж о втором фронте. Следует заметить, что если выраженные им в этом репортаже чувства и мысли совпадали с теми, какие у него были в 1944 г., то опубликование его сообщений в то время, когда война еще шла полным ходом, вряд ли было бы учтивым актом по отношению к союзникам СССР. Краминов охарактеризовал корпус военных корреспондентов при штабе Верховного командования союзных экспедиционных сил как гигантскую машину, призванную создавать рекламу не только союзным армиям, но даже и отдельным генералам (Монтгомери, по его мнению, был самым ярым охотником до рекламы из всех остальных); он весьма пренебрежительно отзывался о военных талантах Монтгомери, не считал удержание левого фланга союзных войск в Кане заслугой английской армии и осуждал как всю концепцию стратегических бомбардировок в целом, так и «варварские и бесполезные» действия авиации в Нормандии, где были разрушены такие города, как Кан, и убиты тысячи мирных жителей без всякой военной необходимости. Правда, он с восхищением говорил о Паттоне и Брэдли, но Эйзенхауэра считал не более как «хорошим председателем».
В 1944 г., однако, второй фронт расценивался как реальная помощь Красной Армии и гарантия того, что война скоро кончится. Он делал близость разгрома Германии осязаемой, как никогда раньше, и покушение на Гитлера 20 июля не очень удивило советских людей.
Неудача покушения, по-видимому не огорчила Москву. Создание «респектабельного» (то есть прозападного) германского правительства в тот момент, когда англичане и американцы прочно утвердились на континенте, могло бы породить ситуацию, которая почти наверняка нанесла бы ущерб советским интересам. На данном этапе Красная Армия ничего так не желала, как «добить фашистского зверя в его берлоге».
Это не помешало молчавшему до тех пор фельдмаршалу Паулюсу опубликовать заявление, в котором он призывал немецкий народ «установить новое государственное руководство». Широкое использование этого заявления в листовках, которыми забрасывались позиции противника, имело целью подорвать боевой дух немецких солдат, хотя в прошлом все такие попытки не оправдывали ожиданий, особенно если судить по числу немцев, которые добровольно сдавались Красной Армии.
(обратно)Глава VI. Разгром гитлеровцев в Белоруссии. «Хуже, чем Сталинград»
Большое летнее наступление советских войск началось через две с половиной недели после высадки союзников в Нормандии, а именно, что было довольно-таки символически, 23 июня - на следующий день после третьей годовщины нападения фашистов на Советский Союз. Теперь стороны поменялись ролями. В течение двух последних лет СССР, несмотря на крайне тяжелые потери в людях и в боевой технике, день за днем создавал исключительно боеспособную, умелую и технически великолепно оснащенную армию, в то время как резервы Германии неуклонно истощались.[221]
В то время как английский и американский союзники СССР вели теперь широкие боевые действия во Франции, сковывая (по советским подсчетам) 30% немецких боевых войск, войска союзников, имевшихся еще у Гитлера, становились все менее надежными, а их правительства мечтали при первом же удобном случае выйти из войны. По иронии судьбы, одной из причин решимости Гитлера цепляться за оборонительный рубеж Витебск, Могилев, Бобруйск на восточной оконечности обширного белорусского выступа, вклинивавшегося далеко в глубь СССР, являлось опасение, что потеря этого рубежа окажет деморализующее воздействие на финнов; между тем финны после потери ими - несколько раньше в том же месяце - Карельского перешейка и Выборга испытывали сильное искушение возобновить с Советским правительством переговоры о перемирии.
Генерал-фельдмаршал фон Буш, командующий группой армий «Центр», которая оккупировала Белоруссию, настойчиво просил у Гитлера разрешения вывести войска из Белоруссии или хотя бы «сократить линию фронта». Но единственное, что сделал Гитлер после того, как немцы в течение пяти дней неизбежно терпели одно поражение за другим, - это сместил Буша и заменил его генерал-фельдмаршалом Моделем, одним из тех, кто проиграл сражение под Курском.
Советское наступление началось в благоприятных условиях. Во-первых, до самых последних дней майско-июньского затишья немцы ожидали следующего сильного удара русских не в Белоруссии, а на южном участке фронта, между Припятскими болотами и Черным морем. Сосредоточение в Белоруссии значительной массы советских войск было осуществлено с соблюдением строжайшей тайны и осторожности, и, когда последовал удар, немцы были захвачены врасплох.
В наступлении, развернувшемся в полосе шириной 800 км (позднее она достигла ширины 1600 с лишним км), участвовали войска четырех фронтов:
1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала И. X. Баграмяна;
3-го Белорусского фронта под командованием генерала И.А. Черняховского;
1-го Белорусского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского;
2-го Белорусского фронта под командованием генерала Г.Ф. Захарова.
Координация действий первых двух фронтов осуществлялась маршалом А.М. Василевским, двух последних - маршалом Г.К. Жуковым.
Русские теперь уже имели огромное превосходство над немцами, сосредоточив в Белоруссии 166 дивизий (вместе с резервами), 31 тыс. орудий и минометов, 5200 танков и самоходно-артиллерийских установок и свыше 6 тыс. самолетов. Советские войска превосходили немецкие в 2 раза по живой силе, в 2,9 раза по артиллерии и минометам, в 4,3 раза по танкам и самоходно-артиллерийским установкам, в 4,5 раза по авиации[222].
Поистине это походило на 1941 г., только теперь роли переменились. Артиллерийская плотность нередко достигала 200 орудий на 1 км участка прорыва. В течение нескольких недель к советским позициям доставлялось огромное количество боеприпасов, горючего и продовольствия; четыре участвовавших в наступлении фронта ежедневно принимали по 100 поездов, не считая большого количества грузов, которые подвозились на грузовых автомашинах (главным образом американских). Наготове стоял многочисленный парк санитарных автомашин, а для приема раненых было подготовлено 294 тыс. госпитальных коек[223].
Почти 12 тыс. имевшихся на фронте грузовиков могли за один рейс подвезти наступавшим частям 25 тыс. т боеприпасов, горючего и других грузов. Это была наиболее тщательно подготовленная из всех предыдущих советских наступательных операций (быть может, за исключением только Курской). Все было разработано до мельчайших деталей, не было оставлено никакого места для импровизации, как это бывало в прошлом - и даже в Сталинграде, причем в основном из-за недостатка боевой техники и моторизованного транспорта.
Одной из отличительных черт Белорусской операции явилась та чрезвычайно важная роль, которую сыграли в ней партизанские соединения, действовавшие в тылу у немцев. Несмотря на ряд особенно жестоких карательных экспедиций против белорусских партизан, проведенных немцами в январе - феврале и повторно в апреле 1944 г., с дикой расправой над целыми деревнями (такая расправа была учинена карателями, например, в деревне Байки Брестской области, где 22 января 1944 г. было сожжено 130 крестьянских домов и зверски убито 957 человек), белорусские партизаны по-прежнему представляли собой в канун наступления внушительную армию общей численностью свыше 143 тыс. человек. Партизаны согласовывали планы своих действий с командованием Красной Армии и в период с 20 по 23 июня вывели из строя практически все железные дороги в Белоруссии; именно это и было нужно Красной Армии, чтобы парализовать перевозки немецких грузов и войск.
Советское наступление с самого начала развивалось с огромным успехом. В период с 23 по 28 июня войска четырех фронтов прорвали немецкую оборону на шести участках и окружили крупные группировки противника в районе Витебска и Бобруйска. Только в этих двух котлах были уничтожены десятки тысяч немцев и около 20 тыс. немецких солдат и офицеров взято в плен. После того как немецкие войска оставили оборонительный рубеж Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Гитлер отдал бредовый приказ удерживать рубеж на Березине, Этого немцам, однако, сделать не удалось. Наступая с северо-востока и юго-востока, советские войска 3 июля ворвались в столицу Белоруссии Минск и в ходе боев окружили большую немецкую группировку к востоку от города. В этот огромный котел попало около 100 тыс. немецких солдат и офицеров, подавляющая часть которых сдалась в плен. Около 40 тыс. человек были убиты или ранены, а 57 тыс. пленных во главе с несколькими генералами и десятками офицеров были проведены 17 июля по улицам Москвы. Цель столь необычной процедуры состояла в том, чтобы опровергнуть как утверждения немцев об их якобы «планомерном отходе из Белоруссии», так и высказывания английской и американской печати, в которых давалось понять, что советское наступление в Белоруссии явилось «легкой прогулкой», потому что немцы якобы перебросили отсюда крупные силы во Францию, чтобы задержать наступление войск западных союзников, что не соответствовало действительности.
Этот «парад» 57 тыс. немцев, проведенных через Москву, представлял собой незабываемое зрелище. Особенно сильное впечатление производило поведение многолюдных толп москвичей, плотными рядами стоявших на тротуарах. Мальчишки гикали и свистели, но взрослые их сразу же одергивали; мужчины смотрели на проходивших сурово и молча; у многих женщин, особенно пожилых, вид всех этих оборванных и грязных «фрицев» вызывал жалость.
Однако советские солдаты, воевавшие в Белоруссии, не испытывали к немцам подобного сочувствия. Отступая, немецкие войска повсюду старались разрушить все, что только могли. В Жлобине русские обнаружили в противотанковом рву трупы 2500 мирных граждан, которых немцы замучили и расстреляли перед своим уходом. В общей сложности число людей, зверски убитых немцами в период оккупации ими Белоруссии, значительно превышает миллион человек. Погибло все еврейское население Белоруссии и много сотен тысяч партизан и их «сообщников», в том числе женщины и дети.
Большая часть Белоруссии и районы к востоку от нее между Смоленском и Вязьмой были превращены в «зону пустыни». Весной 1944 г. немцы, предчувствуя, что им придется отступать из Белоруссии, приказали перепахать все озимые посевы и пытались помешать весеннему севу. Они изобрели даже специальные катки для уничтожения посевов. Практически все города лежали в развалинах. Правда, поскольку почти 60% сельской местности в большей или меньшей степени контролировалось партизанами (и даже подчинялось их власти: здесь существовали советские административные и партийные органы), немцы смогли выполнить приказы об уничтожении посевов лишь в некоторых местах. Генерал Типпельскирх, командовавший 4-й немецкой армией во время ее отступления из Белоруссии, писал позднее об «огромном, простиравшемся почти до Минска лесисто-болотистом районе», который «контролировался крупными партизанскими отрядами и ни разу за все три года не очищался от них, а тем более не оккупировался немецкими войсками»[224].
Тем не менее немцам удалось превратить большую часть территории Белоруссии в «зону пустыни». В деревнях (согласно советским данным) было уничтожено свыше миллиона крестьянских хозяйств, и когда я проезжал через Белоруссию вскоре после разгрома немцев, я видел здесь очень мало скота.
В отличие от того, что я видел на Украине, значительная часть белорусской молодежи сумела избежать отправки в Германию, примкнув к партизанам; однако даже и в этих условиях немцы угнали отсюда в Германию 380 тыс. человек. Разрушения в городах были чудовищными: почти все фабрично-заводские и общественные здания были уничтожены, а в Минске было сожжено также и большинство жилых зданий. И если здесь и уцелел Дом правительства и несколько других общественных зданий, а также 19 из общего числа 332 промышленных предприятий, то это произошло только потому, что советские войска сразу же разминировали их, как только вошли в город. В одном только Минске было обезврежено 4 тыс. авиабомб замедленного действия, фугасов, различных мин и «сюрпризов». Красная Армия восхищалась саперами, «которые ошибаются только один раз в жизни».
Окружение к востоку от Минска стотысячной группировки немцев означало, что Красная Армия пробила в германском фронте 400-километровую брешь и что теперь дорога на Запад была почти свободна.
4 июля, еще до окончательной ликвидации минского котла, Советское Верховное Главнокомандование поставило четырем действовавшим в Белоруссии фронтам новые задачи: войска этих фронтов должны были за короткое время вступить в восточную часть Латвии и в Литву, продолжать наступление в направлении Вильнюса, Каунаса, Гродно и Бреста, форсировать в нескольких местах Неман, а затем выйти к границам Восточной Пруссии и вступить (южнее) в пределы Польши.
Красная Армия продолжала стремительно продвигаться вперед со средним темпом 15-25 км в сутки. 8 июля был взят город Барановичи; 13 июля войска Черняховского овладели Вильнюсом; 18 июля войска Рокоссовского перешли границу Польши и 23 июля вступили в Люблин, что явилось событием, имевшим далеко идущие политические последствия. 28 июля они освободили Брест, и вся территория Белоруссии была полностью очищена от немцев.
По признанию самих гитлеровцев, разгром их войск в Белоруссии явился самым тяжелым поражением, которое вермахт понес на Восточном фронте. В ходе Белорусской операции было уничтожено от 25 до 28 немецких дивизий, в результате чего немцы потеряли не менее 350 тыс. человек. Как указывается в «Журнале боевых действий верховного командования немецкой армии», разгром группы армий «Центр» (в Белоруссии) представлял собой «большую катастрофу, чем Сталинград»[225]. Эта цифра потерь - 25 дивизий, или 350 тыс. человек, - встречается в ряде других западногерманских послевоенных источников. Так, например, Гудериан говорит об «уничтожении группы армий «Центр» и о потере примерно 25 дивизий». Эти события, пишет он, были «столь потрясающими», что «в середине июля Гитлер перевел свою ставку из Оберзальцберга в Восточную Пруссию»[226].
Разгром группы армий «Центр» в Белоруссии создал в высшей степени благоприятные условия для действий других советских фронтов. 13 июля войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева приступили к осуществлению Львовско-Сандомирской операции; на севере войска 3-го Прибалтийского фронта освободили 18 июля Псков и ворвались в южную часть Эстонии; войска 2-го Прибалтийского фронта вступили в южную часть Латвии, в то время как войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием Баграмяна овладели Елгавой, после чего 31 июля вышли в районе Тукума к побережью Рижского залива, отрезав тем самым всю немецкую группу армий «Север» в Эстонии и Латвии от остальных германских войск. Однако три недели спустя немцам удалось прорубить к югу от Рижского залива тридцатикилометровый коридор и таким образом частично восстановить сухопутные коммуникации между группой армий «Север» и западной частью Литвы и Восточной Пруссией.
Хотя Красная Армия и одержала в Белоруссии и на востоке Литвы одну из величайших побед в ходе всей войны - причем такую победу, от которой немцы так и не сумели оправиться, - ее дальнейшее продвижение, начиная с 25 июля и вплоть до конца августа, значительно замедлилось по целому ряду причин - в частности из-за чрезмерно растянутых коммуникаций, появившейся в войсках усталости и введения немцами в бой крупных резервов с целью домешать продвижению советских армий за Неман в Восточную Пруссию, а также дальнейшему развертыванию их наступления вдоль Нарева и Вислы, в ее верхнем и среднем течении, в глубь Центральной Польши. К концу августа, когда по приказу Советского Верховного Главнокомандования большинство операций на участке между Елгавой в Латвии и Юзефувом, в ста милях к югу от Варшавы, было приостановлено, линия фронта проходила примерно по средней части Литвы, далее на небольшом расстоянии от восточной границы Восточной Пруссии, а затем приблизительно вдоль Нарева и Вислы, в глубь Центральной Польши.
К этому времени Польша стала ареной весьма драматичных военных и политических событий. К 23 июля войска левого фланга 1-го Белорусского фронта (под командованием Рокоссовского), в состав которых входила и 1-я Польская армия, уже освободили древний польский город Люблин. 31 июля образовавшие тупой клин войска правого фланга 1-го Белорусского фронта завязали бои на ближних подступах к предместью Варшавы - Праге, расположенному на правом берегу Вислы напротив Варшавы. 1 августа началось Варшавское восстание, поднятое Армией Крайовой под командованием генерала Бур-Коморовского.
(обратно)Глава VII. Что произошло в Варшаве?
Незадолго до начала варшавской трагедии в освобожденных Красной Армией районах Польши произошли важные в политическом отношении события, чреватые далеко идущими последствиями.
Как мы уже видели, 23 июля советские войска освободили Люблин, а 26 июля Народный комиссариат иностранных дел СССР опубликовал заявление об отношении Советского Союза к Польше; одновременно был опубликован манифест, датированный 22 июля и подписанный в Хелме (пограничном польском городе); в нем объявлялось о создании Польского комитета национального освобождения, который вскоре все стали называть просто Люблинский комитет.
В советском заявлении говорилось, что Красная Армия вместе с Польской армией, действующей на советско-германском фронте, приступила к освобождению польской территории. Советские войска, сообщалось в заявлении, имеют только одну цель: разгромить противника и помочь польскому народу восстановить независимую, сильную и демократическую Польшу, Поскольку Польша являлась суверенным государством, Советское правительство решило не создавать на польской территории своей собственной администрации, а заключить с Польским комитетом национального освобождения соглашение, определяющее взаимоотношения между Советским Верховным Главнокомандованием и польской администрацией. В заявлении отмечалось, что Советское правительство не преследует цели присоединения к СССР каких-либо польских земель или изменения общественного строя Польши и что присутствие Красной Армии на территории Польши диктуется единственно военной необходимостью.
Крайова Рада Народова, по существу представлявшая собой «подпольный парламент», издала декрет, подписанный: «Варшава (sic!), 21 июля», который на следующий день был опубликован в Хелме в первом номере ее официального органа - газеты «Речь Посполита». Декрет этот объявлял о создании Польского комитета национального освобождения под председательством Э. Осубки-Моравского. Заместителями председателя назначались А. Витое, В. Василевская и генерал 3. Берлинг. В декрете объявлялось также о других назначениях, за исключением пяти членов комитета, чьи имена не были названы, поскольку они все еще находились на оккупированной немцами территории.
В изданном Комитетом манифесте говорилось, что Комитет создан Крайовой Радой Народовой, органом, в состав которого вошли представители крестьянской партии и других демократических элементов в самой Польше и который «признали организации поляков за границей, и в первую очередь - Союз польских патриотов и Польская армия, сформированная в Советском Союзе». Манифест разоблачал лондонское эмигрантское правительство как «самозваную» власть, опирающуюся на «фашистскую» конституцию 1935 г. Комитет будет признавать конституцию 1921 г. и действовать в соответствии с ней вплоть до созыва Учредительного сейма и вынесения им нового решения.
В манифесте провозглашалась новая эра единства славянских народов; подчеркивалось, что границы между Польшей и Советским Союзом будут установлены на основе «этнического» принципа и взаимного согласия и что Польша получит свои древние западные земли в Силезии, по Одеру и в Померании. Восточная Пруссия также должна была войти в состав Польши. Бессмысленная вражда между славянскими народами, длившаяся 400 лет, теперь наконец кончилась, и польским и советским знаменам предстояло развеваться рядом, когда победоносные войска обеих стран вступят в Берлин…
Далее в манифесте перечислялся ряд пунктов программы восстановления страны и подчеркивалась необходимость проведения широкой аграрной реформы. Вопрос о национализации в манифесте формулировался весьма осторожно. В нем говорилось, что национальное имущество, находящееся в руках немецкого государства и немецких капиталистов, перейдет «в распоряжение временного государственного управления» Польши и «по мере урегулирования экономических отношений будет происходить возвращение собственности владельцам».
Манифест декларировал, что боевой союз Польши с Англией и США будет способствовать укреплению дружбы между ними и что Польша будет стремиться поддерживать свои традиционные узы дружбы и союза с Францией.
Состав Комитета был довольно пестрый; так, например, руководитель Отдела охраны труда, социального обеспечения и здравоохранения д-р Дробнер являлся правым социалистом; Витое (подобно Миколайчику) был старым членом руководства крестьянской партии (вскоре он был выведен из состава Комитета). Однако ключевые позиции явно находились в руках ППР (коммунистов); к ППР принадлежал и председатель Крайовой Рады Народовой Берут.
23 июля Рада Народова издала целый ряд постановлений - о создании верховного командования Польской армии, о подчинении Союза польских патриотов в СССР Польскому комитету национального освобождения и т.д.
Теперь мы подходим к одному из эпизодов войны на Восточном фронте, вызвавшему особенно много споров, - трагическому Варшавскому восстанию в августе - сентябре 1944 г. Версия «лондонских поляков» слишком хорошо известна, чтобы излагать ее в подробностях. Лидер восстания Бур-Коморовский изложил свою версию «русского предательства»; то же сделал Станислав Миколайчик в своей книге «Rape of Poland». Миколайчик, в частности, настойчиво повторяет в своей книге, что штаб генерала Рокоссовского находился «всего в нескольких километрах» от Варшавы и что Красная Армия стояла «в пригородах Варшавы и не хотела двинуться с места». О том, что Красную Армию отделяла от Варшавы широкая река Висла, упоминается только мимоходом. Миколайчик хочет дать понять, что Висла не была серьезным препятствием и что если бы русские захотели, они могли бы легко овладеть Варшавой и тем самым предотвратить разрушение города и спасти многих из 300 тыс. поляков, которые погибли за два месяца ожесточенных боев и зверских расправ, происходивших в городе. И если русские не взяли Варшаву, то это, по утверждению Миколайчика, объясняется не тем, что они не могли этого сделать, а причинами чисто политической порядка: их не устраивало «освобождение» польской столицы в результате народного восстания, руководимого Бур-Коморовским и другими «агентами» лондонского правительства. И Бур-Коморовский, и Миколайчик максимально использовали в своей аргументации следующие факты: 1) Московское радио в конце июля в - специальной передаче призвало население Варшавы к восстанию против немцев; 2) советское командование не разрешило самолетам, доставлявшим с Запада и сбрасывавшим в Варшаве снаряжение и боеприпасы, приземляться на советских аэродромах и 3) советские войска не поддержали мужественную попытку польских частей под командованием генерала Берлинга форсировать Вислу в непосредственной близости к Варшаве.
Письма, которыми обменивались Черчилль и Сталин в период Варшавского восстания, носят на себе следы все усиливавшегося раздражения Черчилля по поводу уклонения русских от сотрудничества и растущего гнева Сталина в отношении варшавских «преступников», которые втянули население Варшавы в бессмысленный мятеж, не согласовав своих действий с командованием Красной Армии.
4 августа (то есть через три дня после начала восстания в Варшаве) Черчилль телеграфировал Сталину:
«По срочной просьбе польской подпольной армии мы сбросим в зависимости от погоды около шестидесяти тонн снаряжения и боеприпасов [в Варшаве]… Они [поляки] также заявляют, что они просят о русской помощи, которая кажется весьма близкой. Их атакуют полторы немецкие дивизии».
5 августа Сталин ответил:
«Думаю, что сообщенная Вам информация поляков сильно преувеличена и не внушает доверия… Поляки-эмигранты уже приписали себе чуть ли не взятие Вильно какими-то частями Краевой Армии… Но это, конечно, не соответствует действительности ни в какой мере. Краевая Армия поляков состоит из нескольких отрядов, которые неправильно называются дивизиями. У них нет ни артиллерии, ни авиации, ни танков. Я не представляю, как подобные отряды могут взять Варшаву, на оборону которой немцы выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию “Герман Геринг”».
8 августа Сталин сообщил Черчиллю о встречах в Москве Миколайчика с представителями Польского комитета национального освобождения, но выразил мнение, что они пока «еще не привели к желательным результатам». Тем не менее 10 августа Черчилль поблагодарил Сталина за то, что он способствовал сближению обеих сторон, и добавил, что польские летчики с запада сбросили в Варшаве еще некоторое количество боеприпасов. «Я очень рад слышать, что Вы сами посылаете вооружение. Все, что Вы сочтете возможным сделать, будет горячо оценено Вашими британскими друзьями и союзниками».
Однако уже через непродолжительное время, 14 августа, Черчилль телеграфировал Идену (находившемуся в то время в Италии):
«Весьма странно, конечно, что в тот самый момент, когда подпольная армия подняла восстание, русские армии приостановили свое наступление на Варшаву и отошли на некоторое расстояние назад. Чтобы доставлять [в Варшаву] пулеметы и боеприпасы, им было бы достаточно покрыть по воздуху [расстояние] в 100 миль»[227].
Как пишет Черчилль, два дня спустя Вышинский информировал американского посла, что Советское правительство не может возражать против доставки английскими и американскими самолетами оружия в район Варшавы, но что оно возражает против их приземления на советской территории, «поскольку Советское правительство не хочет иметь ни прямого, ни косвенного отношения к варшавской авантюре».
16 августа Сталин направил послание такого же содержания, но в более мягкой форме Черчиллю.
Это решение вызвало в Лондоне и Вашингтоне большое волнение, и 20 августа Черчилль и Рузвельт направили Сталину совместное послание, начинавшееся словами: «Мы думаем о том, какова будет реакция общественного мнения, если антинацисты в Варшаве будут на самом деле покинуты», - в котором содержался призыв к сотрудничеству трех великих держав в этом вопросе.
Сталин ответил им 22 августа:
«Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти люди… [бросили] многих почти безоружных людей под немецкие пушки, танки и авиацию… Каждый новый день используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы.
С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее… внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как для Красной Армии, так и для поляков. Между тем советские войска, встретившиеся в последнее время с новыми… попытками немцев перейти в контратаки, делают все возможное, чтобы сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое наступление под Варшавой. Не может быть сомнения, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и действительная помощь полякам-антинацистам».
И действительно, как пишет Черчилль, «10 сентября, после шестинедельных мук, пережитых поляками, Кремль как будто переменил тактику»[228].
«В этот день в восточных предместьях Варшавы стали падать советские артиллерийские снаряды и над городом снова появились советские самолеты. По приказу советского командования польские коммунистические силы пробили себе дорогу на окраину столицы. 14 сентября и в последующие дни советская авиация сбросила повстанцам различные грузы, но раскрылось лишь незначительное число парашютов, и многие контейнеры разбились».
И дальше: «На другой день русские войска заняли предместье - Прагу, но дальше не пошли»[229].
Спустя две недели с небольшим, 2 октября, Бур-Коморовский капитулировал перед немцами.
Как указано в официальной советской «Истории войны», чтобы понять сложившуюся обстановку, необходимо вернуться к директивам Советского Верховного Главнокомандования различным фронтам от 28 июля. Эти директивы ставили в числе прочих следующие задачи:
3-й Белорусский фронт получил приказ не позднее 1-2 августа овладеть городом Каунасом и затем продолжать наступление к границе Восточной Пруссии;
Войскам 2-го Белорусского фронта, действовавшим южнее, также надлежало развивать наступление в направлении границы Восточной Пруссии, через Ломжу;
1-му Белорусскому фронту ставилась задача после овладения районами Бреста и Седльце 5-8 августа занять Прагу (предместье Варшавы) и захватить ряд плацдармов к югу от Варшавы, на западном берегу Вислы.
31 июля войска правого крыла 1-го Белорусского фронта действительно завязали с немцами «бои на ближних подступах предместья Варшавы - Праги», на правом берегу Вислы. Тем временем войска левого крыла 1-го Белорусского фронта форсировали Вислу южнее Варшавы и захватили небольшие плацдармы в районах городов Магнушева и Пулавы. Вслед за тем немцы предприняли на этих участках ряд ожесточенных контратак с целью выбить отсюда русских; и хотя последние сумели удержать захваченные плацдармы в своих руках, у них не было достаточно сил, чтобы расширить их.
Совершенно очевидно, что в конце июля - начале августа что-то серьезно нарушило планы Советского Верховного Главнокомандования.
3 августа советские газеты опубликовали карту, на которой была показана линия фронта, проходившая в нескольких километрах от Вислы, непосредственно к востоку от Праги, хотя и на очень узком выступе. В Москве ходили разговоры о том, что 9 или 10 августа Рокоссовский возьмет Варшаву. Но затем что-то нарушилось: по-видимому, внезапный удар, о котором говорил позднее Гудериан, не удался.
Из Варшавы приходили с каждым днем все более трагические известия. Затем почти две недели советская печать продолжала хранить молчание о том, что происходит на Варшавском участке, и только 16 августа опубликовала сообщение, полное зловещего смысла: «Восточнее Праги наши войска вели бои с противником, отбивая атаки крупных сил его пехоты и танков. После упорных боев наши войска оставили населенный пункт Оссув». Оссув находился лишь на небольшом расстоянии от Праги, и сообщение не давало никаких указаний, как далеко в действительности были оттеснены советские войска.
Охарактеризовав решение командования Армии Крайовой (принятое им с благословения польского правительства в Лондоне) начать 1 августа восстание в Варшаве как антисоветскую политическую операцию и указав на совершенно недостаточное количество вооружения и боеприпасов в Варшаве, советская «История войны» продолжает:
«Неудивительно… что наступление уже в первые часы не было успешным. Повстанцы не смогли овладеть командными пунктами столицы, захватить вокзалы, мосты через Вислу, и это дало возможность немецкому командованию подтянуть свои войска… командиры некоторых повстанческих отрядов, не веря в успех восстания, распустили свои отряды или вывели их из города. Но, несмотря на такие неблагоприятные условия, борьба продолжалась. Она вспыхнула с новой силой, когда в нее включилось население Варшавы… рядовые члены Армии Крайовой, не зная истинных целей организаторов восстания, мужественно сражались с гитлеровскими оккупантами… Однако силы были слишком неравными… Во второй половине августа положение повстанцев резко ухудшилось. Враг варварски уничтожал город, выполняя приказ Гитлера сровнять Варшаву с землей»[230].
Сейчас все это объясняют так: хотя «в принципе», как явствовало из письма Сталина Черчиллю от 16 августа, Советское правительство и хотело отмежеваться от Варшавского восстания (о котором с ним даже не проконсультировались), оно тем не менее «сделало все возможное», чтобы помочь повстанцам, поскольку в борьбу включились десятки тысяч патриотов Варшавы.
В ответ на раздавшиеся на Западе обвинения, что советское командование «сознательно остановило свои войска у стен Варшавы и тем самым обрекло восстание на гибель», «История войны»[231]указывает:
«Это могут проповедовать только [люди], не утруждающие себя исследованием положения и возможностей войск Красной Армии к моменту Варшавского восстания и не желающие считаться с фактами…
Во второй половине июля 1944 г. войска 1-го Белорусского [Рокоссовский] и 1-го Украинского [Конев] фронтов вступили на территорию Польши и начали развивать наступление кг Висле… К концу июля, еще до восстания в Варшаве, темпы наступления советских войск стали [резко] замедляться. Немецко-фашистское командование перебросило на направления ударов наших войск значительные резервы. Гитлеровцы оказывали упорное и все возрастающее сопротивление Красной Армии. На темпах наступления сказывалось и то, что советские стрелковые дивизии и танковые корпуса в предыдущих боях понесли большие потери, тылы и артиллерия отстали, в войсках не было необходимого количества боеприпасов и горючего. Пехота и танки не получали нужной огневой поддержки артиллерии. Из-за медленного перебазирования на новые аэродромы снизила свою активность авиация. Известно, что наступление в Белоруссии началось при значительном превосходстве советской авиации и ее господстве в воздухе. Однако в первой половине августа эти преимущества на некоторое время были… утрачены. Так, авиация 1-го Белорусского фронта с 1 по 13 августа произвела 3170 самолето-вылетов, а вражеская - 3316…
Следовательно, советские войска после длительного, сорокадневного наступления в условиях возросшего сопротивления противника не могли продолжать наступательные действия в высоких темпах и оказать немедленную помощь восставшим. Это было ясно… немецкому командованию… Типпельскирх пишет, что «восстание вспыхнуло 1 августа, когда сила русского удара уже иссякла…». Выполнение задачи затруднялось также и тем, что войскам Красной Армии предстояло бы при этом форсировать… реку Вислу».
И далее:
«К 1 августа войска левого крыла 1-го Белорусского фронта вышли к Варшаве с юго-востока, 2-я танковая армия при подходе к …Праге встретила ожесточенное сопротивление врага… [Подходы к Праге были сильно укреплены. - А. В.]… В районе Праги противник сосредоточил сильную группировку в составе четырех танковых и одной пехотной дивизии, которая нанесла в начале августа контрудары и оттеснила соединения 2-й танковой армии от Праги еще до того, как сюда подошли общевойсковые соединения.
О тяжелом положении 2-й танковой армии у Праги можно судить по ее потерям. В боях на польской территории - в районе Люблина, Демблина, Пулавы и на подступах к Варшаве - она потеряла около 500 танков и самоходно-артиллерийских установок. Не сумев из-за очень сильного сопротивления немецко-фашистских войск овладеть Прагой, танковая армия вынуждена была перейти к обороне и отражать контрудары».
Затем севернее и южнее Варшавы, на восточном берегу Вислы и на трех плацдармах, захваченных Красной Армией на западном берегу реки - в районах Магнушева, Пулавы и Сандомира, - несколько недель шли ожесточенные бои с переменным успехом. Все эти пункты находились на значительном расстоянии от Варшавы. Теперь немцы повсюду вводили в бой крупные силы.
Несомненно, что советские войска находились значительно восточнее Праги, когда в середине августа Черчилль попытался добиться для самолетов союзников разрешения приземляться за русскими позициями.
Здесь я могу дополнить советскую «Историю войны» тем, что сообщил мне 26 августа 1944 г. в Люблине командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии Рокоссовский.
Моя неофициальная и нигде не публиковавшаяся беседа с Рокоссовским (состоявшаяся после торжественной церемонии на главной площади города по случаю открытия памятника в честь погибших в битве за Люблин) была короткой, но весьма важной. Вот ее содержание:
«Я не могу входить в детали. Скажу вам только следующее. После нескольких недель тяжелых боев в Белоруссии и в Восточной Польше мы в конечном счете подошли примерно 1 августа к окраинам Праги. В тот момент немцы бросили в бой четыре танковые дивизии, и мы были оттеснены назад.
- Как далеко назад?
- Не могу вам точно сказать, но, скажем, километров на сто.
- И вы все еще продолжаете отступать?
- Нет, теперь мы наступаем - но медленно.
- Думали ли вы 1 августа (как дал понять в тот день корреспондент «Правды»), что сможете уже через несколько дней овладеть Варшавой?
- Если бы немцы не бросили в бой всех этих танков, мы смогли бы взять Варшаву, хотя и не лобовой атакой, но шансов на это никогда не было больше 50 из 100. Не исключена была возможность немецкой контратаки в районе Праги, хотя теперь нам известно, что до прибытия этих четырех танковых дивизий немцы в Варшаве впали в панику и в большой спешке начали собирать чемоданы.
- Было ли Варшавское восстание оправданным в таких обстоятельствах?
- Нет, это была грубая ошибка. Повстанцы начали его на собственный страх и риск, не проконсультировавшись с нами.
- Но ведь была передача Московского радио, призывавшая их к восстанию?
- Ну, это были обычные разговоры (sic!). Подобные же призывы к восстанию передавались радиостанцией «Свит» [радиостанция Армии Крайовой], а также польской редакцией Би-би-си - так мне по крайней мере говорили, сам я не слышал. Будем рассуждать серьезно. Вооруженное восстание в таком месте, как Варшава, могло бы оказаться успешным только в том случае, если бы оно было тщательно скоординировано с действиями Красной Армии. Правильный выбор времени являлся здесь делом огромнейшей важности. Варшавские повстанцы были плохо вооружены, и восстание имело бы смысл только в том случае, если бы мы были уже готовы вступить в Варшаву. Подобной готовности у нас не было ни на одном из этапов [боев за Варшаву], и я признаю, что некоторые советские корреспонденты проявили 1 августа излишний оптимизм. Нас теснили, и мы даже при самых благоприятных обстоятельствах не смогли бы овладеть Варшавой раньше середины августа. Но обстоятельства не сложились удачно, они были неблагоприятны для нас. На войне такие вещи случаются. Нечто подобное произошло в марте 1943 года под Харьковом и прошлой зимой под Житомиром.
- Есть ли у вас шансы на то, что в ближайшие несколько недель вы сможете взять Прагу?
- Это не предмет для обсуждения. Единственное, что я могу вам сказать, так это то, что мы будем стараться овладеть и Прагой, и Варшавой, но это будет нелегко.
- Но у вас есть плацдармы к югу от Варшавы.
- Да, однако немцы из кожи вон лезут, чтобы ликвидировать их. Нам очень трудно их удерживать, и мы теряем много людей. Учтите, что у нас за плечами более двух месяцев непрерывных боев. Мы освободили всю Белоруссию и почти четвертую часть Польши; но ведь и Красная Армия может временами уставать. Наши потери были очень велики.
- А вы не можете оказать варшавским повстанцам помощь с воздуха?
- Мы пытаемся это делать, но, по правде говоря, пользы от этого мало. Повстанцы закрепились только в отдельных точках Варшавы, и большинство грузов попадает к немцам.
- Почему же вы не можете разрешить английским и американским самолетам приземляться в тылу у русских войск, после того как они сбросят свои грузы в Варшаве? Ваш отказ вызвал в Англии и Америке страшный шум…
- Военная обстановка на участке к востоку от Вислы гораздо сложнее, чем вы себе представляете. И мы не хотим, чтобы именно сейчас там вдобавок ко всему находились еще и английские и американские самолеты. Думаю, что через пару недель мы сами сможем снабжать Варшаву с помощью наших низколетящих самолетов, если повстанцы будут располагать сколько-нибудь различимым с воздуха участком территории в городе. Но сбрасывание грузов в Варшаве с большой высоты, как это делают самолеты союзников, практически совершенно бесполезно.
- Не производит ли происходящая в Варшаве кровавая бойня и сопутствующие ей разрушения деморализующего воздействия на местное польское население?
- Конечно, производит. Но командование Армии Крайовой совершило страшную ошибку. Мы [Красная Армия] ведем военные действия в Польше, мы - та сила, которая в течение ближайших месяцев освободит всю Польшу, а Бур-Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке - как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент и оказывается завернутым в ковер… Если бы здесь речь шла всего-навсего о клоунаде, это не имело бы никакого значения, но речь идет о политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотен тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за нее пытаются переложить на нас. Мне больно думать о тысячах и тысячах людей, погибших в нашей борьбе за освобождение Польши.
- Неужели же вы считаете, - закончил он, - что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии это сделать? Сама мысль о том, будто мы в некотором смысле боимся Армии Крайовой, нелепа до идиотизма».
На пресс-конференции, которую дал несколько позднее в тот же день министр обороны Люблинского комитета генерал Роля-Жимерский, присутствовали два офицера Армии Крайовой - полковник Равич и полковник Тарнава. Они рассказали, что 29 июля по инициативе «влиятельного меньшинства» офицеров Армии Крайовой в Варшаве они покинули город с целью установить контакт с Миколайчиком (находившимся в ту пору в Москве) и в последний момент попытаться убедить лондонское правительство, чтобы оно употребило свое влияние и добилось отмены намеченного на 1 августа восстания - ибо 25 июля они уже получили от генерала Бур-Коморовского приказ находиться в боевой готовности. По их словам, было совершенно очевидно, что повстанцы не смогут удержать Варшаву, если не нанесут удар в самый последний момент, когда части Красной Армии будут уже практически в пределах города. К несчастью, обоим полковникам потребовалось почти две недели, чтобы добраться до Люблина, и к этому времени было уже слишком поздно.
Полковник Равич - изящный, небольшого роста человек в новом щегольском мундире, с выражением затаенной боли и смятения в глазах - сказал, что штаб отдал приказ поднять восстание, как только советские войска окажутся в тридцати километрах от Варшавы. Между тем он и многие другие офицеры считали, что было бы безумием начинать восстание, пока русские не подойдут к мостам через Вислу:
«Мы считали, что русские войска смогут вступить в Варшаву не раньше 15 августа, - заявил он. - Однако простые люди Варшавы (а вы знаете, какими храбрыми и романтичными являются наши варшавяне) были уверены, что русские будут в городе 2 августа; и они с огромным энтузиазмом приняли участие в восстании…»
Равич страшно волновался, говоря о Варшаве и ее разрушении, и у него блеснули слезы, когда он упомянул, что его жена и дочь «все еще там», в этом огненном пекле.
По его мнению, число убитых в варшавской кровавой бойне достигло уже 200 тыс. человек.
Все это было трагично и вместе с тем немного загадочно. Действительно ли эти два человека были чистосердечны (а я чувствовал, что это было именно так) в своей попытке предотвратить катастрофу? Действительно ли они были - как впоследствии их назвали «лондонские поляки» - отступниками от того дела, за которое боролась Армия Крайова?
В советской «Истории войны» говорится:
«В начале сентября [Советское Командование] сосредоточило силы на восточном берегу Вислы в районе Праги, где противник к этому времени ослабил свою группировку, перебросив танковые дивизии для ликвидации наших плацдармов южнее Варшавы… 14 сентября советские войска освободили Прагу. Обстановка на варшавском участке фронта значительно улучшилась. Создались условия для оказания непосредственной помощи повстанцам. Эта задача возлагалась на 1-ю армию Войска Польского [под командованием генерала Берлинга]. 15 сентября она вступила в Прагу и начала подготовку операции по форсированию Вислы и захвату плацдармов в Варшаве».
Описав эту операцию, осуществленную с помощью плавающих автомобилей при поддержке советской артиллерии и авиации, «История войны» сообщает, что в течение 16-19 сентября через Вислу переправилось до шести батальонов пехоты, что польские солдаты и офицеры сражались героически, но оказались бессильны против очень мощных оборонительных укреплений, с помощью которых немцы сумели помешать им расширить захваченный плацдарм. К тому же повстанцы не скоординировали свои действия с действиями польских сил на плацдарме. 21 сентября крупные силы немецких танков и пехоты атаковали плацдарм, расчленили переправившиеся подразделения и причинили полякам чрезвычайно большой урон. 23 сентября полякам пришлось эвакуировать плацдармы и возвратиться на восточный берег Вислы, понеся очень тяжелые потери.
Такова нынешняя советская версия неудавшейся «операции Берлинга», предпринятой (по утверждению «лондонских поляков») якобы по инициативе самого Берлинга, без поддержки со стороны русских. После провала этой операции Берлинг был отозван в Москву для прохождения «дальнейшей военной подготовки».
Опираясь на материалы архивов советского Министерства обороны, «История войны» приводит длинный и внушительный перечень вооружения, продовольствия и других материалов, сброшенных советской авиацией в районе Варшавы с 14 сентября по 1 октября (канун капитуляции Бур-Коморовского). Всего советские самолеты совершили над Варшавой свыше 2 тыс. самолето-вылетов.
«История войны» упоминает также об очень тяжелых потерях, понесенных советскими войсками на польской территории за этот период. Так, с 1 августа по 15 сентября войска 1-го Белорусского фронта потеряли (убитыми и ранеными) свыше 166 тыс. человек, а войска 1-го Украинского фронта только в августе - свыше 122 тыс. человек.
Наконец, когда положение в Варшаве стало совершенно безнадежным, сообщает «История войны», командование Красной Армии предложило варшавским повстанцам прорываться к Висле под прикрытием советской артиллерии и авиации; однако предложением этим воспользовалось лишь незначительное число варшавских борцов.
В заключение «История войны» цитирует слова Гомулки, беспощадно осудившего руководство Армии Крайовой в Варшаве. «Провозглашая вооруженное восстание без согласования с командованием Красной Армии… - заявил Гомулка, - командование АК совершило неслыханное преступление против [польского] народа».
Такова нынешняя версия советских историков - и Гомулки - в отношении варшавской трагедии. Она избегает щекотливых вопросов о призывах «восстать», с которыми обратилось к варшавянам в конце июля Московское радио (хотя и критикует за это передачи радиостанции «Свит»[232]), а также об отказе разрешить самолетам западных союзников, сбрасывавшим повстанцам оружие и другие грузы, приземляться на советских аэродромах.
Однако действительно важным является здесь вопрос о том, были ли русские в состоянии форсировать Вислу у Варшавы в августе или сентябре; и доказательства, подтверждающие невозможность этого, кажутся весьма убедительными, особенно если учесть мнение, высказанное по этому поводу генералом Гудерианом, который писал:
«Можно предполагать, что Советский Союз не был заинтересован в укреплении позиций этих (пролондонских) элементов в результате успешного восстания и захвата ими своей столицы… Но как бы то ни было, попытка русских… форсировать 25 июля Вислу в районе Демблина не удалась, и они потеряли в ней тридцать танков… У нас, немцев, создалось впечатление, что задержала противника наша оборона, а не желание русских саботировать Варшавское восстание». И далее:
«2 августа 1-я Польская армия… тремя дивизиями атаковала наши войска через Вислу на участке Пулавы - Демблин. Она понесла тяжелые потери, но захватила плацдарм… В районе Магнушева был захвачен второй плацдарм. Форсировавшие здесь Вислу силы получили приказ продолжать наступление вдоль дороги, проходящей параллельно Висле, в направлении Варшавы, но их остановили у Пилицы».
Гудериан явно считает, что советские войска всерьез пытались овладеть Варшавой на первой неделе августа. Он пишет дальше:
«У немецкой 9-й армии создалось 8 августа впечатление, что попытка русских захватить Варшаву посредством внезапного удара была сорвана мощью нашей обороны, несмотря на польское восстание, и что последнее началось, с точки зрения противника, слишком рано (курсив мой. - А. В.)[233].
Это очень важное свидетельство, исключительно точно совпадающее как с тем, что было сказано в Москве в самом начале августа, когда «с минуты на минуту» ожидалось известие о взятии Красной Армией Варшавы, так и с тем, что говорилось в конце августа, в разгар варшавской трагедии, в Люблине.
Во всяком случае, единственный вывод, к которому мог прийти автор настоящей книги, сводится к тому, что те силы, какими располагала в августе - сентябре 1944 г. Красная Армия в Польше, были действительно недостаточны для того, чтобы овладеть Варшавой, которую Гитлер был полон решимости удержать. Ибо Варшава лежала на кратчайшем пути советских войск к сердцу Германии.
Можно, конечно, возразить, что, если бы русские хотели захватить Варшаву любой ценой, то есть посредством переброски на Вислу за короткий срок целых армий с других фронтов (что было бы нелегкой задачей), они, пожалуй, взяли бы ее. Но это помешало бы осуществлению других их военных планов - таких, как непрекращающееся продвижение к границам Восточной Пруссии, разгром немцев в Румынии, соединение с югославами и вторжение в Болгарию и Венгрию.
Нет никаких сомнений в том, что Варшавское восстание было последней отчаянной попыткой «лондонцев» вырвать польскую столицу из рук отступавших нацистов и одновременно помешать Люблинскому комитету укрепить свои позиции и обосноваться в Варшаве сразу после того, как в город вступит победоносная Красная Армия.
Конец варшавской трагедии и жестокость немцев, возглавлявшихся пресловутым обергруппенфюрером войск СС Бах-Зелевским, пользовавшимся услугами банд отъявленных убийц, вроде бригады Каминского, широко известны; не менее известен и бредовый приказ Гитлера от 11 октября «сровнять Варшаву с землей».
300 тыс. поляков отдали в Варшаве свои жизни. Когда в январе 1945 г. советские войска вступили наконец в город, свыше девяти десятых его было разрушено» причем так же основательно, как в 1943 г. варшавское гетто.
(обратно)Глава VIII. Люблин. Лагерь смерти Майданек: личные впечатления
Стоял чудесный солнечный день, когда в конце августа 1944 г. мы летели из Москвы в Люблин над полями, болотами и лесами Белоруссии, раскинувшимися на сотни миль вокруг, - теми местами, которые Красная Армия освободила в результате великих битв в июне - июле. Белоруссия выглядела более истерзанной и разоренной, чем любой другой район Советского Союза, если не считать страшной «пустыни», простиравшейся от Вязьмы и Гжатска до Смоленска. За околицами деревень, в большинстве своем частично или полностью сожженных, почти нигде не было видно скота. Это был в основном партизанский край, и, когда мы летели над Белоруссией, нам стало особенно понятно, в каких опасных и трудных условиях жили и боролись партизаны. Вопреки широко распространенному мнению в Белоруссии нет необъятных лесов, которые занимали бы площадь в сотни квадратных километров; в большинстве случаев размеры лесных участков редко превышают 8-15 км в ширину. И многие даже из этих участков сверху выглядели совсем бурыми - немцы сжигали леса, чтобы «выкурить» из них партизан. В течение двух с лишним лет здесь шла ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть - об этом можно было судить даже с воздуха.
Затем мы пролетели над Минском. Весь город, казалось, лежал в развалинах, кроме огромного серого здания - Дома правительства. В Минске также имелись свои камеры пыток в управлении гестапо и свои массовые могилы зверски убитых евреев. Трудно было представить себе, что всего три года назад это был процветающий промышленный центр.
Мы летели дальше - к Люблину, в Польшу. Здесь сельские районы выглядели совершенно иначе. По крайней мере внешне казалось, что страна почти не пострадала от войны. Польские деревни, с их белыми домиками и хорошо ухоженными, богатыми на вид католическими костелами, выглядели нетронутыми. Фронт проходил не очень далеко отсюда, и мы летели низко; дети махали нам руками, когда мы стремительно проносились мимо; на полях паслось гораздо больше скота, чем в тех районах Советского Союза, где побывали немцы; большая часть земли была обработана. Мы приземлились на значительном расстоянии от Люблина, и все деревни, через которые мы затем проехали по ужасно пыльной дороге, оказались почти совершенно такими, какими мы видели их с воздуха, - они выглядели совсем обычно, повсюду было множество скота, а на лугах виднелись тут и там стога сена…
Мне предстояло провести в Люблине несколько дней. Улицы города были полны народу, что редко наблюдалось в недавно освобожденных городах СССР, большое оживление царило также и на рыночной площади. Повсюду было много советских и польских солдат. Перед уходом немцы расстреляли в старом замке 100 поляков, однако, если не считать нескольких сожженных зданий, город, вместе с его замком, дворцом Радзивиллов и многочисленными костелами, остался более или менее невредимым.
И все же первое впечатление, будто жизнь здесь идет обычным порядком, оказалось несколько обманчивым. Немецкая оккупация, длившаяся целых пять лет, наложила на жителей Люблина глубокий отпечаток. Вот уже более двух лет, как Люблин жил, так сказать, в тени Майданека, огромного лагеря смерти, находившегося всего в трех километрах от города. Когда ветер дул с востока, он доносил сюда зловонный смрад горящей человеческой плоти, исходивший из труб крематория.
На состоявшемся в день нашего приезда обеде с несколькими представителями местной знати и «люблинскими поляками» (среди них был и полковник Виктор Грош, с которым я уже встречался в Москве[234]) я сидел рядом с профессором Белковским. До войны Белковский был помощником ректора Люблинского университета; он был одним из немногих польских интеллигентов, переживших немецкую оккупацию. Немцы закрыли Люблинский университет, рассказал он, и разграбили его библиотеку. Но его самого назначили на низшую должность в архиве, где он должен был выискивать книги и документы, доказывающие, что эта часть Польши есть исконная немецкая территория. «Вся эта затея была совершенно бесплодной», - сказал он, однако не захотел вдаваться в какие-либо подробности этой «научно-исследовательской работы» или рассказывать о ее результатах. Профессор, хоть и в скромных масштабах, явно сотрудничал с немцами, чтобы спасти себе жизнь. И он был готов признать, что оказался одним из немногих польских интеллигентов, которым удалось спастись.
- Немецкая политика, - заявил он, - была направлена на истребление польской интеллигенции, и сейчас, когда немцев скоро выбросят вон из Польши, они хотят сделать так, чтобы наша способность к национальному возрождению была по возможности сведена к нулю. За последние несколько дней я узнал, что немцы зверски убили десятки наших профессоров, не считая многих тысяч представителей нашей интеллигенции, которые уже погибли в их концентрационных лагерях. - Он перечислил длинный список имен. - Они хотели превратить польский народ в инертную массу крестьян и батраков, лишенную руководства и утратившую всякий национальный престиж.
- А духовенство? - спросил я.
- Да, уверяю вас, церковь сделала все, что могла, чтобы сохранить в Польше чувство национальной сплоченности и национального самосознания. Но сейчас положение осложняется: большинство ксендзов симпатизирует Армии Крайовой и настроено антисоветски.
- Каково положение дел здесь, в Люблине?
- Вы, конечно, посетите завтра Майданек - это одна сторона люблинской действительности. Что же касается всего остального» то, что ж, дела налаживаются, но медленно. Люди живут в постоянной тревоге и неопределенности. Их неотступно преследует мысль, что Варшава горит и что немцы жестоко расправляются с ее населением.
- А как настроены поляки по отношению к русским?
- Вполне хорошо, - ответил он, - да, вполне хорошо. Конечно, я, может быть, более симпатизирую русским, чем большинство других поляков. Я получил образование в Петербурге; я люблю русский народ и восхищаюсь его цивилизацией. Бесполезно, однако, отрицать, что между поляками и русскими существует очень давняя традиция взаимного недоверия. Сейчас, мне кажется, русские впервые делают настоящую попытку достичь прочного взаимопонимания с поляками. Но нами, поляками, так долго помыкали, что потребуется известное время, прежде чем идея советско-польского союза сможет уложиться у нас в мозгу. К тому же сейчас распространяется масса самых злостных слухов в связи с Варшавой. Думаю, что они лишены всякого основания. Я разговаривал со многими советскими офицерами; они очень расстроены тем, что им до сих пор не удалось взять Варшаву.
Затем он заговорил о Майданеке, где за последние два года немцы уничтожили свыше полутора миллионов человек, в том числе много поляков, а также людей почти всех национальностей, но прежде всего евреев.
В последующие несколько дней я провел не один час на улицах Люблина, беседуя с самыми разными людьми. Несмотря на видневшиеся кое-где следы бомбежек, город в известной мере сохранил свое былое очарование. В воскресенье все костелы - а их, говорят, в Люблине на каждый квадратный километр больше, чем в любом другом польском городе, - были переполнены. Среди верующих, молившихся стоя на коленях, было много польских солдат. Люди здесь были одеты, пожалуй, лучше, чем в Советском Союзе, однако многие выглядели очень усталыми и истощенными; чувствовалось также, что нервы у них крайне напряжены. Полки магазинов были почти пусты, но на базаре продавалось довольно много продуктов. Однако они стоили дорого, и население города говорило о крестьянах с большим раздражением, называя их «кровопийцами»; ходило очень много разговоров и о том, как крестьяне «пресмыкались» перед немцами; достаточно было немецкому солдату появиться в польской деревне, как перепуганные крестьяне сразу тащили ему жареных цыплят, масло, яйца, сметану… Советские солдаты получили строгий приказ платить буквально за все, но крестьяне решительно не желали продавать что-либо за рубли. Жители Люблина - многие из них представляли собой очень скромно одетый трудовой люд - охотно рассказывали о немецкой оккупации; многие потеряли друзей и родных в Майданеке, у других немцы угнали родных и близких на принудительные работы в Германию. Они вспоминали также о той страшной первой зиме 1939/40 г., когда существовала настоящая торговля детьми; в Люблин прибывали поезда с детьми, родители которых были убиты или арестованы, из Познани и других оккупированных немцами мест, и у немецкого солдата за каких-нибудь тридцать злотых можно было купить ребенка, часто еле живого от голода. Они рассказывали о людях, публично повешенных на главной площади Люблина, и о камерах пыток в люблинском гестапо. «Туда мог попасть любой, - сказала пожилая женщина, похожая на учительницу. - Для этого было достаточно, чтобы немцу показалось, будто вы, проходя мимо, нехорошо на него посмотрели. Убить человека было для них столь же легким делом, как наступить на червяка и раздавить его». Во время немецкой оккупации большинство жителей Люблина голодало, и крестьяне им не помогали; да и сейчас не было никакой уверенности, что положение сколько-нибудь серьезно улучшится. Тем не менее для многих явилось приятным сюрпризом увидеть настоящих польских солдат в польской военной форме, прибывших сюда из Советского Союза: немцы всегда отрицали, что в СССР есть Польская армия. С другой стороны, многие - особенно те, кто был получше одет, - питали в отношении русских серьезные опасения и весьма симпатизировали Армии Крайовой. Задавалась, конечно, масса вопросов и о польских войсках в Италии и Франции, а прибытие в Люблин английских и американских корреспондентов произвело на многих поляков особенно сильное впечатление; десятки людей с многозначительным взглядом дарили нам цветы. Помню, один молодой человек отвел меня в сторону и обратил мое внимание на надпись «Монтекассино», сделанную крупными буквами на стене. «“Монтекассино”, - сказал он, - это победа поляков, одержанная на той стороне, и мы особенно ею гордимся… Это наши люди сделали такую надпись». - «Ваши люди? - спросил я. - Вы имеете в виду Армию Крайову?» Он утвердительно кивнул головой. «Война как будто идет хорошо, - добавил он, - однако вы понимаете, что тут имеется много “но”, много, очень много “но”…» Это был молодой человек лет двадцати трех, розовощекий и с тщательно прилизанными волосами, которые странно контрастировали с его потрепанной одеждой. При немцах он служил бухгалтером, но одновременно был активным членом польского «лондонского» подполья. Теперь, заявил он, его мобилизуют в Польскую армию.
После войны появилось много материалов, рассказывавших о немецких лагерях смерти - Бухенвальде, Освенциме, Берген-Бельзене и других, однако история Майданека, пожалуй, так и не стала известной западным читателям во всей ее полноте; к тому же Майданек занимает совершенно особое место в событиях советско-германской войны.
По мере своего продвижения русские узнавали все новые факты о зверствах немцев и о колоссальном числе их жертв. Однако эти страшные цифры относились к сравнительно обширной территории, и, хотя в общей сложности они значительно превышали число замученных в Майданеке, по ним нельзя было составить себе представления о грандиозном «промышленном» характере того, что происходило в трех километрах от Люблина, на чудовищной фабрике смерти, в существование которой трудно было даже поверить.
Да, действительно, в это было «трудно даже поверить»; когда в августе 1944 г. я послал Би-би-си подробное сообщение о Майданеке, она отказалась использовать его, считая, что это советский пропагандистский трюк; только тогда, когда войска западных союзников обнаружили Бухенвальд, Дахау и Берген-Бельзен, Би-би-си убедилась в том, что и Майданек, и Освенцим также были действительностью…
Советские войска обнаружили Майданек 23 июля - в тот же день, когда они вступили в Люблин. Примерно неделю спустя Симонов описал все увиденное им там в «Правде», но большая часть западной прессы оставила его рассказ без внимания. В СССР же он произвел потрясающее впечатление. Все слышали о Бабьем Яре, о тысячах других мест, где фашисты творили свои зверства, но здесь было нечто еще более ужасное. Майданек ярче, чем все остальное, показал истинную природу, масштабы и последствия нацистского режима в действии. Ибо здесь было огромное промышленное предприятие, где тысячи «простых» немцев трудились полный рабочий день над уничтожением миллионов других людей, участвуя в своего рода массовой оргии профессионального садизма, а может быть, - что еще хуже, - относясь в происходящему с деловитой уверенностью в том, что это такая же работа, как и любая другая. Майданек оказал огромное моральное воздействие прежде всего на Красную Армию. Лагерь смерти был показан тысячам советских солдат.
Первой моей реакцией на Майданек было чувство удивления. Я представлял его себе как нечто неописуемо страшное и жуткое. Но тут было совсем иное. Снаружи лагерь казался на редкость безобидным местом. «Неужели это и есть он?»-поразился я, когда мы остановились у ворот того, что выглядело как большой рабочий поселок. На фоне неба позади нас вырисовывались зубчатые очертания Люблина. Дорога была страшно пыльной, и трава имела тусклый зеленовато-серый цвет. Лагерь был отделен от дороги забором из нескольких рядов колючей проволоки, но он не производил особенно мрачного впечатления; таким же забором могло быть окружено любое военное или полувоенное учреждение. Территория лагеря была огромна - здесь раскинулся целый городок из бараков, окрашенных в приятный светло-зеленый цвет. Кругом виднелось множество людей - солдат и гражданских лиц. Польский часовой распахнул ворота, тоже опутанные колючей проволокой, и пропустил наши машины на центральную улицу с длинными зелеными бараками по обеим сторонам. А затем мы остановились у огромного барака с вывеской «Баня и дезинфекционная II». «Сюда, - сказал кто-то, - доставлялись многие из тех, кого привозили в лагерь».
Изнутри стены барака были покрыты цементом, из стен торчали водопроводные краны; в помещении стояли скамьи, куда складывалась одежда, которую потом собирали и уносили. Итак, это было то место, куда их сгоняли. А может быть, их любезно приглашали: «Пройдите сюда, пожалуйста»? Подозревал кто-нибудь из них, когда мылся после долгого пути, что произойдет через несколько минут? Как бы там ни было, после мытья им предлагали перейти в соседнее помещение; в этот момент даже самые далекие от подозрений начинали, очевидно, кое о чем догадываться. Ибо «соседнее помещение» представляло собой ряд больших бетонных коробок квадратной формы размером каждая примерно в одну четвертую часть банного зала; в отличие от последнего окон здесь не было. Голых людей (сначала мужчин, потом женщин, а затем детей) сгоняли из бани и заталкивали в эти темные бетонные боксы; после того как в каждый из них набивали человек по 200-250 (причем в этих камерах было совершенно темно, только в потолке имелся небольшой застекленный люк, да в дверях был устроен глазок), начинался процесс удушения людей газом. Сначала через люк в потолке нагнетался горячий воздух, после чего на людей сыпался поток красивых светло-голубых кристалликов «циклона», быстро испарявшихся в горячей влажной атмосфере. По истечении 2-10 минут все были мертвы… Таких бетонных боксов - газовых камер, расположенных рядом друг с другом, - имелось шесть. «Здесь можно было уничтожить почти две тысячи людей одновременно», - сказал одни из гидов.
Но какие мысли проносились в мозгу у всех этих людей в течение тех нескольких минут, пока на них сыпались кристаллы? Верил ли все еще кто-нибудь из них, что эта унизительная процедура, когда они стояли в битком набитом боксе, совсем голые, касаясь спинами других, совсем голых людей, имела что-нибудь общее с дезинфекцией?
Сначала было очень трудно осознать все это, не прибегая к помощи воображения. Перед нами был ряд бетонных коробок весьма унылого вида, которые в другом месте можно было бы принять - будь их двери пошире, - за ряд небольших, аккуратных гаражей. Но двери, двери! Это были массивные стальные двери, и каждая из них запиралась на тяжелый стальной засов. А в середине каждой двери был глазок, кружок диаметром три дюйма, чуть не из сотни маленьких отверстий. Могли ли люди в своих предсмертных мучениях видеть глаз наблюдавшего за ними эсэсовца? Во всяком случае, эсэсовцу нечего было опасаться - глаз его был хорошо защищен стальной сеткой, закрывавшей глазок. И подобно гордому изготовителю надежных сейфов, изготовитель этих дверей выгравировал вокруг глазка свое имя: «Ауэрт, Берлин». Вдруг мое внимание привлекла какая-то синяя надпись на двери. Она была очень бледной, но все же ее можно было разглядеть. Кто-то написал здесь синим мелом немецкое слово «vergast» и неумелой рукой набросал над ним изображение черепа и скрещенных костей. Я не знал до сих пор этого слова, но оно явно означало «газированы», то есть «умерщвлены газом». Иначе говоря, с какой-то партией людей было покончено и можно запускать следующую. Синий мелок прошелся по этому месту, когда там внутри не оставалось уже ничего, кроме кучи трупов голых людей. Но какие крики, какие проклятия, какие, быть может, молитвы раздавались в этой газовой камере всего лишь за несколько минут до того? Однако бетонные стены были толсты, и г-н Ауэрт прекрасно справился с порученным ему заданием, так что снаружи, вероятно, никто ничего не слышал. Но если бы и слышал, то какое это имело значение - ведь люди в лагере знали, что здесь происходит.
Здесь же за стенами «Бани и дезинфекционной II», в боковом переулке, выходящем на центральную улицу, трупы складывали на грузовики, покрывали брезентом и отвозили в крематорий на другом конце лагеря, примерно в полумиле отсюда. Между обоими строениями размещались десятки бараков, окрашенных в тот же светло-зеленый цвет. На некоторых были вывески, на других нет. Так, например, тут можно было увидеть бараки с вывесками «Вещевой склад» и «Склад женской одежды». В них личные вещи и одежду несчастных жертв сортировали и отправляли на центральный склад в Люблине, а оттуда в Германию.
В другом конце лагеря высились целые горы белой золы; однако, всмотревшись в них внимательно, вы могли убедиться, что это не чистая зола, ибо в ней можно было различить массу мелких человеческих костей: ключиц, суставов пальцев, осколков черепов и даже маленькую берцовую кость, которая могла быть только детской. А за этими горами была пологая равнина, на которой росла капуста - много гектаров капусты. Это были огромные, пышные кочаны, покрытые слоем белой пыли. И я услышал, как кто-то пояснил: «Слой удобрений, затем слой золы - так это у них делалось… Вся эта капуста выращена на человеческом пепле… Эсэсовцы вывозили большую часть золы на свою образцовую ферму, неподалеку отсюда. Они прекрасно наладили свое хозяйство. Эсэсовцы очень любили выращенную ими гигантскую капусту; ели ее также и узники, хотя им было известно, что почти наверняка их самих скоро превратят в капусту…»
Затем мы прошли к крематорию. Это было очень большое здание с шестью огромными печами, над которым поднималась высокая фабричная труба. Деревянная обшивка крематория, а также примыкавший к нему деревянный дом, где жил «директор крематория» оберштурмбанфюрер Мусфельд, сгорели. Мусфельд обитал здесь среди смрада сожженных и сжигаемых трупов и лично вникал во все детали совершавшейся процедуры. Все деревянные части крематория сгорели, но печи продолжали стоять, огромные, чудовищные. По одну сторону их все еще лежали кучи кокса, а с другой были дверцы, через которые в печь закладывались трупы… От этого места исходило зловоние; запах был не очень резкий, но все же это был запах разложения. Я посмотрел под ноги. Ботинки мои стали белыми от человеческого пепла, а бетонный пол вокруг печей был усеян кусками обуглившихся человеческих костей. Тут валялась и грудная клетка с сохранившимися еще ребрами, обломок черепа, а рядом с ним нижняя челюсть, в которой виднелось по одному коренному зубу с каждой стороны и ничего больше, кроме углублений между ними. Куда же девались вставные зубы? Рядом с печами лежала широкая, толстая бетонная плита, по форме напоминавшая операционный стол. Здесь специалист - быть может, медик? - осматривал каждый труп, перед тем как его отправляли в печь, и извлекал все золотые зубы и коронки, которые посылались затем д-ру Вальтеру Функу в Рейхсбанк…
Кто-то по соседству со мной разъяснял подробности устройства печей; они были выложены огнеупорным кирпичом, и температуру в них всегда следовало поддерживать около 1700°С; для этого здесь имелся инженер, по фамилии Телленер, специалист, отвечавший за поддержание в печах надлежащей температуры. Однако следы коррозии на некоторых дверцах говорили о том, что для более быстрого сжигания трупов температуру в печах поднимали выше нормальной. Пропускная способность печей позволяла сжигать в них 2 тыс. трупов в сутки, однако иногда количество замученных превышало эту цифру, и бывали такие особые дни - например день массового уничтожения евреев, 3 ноября 1943 г., - когда сразу было умерщвлено 20 тыс. человек - мужчин, женщин и детей. Умертвить их всех газом за один день было невозможно, и поэтому большинство их расстреляли и зарыли в лесу неподалеку отсюда. В ряде случаев множество трупов было сожжено за стенами крематория на огромных кострах, облитых бензином. Такие костры тлели неделями и наполняли воздух смрадом…
Стоявшие здесь, около огромного крематория с разбросанными по земле человеческими останками, молча слушали обо всех этих деталях. «Доклад о производственной деятельности крематория» становился в своей чудовищности чем-то нереальным…
Рядом с обугленными развалинами директорского дома лежали кучи больших черных жестяных банок с надписью «Бухенвальд», напоминавших большие сосуды для приготовления коктейля. Это были урны, и привезены они были сюда из другого концентрационного лагеря. Жители Люблина, потерявшие в Майданеке кого-либо из близких, пояснил кто-то, платили эсэсовцам за прах несчастных жертв огромные деньги. Это был еще один отвратительный рэкет, которым занимались эсэсовцы. Нет нужды говорить, что в каждой из этих банок была частица праха множества людей.
Неподалеку от крематория был разрыт ров 20-30 метров длиной, из которого исходило ужасное зловоние. Заглянув в него, я увидел сотни трупов обнаженных людей; у многих в затылке зияло пулевое отверстие. В большинстве это были мужчины с бритыми головами. Говорили, что это советские военнопленные.
С меня было достаточно и того, что я увидел, поэтому я поспешил присоединиться к полковнику Грошу, ожидавшему около машины на дороге. Меня все еще преследовал этот зловонный запах; сейчас казалось, что им пропитано буквально все - и пыльная трава у забора из колючей проволоки, и красные маки, которые наивно росли в окружении всего этого ужаса.
Мы с Грошем ожидали, когда вернутся все остальные из нашей группы. В это время к нам подошел польский мальчуган, босой, оборванный, в рваной фуражке, и заговорил с нами. Ему было лет одиннадцать, но он говорил о лагере с удивительной бесстрастностью - как человек, которого жизнь в непосредственной близости от лагеря смерти научила ничему не удивляться… Этот мальчик видел все, когда ему исполнилось девять лет - и десять, и одиннадцать.
«У очень многих люблинцев погиб здесь кто-нибудь из родных, - сказал он. - Наши деревенские очень тревожились, потому что мы знали о том, что происходит в лагере, и немцы грозились сжечь деревню и убить всех нас, если мы будем болтать лишнее. Не знаю, право, почему это их беспокоило, - добавил мальчуган, пожимая плечами, - ведь все равно в Люблине все было известно». И он рассказал нам кое-что из того, что видел. На его глазах десятерых заключенных избили до смерти; он видел вереницы узников, таскавших камни, и видел, как эсэсовцы добивали кирками тех, кто не выдерживал и падал. Он слышал крики старика, которого рвали полицейские собаки…
Движение на дороге было очень оживленным - сотни мужчин и женщин входили в ворота лагеря и выходили из них; мы видели большие группы советских солдат, которых привезли сюда, чтобы показать им рвы, газовые камеры и крематорий; были здесь также польские солдаты из 4-й дивизии и польские новобранцы. Их привозили в лагерь со специальной целью, чтобы они увидели все своими глазами и поняли - если они еще недостаточно это поняли, - с каким врагом они воюют.
Несколько дней назад по лагерю провели множество немецких военнопленных. Вокруг толпились польские женщины и дети, выкрикивавшие по их адресу ругательства; в толпе был полусумасшедший старик-еврей, который неистово кричал охрипшим голосом: «Детоубийцы, детоубийцы!» Вначале немцы шли по лагерю обычным шагом, потом начали идти все быстрее и быстрее, пока наконец не бросились в панике бежать, смешавшись в обезумевшую, беспорядочную толпу. Они позеленели от ужаса, руки их дрожали, зубы выстукивали дробь…
Я лишь вкратце опишу некоторые из других аспектов того огромного промышленного предприятия, какое представлял собой лагерь смерти Майданек. В нескольких километрах отсюда находился Кремшский лес, где во рвах были зарыты трупы 10 тыс. евреев, убитых в памятный день 3 ноября. В тот раз быстрота была для немцев важнее, чем «деловые соображения». Поэтому евреев расстреляли, не раздев их и не отняв даже у женщин их сумочек, а у детей игрушек. Среди разлагающихся трупов я увидел труп маленького ребенка, сжимавшего в объятиях своего мишку… Но такой метод действий был весьма необычным - твердым принципом лагеря смерти было: ничто не должно пропадать зря. Здесь имелось, например, огромное, похожее на сарай строение, где хранилось 850 тыс. пар обуви - в том числе крошечные детские ботиночки; сейчас в конце августа половины этой обуви уже не было - сотни люблинцев приходили сюда и набивали ею полные сумки.
«Как это отвратительно», - заметил кто-то.
Полковник Грош пожал плечами. «Чего вы хотите? После того как немцы пробыли здесь столько лет, люди перестали быть щепетильными. На протяжении многих лет они жили только торговлей и спекуляцией; у них нет обуви, и они говорят себе: “Это прекрасная обувь; в конце концов она кому-то достанется, - почему же не взять ее себе, пока можно?”».
Кроме того - и это было, пожалуй, ужаснее всего, - здесь имелось огромное здание, называвшееся Шопеновским складом, потому что, по странной иронии судьбы, оно находилось на улице, которая носила имя композитора. Снаружи все еще висело объявление со свастикой вверху, оповещавшее об организуемом немцами собрании:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В четверг 20 июля 1944 г.
в доме национал-социалистов в Люблине
выступает имперский представитель
член национал-социалистской партии
ГЕЙЕР
Невольно напрашивался вопрос, какие приятные известия собирался этот член национал-социалистской партии сообщить убийцам из Майданека за несколько дней до вступления в Люблин русских войск и в такой момент, когда большинство немцев, очевидно, уже укладывали чемоданы? К тому же собрание намечалось на тот день, когда на Гитлера было совершено неудавшееся покушение…
Шопеновский склад, напоминавший огромный пятиэтажный универмаг, тоже был частью колоссальной фабрики смерти в Майданеке. Здесь имущество сотен тысяч убитых людей сортировалось и упаковывалось для отправки в Германию. В одном обширном помещении были сложены тысячи больших и маленьких чемоданов; на некоторых еще сохранились аккуратно написанные ярлыки. Имелось также помещение с надписью на двери «Мужская обувь» и другое с надписью «Дамская обувь». Здесь были собраны тысячи пар обуви, причем эта обувь по качеству значительно отличалась от той, что мы видели в огромном сарае вблизи лагеря. Дальше шел длинный коридор с тысячами женских платьев и другой, где висели тысячи пальто. В одном из складских помещений были устроены широкие стеллажи, которые тянулись во всю его длину, посредине и вдоль стен. Мне показалось, что я попал в один из универсальных магазинов: здесь были сложены сотни безопасных бритв и кисточек для бритья, а также тысячи перочинных ножей и карандашей. Следующее помещение было завалено детскими игрушками: сотнями мишек, целлулоидных кукол, игрушечных автомобилей; был тут и один Мики Маус американского производства… И так далее и тому подобное. В одной из куч всякого хлама я обнаружил даже рукопись скрипичной сонаты, опус № 15 некоего Эрнста Вейля из Праги. Какая страшная история скрывалась за этой находкой?
В нижнем этаже располагалась бухгалтерия. Повсюду валялись вороха бумаг; в большинстве своем это были запросы от всевозможных эсэсовских и нацистских организаций, адресованные «Шопеновскому складу в Люблине», с просьбой выслать им то-то или то-то. Многие документы содержали заказы начальника СС и полиции в Люблине; так, в частности, аккуратно отпечатанное на машинке отношение, датированное 3 ноября 1942 г., предписывало Шопеновскому складу направить лагерю организации «Гитлерюгенд», рота 934, целый ряд предметов, перечисленных в длинном списке, - одеял, скатертей, фаянсовой посуды, постельного белья, полотенец, кухонной утвари и т.д. В письме указывалось, что все эти вещи предназначались для нужд 4 тыс. детей, эвакуированных из рейха. Был здесь и другой список вещей для 2 тыс. немецких детей, которым были нужны «спортивные рубашки, тренировочные костюмы, пальто и комбинезоны, спортивная обувь, лыжные ботинки, брюки «гольф», теплое нижнее белье, теплые перчатки, шерстяные шарфы». Склад лицемерно именовался «Люблинским пунктом сбыта подержанных вещей». В одном из писем какая-то жившая в Люблине немка просила прислать ей детскую коляску и полное приданое для новорожденного. Другой документ свидетельствовал о том, что в течение только первых нескольких месяцев 1944 г. люблинский склад направил в Германию восемнадцать железнодорожных вагонов различных вещей.
Объединенный советско-польский трибунал, рассматривавший дело о преступлениях немцев в Майданеке, заседал в помещении люблинского апелляционного суда. В состав трибунала вошло много видных польских деятелей - председатель окружного суда Шепаньский; профессор Белковский (с которым я уже встречался); полный, коренастый прелат, ксендз Крушинский; д-р Эмиль Зоммерштейн, один из руководящих деятелей Люблинского комитета и бывший депутат сейма, еврей по национальности, и А. Витое, тоже член комитета, руководитель отдела земледелия.
В своей вступительной речи польский председатель трибунала изложил историю лагеря в Майданеке; то был страшный перечень применявшихся здесь различных способов пыток и уничтожения людей. Среди лагерных эсэсовцев имелись такие, которые специализировались на «пинках в живот» или «ударам по яичкам» как одной из форм убийства. Других узников топили в прудах или привязывали к столбам и оставляли так, пока они не умирали от истощения; в лагере имело место 18 случаев людоедства даже еще до того, как 3 ноября 1943 г. он официально стал лагерем уничтожения. Председатель говорил о коменданте Майданека, оберштрумбанфюрере Вейсе, и его помощнике, отъявленном садисте Антоне Туманне, о начальнике крематория Мусфельде и многих других.
Сам Гиммлер дважды посетил Майданек и остался им очень доволен. Считают, что здесь было умерщвлено 1,5 млн. человек. Главные заправилы лагеря, конечно, бежали, но шесть человек из мелкой сошки - два поляка и четыре немца - были пойманы и через несколько недель после суда повешены.
Все четверо немцев - трое из них были эсэсовцами - являлись профессиональными убийцами. Оба поляка были в свое время арестованы немцами и «продались» последним, надеясь спасти этим свою жизнь[235].
Западная пресса и радио продолжали относиться ко всему этому скептически. Характерными примерами могли служить отказ Би-би-си использовать мой материал и появившаяся в ту пору в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» следующая заметка:
«Быть может, нам следовало бы подождать дальнейших подтверждений тех страшных известий, которые дошли до нас из Люблина. Даже в свете всего, что мы уже знали о маниакальной жестокости нацистов, этот рассказ кажется невероятным. Картина, нарисованная американскими корреспондентами, не требует комментариев; единственное, что тут можно было бы сказать, - это что режим, способный на такие злодеяния - если только все сообщенное нам соответствует истине (sic!), - заслуживает быть уничтоженным».
В те дни мне приходилось часто встречаться с членами Польского комитета национального освобождения - с его председателем Осубкой-Моравским, с генералом Роля-Жимерским и некоторыми другими. Новая Польша переживала еще младенческий возраст, и пока было освобождено менее четверти всей польской территории. Не удалось пока взять ни одного промышленного центра страны, за исключением Белостока, большая часть которого лежала в развалинах; поэтому было еще слишком рано строить сколько-нибудь широкие планы. В данный момент перед Комитетом стоял ряд неотложных проблем, таких, как нормирование продовольствия в городах, обеспечение трудящихся Польши постоянной работой на государственных предприятиях, чтобы избавить их от существования впроголодь, которое они вели при немцах, и мобилизация новобранцев в польскую армию вопреки противодействию со стороны руководителей Армии Крайовой. Ранее Осубка-Моравский встретился в Москве с Миколайчиком, и, как кажется, его тогда больше всего беспокоило то, что Англия и США продолжали поддерживать польское правительство в Лондоне.
Ни о каком слиянии «лондонского правительства» и Люблинского комитета не могло быть и речи. «Мы готовы принять Миколайчика, Грабского, Попеля и еще одного человека - но это и все», - заявил Осубка-Моравский. Он добавил также, что Люблинский комитет признает только конституцию 1921 г., тогда как «лондонские поляки» упорствуют в своей приверженности к фашистской конституции 1935 г. В отличие от американцев английский посол в Москве Кларк Керр якобы сказал ему, что он полностью одобряет конституцию 1921 г., однако его несколько смущал вопрос о том, что делать с президентом Рачкевичем.
«Я собирался посоветовать ему, куда девать Рачкевича, - продолжал Осубка-Моравский и вдруг озорно, по-мальчишески ухмыльнулся. - Во всяком случае, закончил он, - чем скорее мы возобновим переговоры с Миколайчиком, тем лучше будет для него, ибо время работает на нас. Нам очень важно прийти к какому-то соглашению, а поэтому мы и предложили ему пост премьера. Но ему не следует медлить с согласием, вторично он может такого предложения и не получить». Именно так и случилось.
(обратно)Глава IX. Румыния, Финляндия и Болгария выходят из войны
У Красной Армии было достаточно других забот, помимо Польши. В те памятные лето и осень 1944 г. сателлиты Гитлера один за другим терпели крах, и было важно ускорить этот процесс.
В течение августа 1944 г. события в Румынии следовали одно за другим с фантастической быстротой. Уже с конца весны советские войска стояли на линии, проходившей (с запада на восток) от предгорий Карпат через Молдавию и Бессарабию, несколько севернее Ясс и Кишинева, а затем вдоль Днестра к Черному морю, милях в тридцати южнее Одессы. Молдавский участок занимали войска 2-го Украинского фронта под командованием Малиновского, Бессарабский участок - войска 3-го Украинского фронта под командованием Толбухина. Они же удерживали важный плацдарм на правом берегу Днестра, южнее Тирасполя. Против них (с востока на запад) стояли 4-я румынская армия, 8-я немецкая армия, 6-я немецкая армия. Всеми этими войсками, составлявшими группу армий «Южная Украина», в которую входило до пятидесяти дивизий (из них половина румынских), командовал генерал Фриснер.
20 августа оба Украинских фронта нанесли противнику удар силами - как считали немцы - «девяноста пехотных дивизий и сорока одного танкового и трех кавалерийских соединений»[236].
Филиппи и Гейм пишут:
«Лавина была теперь приведена в движение, и уже ничто не могло остановить ее на пути в глубь румынской территории. Задача русских облегчалась тем, что половина дивизий, составлявших группу армий «Южная Украина», были румынские, и именно по ним-то русские сознательно и нанесли свои первые удары[237]. Но действительные масштабы катастрофы стали очевидны только 22 августа… В районе Кишинева была окружена 6-я немецкая армия с ее шестнадцатью дивизиями, на побережье Черного моря - 3-я румынская армия. В возникшем всеобщем смятении никто не позаботился взорвать мосты через Прут и Дунай, и теперь перед русскими лежала открытая дорога на Бухарест и в Добруджу».
Примерно так же описывают эту операцию, имевшую целью за несколько дней окончательно вывести Румынию из «гитлеровской войны», и советские авторы. В 1945 г. генерал Таленский рассказал мне в этой связи следующее:
«Немцы, державшие оборону на линии к северу от Ясс, были встревожены, поскольку эта линия находилась на нашем пути к румынской нефти и к Балканам. Они сосредоточили здесь практически все, что еще оставалось от румынской армии, входившей теперь в немецкую группу армий «Южная Украина». Немцы очень сильно укрепили свои оборонительные рубежи на этом участке, хотя фактически почти не сомневались в том, что все наше внимание привлечено к центральному фронту и что пока у них нет особых оснований для опасений[238].
Таким образом, наше наступление, начавшееся 20 августа, явилось для них полной неожиданностью… К 23 августа пятнадцать немецких дивизий были окружены. В отличие от румын, которые либо не оказывали нам никакого сопротивления, либо даже (в ряде случаев) поворачивали оружие против своих «союзников», немцы вначале ожесточенно сопротивлялись; примерно 60 тыс. их солдат и офицеров были убиты, но в конце концов мы взяли здесь 106 тыс. пленных, и среди них двух командиров корпусов, двенадцать командиров дивизий и тринадцать других генералов. Два командира корпуса и пять командиров дивизий были найдены мертвыми. Мы также захватили или уничтожили 338 самолетов, 830 танков и самоходных орудий, 5500 орудий и 33 тыс. грузовых машин… Это была классически выполненная операция».
Почти вся 6-я немецкая армия была уничтожена, но большая часть 8-й немецкой армии поспешно отступила на запад от Карпат.
22 августа советские войска овладели Яссами, 24 августа - Кишиневом; в течение следующей недели они заняли всю Восточную Румынию, а 30 августа войска Малиновского с триумфом вошли в Бухарест и в центр нефтяного района - город Плоешти. Неделю с небольшим спустя войска Толбухина вступили в Болгарию.
Тем временем политические события, назревавшие в Румынии последние несколько месяцев, стали быстро развиваться. Антонеску, который возлагал свои последние надежды на немецкие и румынские войска, оборонявшие рубеж Яссы, Днестр, имел 5 августа последнюю, безрезультатную встречу с Гитлером. Он убеждал Гитлера послать в Румынию несколько танковых соединений, однако фюрер по-прежнему не считал положение в Румынии отчаянным и все еще воображал, что за спиной Антонеску румынская армия. Полное отсутствие желания воевать против СССР, проявленное румынскими войсками 20 августа, явилось для Гитлера неожиданным сюрпризом, за которым три дня спустя последовал еще более неожиданный сюрприз, когда король Михай назначил главой правительства генерала Санатеску, а Иона Антонеску и Михая Антонеску приказал интернировать во дворце.
25 августа Наркоминдел СССР опубликовал заявление, в котором подтверждалось его заявление от 2 апреля о том, что Советский Союз не имеет намерения «изменить существующий социальный строй в Румынии», и говорилось, что если румынские войска обяжутся вести освободительную войну против немцев или против венгров, то Красная Армия не будет их разоружать. Румынские войска должны были помочь Красной Армии уничтожить немцев - это являлось «единственным средством скорого прекращения военных действий на территории Румынии и заключения Румынией перемирия с коалицией союзников».
Два дня спустя «Правда» опубликовала другое сообщение, где говорилось, что условия перемирия, отклоненные Антонеску, были теперь приняты королем Михаем и генералом Санатеску. Тогда же было сообщено, что Бухарест прочно удерживается правительством генерала Санатеску и что немецкая военная миссия во главе с генералом Ганзеном интернирована. Декларация короля Михая, сообщавшая о смене правительства и об изменении политики, вызвала в Бухаресте бурное ликование. Немцы, однако, пытались отомстить румынам, подвергнув город бомбежкам и артиллерийскому обстрелу. Тогда, как стало известно, румынские войска в Карпатах и Трансильвании повернули оружие против немцев. В то же время немцы в Трансильвании предприняли попытки сформировать марионеточное правительство во главе с Хориа Сима.
«Правда» указывала также, что советский посол в Анкаре С. Виноградов был информирован румынским посланником в этом городе о том, что новое коалиционное правительство Румынии сформировано из представителей четырех главных политических партий, руководимых Маниу, Братиану, Петреску и Патрашкану (коммунист).
Румынский посланник заявил также Виноградову, что румынское правительство готово принять условия перемирия, которые предусматривали, в частности, полный разрыв Румынии с Германией, вступление ее в войну против Германии (что уже стало фактом), восстановление советско-румынской границы 1940 г. и частичное возмещение Советскому Союзу причиненного ущерба. Советское правительство со своей стороны давало согласие на аннулирование решения гитлеровского «венского арбитража» о передаче Венгрии значительной части Трансильвании.
В течение недели после смены правительства в Румынии румынские войска всеми средствами удерживали Бухарест, хотя после ясско-кишиневского разгрома в районе Бухареста вряд ли могли быть сколько-нибудь крупные немецкие силы. Однако бомбежки и в особенности артиллерийский обстрел наносили румынской столице большой урон, и население ее боялось, что немцы предпримут контрнаступление и попытаются вновь овладеть Бухарестом. Поэтому большинство жителей столицы с чувством облегчения приветствовало вступление в нее 30 августа Красной Армии. Советская пресса писала, что Красная Армия вызвала в Бухаресте чувство «уважения и восхищения»: румын поразило количество имевшейся у нее боевой техники, и вначале они никак не могли поверить, что большая часть ее была советского производства. «Румыны исключительно предупредительны, - писал один советский корреспондент. - Стоит кому-нибудь из наших товарищей вынуть папиросу, как ему услужливо зажигают и протягивают десятки зажигалок».
В сообщениях советской печати проводилось различие между «искренней радостью простого народа Румынии» и вялым чувством облегчения, наблюдавшимся у «буржуазных бездельников», которыми изобиловал Бухарест (и которые, несомненно, предпочли бы приветствовать здесь американские и английские войска).
На том этапе Советское правительство не выдвинуло никаких возражений против состава нового румынского правительства и поспешило заключить с Румынией перемирие; однако уже вскоре после этого оно начало осуществлять сильное давление на двурушнические элементы в румынском «демократическом блоке». Под советским нажимом Санатеску был позднее заменен генералом Радеску и, наконец, значительно более «левым» Петру Гроза.
В начале сентября в Москву прибыла румынская делегация для заключения перемирия с Советским Союзом. Ее приняли со всеми почестями - чуть ли не как представителей новой союзной державы - и поместили в государственный особняк в переулке Островского, где она жила на широкую ногу.
Хотя возглавлял делегацию князь Стирбей, который несколько ранее в том же году установил контакт с англичанами в Каире, переговоры вел в основном один из коммунистических лидеров, новый министр юстиции Патрашкану, человек энергичный и способный, обладавший большим личным обаянием.
На устроенных им пресс-конференциях Патрашкану красочно описал государственный переворот 23 августа. Он отметил также героические подвиги, совершенные румынскими войсками в те дни, когда немцы бомбили и обстреливали Бухарест, и закончил заявлением, что румыны - миролюбивый, демократически настроенный народ, в глубине души всегда ненавидевший немцев.
В сентябре делегации на переговоры по заключению перемирия прямо-таки стояли в очереди, ожидая, когда их примет Москва. Едва уехали румыны, как на прием записались финны. Перемирие с Румынией было подписано 12 сентября, с Финляндией - 19 сентября. А затем настала очередь болгар.
В июне, после овладения Выборгом, Красная Армия остановилась у советско-финской границы 1940 г. и дальше не пошла. Советское командование как бы давало финнам возможность подумать. Но и финны не желали действовать второпях.
По-настоящему они встревожились только тогда, когда советские войска вступили в Эстонию. А вдруг они вздумают высадить в самых жизненно важных районах Финляндии десанты из Эстонии, перебросив их через Финский залив? В первую неделю августа президент Рюти, главный инициатор недавно заключенного в качестве последней, отчаянной меры соглашения с Германией, по условиям которого финны обязались не вести сепаратных мирных переговоров без ведома Германии, подал в отставку; пренебрегая обычной в таких случаях процедурой, финский парламент принял вслед за тем закон о передаче президентских полномочий фельдмаршалу Маннергейму. 17 августа в Хельсинки внезапно прибыл Кейтель и Маннергейм сообщил ему, что соглашение Рюти - Риббентроп «утратило силу».
25 августа финский посланник в Стокгольме вручил советскому посланнику в Швеции А.М. Коллонтай ноту с просьбой принять в Москве финскую делегацию для ведения переговоров о заключении перемирия. Советское правительство согласилось принять такую делегацию при условии, что Финляндия открыто заявит о своем разрыве с Германией и потребует вывода из Финляндии немецких войск не позднее 15 сентября. Если бы немцы отказались это сделать, финны должны были бы разоружить немецкие войска и передать их союзникам как военнопленных. В советской ноте отмечалось, что она посылается по договоренности с Англией и при отсутствии возражений со стороны США.
Хотя финны и пытались оставить для себя лазейку в вопросе о «разоружении» немецких войск, между ними и русскими была все же достигнута договоренность о прекращении 4 сентября военных действий на участке вдоль советско-финской границы 1940 г.
8 сентября в Москву прибыла финская делегация, 16-го прибыл ее руководитель - К. Энкель, а 19 сентября соглашение о перемирии было подписано. С советской стороны руководить переговорами было поручено А.А. Жданову, который вскоре после того возглавил Союзную контрольную комиссию в Хельсинки. Выплата Советскому Союзу репараций на сумму 300 млн. долларов товарами (самое тяжелое из условий перемирия) была рассрочена на шесть лет, причем позднее этот срок был продлен до восьми лет. Восстанавливалась граница 1940 г., и Советский Союз отказался от аренды полуострова Ханко; вместо этого он получил в аренду район Порккала-Удд, всего в нескольких километрах от Хельсинки, в качестве военно-морской базы[239]. Область Петсамо с ее никелевыми рудниками и выходом в Северный Ледовитый океан, добровольно уступленная Финляндии в 1920 г., теперь возвращалась Советскому Союзу. Потеря части Карелии и Петсамо означала необходимость переселения в Финляндию около 400 тыс. человек, не пожелавших терять финляндское гражданство, а также утрату значительных массивов строевого леса и многих источников гидроэнергии. Согласие СССР не оккупировать Финляндию представляло собой проявление его доброй воли по отношению к финнам и жест, призванный успокоить возможную тревогу всех Скандинавских стран вообще.
Когда Жданов, который в свое время руководил обороной Ленинграда, отправился в Хельсинки, он, соблюдая все правила этикета, в течение двух с половиной часов совещался с Маннергеймом, объектом великого множества чрезвычайно злых русских карикатур; а в октябре Сталин послал дружественное послание обществу «Финляндия - Советский Союз» в Хельсинки, чьим председателем стал не кто иной, как сам новый премьер Паасикиви.
В конечном счете финны не приняли особенно решительных мер к «разоружению» немцев, и никаких настоящих боевых действий между финскими и немецкими войсками, по-видимому, не было. Фактически немцы ушли из большинства районов Северной Финляндии по собственной воле, после того как сожгли там все города и деревни (отстроенные впоследствии с помощью ЮНРРА). Все боевые действия, какие там происходили, велись советскими войсками Карельского фронта под командованием маршала К.А. Мерецкова; они прорвали мощную оборону немцев к западу от Мурманска, после чего взяли Петсамо и Киркенес[240] (последний на территории Норвегии). Немцы сожгли в Северной Норвегии все, что было на их пути, а затем погрузились на суда и уплыли. Остальная территория Норвегии оставалась оккупированной немцами вплоть до мая 1945 г. Однако тот факт, что Красная Армия освободила часть этой страны, хотя и небольшую, способствовал укреплению дружественных отношений между СССР и Норвегией.
История выхода из войны Болгарии может быть изложена весьма кратко. Хотя Англия и США находились в состоянии войны с Болгарией, Советский Союз с ней не воевал, и в Москве (или в Куйбышеве) в течение всей войны находился болгарский посланник. Немцы использовали Болгарию как источник сырья и военно-морскую базу, но советские руководители, учитывая широко распространенное в болгарском народе чувство симпатии к России и слабость болгарского правительства, долгое время проявляли к этой стране большую терпимость, несмотря даже на серьезные провокации (например, когда немцы свободно использовали болгарские порты во время эвакуации своих войск из Крыма). Но к августу 1944 г. положение изменилось. Когда Красная Армия начала свое наступление в Румынии, несколько вооруженных немецких судов ускользнули в болгарские порты и не были интернированы. В этих портах, как утверждалось, укрылись и германские подводные лодки.
26 августа болгарский министр иностранных дел Драганов выступил с заявлением о «нейтралитете» Болгарии и обещал, что все немецкие солдаты в Болгарии будут разоружены, если они откажутся покинуть страну.
Правительство СССР сочло это недостаточным и 5 сентября объявило Болгарии войну. Три дня спустя войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Ф.И. Толбухина вступили в Болгарию. Они не встретили здесь никакого сопротивления; народ Болгарии восторженно приветствовал Красную Армию. На следующий день в результате антифашистского восстания в Софии было сформировано правительство Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым, которое объявило Германии войну. Бескровная двухдневная советско-болгарская война окончилась. Болгарское правительство направило послания с выражением братских чувств Тито, а болгарская армия готовилась начать военные действия против немцев. Революционный энтузиазм носил в Болгарии более глубокий и всеобщий характер, чем в Румынии.
Не прошло и нескольких недель, как советская печать с удовлетворением отметила, что в Болгарии повсеместно учреждены народные суды для рассмотрения дел военных преступников и что болгарская армия очищена от всех фашистских элементов.
28 октября в Москве состоялось подписание соглашения о перемирии между союзниками и Болгарией.
Установление контакта между Красной Армией и Народно-освободительной армией Югославии произошло в конце сентября. 29 сентября в советской печати было опубликовано сообщение ТАСС, в котором указывалось, что, для того чтобы иметь возможность нанести удар по немецким и венгерским войскам в Венгрии с юга, советское командование просило Национальный комитет освобождения Югославии дать согласие на вступление Красной Армии на югославскую территорию. 4 октября было объявлено, что советская и югославская армии соединились в одном из городов (название его не указывалось) в долине Дуная.
20 октября войска Толбухина вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии при всенародном ликовании вступили в Белград.
В тот же день войска Малиновского заняли город Дебрецен в Восточной Венгрии. С этого момента, однако, темпы роветского наступления в Венгрии, вначале быстрые, несколько замедлились в результате чрезвычайно упорного сопротивления немецких и венгерских войск; особенно ожесточенным это сопротивление стало, когда Красная Армия в ноябре подошла к Будапешту.
К этому времени немцы сорвали попытку Хорти повторить «то же, что сделал с ними король Михай», и во время состоявшейся в начале декабря встречи Гитлера с лидером венгерских фашистов Салаши было решено удерживать Будапешт «любой ценой». Но, хотя немцы и заявили о своей решимости удерживать Будапешт, было известно, что многие промышленные предприятия города эвакуировались в Австрию.
Создание на оккупированной Красной Армией территории Венгрии хотя бы ядра демократического режима потребовало известного времени. Только 20 декабря было объявлено о создании в Дебрецене - «древней цитадели идей венгерской независимости», где в 1849 г. Кошут провозгласил независимость Венгрии, - Временного национального собрания. Два дня спустя было сформировано Временное национальное правительство Венгрии; коммунисты в него не вошли. Премьер-министром стал генерал Миклош; другие посты заняли крестьянский лидер Ференц Эрдеи, Янош Дьендеши, граф Геза Телеки и генерал Янош Вереш - министр обороны, приспешник Хорти, который с апреля 1944 г. являлся начальником венгерского генерального штаба, был затем арестован немцами, но ухитрился бежать. Этому сборищу венгерских господ, лебезивших перед победителями, не суждено было долго оставаться у власти.
В эту же богатую важными событиями осень 1944 г. в «независимой» Словакии произошло массовое антифашистское восстание словацких партизан при поддержке соединений Красной Армии и части словацкой армии. Немцы перебросили в Словакию крупные силы и в конце концов подавили восстание, однако части партизан удалось скрыться в горах. Словацкие повстанцы и советские войска, сражавшиеся в Карпатах в невероятно трудных условиях, понесли очень тяжелые потери.
(обратно)Глава X. Второй визит Черчилля в Москву
Второй визит Черчилля в Москву и его переговоры со Сталиным протекали с 9 по 18 октября 1944 г. В эти дни Красная Армия продолжала наступление в Эстонии и Латвии на севере; южнее войска генерала Черняховского впервые ступили на немецкую землю в восточной части Восточной Пруссии. Однако Черчилля больше всего интересовали и тревожили, во-первых, польская проблема и, во-вторых, проникновение Красной Армии на Балканы и в Центральную Европу, под которой он имел в виду прежде всего Венгрию.
Он был готов списать со счетов Румынию и Болгарию как страны, вошедшие в «советскую сферу влияния», но отнюдь не намеревался поступить подобным образом в отношении Югославии, Венгрии, а главное - Греции. Греческий и югославский короли искали у Англии поддержки, и, хотя советские войска ежедневно теряли в тяжелых боях в Венгрии тысячи людей, Черчилль считал, что Венгрия, как и Югославия, должна стать по меньшей мере предметом компромисса между Востоком и Западом.
Как писал сам Черчилль, отношения между ним и Сталиным - даже если смотреть на них сквозь призму последующих событий - никогда не были такими хорошими, как во время этого его октябрьского визита в Москву. Незадолго до того он приложил все усилия, чтобы польстить советским руководителям, заявив, что Красная Армия «выпустила кишки» из гитлеровской военной машины. Английский посол Арчибальд Кларк Керр горячо хотел, чтобы посещение Москвы Черчиллем и Иденом прошло с блестящим успехом и явилось в некотором роде его личной победой. Поскольку английские государственные деятели были гостями Советского правительства, Кларк Керр (правда, по указанию Черчилля) организовал прием, и Сталин впервые в своей жизни посетил английское посольство. Посол употребил также все свое дипломатическое искусство и личное обаяние по отношению к обеим группировкам поляков. Он старался быть особенно любезным с Берутом и Осубкой-Моравским, которых оскорбляло пренебрежительное обращение с ними Черчилля и Идена. Кларк Керр надеялся также, что во время этого визита Черчилля и Идена он сумеет убедить Миколайчика еще раз вернуться в Москву после кратковременного пребывания в Лондоне, а затем немедленно отправиться в Польшу, чтобы сформировать там новое правительство. Когда Миколайчик все же не возвратился в Москву, Кларк Керр почувствовал себя глубоко задетым.
Внешне англо-советские переговоры проходили в беспрецедентной атмосфере сердечности; когда Черчилль и Сталин появились в правительственной ложе Большого театра, публика приветствовала их восторженной овацией, не смолкавшей несколько минут.
18 октября, перед завершением своего московского визита, Черчилль принял в огромном кабинете посла представителей прессы.
«Когда я приезжал сюда в прошлый раз, - заявил Черчилль, - Сталинград все еще находился в осаде и противник стоял в 80-95 километрах от Москвы, а от Каира даже еще ближе. Это было в августе 1942 года… С тех пор события приняли иной оборот, мы одержали не одну блестящую победу и покрыли огромные расстояния…
Снова вернувшись сюда, я нашел здесь замечательную атмосферу надежды и уверенности в том, что испытаниям придет конец… Нам предстоит еще немало жестоких боев. Противник сопротивляется организованно и отчаянно, и лучше, если мы будем трезво оценивать те темпы, какими может быть достигнута окончательная победа на Западном фронте. Но мы ежедневно получаем хорошие новости, и поэтому нам трудно не быть слишком оптимистичными».
Упомянув о «кольце из огня и стали», смыкающемся вокруг Германии, и о голоде, холоде и лишениях, которые она сейчас испытывает, Черчилль сказал, что его совещания с маршалом Сталиным серьезно содействовали прекрасной слаженности межсоюзнических отношений. В ходе нынешних московских переговоров «мы вникли самым глубочайшим образом в волнующие проблемы, связанные с Польшей, и я считаю себя вправе утверждать, что нам удалось достигнуть совершенно конкретных результатов и существенно уменьшить наши расхождения. С польской проблемой обстоит сейчас лучше, чем прежде, и у меня есть достаточные основания надеяться, что мы в конце концов достигнем полного согласия между всеми заинтересованными сторонами. Нельзя, конечно, допустить, чтобы Польша стала уязвимым местом в наших делах. Мы, англичане, начали войну из-за Польши и испытываем к ней большие симпатии. Сейчас, когда Польша будет в ближайшее время освобождена огромными, мужественными усилиями наших союзников, Англию особенно интересует ее будущая судьба». Он ни словом не упомянул о варшавской трагедии и о ее страшном конце, наступившем всего за какие-нибудь две недели до этого.
Далее Черчилль упомянул об «удивительных событиях», происходивших на Балканах, и заявил, что решить какую бы то ни было из балканских проблем путем переписки было очень трудно, и это обстоятельство послужило еще одной важной причиной его приезда в Москву. Идену здесь «пришлось нелегко». Однако нам удалось достичь весьма ощутимых результатов в согласовании политики обоих наших правительств в этих районах. Затем он заговорил о той атмосфере «дружбы и товарищества», какой были отмечены московские переговоры.
«Армии обеих наших стран воюют на фронте, и я рад, что русские не испытывают более чувства горечи от сознания, что они несут всю тяжесть войны на себе… Единство - существенное условие для обеспечения прочного мира. Устремим наш мысленный взор за пределы линии фронта и представим себе тот день, когда произойдет безоговорочная капитуляция Германии, когда Германия окажется поверженной в прах и будет ожидать решения возмущенных народов, спасших себя от той страшной гибели, которую готовил для них Гитлер».
Он закончил чисто черчиллевской тирадой на тему об англо-советско-американской дружбе:
«Дружба эта может спасти весь мир как в период войны, так и в мирное время, и, пожалуй, она представляет собой то единственное, что способно обеспечить мир нашим детям и внукам. С моей точки зрения, это легко достижимая цель. Хороши, очень хороши наши дела на фронте, очень хороша работа, идущая в тылу, и прекрасны открывающиеся перед нами перспективы увековечить плоды нашей победы».
Присутствовавшие на пресс-конференции русские были очень довольны заявлением Черчилля; они увидели в Черчилле твердого сторонника согласованной политики Большой тройки.
Конечно, не все шло совершенно гладко; продолжительные переговоры с Миколайчиком, Ромером и Грабским, с одной стороны, и с представителями Польского комитета национального освобождения - с другой, не принесли действительного успеха; не очень ясен был и вопрос о Балканах, если не считать того, что Советский Союз не собирается вводить свои войска в Грецию. Тем не менее имелись и определенные положительные результаты, в частности, в вопросе о будущем устройстве Германии. Но самое главное, Черчиллю удалось добиться от Сталина довольно конкретных заверений в том, что СССР вступит в войну с Японией не позже чем через три месяца после разгрома Германии.
Таким образом, результаты московских переговоров были одновременно и хорошими и плохими. Тем не менее создавалось впечатление, что между Англией и Советским Союзом наладились сейчас прекрасные отношения.
Исключительная сердечность во взаимоотношениях между Черчиллем и Сталиным нашла свое отражение в тех посланиях, которыми они обменялись в период московского визита и сразу после него.
В течение всего визита Сталин всячески старался показать Черчиллю и Идену свое величайшее дружелюбие; он даже сам поехал проводить их на аэродром. Подобных знаков внимания он не оказывал никому со времени визита в Москву Мацуока в 1941 г. В коммюнике об итогах переговоров отмечался «значительный успех в отношении решения польского вопроса» и утверждалось, что переговоры значительно сократили расхождения и рассеяли недопонимание. В коммюнике объявлялось также о достижении договоренности в отношении условий перемирия с Болгарией, а также договоренности о проведении совместной политики в Югославии. Югославия, конечно, будет иметь право сама «решить вопрос о своем будущем государственном устройстве», пока же речь шла об объединении Национального комитета освобождения Югославии с королевским югославским эмигрантским правительством.
(обратно)Глава XI. Генерал де Голль в Москве
Визит де Голля в Москву в декабре 1944 г. имеет долгую предысторию. В период действия советско-германского пакта Советский Союз установил дипломатические отношения с вишистским правительством, хотя посол последнего Гастон Бержери прибыл в Москву только 25 апреля 1941 г., то есть после вторжения немцев в Югославию. Когда Бержери в присутствии Молотова вручил свои верительные грамоты Калинину и обратился к СССР с призывом «принять участие в организации «нового порядка» в Европе», советские руководители в ответ на его речь не проронили ни слова. На следующий день советский посол в вишистской Франции Богомолов, случайно находившийся в то время в Москве, позвонил Бержери и объяснил ему «с идеологических позиций», почему Советский Союз не считает возможным согласиться с германской гегемонией в Европе[241]
С того момента, как немцы вторглись в пределы Советского Союза, Советское правительство, разумеется, разорвало дипломатические отношения с Виши. Первые непосредственные контакты между «Свободной Францией» и СССР были установлены еще в начале августа 1941 г. по инициативе де Голля; неофициальный представитель де Голля в Турции Жув посетил советского посла в этой стране С. Виноградова и информировал его, что де Голль, которого он как раз перед тем видел в Бейруте, желал бы направить в Москву двух-трех представителей «Свободной Франции». Не настаивая на признании - официальном или неофициальном - движения «Свободная Франция» Советским правительством, де Голль вместе с тем стремится установить с русскими непосредственные связи, вместо того чтобы сноситься с ними, как это делалось до тех пор, через англичан. Согласно советскому сообщению о встрече Жува с Виноградовым, Жув заявил, что как Советский Союз, так и Франция являются, с точки зрения де Голля, континентальными державами, проблемы и цели которых отличны от проблем и целей англо-саксонских государств. При этом Жув добавил:
«Генерал де Голль очень много говорил о Советском Союзе. Он сказал, что вступление СССР в войну является для нас шансом, на который мы раньше не надеялись. Конечно, нельзя сейчас точно определить, когда будет достигнута победа, но генерал де Голль выражал безусловную уверенность в том, что немцы в конце концов будут разгромлены»[242].
На той же неделе профессора Кассен и Дежан обратились к советскому послу в Лондоне Майскому по вопросу об установлении «тех или иных официальных отношений» между Советским Союзом и «Свободной Францией». Они высказали мысль, что эти отношения могли бы быть установлены в такой же форме, в какой они существовали между «Свободной Францией» и английским правительством. 26 сентября 1941 г. Майский уведомил де Голля, что Советское правительство признает его как руководителя всех примкнувших к нему «свободных французов», «где бы они ни находились». Правительство СССР выразило также готовность оказать «Свободной Франции» всестороннюю помощь и содействие в общей борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками[243].
Де Голль почти с самого начала желал, чтобы военное сотрудничество между «Свободной Францией» и Советским Союзом приняло осязаемую форму, и хотел направить в СССР французскую дивизию, дислоцировавшуюся в то время в Сирии. Но такое намерение, по-видимому, вызвало возражения со стороны англичан, и в апреле 1942 г. Дежан предложил вместо этого направить в Советский Союз для начала тридцать французских летчиков и тридцать человек наземного персонала.
Так была заложена основа для создания французской эскадрильи «Нормандия», которая прибыла в Россию в конце того же года. Конечно, это были ничтожные силы, но они явились важным политическим фактором и символическим связующим звеном между СССР и французским движением Сопротивления. Французские летчики доблестно сражались на Восточном фронте, понесли тяжелые потери и были щедро награждены советскими военными орденами и медалями. Боевые действия этой французской авиационной части широко освещались в советской печати.
В марте 1942 г. в Москву прибыла небольшая дипломатическая миссия, возглавляемая Роже Гарро, и с генералом Э. Пети в качестве военного атташе. Гарро (по крайней мере тогда) был твердым сторонником де Голля и в своих беседах с русскими некогда не делал секрета из разногласий между де Голлем, с одной стороны, и англичанами и американцами - с другой[244].
Гарро (подобно де Голлю) придавал поддержке, оказываемой СССР «Свободной Франции», большое значение. 26 марта 1943 г. он даже заявил Молотову, что Французский национальный комитет черпает для себя в позиции Советского правительства чувство ободрения. «Без этого ободрения Сражающаяся Франция не пережила бы трудных ноябрьских дней, когда в Африке делались попытки создать другое правительство…»[245]
В июне 1943 г. встал вопрос о признании Французского национального комитета освобождения в Алжире, и 23 июня Черчилль в письме Сталину сообщил, что он «с тревогой» узнал о намерении Советского правительства признать этот комитет[246]. Под нажимом англичан и американцев признание комитета было отложено, но когда в августе 1943 г. оно все же состоялось, советская «формула» признания была значительно короче и честнее, чем английская и американская с их многочисленными условиями и оговорками. После того как в августе 1944 г. правительство де Голля обосновалось наконец в Париже, русские стали торопить Англию и США со скорейшим признанием Временного французского правительства. Таким образом, у де Голля имелись в общем все основания быть довольным поддержкой, которую Советское правительство оказывало ему уже с 1941 г.
Решение де Голля отправиться в конце 1944 г. в Москву для встречи со Сталиным в значительной степени было обусловлено чувством раздражения и досады, которое вызывали у него англичане и американцы своими «хозяйскими манерами» во Франции, а также его желанием показать, что он проводит независимую политику и не является ничьим сателлитом. Советский Союз со своей стороны был заинтересован во Франции в силу того, что руководящую роль в движении Сопротивления там играли коммунисты и что влияние последних начинало уже сказываться и внутри французского правительства.
Визит де Голля в Москву явился прежде всего шагом к тому, чтобы покончить с чрезмерной зависимостью Франции от Англии и США. В тот доатомный период де Голль продолжал считать Францию и СССР - как это он делал уже в 1941 г. - теми двумя великими военными державами на Европейском континенте, которые смогут в будущем гарантировать Европу от повторения германской агрессии и чьи взгляды и интересы отличаются от взглядов и интересов «англосаксонских» государств. Но именно в этом вопросе Сталин в 1944 г. никак не мог согласиться с де Голлем - по той простой причине, что с чисто военной и экономической точек зрения Франция по сравнению с Англией и Америкой была совсем незначительной величиной. Таким образом, к большому разочарованию де Голля, Сталин отказывался на том этапе всерьез принимать Францию как военного союзника. Однако в итоге де Голль «одержал победу», увезя с собой в Париж франко-советский договор о союзе, составленный по типу англо-советского договора 1942 г. Но это было далеко не все, чего вначале рассчитывали добиться как де Голль, так и Сталин.
Де Голль, Бидо, генерал Жюэн и несколько дипломатов прибыли в Москву 2 декабря, проехав через Баку и Сталинград. В Сталинграде де Голль преподнес городу мемориальную доску с надписью: «Сталинграду благодарная Франция». В своей речи де Голль сказал: «Я хочу воздать должное Сталинграду и отметить тот урок, который он нам дает. Я передаю горячий привет сражающегося французского народа героическому Сталинграду - символу наших общих побед над врагом».
Записи трех бесед между Сталиным и де Голлем 2, 6 и 8 декабря (опубликованные советским Министерством иностранных дел в 1959 г.), равно как и записи переговоров между Молотовым и Бидо[247], представляют огромный интерес, поскольку они и по существу, и в особенности по скрытому в них подтексту значительно отличаются от трактовки этих событий де Голлем, который излагает их несколько вольно. Они также являются одним из немногих непосредственных свидетельств того, как Сталин вел переговоры с политическими деятелями других стран в период войны.
Во время своей первой встречи со Сталиным де Голль начал с замечания, что истинной причиной несчастий, постигших Францию, было отсутствие у нее договора с СССР и то обстоятельство, что ее восточная граница была очень уязвимой.
Да, ответил на это Сталин, тот факт, что СССР и Франция не были вместе, стало большим несчастьем и для Советского Союза.
Сталин спросил, достаточно ли у де Голля летчиков.
Де Голль ответил, что у него очень мало летчиков, а те летчики, которые находились во Франции, нуждаются в переобучении, так как они не знают современных самолетов.
Сталин сказал, что на советском фронте хорошо сражается авиационный полк «Нормандия», укомплектованный французскими летчиками.
Затем де Голль сделал попытку перейти к более серьезным делам. И для Франции и для СССР явилось бы хорошим решением, сказал он, если бы Рейнско-Вестфальская область была присоединена к Франции. Для Рурского бассейна, может быть, и следовало бы установить международный режим, но Рейнско-Вестфальская область должна быть отделена от Германии и присоединена к французской территории.
Сталин спросил у него, как смотрят на этот план Англия и Америка; де Голль ответил, что в 1918 г. они не приняли такого предложения и нашли временное решение вопроса, которое не было успешным. В результате Франция снова подверглась нападению. Быть может, урок этот не прошел для Англии и Америки даром, но он в этом не уверен.
«Сталин говорит, что, насколько ему известно, в английских кругах рассматривалась другая комбинация, а именно - предложение взять Рейнско-Вестфальскую область под международный контроль. То, что сказал де Голль, является новым… Сталин говорит, что нужно узнать мнение союзников по этому вопросу.
Де Голль говорит, что он надеется, что этот вопрос может быть обсужден в Европейской консультативной комиссии.
Сталин говорит, что России трудно возражать против этого».
Затем де Голль подверг резкой критике Англию и Америку. Англичане и американцы ни исторически, ни географически не находятся на Рейне, заявил он. У них есть другие заботы, и французы и русские заплатили за это дороже всех. И хотя сейчас они и ведут там боевые действия, они не всегда будут на Рейне, тогда как Франция и СССР всегда останутся на своих местах. Решительное вмешательство Англии и Америки в войну всегда происходило в специфических условиях - когда было уже слишком поздно, - в результате Франция оказалась в 1940 г. на краю гибели.
Рассуждения де Голля не убедили Сталина. Сил только СССР и Франции, с его точки зрения, недостаточно, чтобы обуздать германских милитаристов. Это доказано опытом двух мировых войн. Сами по себе границы не имеют еще решающего значения - важно было располагать хорошей армией, укомплектованной надлежащими командными кадрами. Полагаться на линию Мажино или на гитлеровский Восточный вал было иллюзией.
Поскольку генерал продолжал настаивать на своем, Сталин «просит де Голля понять его. Дело в том, что мы, русские, не можем решить этот вопрос одни, не побеседовав с англичанами и американцами. Не только такой, но и многие другие вопросы мы не можем решать без своих союзников и без попыток прийти к общему решению».
Явно не удовлетворенный всеми этими аргументами, де Голль попытался подойти к вопросу с другой стороны, заговорив о восточных границах Германии.
«Де Голль говорит, что, насколько он понимает, Одер должен явиться границей Германии, а дальше к югу граница должна идти по реке Нейсе, то есть западнее Одера…
Сталин говорит, что он думает, что исконные польские земли должны быть отданы полякам. Силезия, Померания, Восточная Пруссия должны быть возвращены Польше…
Что касается Чехословакии, то… ее восточная граница в районе Судет должна быть восстановлена».
Во время визита де Голля и Бидо Сталин, что весьма знаменательно, поддерживал регулярную связь с Черчиллем. На следующий же день после своей первой встречи с де Голлем он телеграфировал Черчиллю и сообщил ему, что информировал де Голля о том, что вопрос о западной границе Германии нельзя решать без ведома и согласия Англии и США. Что же касается предложения о франко-советском пакте, продолжал Сталин, то он указал де Голлю на необходимость всестороннего изучения этого вопроса. Черчилль в ответной телеграмме писал, что он отдал бы предпочтение трехстороннему договору.
Вопрос о признании Францией Польского комитета национального освобождения был поставлен наркомом иностранных дел СССР 5 декабря, во время его встречи с Бидо.
Во время второй встречи между Сталиным и де Голлем, б декабря, главной темой беседы стала Польша. Де Голль напомнил о старых культурных и религиозных узах, связывающих Францию и Польшу, и (не обмолвясь ни словом об антисоветском санитарном кордоне) заявил, что в 1918 г. Франция пыталась возродить Польшу как врага Германии, как страну, которая будет настроена против Германии. К сожалению, сказал он, такие люди, как Бек, стремились вступить с Германией в соглашение, направленное против Советского Союза и Чехословакии. Он же [де Голль] не имеет никаких возражений ни против линии Керзона, ни против границы по Одеру и Нейсе.
Он не имел возражений также и против англо-франко-советского блока, но дал понять, что предпочел бы для начала прямой франко-советский пакт.
Сталин (по-прежнему все время консультировавшийся с Черчиллем) заявил, что, как он думает, это дело завершится на днях. Но ему хотелось бы вернуться вместо этого к вопросу о Польше. Он надеялся, что Франция займет в отношении Польши более реалистическую позицию, чем позиция Англии и США. Английское правительство, к сожалению, запуталось в своих связях с польским эмигрантским правительством в Лондоне и с Михайловичем, который «скрывается где-то в Каире». Сидящие в Лондоне поляки занимаются министерской чехардой, в то время как Польский комитет национального освобождения проводит земельную реформу, подобную той, которую осуществила в конце XVIII в. Франция. И он стал доказывать, что лондонское правительство все больше теряет свой авторитет в Польше. При этом он довольно долго говорил о том, какой «авантюрой» было Варшавское восстание, сказав, что Красная Армия не могла в то время взять Варшаву, потому что, когда Красная Армия подошла к Варшаве, ее артиллерия и снаряды отстали на 400 км.
Де Голль не был убежден в том, что лондонское правительство «потеряло авторитет» в Польше, и сказал, что, каковы действительные настроения польского народа, станет более ясно, когда будет освобождена вся страна.
7 декабря Сталин телеграфировал Черчиллю, что он и его коллеги одобрили идею Черчилля о заключении трехстороннего англо-франко-советского пакта и предложили его на рассмотрение французов, однако пока еще не получили от них ответа.
8 тот же день Бидо сказал Молотову, что Францию не устраивает простое присоединение к англо-советскому договору, - это могло навести на мысль, что Франция будет в этом пакте чем-то вроде младшего партнера. Молотов отмахнулся от такого довода и вернулся к вопросу о признании французами Польского комитета национального освобождения. Об этом аспекте франко-советских переговоров Сталин не информировал Черчилля, хотя английское посольство в Москве было, конечно, более или менее в курсе происходящего.
Во время своей третьей встречи со Сталиным, 8 декабря, де Голль снова заявил, что вопрос о Германии имеет для Франции важнейшее значение и что, «поскольку останется германский народ, постольку останется и германская угроза». И он снова начал говорить о границе по Рейну. Франция и Россия, говорил он, должны объединить свои силы. Англию, которая «всегда и везде опаздывает», можно рассматривать только как «второй этаж безопасности», а Америку - как «третий этаж». В момент большой опасности нельзя рассчитывать ни на ту, ни на другую, и в случае заключения трехстороннего договора англичане неизбежно будут тормозить всякие немедленные действия.
Сталин согласился с тем, что прямой франко-советский пакт сделал бы Францию более независимой от «некоторых стран», но, поскольку СССР и Франции было бы трудно одним выиграть войну, он все же отдает предпочтение трехстороннему пакту.
Де Голль возразил, что это «нефранцузская точка зрения», в нынешних условиях трехсторонний пакт подчеркнул бы подчиненное положение Франции перед Англией. Франции было бы лучше иметь договор с СССР. У Франции нет никакой уверенности в том, какую позицию Англия займет по отношению к Германии в будущем. К тому же французы ожидают, что у них будут трудности с англичанами на Востоке, а, может быть, также и на Дальнем Востоке.
Сталин заметил в ответ, что идея тройственного договора принадлежала Черчиллю, а он и его коллеги согласились с английским предложением. Правда, Черчилль не наложил вето на франко-советский пакт, но все же отдавал предпочтение трехстороннему договору.
«Если теперь отложить пакт трех, - продолжал Сталин, - то Черчилль обидится…» Однако поскольку французы так настаивают на заключении прямого франко-советского пакта, то он предлагает следующее: «Пусть французы окажут нам услугу, а мы окажем им услугу. Польша - это элемент нашей безопасности… Пусть французы примут представителя Польского комитета национального освобождения в Париже, и мы подпишем двусторонний договор. Черчилль обидится, но что поделаешь.
Де Голль говорит, что Сталин, вероятно, иногда обижает Черчилля.
Сталин говорит, что иногда он обижает Черчилля, а иногда Черчилль его обижает. Когда-нибудь будет опубликована переписка между Черчиллем и им, Сталиным, тогда де Голль увидит, какими посланиями они иногда обменивались».
После этого, по-видимому, возникло неловкое молчание, а затем Сталин внезапно задал де Голлю вопрос, когда тот намеревается вернуться во Францию. Де Голль ответил, что рассчитывает уехать через два дня.
После не совсем относящегося к делу разговора об авиационном заводе, который посетили французские гости, де Голль заметил, что он очень сожалеет, что не имеет возможности заключить двусторонний франко-советский договор и что придется начинать переговоры о тройственном пакте. Он понимает политику Сталина в польском вопросе, но ему совершенно неясно, что представляет собой Польский комитет национального освобождения.
Атмосфера, в которой закончилась встреча, была весьма прохладной.
Позднее в тот же день Бидо нанес визит Молотову и сказал, что с Польским комитетом национального освобождения, по-видимому, произошло некоторое «недоразумение». Так или иначе, де Голль намечает встретиться на следующий день с руководителями этого комитета. Молотов выразил надежду, что такая встреча изменит положение, и сказал, что тем временем он вместе с Бидо поработает над проектом франко-советского пакта.
Берут, Осубка-Моравский и Роля-Жимерский были приняты де Голлем и имели с ним беседу. В результате де Голль перед отъездом из Москвы согласился лишь послать в Люблин «неофициального» французского представителя, «вне всякой зависимости» от подписания франко-советского пакта.
На приеме в Кремле в последний вечер пребывания де Голля в Москве поведение Сталина характеризовалось некоей смесью грубости и добродушия («У него был такой вид, будто он очень мало считается с нами», - заметил позднее один из французских гостей), и лишь после того, как охваченный гневом де Голль демонстративно покинул прием, русские наконец решили подписать франко-советский пакт без компенсационного польского «условия».
Для де Голля франко-советский пакт имел важное значение как часть той «независимой» французской политики - политики «между Востоком и Западом», - которую он и Бидо после его ухода в январе 1946 г. пытались (безуспешно) проводить в течение двух лет после войны.
(обратно)Глава XII. Некоторые новые проблемы, возникшие в конце войны
Последние три месяца 1944 г. ознаменовались рядом военных операций советских войск, готовившихся к окончательному наступлению на фашистскую Германию, которое развернулось в январе - мае 1945 г.
На севере Красная Армия вступила на территорию Прибалтийских республик. К концу октября все три Прибалтийские республики были освобождены от немцев, за исключением территории Курляндского полуострова (находившиеся там 30 немецких дивизий оставались в мешке до конца войны). К этому времени Красная Армия заняла территорию площадью более 500 кв. км в Восточной Пруссии. Началось великое бегство немецкого населения из Восточной Пруссии. Многие бежали в Кенигсберг, другие - дальше на запад.
Бои за эти небольшие куски немецкой территории были исключительно упорными. Русские сталкивались с очень сильным сопротивлением немцев также в Словакии и Венгрии, где Красная Армия продвигалась гораздо медленнее, чем в Румынии. Будапешт пал только 13 февраля 1945 г.
В Польше в сентябре фронт более или менее стабилизировался, но все ожидали, что завершающий удар по фашистской Германии будет нанесен именно с рубежа реки Вислы.
На Сандомирском плацдарме к югу от Варшавы продолжались тяжелые бои. Немцы атаковали здесь с большим упорством. Солдаты Красной Армии начали проявлять нетерпение, и у них стали зарождаться подозрения. В ноябре 1944 г. мне показали письмо одного солдата, воевавшего «где-то в Польше», по-видимому на Сандомирском плацдарме. В своем письме этот солдат писал:
«Как и раньше, идем на Берлин. Правда, мы можем не попасть туда вовремя, но Берлин - это именно то место, куда мы должны прийти. Мы достаточно вынесли, и мы заслужили право войти в Берлин. Наше «военное звание» дает нам на это право, а союзники такого права не имеют. Они, вероятно, этого не понимают, но фриц прекрасно понимает. Отсюда то отчаянное сопротивление, с которым мы сталкиваемся. Они обстреливают нас утром, днем и ночью и, наверное, притащили сюда все, что имели на Западе. Они явно предпочитают, чтобы их побили союзники, а не мы. Если так случится, это будет для нас по-настоящему обидно. Я, однако, верю, что вы скоро услышите от нас хорошие вести. Гнев и жажда возмездия у наших ребят после всего виденного сейчас сильны, как никогда. Даже в дни отступления у них не было такого настроения…»
Однако вопрос о том, кто первым войдет в Берлин, превратившийся в навязчивую идею у многих советских солдат, теперь уже считался не военным, а дипломатическим вопросом, который следовало решить в пользу русских.
Пожалуй, можно утверждать, что Красная Армия в целом была готова скорее потерять тысячи солдат в битве за Берлин, чем допустить, чтобы англичане и американцы вошли туда раньше и с минимальными людскими потерями. По-видимому, русские считали важным с политической точки зрения, чтобы каждый немец помнил о том, что Берлин не был сдан добровольно западным союзникам, а был взят русскими в кровопролитном бою.
Во второй половине 1944 г., когда война шла к концу, возникло много новых вопросов, касающихся внешней и внутренней политики страны, а также ее культуры и идеологии. Особенность обстановки в СССР того периода заключалась в том, что колоссальные людские потери и страшные разрушения, произведенные отступающими немецкими войсками, а также тяжелые лишения и нужда, которые испытывало население как города, так и деревни, сочетались со всенародным чувством гордости и огромного удовлетворения достигнутой победой.
Перед Советским Союзом вставала колоссальная проблема восстановления хозяйства и не менее серьезная задача обеспечения роста народонаселения. По нынешним оценкам, Советский Союз к концу войны потерял в общей сложности примерно 20 млн. человек, в том числе не менее 7 млн. военнослужащих. Хотя точных данных не имеется, можно полагать, что в число этих 7 млн. входят примерно 3 млн. погибших в немецком плену. Кроме того, еще несколько миллионов человек гражданского населения погибло на оккупированной немцами территории, в том числе примерно 2 млн. уничтоженных евреев, не считая жертв немецких антипартизанских карательных операций. Только в Ленинграде умерло около 1 млн. человек. Сотни тысяч человек умерли во время эвакуации 1941 и 1942 гг. и в результате налетов немецкой авиации на беженцев и на города. Лишь в Сталинграде было убито примерно 60 тыс. человек гражданского населения.
Одним из характерных для 1944 г. явлений были новые положения в семейном праве, установленные Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Эти нововведения преследовали две основные цели: воспрепятствовать «свободному сожительству» в послевоенный период и способствовать повышению рождаемости. Указом учреждался орден «Мать-героиня», которым награждались матери, родившие и воспитавшие десять и более детей, орден (трех степеней) «Материнская слава», которым награждали женщин, родивших и воспитавших девять, восемь или семь детей, и «Медаль материнства» (двух степеней), которой удостаивали матерей, родивших и воспитавших шесть или пять детей. Была установлена прогрессивная система выплаты денежных пособий.
Тем же указом вводилась гораздо более сложная, хлопотливая и дорогостоящая процедура развода. Самым спорным положением указа было положение о матерях-одиночках. Выплата алиментов им отменялась, хотя обратной силы это положение не имело. Для матерей-одиночек устанавливались денежные пособия, и они могли по желанию передать своего ребенка или нескольких детей на воспитание в соответствующее государственное учреждение, сохраняя право в любое время взять их к себе. Эти меры отчасти были продиктованы обстановкой военного времени, в условиях которой, особенно в зоне военных действий и на только что освобожденных территориях, установление отцовства было делом трудным и щекотливым. Кроме того, учитывая, что к концу войны женщин в СССР стало больше, чем мужчин, закон фактически поощрял женщин производить на свет внебрачных детей, полностью или в основном освобождая незамужних матерей от материальных расходов по их воспитанию. Указ от 8 июля 1944 г. не только устанавливал материальные льготы для беременных женщин и кормящих матерей, но вместе с тем вводил значительный налог на холостяков в возрасте старше 25 лет и сниженный налог на супругов, имеющих менее трех детей. Закон 1936 г., запрещавший аборты, оставался в силе и был отменен лишь через много лет после окончания войны.
Такой же важной, как рост народонаселения, стала в послевоенный период проблема восстановления экономики страны. Сотни больших и малых городов, тысячи деревень были целиком или частично уничтожены немцами, которые вывезли большое количество скота и сельскохозяйственной техники, и важнейшим вопросом, который стал обсуждаться в высших сферах СССР уже с 1943 г., был вопрос о том, каким образом обеспечить финансирование восстановления экономики. В принципе имелось три возможных источника такого финансирования: собственные, истощенные, как это было признано, ресурсы Советского Союза; большой иностранный заем - неизбежно у США; и, наконец, значительные по объему немецкие репарации товарами и такие же, но в меньшем объеме репарации союзников Германии (идеальным вариантом было бы сочетание всех трех источников).
Условия перемирия, заключенного с Финляндией и Румынией в 1944 г., представляли собой первый образец соглашения об ограниченных репарациях. Финляндия, например, обязалась выплатить репарации в сумме 300 млн. долларов в течение шести лет - позже срок выплаты был увеличен до восьми лет. На Ялтинской конференции Сталин предложил, чтобы Германия выплатила Советскому Союзу репараций товарами на сумму 10 млрд. долларов. Против этой цифры особенно сильно возражал Черчилль.
Другим источником «средств на реконструкцию», как показала практика последующих лет, явились различные торговые договоры и иные финансовые соглашения СССР со странами Восточной Европы.
Но все это было делом будущего. В тот период - начиная с 1943 г. - Сталина и других советских руководителей волновал вопрос о получении у Америки займа в размере 7 млрд. долларов или больше.
Вместе с тем некоторые идеологические и политические соображения удерживали правящие круги СССР от получения такого займа. Они опасались, что чрезмерная финансовая зависимость от Соединенных Штатов Америки может отразиться на безопасности Советского Союза. Попросту говоря, существовало противоречие между интересами восстановления экономики и интересами обеспечения безопасности. Быстрое и относительно легкое восстановление экономики было связано с определенной зависимостью от США. Неизбежно было бы в этом случае и известное ослабление влияния СССР в странах Восточной и частично Центральной Европы. А такое влияние в соответствии с советской военной доктриной периода 1944-1945 гг. являлось необходимой предпосылкой обеспечения безопасности против возможной новой агрессии со стороны Германии или любой западной державы. В США неумеренные разговоры о «войне с Россией через пятнадцать лет» начались еще в 1944 г. и постепенно получали все более широкое распространение после того, как была сброшена первая американская атомная бомба.
В конце концов с американским займом в 7 млрд. долларов ничего не вышло.
В середине 1944 г. наблюдались, особенно в Москве, очень яркие признаки разрядки военного напряжения, в котором жила страна уже три года. Люди как будто предвкушали улучшение условий жизни.
Коммерческие рестораны и коммерческие магазины, открывшиеся в апреле 1944 г., несомненно, способствовали появлению настроения беспечности среди более привилегированных групп населения Москвы и даже среди широких слоев населения. Эти магазины и рестораны представляли собой нечто вроде узаконенного «черного рынка».
Однако люди были довольны, тем, что есть коммерческие рестораны и магазины. Благодаря им даже низкооплачиваемый работник мог иногда доставить себе удовольствие - например, купить баснословно дорогой шоколад или пирожное, - как-то разнообразить надоевшие продукты, получаемые по карточкам.
Кроме того, коммерческие магазины и рестораны были одним из элементов рассчитанной на длительный период политики регулирования цен на колхозном рынке. Открытие этих магазинов и ресторанов явилось первым шагом к отмене через два года после окончания войны карточной системы, чему предшествовала целая серия мероприятий по упорядочению цен, а также денежная реформа.
Независимо от того, явилось ли в конечном счете введение коммерческих магазинов и ресторанов экономически оправданным мероприятием, эта мера к середине 1944 г., безусловно, породила легкомысленную уверенность в «возврате к нормальному положению» и процветанию в послевоенный период, и это тогда, когда еще продолжалась очень тяжелая война.
Были и другие проявления желания уйти от действительности. Известный куплетист Александр Вертинский, более двадцати лет являвшийся кумиром русских эмигрантов в Париже, Нью-Йорке и затем Шанхае, вдруг появился в Москве. На его концерты стекались огромные толпы людей, среди которых были сотни солдат и офицеров. Хотя пресса не комментировала и не рекламировала концерты Вертинского, афиши, извещавшие о них, расклеивались по всей Москве.
Как песням, так и фильмам была присуща тенденция ухода от действительности. Самыми популярными песнями 1944 г. были две песни Никиты Богословского из фильма «Два бойца»: «Темная ночь» и «Костя-одессит».
Советский народ в 1944 г. склонен был думать, что жизнь скоро станет легче. Большое влияние в этом плане оказывали надежды на «прочный союз» с Англией и США. В середине 1944 г. Константин Симонов, обладавший удивительной способностью улавливать настроения народа страны, написал пьесу «Так и будет». В этой пьесе рассказывается о двух офицерах, которые, попав домой в отпуск, готовятся начать новую приятную и легкую жизнь в хорошей московской квартире. Даже управдом, ставший притчей во языцех за свою грубость, здесь показан олицетворением доброты и расторопности. «Раны войны, какими бы глубокими они ни были, скоро залечатся», - говорит один из офицеров. Другой офицер после некоторой борьбы с собственной совестью решает, что жену и ребенка, пропавших без вести на оккупированной территории, следует окончательно считать погибшими, а он вполне может начать новую жизнь с милой молоденькой девушкой - дочкой профессора. Эта пьеса была полной противоположностью духу поэзии Симонова 1941-1942 гг., воплощенному в стихотворении «Жди меня». В 1944 г. в кино показывали американские фильмы, в том числе один особенно пошлый фильм с Диной Дурбин. Сотни людей часами простаивали в очереди, чтобы попасть на этот фильм.
Среди некоторой части интеллигенции широкое распространение получили настроения благодушия и успокоенности.
Первое серьезное предостережение против подобных настроений, не учитывавших реальной обстановки, сделал Солодовников. В октябре 1944 г. он писал в журнале «Большевик»:
«За последнее время кое-где высказываются мнения, что наше искусство, особенно после войны, пойдет по пути «облегчения» и будет прежде всего увеселять зрителей. Сторонники такой точки зрения говорят о преимущественном развитии комедийных жанров, о важности легких, бездумных зрелищ, сетуют по поводу «слишком настойчивых» требований ставить большие и серьезные проблемы в искусстве. Эти настроения находят поддержку у определенной части зрителей. С подобными тенденциями необходимо серьезно бороться. Они тянут наше искусство назад. Они противоречат ленинско-сталинским взглядам на искусство как могучее средство агитационного воздействия и воспитания масс».
Он осуждал не только «бессодержательное» искусство, но также и «рафинированное» искусство, рассчитанное лишь на «кичливую верхушку в десять тысяч человек».
В целом, однако, автор этой статьи высоко оценил советские литературные и музыкальные произведения военного времени. С особым восторгом он отзывался о музыке Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна и Шебалина.
Солодовников также предостерегал советских художников против слепого подражания «западным, особенно немецким», образцам. Он высказывал сожаление по поводу появившейся во время войны тенденции восхищаться иконами и церковной музыкой на том лишь основании, что они составляют часть русского «национального наследия».
В течение первых двух или трех лет войны партийные организации, особенно в армии, сильно выросли количественно в связи с упрощением порядка приема в партию, численность которой возросла за время с 1941 по 1944 г. примерно с 2 млн. до 6 млн. человек.
В 1944 г. произошли изменения. В статье, опубликованной 24 июня в «Правде», по-прежнему превыше всех других качеств члена партии ставилась та практическая польза, которую он приносит в войне:
«Личные качества кандидата в настоящее время проверяются прежде всего на том, какой вклад он лично вносит в дело борьбы с врагом… Партия требует от каждого своего члена, от каждого, кто стремится стать членом партии, авангардной, передовой роли в борьбе за выполнение военных, хозяйственных и политических задач…
Авангардная роль коммунистов на фронте проявляется во всем: в личной храбрости… в добровольном вызове на выполнение самых опасных поручений. Поэтому так высок и непререкаем авторитет коммуниста в Красной Армии, поэтому сотни и тысячи воинов перед боем подают заявления с просьбой принять их в ряды партии…»
Но в сентябре 1944 г. одной храбрости было уже недостаточно. «Красная звезда» писала 27 сентября 1944 г., что теперь особенно необходимо идейное воспитание коммунистов:
«Политорганы и партийные организации Красной Армии проделали значительную работу по воспитанию коммунистов. Но, разумеется, остановиться на этом нельзя. Армейские партийные организации в своем значительном большинстве состоят из молодых коммунистов, их ряды непрерывно пополняются новыми людьми, проверенными в боях, но еще недостаточно закаленными политически. Уже одно ато требует от партийных организаций повышения качества работы по идейному воспитанию членов и кандидатов партии.
С другой стороны… советские войска перенесли боевые действия за рубежи нашей Родины… Чтобы правильно, без ошибок и промахов ориентироваться в новых условиях… коммунисту сейчас более, чем когда-либо, необходима высокая идейная вооруженность».
По мере того как война близилась к концу, прием в партию стал производиться строже. «Нам теперь нужно не количество, а качество», - писала «Красная звезда» 1 ноября 1944 г. Газета отмечала, что в начале войны правила приема были упрощенными, и заявляла, что в партию приняли слишком много людей, в том числе солдат, ни разу не побывавших в бою. Представители партии в армии зачастую «злоупотребляли предоставленными им правами» и открыли двери партии для чрезмерно большого числа людей. Теперь «главной задачей партийных организаций в армии должно стать идейно-политическое воспитание коммунистов и вовлечение их в партийную работу». Такую же позицию занял журнал «Большевик» в октябре 1944 г.: «В условиях сложной международной обстановки, в которой находится Советский Союз, члену партии нужен компас, и нет лучше компаса, чем марксизм-ленинизм».
В той же статье, опубликованной в «Большевике», упоминались два недавно принятых постановления Центрального Комитета, касающиеся освобожденных районов. В статье комментировалось постановление ЦК о Белоруссии:
«Идеологическое и политическое воспитание имеет исключительно большое значение в освобожденных от оккупантов районах… Враг распространял отраву расистских теорий в этих районах, натравливая украинцев на русских, белорусов на литовцев, эстонцев на русских и т.д. …
Фашистские захватчики разжигали также частнособственнические инстинкты среди населения этих районов. Они ликвидировали колхозы, раздали землю немецким колонистам, уничтожили местную интеллигенцию, поощряли торгашество и наживу, восстанавливали рабочих и крестьян друг против друга».
Короче говоря, политическое воспитание в освобожденных районах должно было быть усилено. «Большевик» обращал внимание на ряд неприятных фактов, о которых газеты в то время писали редко или вовсе умалчивали:
«Белая эмиграция, банды Бандеры, Бульбы, Мельника - все это широко использовалось немцами на Украине… Презренные прислужники Гитлера предоставляли свои националистические лозунги на службу германскому империализму и активно участвовали в массовых убийствах, проводившихся немцами. Партийные организации должны активизировать свою работу особенно в сельской местности на Украине. Они должны помнить, что до тех пор, пока не будет искоренен немецко-украинский национализм, невозможно восстановить экономику и национальную культуру Украины».
Если немцам, несмотря на их жестокий в целом оккупационный режим, удалось, как признают сами русские, породить антисоветские настроения в Белоруссии и на Украине, особенно среди ярых приверженцев частной инициативы, то, по-видимому, существовала аналогичная опасность воздействия на советских солдат буржуазного образа жизни в таких странах, как Румыния, Польша, Венгрия, Чехословакия.
Таковы были некоторые новые проблемы, вставшие перед советским народом в связи с приближением окончания войны. Следует отметить, что их решение не внушало каких-либо серьезных трудностей или «кризиса», на что напрасно рассчитывали недоброжелатели СССР в западных странах.
(обратно) (обратно)Часть восьмая. Победа
Глава I. В Германию
Завершающее наступление Красной Армии началось 12 января 1945 г. и закончилось капитуляцией фашистской Германии примерно четыре месяца спустя. На другой день после начала наступления Совинформбюро опубликовало следующую сводку: «Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева (начальник штаба - генерал Соколовский), перейдя в наступление 12 января из района западнее Сандомира, несмотря на плохие условия погоды, исключающие боевую поддержку авиации, прорвали сильно укрепленную оборону противника на фронте протяжением 40 км.
Решающее значение в прорыве обороны противника имела мощная и хорошо организованная артиллерийская подготовка.
За два дня наступательных боев войска фронта продвинулись вперед до 40 км, расширив при этом прорыв до 60 км по фронту. В ходе наступления наши войска… заняли более 350 населенных пунктов».
Заявление о том, что наступление началось «без боевой поддержки авиации», имеет свою дипломатическую историю.
В 1948 г. Наркоминдел опубликовал переписку между Черчиллем и Сталиным за период до и во время январского наступления[248]. 6 января 1945 г., после того как немцы предприняли наступление в Арденнах, поставившее англо-американские войска в «тяжелое положение» (как говорилось в советской публикации) и угрожавшее Англии «вторым Дюнкерком», Черчилль направил Сталину следующее послание:
«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете… насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать… Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января… Я считаю дело срочным».
На другой день Сталин ответил, что «очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации»; для этого необходима ясная погода, прогнозы же погоды были плохие, но, «учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января».
9 января Черчилль ответил выражением глубокой благодарности:
«Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!…
Весть, сообщенная Вами мне, сильно ободрит генерала Эйзенхауэра, так как… немцам придется делить свои резервы…»
Советское наступление началось 12 января, то есть даже раньше, чем обещал Сталин. Спустя пять дней Черчилль телеграфировал Сталину, поблагодарив его «от всей души» и поздравив его «по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном фронте».
Позже, в феврале, в приказе по случаю Дня Красной Армии было сказано, что советское наступление, несомненно, спасло положение на Западе: «Успехи нашего зимнего наступления привели прежде всего к тому, что они сорвали зимнее наступление немцев на Западе, имевшее своей целью захват Бельгии и Эльзаса, и дали возможность армиям наших союзников в свою очередь перейти в наступление против немцев…»
Черчилль, цитируя некоторые места из переписки со Сталиным, придает ей, однако, не столь драматический характер. Тем не менее он характеризует ее как «прекрасный образец быстроты, с которой можно было вершить дела в высших сферах союзников». Он говорит также, что «со стороны русских и их руководителей было прекрасным поступком ускорить свое широкое наступление, несомненно, ценой тяжелых людских потерь. Эйзенхауэр действительно был очень обрадован».
14 января, через два дня после прорыва с Сандомирского плацдарма, осуществленного войсками Конева, 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова (начальник штаба - генерал Малинин) нанес удар с двух плацдармов южнее Варшавы и с плацдарма севернее Варшавы. Варшава была обойдена с обоих флангов. 17 января в польскую столицу, вернее, в ее развалины, вступили части 1-й Польской армии, действовавшей в составе 1-го Белорусского фронта.
Советское наступление в среднем течении Вислы было, по-видимому, неожиданным для немецкого верховного командования. Правда, в конечном счете удара Красной Армии на варшавско-берлинском направлении следовало ожидать, и немцы построили между Вислой и Одером семь линий обороны. Но они полагали, что, прежде чем атаковать на этом участке, советское командование в январе попытается уничтожить 30 немецких дивизий, отрезанных в Курляндии, а главный удар нанесет в Венгрии. Поэтому на участке средней Вислы немцы сосредоточили меньше войск, чем могли бы. Об огромном превосходстве, достигнутом Красной Армией на этом «направлении главного удара», можно судить по следующим цифрам, приводимым в советской «Истории войны».
«В 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах имелось 163 дивизии, 32 143 орудия и миномета, 6460 танков и самоходно-артиллерийских установок, 4772 самолета. Всего в этих фронтах насчитывалось 2200 тыс. человек. Такое сосредоточение сил и средств позволило советскому командованию создать (в начале наступления) значительное превосходство, над противником на варшавско-берлинском направлении: в живой силе - в 5,5 раза, в орудиях и минометах - в 7,8, в танках - в 5,7, в самолетах - в 17,6 раза»[249].
Севернее нанесли удар войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского.
К 18 января картина была ясна: войска Конева продвигались через Южную Польшу на пути к Силезии; войска Жукова - через Центральную Польшу, к сердцу Германии, и войска Рокоссовского - через Северную Польшу к Данцигу. Тем временем на юге войска генерала Петрова (4-й Украинский фронт) наступали в Карпатах, а на севере войска Черняховского (3-й Белорусский фронт) глубоко вклинились в Восточную Пруссию.
Достаточно привести несколько дат и названий населенных пунктов, чтобы проиллюстрировать успех этого наступления.
18 января. Рокоссовский взял крепость Модлин, а войска Конева заняли Пётркув.
19 января. Войска Конева заняли почти не пострадавший Краков.
20 января. Войска Черняховского заняли Тильзит в Восточной Пруссии.
21 января. Войска Черняховского заняли Гумбинен, а войска Рокоссовского - Танненберг, также в Восточной Пруссии.
23 января. Войска Жукова заняли Быдгощ, войска Конева прорвались в Силезию и вышли на Одер на фронте шириной 60 км.
24-26 января. Войска Жукова заняли Калиш на пути к Бреславлю. Войска Рокоссовского прорвались к Данцигской бухте, почти отрезав тем самым немецкие войска в Восточной Пруссии. Войска Конева прорвались в Домбровский угольный бассейн (Польша).
29 января. Войска Жукова перешли юго-западнее Познани границу Германии 1938 г. Познань с ее большим немецким гарнизоном была окружена, а через два дня войска Жукова вступили в провинцию Бранденбург и двинулись к Франкфурту-на-Одере.
Вот в какой обстановке - когда Красная Армия находилась на территории Бранденбурга - Гитлеру пришлось «отпраздновать» 12-ю годовщину своего прихода к власти! Еще один, последний рубеж, - Одер, и затем - конец.
В Берлине царила паника. В условиях зимы с ее 25-30-градусными морозами сотни тысяч беженцев устремились по всем дорогам в Берлин и дальше на запад. Многие погибли в пути, тысячи добрались до Берлина обмороженными. Если их, как правило, не обстреливали с воздуха, то это объяснялось тем, что в потоке беженцев, с их машинами, повозками, тачками, детьми и животными, было тоже много военнопленных и подневольных рабочих всех национальностей, которых немцы угоняли подальше от фронта. Госпитали в Берлине были переполнены, казармы почти пусты, и жизнь в столице стала невыносимой из-за массированных налетов авиации с запада, из которых самый разрушительный как раз совпал с притоком беженцев с востока. Особенно страшны были ночные налеты тысячи бомбардировщиков в начале февраля, превратившие значительную часть города в один гигантский костер.
Перед оставлением Танненберга немцы взорвали огромный танненбергский военный мемориал и увезли в Берлин останки Гинденбурга и его жены. «Мы восстановим мемориал, когда Восточная Пруссия будет освобождена», - уныло сказал диктор немецкого радио. Но «радио-генерал» Дитмар твердил: «Положение на Восточном фронте невероятно тяжелое», и радиопередачи часто прерывались сообщениями о появлении то в одном, то в другом месте «террористических бомбардировщиков».
30 января по радио выступил сам Гитлер, говоривший мрачным, словно замогильным голосом. В последний раз немецкий народ услышал его выступление. «Сохранив мне жизнь 20 июля, всевышний показал, что он хочет, чтобы я остался вашим фюрером». Немцы не услышали от него ни слова утешения, ни тем более какой-либо попытки оправдаться. Только: «Немецкие рабочие, работайте! Немецкие солдаты, воюйте! Немецкие женщины, будьте такими же фанатичными, как всегда! Ни одна нация не может сделать большего». Затем он стал предсказывать, как Европа во главе с Германией еще разгромит орды, вызванные Англией из азиатских степей.
Тем временем тысячи беженцев по автострадам и другим дорогам продолжали стекаться в Берлин, где они никому не были нужны. Берлинцы с помощью полиции и СС гнали их дальше, неведомо куда. 150 тыс. из тех, кто побежал не в Берлин, направились в «неприступный» Кенигсберг, но были блокированы там. Только часть из них сумела бежать по льду залива и занесенной снегом песчаной косе в Данциг. Но и Данциг вскоре был отрезан советскими войсками.
Наступление Красной Армии через Польшу и дальше в глубь Германии приняло огромный размах. Немцы отступали к Одеру, оставляя, однако, в ряде мест гарнизоны для сдерживающих действий. Крупнейшая из этих сдерживающих группировок была постепенно изолирована на все сужавшемся участке в Восточной Пруссии. Но имелись еще гарнизоны в Познани, Торуни, а затем в Шнейдемюле и Бреславле. Горстка немцев отчаянно сопротивлялась в замке тевтонских рыцарей в Мариенбурге. Отступая через Польшу, немцы уничтожали все, что могли, а прежде всего железнодорожные мосты, но не успели разрушить Лодзь и Краков или такой огромный источник богатств, каким являлась для нового польского государства Силезия.
Во многих городах Германии началось настоящее вавилонское столпотворение: французские военнопленные, работавшие в деревне («Последние два года сельское хозяйство Восточной Пруссии держалось на нас, французах», - утверждали потом иные из них); английские военнопленные, из которых многие пережили Дюнкерк и уже были почти старожилами Германии; захваченные всего за несколько недель до этого в Бастони (Бельгия) американские солдаты, вошедшие в Германию с одного конца, а теперь уходившие из нее с другого; голландские, бельгийские, французские рабочие, польские и русские подневольные рабочие, итальянцы (чья участь тоже была немногим лучше участи поляков и русских); все они были возбуждены, растеряны, счастливы.
Позднее, в марте, мне довелось видеть много бывших военнопленных - англичан, американцев, французов, - которых отправляли на родину морем через Одессу. В первые дни освобождения было много неразберихи, и каждый из них мог рассказать свою историю, трагическую или забавную. Среди этих бывших военнопленных возникло что-то вроде настоящей международной солидарности, и если иной раз не все шло гладко (а это было неизбежно), то тут ничего нельзя было поделать. У советских армий хватало других забот. В целом репатриация через Одессу проходила так хорошо, как только можно было надеяться в тех исключительно трудных условиях.
Несмотря на быстрое продвижение Красной Армии в январе - феврале и ее огромное превосходство в живой силе и во всех видах техники, немцы еще держались. Мне вспоминаются слова одного советского майора, который сказал мне: «Кое-где их сопротивление напоминает мне Севастополь в 1942 г. Иногда эти немецкие солдаты могут быть настоящими героями». А один кадровый военный писал в феврале в «Красной звезде»:
«Об ожесточенности боев в районе Познани можно судить по следующему эпизоду: в одном из пригородов Познани были отрезаны от своих войск около 500 немецких солдат и офицеров. Засев в нескольких каменных зданиях, они продолжали оказывать сопротивление нашим наступавшим войскам, пока почти все не были уничтожены. Только последние 50 немцев, поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, сдались в плен».
Немцы, бесспорно, не легко сдавались в плен Красной Армии. Главной их надеждой, если только они не попадали в окружение или не оставлялись для сдерживающих действий, было уйти за Одер. По советским данным, к концу января потери немцев с начала наступления составляли 552 самолета, 2995 танков, 15 тыс. орудий и минометов, 26 тыс. пулеметов, 34 тыс. автомашин, 295 тыс. убитыми, но всего лишь 86 тыс. пленными. Советское наступление продолжалось безостановочно весь февраль. Каждую ночь германское радио передавало легкую музыку, да и что еще ему оставалось делать? Затем унылый мужской голос зачитывал сводку из ставки фюрера: «После героического сопротивления пал Эльбинг… Противник ворвался в Познань и Шнейдемюль… Большевики несут огромные потери. За прошедший месяц они потеряли 7500 танков. Обстрел Лондона снарядами «фау» продолжается…» Далее следовали истории о зверствах, о том, что такие-то малолетние девочки и чья-то 87-летняя бабушка были изнасилованы. Затем еще один военный марш, и опять «террористические бомбардировщики» над такими-то и такими-то городами. Наконец тот же надтреснутый баритон исполнял песенку: «Идите спать и спите до утра» или фрейлейн заканчивала передачу успокоительным пожеланием: «Доброй ночи, спите спокойно» (чувствовалось, впрочем, что она сознавала всю его глупость).
Советская печать публиковала много мрачных описаний Берлина, особенно после массированного налета 4 февраля. Но большое сухопутное наступление на западе все еще не началось, и Красная Армия старалась продвигаться возможно быстрее.
1 февраля войска Рокоссовского после шестидневной осады штурмом взяли Торунь.
6 февраля войска Конева форсировали на широком фронте Одер в Силезии и отрезали Бреславль.
К 9 февраля был почти полностью окружен Кенигсберг, в отношении которого приводились следующие слова немецкого военнопленного:
«Нам прочитали приказ, что на нас выпала почетная задача защищать столицу Восточной Пруссии… Но это не вызвало повышенного настроения среди нас. Все устали, и солдаты молча наблюдают панику среди населения. Она удручающе действует на солдат и офицеров. В городе распространяются мрачные слухи… Ранеными… забиты все школы, вокзалы, театры… Жителям города объявлено, что они должны уходить из Кенигсберга… кто как может».
10 февраля Рокоссовский взял Эльбинг, а 14 февраля войска Жукова после продолжавшихся несколько дней уличных боев заняли Шнейдемюль.
23 февраля после месячной осады войска Жукова взяли Познань и ее цитадель - последний опорный пункт немцев в этом районе. Видное участие в этих боях принимали войска 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова, прославившегося под Сталинградом и являвшегося специалистом по уличным боям. Было захвачено 23 тыс. пленных. В этот же день началось наступление союзников на западе.
Несколькими днями ранее под Кенигсбергом был смертельно ранен один из самых блестящих советских молодых военачальников, генерал Черняховский. Командование 3-м Белорусским фронтом принял маршал Василевский.
В марте война на востоке развивалась менее бурным темпом, чем в январе - феврале. Немцы повсеместно оказывали отчаянное сопротивление. Василевский сражался под Кенигсбергом, который пал только 9 апреля, превращенный в кучу щебня.
Войска Жукова и Рокоссовского с разных направлений приближались к Данцигу. К середине марта Данциг был отрезан со всех сторон, кроме моря.
28 марта была взята Гдыня, порт которой был разрушен, но современный, построенный поляками город, именовавшийся при немцах Готенхафеном, остался более или менее невредим. Другое дело - Данциг, который пал 30 марта после нескольких дней ожесточенных уличных боев.
К этому времени красивый средневековый город превратился в груду дымящихся развалин, но все же над будущим Гданьском был торжественно водружен польский флаг… Число захваченных пленных достигало 10 тыс. человек, но убитых было куда больше. Позже мне случилось видеть немецкую листовку, напечатанную в последние дни обороны Данцига: она изобиловала призывами сопротивляться до конца, описаниями «советских зверств» и сулила новое мощное контрнаступление немецких войск. Характерно, что о Гитлере в ней не упоминалось.
Примерно то же самое было под Кенигсбергом. Утверждалось, что после его падения было захвачено 84 тыс. пленных и, кроме того, 42 тыс. немцев было убито; правда, Красная Армия тоже потеряла здесь несколько тысяч солдат и офицеров. Среди развалин ютились тысячи обезумевших жителей, в том числе много военнопленных и перемещенных лиц. К середине апреля Восточная Пруссия исчезла с географической карты, если не считать еще предстоявших небольших операций по ее очистке. Часть ее отошла к СССР и часть - к Польше. Основную массу советских войск, находившихся в Восточной Пруссии, можно было теперь перебросить к Одеру, где войска Жукова уже удерживали плацдармы на западном берегу реки, что создавало условия для решающего штурма Берлина. В то же время войска Рокоссовского, взяв Данциг, продвигались вдоль побережья Балтийского моря к Штеттину.
В первой половине апреля основное внимание на некоторое время переключилось на юг. Еще в феврале, до падения Будапешта, демократическое правительство Венгрии в Дебрецене запросило перемирия, которое и подписали 20 января в Москве Дьендеши, Вереш и Балог от Венгрии и Ворошилов - от трех союзных держав. На следующий день «Красная звезда» писала:
«Венгрия была последним сателлитом Гитлера в Европе, и притом одним из наиболее упорных… Только после того, как Красная Армия заняла значительную часть территории Венгрии, правительство Хорти увидело себя вынужденным пойти на разрыв с Германией… Гитлеровцы инсценировали в Будапеште «правительство» венгерских гитлеровцев во главе с лидером фашистской партии «Скрещенные стрелы» Салаши - проходимцем с уголовным прошлым. Главными задачами этого правительства… являлись мобилизация венгерских «добровольцев» для обороны подступов со стороны Венгрии к территории Австрии… Но даже Гитлер в своем новогоднем обращении вынужден был констатировать, что немецко-венгерское сотрудничество идет к концу…
Созданное в Дебрецене на демократической основе Временное национальное правительство Венгрии на первом же своем заседании приняло решение объявить войну гитлеровской Германии и просить… о перемирии… Условия перемирия свидетельствуют о великодушии… Венгрия имела все основания ожидать, что союзные правительства отнесутся к ней со всей суровостью, ибо Венгрия, которая гораздо раньше, чем остальные страны-сателлиты, начала осуществлять политическое и военное сотрудничество с гитлеровской Германией… до последнего момента оставалась на стороне Германии…
Они [венгерские войска] бесчинствовали под Воронежем, на Дону, в Брянской и Орловской областях, на Черниговщине, под Киевом… Следует признать минимальной предусмотренную в условиях перемирия сумму возмещения убытков в 300 млн. американских долларов. При этом… сумма возмещения, подлежащего выплате Советскому Союзу, составляет всего 200 млн. американских долларов, а остальные 100 млн. долларов предназначаются для возмещения Чехословакии и Югославии. Такое распределение суммы возмещения свидетельствует о великодушии Советского Союза…
Венгрия обязана эвакуировать все свои войска… в пределы границ Венгрии, существовавших на 31 декабря 1937 года… Соглашение о перемирии объявляет несуществующими решения… Венского арбитража от 30 августа 1940 года… Венгрии предоставляется возможность принять активное участие в борьбе против гитлеровской Германии… В Венгрии советские войска заканчивают освобождение Будапешта».
Наконец 13 февраля пал Будапешт. Было захвачено 110 тыс. пленных и в их числе генерал-полковник Пфеффер-Вильденбрух. В Венгрию было брошено 11 немецких танковых дивизий (которые можно было с большим успехом использовать в другом месте), ибо Гитлер стремился любой ценой спасти Вену. После падения Будапешта немцы предприняли сильное контрнаступление, и советские войска даже оставили часть занятой территории. Только в конце марта Толбухин и Малиновский смогли заявить, что немецкое контрнаступление выдохлось. 29 марта Красная Армия вступила на территорию Австрии. 4 апреля войска Малиновского освободили столицу Словакии - Братиславу, а 13 апреля, после недели тяжелых уличных боев, войска Малиновского и Толбухина заняли Вену.
Тем временем Еременко сменил Петрова на посту командующего 4-м Украинским фронтом, и 15 апреля войска этого фронта начали наступление на Моравску Острову - крупный промышленный центр Чехословакии. 26 апреля войска Малиновского вступили в главный город Моравии - Брно. Однако в конечном счете ни Малиновскому, ни Еременко не было суждено освободить Прагу. В последний день войны танки Конева осуществили эффектный прорыв к городу с севера, из Саксонии, как раз в тот момент, когда фашистские войска вели тяжелые уличные бои в Праге против восставшего 5 апреля населения чешской столицы и опасность разрушения города усиливалась с каждым часом. Одной из самых странных историй на этом этапе войны была роль, которую сыграли в боях в Праге власовцы, бросившие своих немецких хозяев и пытавшиеся уйти к американцам. Эта попытка кончилась пленением самого Власова (впоследствии повешенного по приговору советского суда) и остатков его «армии».
К середине апреля, когда Красная Армия уже глубоко проникла на территорию Австрии и Чехословакии, когда западные союзники быстро продвигались по Западной и Южной Германии, а Жуков, Конев и Рокоссовский стояли на линии Одера, настало время для заключительного наступления на Берлин.
Здесь, однако, следует сделать небольшое отступление и остановиться на сложном вопросе о советской политике в отношении Германии в период, когда Красная Армия начала занимать германскую территорию. После всего того, что совершили немцы - а такие ужасы, как разрушение Варшавы и лагеря уничтожения в Майданеке и Освенциме, еще были свежи в памяти каждого солдата, - немецкий народ не вызывал к себе сочувствия. Советские войска, почти четыре года воевавшие с немцами на своей родной земле и видевшие тысячи лежавших в развалинах городов и сел, не могли, ворвавшись в Германию, противостоять желанию отомстить.
Было ясно, что вскоре перед русскими в Германии встанет ряд политических и административных задач, которые никак нельзя будет решать на основе принципа, что «все немцы - зло». Впервые эта тревога нашла свое отражение в редакционной статье «Красной звезды» от 9 февраля 1945 г.:
«“Око - за око, зуб - за зуб”, - говорили наши деды… Конечно, мы понимаем эту формулу совсем не так прямолинейно… Нельзя себе представить дела таким образом, что если, скажем, фашистские двуногие звери позволяли себе публично насиловать женщин или занимались мародерством, то и мы в отместку им должны делать то же самое. Этого никогда не бывало и быть не может. Наш боец никогда не допустит ничего подобного, хотя руководствоваться здесь он будет отнюдь не жалостью, а только чувством собственного достоинства… Он… понимает, что всякое нарушение воинского порядка ослабляет армию-победительницу… Наша месть не слепа, наш гнев не безрассуден. В припадке слепой мести и безрассудного гнева можно, скажем, без нужды разрушить заводские сооружения, привести в негодность станки на уже отбитом у противника предприятии. От такого рода мести враг только выигрывал бы».
14 апреля в «Правде» была опубликована статья Г.Ф. Александрова, содержавшая резкую критику Эренбурга и положившая конец его пропаганде ненависти. Судя по послевоенным мемуарам. Эренбурга, его выступления были подвергнуты критике по прямому указанию Сталина. Статья Александрова «Товарищ Эренбург упрощает» вменяла ему в вину два момента: во-первых, считать всех немцев «недочеловеками» значило придерживаться антимарксистской и неразумной точки зрения. «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский… остается» - так заявил в одном из своих выступлений сам Сталин; России придется сосуществовать с немецким народом. Было бы совершенно неправильно предполагать, что каждый немецкий демократ или коммунист - это обязательно переодетый нацист. В статье содержался ясный намек на то, что с некоторыми немцами советским властям придется сотрудничать. Во-вторых, Александров возражал против опубликованной двумя днями ранее в «Красной звезде» статьи Эренбурга под названием «Хватит!», где автор возмущался той легкостью, с какой союзники продвигались на западе, и отмечал отчаянное сопротивление, которое немцы по-прежнему оказывали русским на востоке. Эренбург объяснял это тем, что, уничтожив на востоке миллионы мирных граждан, немцы теперь боялись Красной Армии, но не западных союзников.
Соглашаясь с некоторыми из этих утверждений Эренбурга, Александров, однако, заявил, что он упрощает вопрос:
«На нынешней стадии войны гитлеровцы следуют своей издавна выношенной и внутренне присущей им провокаторской политике. Гитлеровцы стремятся… вызвать раздор между союзниками… и сохранить при помощи провокаторского военно-политического трюка то, что не удалось достигнуть при помощи вооруженной силы… Если бы немцами руководило чувство боязни в их нынешней преступной политике, они, вероятно, не продолжали бы усиленно топить своими подводными лодками англо-американские суда, не обстреливали бы Англию до последнего времени самолетами-снарядами и не продолжали бы умерщвлять военнопленных солдат и офицеров союзных армий. Из этого следует, что… говоря словами Эренбурга, тому факту, что «Кенигсберг был взят не по телефону»… нужно дать совсем другое объяснение, чем то, которое дано т. Эренбургом на страницах “Красной звезды”».
Этот реверанс в сторону союзников, несомненно, был задуман в духе добрых ялтинских традиций. Но не в этом дело.
Самым важным в критике Александровым Эренбурга была новая официальная линия в отношении «немецкого народа». Пропаганда ненависти к «немцам» прекратилась.
Решающее наступление Красной Армии на Берлин началось 16 апреля с плацдармов на Одере. Опубликованная спустя неделю сводка гласила:
«Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперед… овладели городами Франкфурт-на-Одере, Ваннлиц, Ораниенбург, Биренвердер, Хеннингсдорф, Панков, Фридрихсфельде, Карлсхорт, Кепеник и ворвались в столицу Германии - Берлин».
Одновременно войска Конева ворвались в Берлин с юга, заняв сначала Коттбус, а затем Мариенфельде, Тельтов и другие пригороды.
25 апреля было объявлено, что войска Жукова и Конева соединились северо-западнее Потсдама, завершив, таким образом, окружение Берлина. В тот же день был взят Пиллау, последний оплот немцев в Восточной Пруссии.
2 мая после недели ожесточенных боев (недели, в течение которой в Берлине покончили жизнь самоубийством Гитлер и Геббельс) город капитулировал.
Вслед за этим 7-9 мая капитулировала вся немецкая армия. Йодль подписал капитуляцию в Реймсе, а Кейтель - на следующий день в Берлине. Здесь акт о капитуляции был подписан от имени Советского Союза маршалом Жуковым. Реймская капитуляция была предварительной формальностью: на церемонии подписания присутствовал лишь один советский генерал сравнительно невысокого ранга. В СССР об окончании войны было объявлено рано утром 9 мая. Победа над Германией празднуется здесь на день позже, чем на Западе. Не следует забывать, что Прага еще не была освобождена. Западные союзники считали это мелочью, русские придерживались другого мнения.
9 мая 1945 г. в Москве было незабываемым днем. Мне еще не приходилось видеть в Москве, чтобы так искренне и непосредственно выражали свою радость два, а может быть, и три миллиона людей, заполнивших в тот вечер Красную площадь, набережные Москвы-реки и улицу Горького на всем ее протяжении до Белорусского вокзала. Люди танцевали и пели на улицах; солдат и офицеров обнимали и целовали. Возле американского посольства толпа кричала «Ура Рузвельту!» (хотя он и умер за месяц до этого)[250]. Люди были счастливы. На какое-то время Москва отбросила всякую сдержанность. Такого эффектного фейерверка, как в тот вечер, мне еще не доводилось видеть.
При всем том разница в один день между праздником победы на Западе и на Востоке произвела неприятное впечатление. Еще не успели высохнуть чернила на подписи Кейтеля, как между союзниками начались сперва мелкие, а затем и более серьезные разногласия.
Были споры из-за «фленсбургского правительства»[251], из-за репатриации советских военнопленных и других советских граждан, возвращение которых задерживалось. Уполномоченный СНК СССР по делам репатриации граждан СССР генерал Голиков опубликовал гневное заявление о нарушении Ялтинского соглашения о репатриации. А главное, возникли новые разногласия из-за Польши. Многие семена недоразумений начали прорастать…
Глава II. Ялта и после нее
Ялтинскую конференцию Большой тройки, состоявшуюся за три месяца до поражения Германии, описывали столько раз (в частности, такие ее участники, как Черчилль, Бирнс и Стеттиниус), что нам нет необходимости подробно рассказывать здесь об этом историческом совещании[252]. Ялту называют «кульминацией единства Большой тройки», и в свое время большая часть американской печати на все лады восхваляла ее результаты. Лишь позже, в разгар холодной войны, Ялту стали именовать «Мюнхеном», где Англия и США якобы «капитулировали перед Сталиным», притом, как утверждалось, главным образом потому, что во время Ялтинской конференции Рузвельт был уже «усталый и больной человек», который дал себя «обмануть и перехитрить».
Несомненно, Рузвельт был больной человек. Я до сих пор помню те поистине патетические кадры заснятой в Ялте кинохроники, показывающие страшно изможденного Рузвельта в его кресле на колесах. Помню я и Феню, добрую пожилую русскую горничную из московской гостиницы «Метрополь», посланную в Ялту в качестве личной горничной Рузвельта; по возвращении она сказала чуть не плача: «Такой добрый и милый, но ужасно, ужасно больной человек». Когда вскоре после этого Рузвельт скоропостижно скончался, плакала не только Феня, но и тысячи других русских женщин.
В то же время Стеттиниус утверждает в своей книге[253], что в Ялте советские представители сделали больше уступок, чем западные союзники. В его список «советских уступок» входят следующие:
Советский Союз принял американскую формулу голосования в Совете Безопасности, положив, таким образом, конец тупику, возникшему в Думбартон-Оксе.
Советский Союз отказался от своего требования, чтобы в ООН были представлены все 16 советских республик, и удовольствовался предоставлением права голоса только для СССР, Украины и Белоруссии.
Советский Союз согласился, чтобы присоединившиеся нации, объявившие войну Германии к 1 марта, приняли участие в конференции в Сан-Франциско в качестве членов - учредителей ООН.
Советский Союз согласился на более тесную координацию военных усилий союзников.
Несмотря на прежние возражения, он согласился, чтобы французы не только получили оккупационную зону в Германии, но и были представлены в Контрольной комиссии.
Он принял предложение, чтобы урегулирование вопроса о западной границе Польши было отложено до мирной конференции.
Он согласился на компромиссную формулу о составе будущего польского правительства и на проведение свободных выборов в Польше.
Он принял точку зрения США, что Комиссия по возмещению убытков на начальной стадии работы будет рассматривать сумму в 20 млрд. долларов только как основу для обсуждения.
Русские сняли две поправки к Декларации об освобожденной Европе, в том числе поправку о предоставлении особого статуса народам, «активно боровшимся против нацизма».
С другой стороны, западные державы, взывая к «великодушию» Сталина по отношению к Польше, не сочли возможным настаивать на передаче ей Львова и нефтеносных районов Галиции. Они также пошли на уступки в одном-двух вопросах, касавшихся строгого контроля союзников за выборами в Польше, но, как писал Стеттиниус:
«В связи с военной обстановкой (в феврале 1945 г.) речь шла не о том, что именно Англия и Соединенные Штаты позволят России делать в Польше, а о том, на что этим двум странам удастся убедить Советский Союз дать согласие…
[Наши войска] лишь незадолго перед тем отвоевали территорию, потерянную во время «битвы за выступ», и еще не форсировали Рейн. В Италии наше наступление завязло в Апеннинах. Советские же войска заняли почти всю Польшу и Восточную Пруссию, а на некоторых участках вышли на Одер… В руках Красной Армии находились Польша и большая часть Восточной Европы, за исключением части Чехословакии»[254].
При всем том Стеттиниус утверждает, что «в целом Ялтинские соглашения явились дипломатическим триумфом Соединенных Штатов и Англии. Действительные трудности в отношениях с Советским Союзом возникли после Ялты, когда эти соглашения не были выполнены».
Ясно, что Англия и США вели переговоры с Советским Союзом не с «позиции силы». Несомненно, у Рузвельта и особенно у Черчилля имелись очень серьезные возражения по ряду вопросов, в первую очередь в связи с Польшей. «Вопрос о Польше, - заявил Черчилль, - самый важный из всех стоящих перед конференцией вопросов, и я не хочу оставлять его нерешенным». Иден ссылается на то, что «присутствие Миколайчика в польском правительстве больше, чем что-либо другое, повысит авторитет этого правительства и убедит английский народ в его представительном характере». По словам Черчилля, его ужаснули сообщения о том, что «люблинское правительство объявило о своем намерении судить как изменников членов Армии Крайовой и подпольных сил»[255]. Он возражал также против намерения «так набить польского гуся немецким кормом, что он начнет страдать несварением желудка», и особенно против того, чтобы часть западной границы Польши проходила по западной (а не по восточной) Нейсе.
Но советские государственные деятели по-своему еще острее воспринимали вопрос о Польше, нежели Черчилль. В ответ на одно из заявлений Черчилля, что Польша должна остаться «хозяином своей души», Сталин заметил: «Для Англии Польша - это вопрос чести, а для Советского Союза это вопрос и чести, и безопасности». Время от времени он возвращался к вопросу о том, что Армия Крайова представляла угрозу для Красной Армии в Польше.
Протоколы Ялтинской конференции свидетельствуют, что, согласившись на создание комиссии в составе Гарримана, Молотова и Керра - эта комиссия должна была помочь «реорганизовать» польское правительство и «подготовить», таким образом, свободные выборы в Польше, и дав тем самым союзникам возможность «спасти лицо» - Сталин в то же время не делал секрета из того, что он считал основными интересами СССР в Польше[256].
Как бы то ни было, Черчилль (и в меньшей степени Рузвельт) продолжал питать серьезные сомнения в отношении Польши. Но ни один из них не мог игнорировать тот факт, что Польша находилась уже в тылу Красной Армии. Характерно, что, когда вскоре после Ялтинской конференции король Михай вынужден был сместить генерала Радеску и заменить его просоветски настроенным Петру Гроза, Рузвельт счел неуместным протестовать, так как через Румынию проходили коммуникации и линии снабжения Красной Армии. То же самое относилось в известном смысле и к Польше.
Проблеме Германии Ялтинская конференция уделила меньше времени, чем можно было ожидать. Было принято решение о «более тесной координации военных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше». В опубликованном сообщении о конференции говорилось, что «нацистская Германия обречена» и что «германский народ, пытаясь продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения». Условия безоговорочной капитуляции опубликованы не были.
«Эти условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии… Силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны… [предусматривалось создать] Центральную контрольную комиссию, состоящую из главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в Берлине»[257].
Франция, говорилось далее в сообщении, будет приглашена если пожелает взять для себя зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной комиссии.
Далее следовал абзац о том, что для союзников «непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма», что они «полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб… изъять или уничтожить все германское военное оборудование… подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков… стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа… В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм или милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций».
Согласно протоколам Ялтинской конференции (в то время не опубликованным), условия капитуляции Германии содержали пункт о том, что Большая тройка «предпримет любые шаги, какие она сочтет необходимыми для будущего мира и безопасности, включая полное разоружение, демилитаризацию и расчленение Германии». Изучить способ расчленения было поручено комиссии в составе Идена, Вайнанта и Гусева (то есть министра иностранных дел Англии и американского и советского послов в Лондоне)[258].
В Москве была создана Комиссия по возмещению убытков под председательством Майского, которая приняла «за основу обсуждения на начальной стадии работы» предложенную СССР цифру в 20 млрд. долларов (половина этой суммы предназначалась Советскому Союзу).
Нельзя сказать, чтобы советские руководители были очень довольны этим решением о репарациях, которому был умышленно придан ни к чему не обязывающий характер. Позже они утверждали, что Рузвельт соглашался с тем, чтобы они получили 10 млрд. долларов (в виде промышленного оборудования, поставок из текущей продукции и рабочей силы), несмотря на весьма решительные возражения Черчилля, все время - напоминавшего о невероятной неразберихе с репарациями после Первой мировой войны. Несомненно, однако, что, не считая этого вопроса о репарациях, СССР был вполне удовлетворен решениями о денацификации и демилитаризации Германии. Также бесспорно, что Сталин весьма серьезно отнесся к созданию международной организации, основанной на единстве Большой тройки.
Атомная бомба еще не была взорвана, и американские военные опасались, что если СССР не примет участия в война против Японии, то эта война может затянуться до 1947 г. и потребует от США по меньшей мере еще одного миллиона человеческих жертв. Поэтому в период Ялтинской конференции Англия и США стремились добиться вступления Советского Союза в войну с Японией. Однако после всех потерь, понесенных в войне с Германией, у русских не было ни малейшего желания вести новую войну, и Сталин утверждал, что, для того чтобы они согласились воевать с Японией, он «должен за это что-то показать им». Поэтому он потребовал, во-первых, сохранения статус-кво Монгольской Народной Республики; во-вторых, восстановления прежних прав России, нарушенных Японией в 1904 г., то есть возвращения южной части Сахалина и признания (при условии предварительного получения согласия Чан Кайши) советских интересов в Дайрене, Порт-Артуре и на Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорогах, которые должны поступить под управление смешанного советско-китайского общества при сохранении Китаем полного суверенитета в Маньчжурии; и, в-третьих, передачи Советскому Союзу Курильских островов (хотя они долгое время принадлежали Японии). Таковы были условия, которые могли удовлетворить СССР на Дальнем Востоке.
В целом Сталин в Ялте произвел на англичан, а еще больше на американцев довольно благоприятное впечатление.
Переговоры он вел спокойно и умело, и сильные эмоции проявлял лишь тогда, когда говорил о репарациях с Германии и о страшных разрушениях, совершенных немцами в СССР. В общем он проявлял достаточную уступчивость и не настаивал на таких требованиях, которые его партнеры считали совершенно неразумными, например чтобы в ООН были представлены все 16 советских республик. На западных наблюдателей произвел большое впечатление тот факт, что на протяжении всей Ялтинской конференции Сталин внимательно следил за ходом войны и выполнял свои функции Верховного Главнокомандующего между полуночью и 5 часами утра.
При внимательном изучении протоколов Ялтинской конференции становится ясным ряд моментов. Сталин был целиком за создание Организации Объединенных Наций на основе единства Большой тройки.
Не делал Сталин тайны и из своих намерений в отношении Польши. Он без конца говорил об «агентах лондонского правительства, стреляющих в русских солдат», и несомненно, что, пока СССР нужен был как союзник в войне против Японии, ему нечего было опасаться англо-американских протестов против советской политики в Польше или на Балканах.
Решения о Германии, о ее демилитаризации и денацификации удовлетворили Сталина, хотя соглашение по вопросу о репарациях он считал слишком туманным; к тому же был еще один важный и тесно связанный с этим вопрос, поднятый в Ялте, но, очевидно, сразу же снятый. Это был вопрос о крупном американском займе Советскому Союзу для целей восстановления.
Согласно Стеттиниусу, этот вопрос всплыл неожиданно, когда Молотов сказал ему, что СССР рассчитывает получить с Германии 3 натуре, а также «выразил надежду, что Советский Союз получит долгосрочные кредиты от Соединенных Штатов»[259].
Стеттиниус напоминает, что незадолго до Ялтинской конференции министр финансов Моргентау направил президенту письмо, в котором обосновывал «конкретный план помощи русским в период восстановления» и высказывал предположение, что «это устранило бы многие трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с их проблемами и политикой». Но, как указывает Стеттиниус, «Советский Союз не получил займа в конце войны. Вопрос о том, побудил ли бы его этот заем занять более разумную позицию и проявить больше желания сотрудничать, остается одной из серьезных загадок истории».
Намек на такой заем можно, пожалуй, усмотреть в тосте, провозглашенном Сталиным за здоровье Рузвельта на одном из приемов в Ялте. Сталин сказал, что президент был «главным кузнецом орудий, позволивших мобилизовать весь мир против Гитлера». Ленд-лиз, заявил он, был «одним из самых замечательных и жизненно важных достижений президента», свидетельством исключительно широкого понимания национальных интересов Америки.
Хотя на том же приеме Сталин сделал также несколько очень любезных комплиментов в адрес Черчилля, назвав его «самым смелым государственным деятелем в мире», все наблюдатели сходятся во мнении, что он старался проявлять гораздо больше дружественных чувств к Рузвельту.
«После войны, - сказал Сталин, - когда союзников будут разделять различия интересов, перед нами встанет трудная задача. Я убежден, однако, что наш союз выдержит испытание и что в мирное время отношения между тремя великими державами будут такими же прочными, какими они были во время войны»[260].
Американские авторы много писали о том, что Сталин якобы «изменил» ялтинским решениям вскоре же после конференции. Кое-кто совершенно неубедительно объяснял это критикой и оппозицией, которые Сталин встретил со стороны некоторых членов Политбюро. Гораздо более правдоподобным являются другие объяснения этого «изменения» советской политики после Ялтинской конференции.
Какое-то значение в обострении отношений между Востоком и Западом имела усилившаяся в Америке в марте - апреле тенденция против предоставления Советскому Союзу крупного послевоенного займа. Смерть Рузвельта вызвала в СССР подлинную тревогу,[261] тревогу, оправданность которой скоро подтвердилась, особенно когда президент Трумэн начал с того, что сразу же после победы в Европе прекратил поставки СССР по ленд-лизу, хотя на Советском Союзе еще лежало обязательство вступить в войну с Японией на стороне Америки. Как мы знаем из описания Гопкинсом его визита в Москву, состоявшегося вскоре после этого, Сталин был сильно раздражен и оскорблен этим шагом, который Стеттиниус назвал «несвоевременным и непостижимым».
Собственно, Ялтинская конференция - эта великая демонстрация единства целей трех держав в предвидении близкой победы над Германией - оказалась, пожалуй, неизбежным водоразделом в отношениях между союзниками. Пока шла титаническая борьба, противоречивые интересы и идеи, которые в обычных условиях были почти несовместимы, отодвигались на задний план. Но теперь, когда пришло время готовиться к миру, достигнутые рабочие компромиссы оказались слишком непрочными. Как мы видели, даже и этих компромиссов было довольно трудно достигать. Теперь же они подверглись испытанию, каким явилось их практическое применение и конкретное истолкование. Все труднее становилось скрывать глубокие различия подлинных интересов и взглядов между партнерами по коалиции военного времени.
В самом конце войны в Европе усилению напряженности в отношениях между Советским Союзом и союзниками способствовал еще один психологический фактор. Близость победы вызвала в СССР не только чувство облегчения и надежды, но также естественную вспышку национальной гордости. Наблюдалась - и не в последнюю очередь в Красной Армии - тенденция возмущаться присутствием западных союзников в Германии, и особенно в Берлине, во время штурма которого стольким тысячам советских солдат суждено было погибнуть в последние дни войны.
С другой стороны, СССР был сильно разоренной страной, и перед ним прежде всего стояла гигантская задача восстановления экономики. Но в то же время он вознесся выше всех, ибо выиграл величайшую в своей истории войну. Никогда еще будущее не казалось таким светлым. Будущее, казалось, сулило заманчивые возможности. Для некоторых это была революционная Европа, для большинства - счастливая, процветающая Россия. Многие из тех, кто тогда мечтал о таком счастливом будущем, предполагали также, что союз трех великих держав после войны сохранится. Побледней иллюзии суждено было рассеяться спустя всего несколько месяцев, после взрыва атомной бомбы над Хиросимой...
(обратно)Глава III. Берлин в июне 1945 г.
Берлин был совсем не похож на себя. Вокруг виллы росли кусты жасмина, и сад был напоен их сильным, сладким ароматом. На деревьях щебетали птицы, а в конце залитой солнцем аллеи виднелась ярко-голубая гладь озера Ваннзее.
«Хорошо жили, паразиты», - сказал русский парень, часовой у ворот виллы. Это был юноша лет 19-20, с пушком на подбородке, краснощекий, со смеющимися голубыми глазами. На гимнастерке защитного цвета у него были медали «За оборону Сталинграда» и «За отвагу». «Хорошо жили, паразиты, - повторил он. - В Восточной Пруссии у них были огромные имения, а в городах, которые не сожгли или не разбомбили к чертям, много красивых домов. А полюбуйтесь на эти дачи! Зачем же они напали на нас, если им так хорошо жилось?»
Эта мысль особенно занимала солдата Красной Армии в то первое лето в Германии. Признаки «западного» процветания не произвели на них ошеломляющего впечатления, их просто возмущало, что эти «богатые» немцы хотели завоевать Россию.
«А подумайте, сколько они убили наших ребят, - продолжал часовой. - Под Берлином было жарко. Некоторые немецкие юнцы прямо с ума посходили: некоторые бросались на наши танки со своими фаустпатронами и немало их подбили. А девчонки бросали из окон ручные гранаты. Теперь-то все они присмирели. А между прочим, среди немцев есть неплохие люди. Конечно, они напуганы, потому-то они такие вежливые. Я, знаете, потерял по пути сюда многих своих товарищей, и никто не мог быть уверен, что доберется живым до Берлина. Сейчас-то мне хорошо. У нас, четверых своя моторка, и вечерами мы катаемся по озеру. Здесь несколько соединяющихся между собой озер, так что на лодке можно проехать много километров. Неплохое тут местечко, как вы считаете? Немцев сейчас сюда не пускают. Оно называется Венденшлосс».
«Паразит», которому принадлежала вилла, был, как видно, важной птицей в местной организации нацистской партии. У меня в спальне еще лежали немецкие книги, преимущественно нацистская литература: «Майн кампф», сборник речей Геринга и его биография с множеством идиллических фотографий этой скотины. Все книги были подношениями местного комитета нацистской партии.
Венденшлосс был отгорожен от остального Берлина. В большой вилле на берегу жил маршал Жуков, и 5 июня в яхт-клубе состоялась, по выражению газет, «большая межсоюзническая церемония». Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Делаттр де Тассиньи сели вокруг большого, крытого зеленым сукном стола и подписали Декларацию о поражении Германии и о взятии на себя верховной власти правительствами четырех союзных держав, а также соглашение о создании Контрольного Совета.
Во время церемонии в Венденшлоссе я беседовал с маршалом Соколовским, которого видел последний раз в трудные дни 1941 г. Я напомнил ему, как за две недели до генерального наступления немцев на Москву он доказывал, что Красная Армия постепенно измотает немецкую армию. Он радостно улыбнулся, сказав, что помнит встречу с представителями прессы в Вязьме. Он сказал, что «совершенно уверен» в том, что Гитлер мертв, хотя его останки и не удалось опознать со всей определенностью. «Но, видимо, не приходится сомневаться, что он мертв», - сказал Соколовский. «То же относится и к Геббельсу со всем его семейством, - добавил он, - но это уже всем известно». Заявление Соколовского представляло тем больший интерес, что в тот момент - как и долгое время после этого - распространялись слухи, что Гитлер, возможно, сбежал. Замечание Соколовского было единственным в своем роде. Заявление Жукова по этому же вопросу, сделанное через несколько дней, предназначалось «для печати» и было куда более осторожным.
Ни один человек, знакомый с нацистской Германией и переживший войну - во Франции в 1940 г., в Англии во время «битвы за Англию» и налетов германской авиации на Лондон и в СССР все остальные ее годы, - не мог не испытать чувства злорадства при виде Берлина. Столица гитлеровского «тысячелетнего рейха» почти полностью превратилась в груду развалин. На всей бесконечной Франкфуртер-аллее уцелело только одно здание, в котором теперь разместился комендант Берлина. Александерплац, Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе, Вильгельмштрассе, затем Потсдамерплац, Клейстштрассе, Тауэнтцинштрассе и расположенная за ними Курфюрстендам (лишь на последней сохранилось несколько зданий) - все эти знакомые места были разрушены. На пустырях Вильгельмштрассе, где стояло полуразрушенное здание гитлеровской имперской канцелярии, теперь витали лишь тени: тени миллионов людей, вопивших «Хайль Гитлер!» в день, когда он стал канцлером, тени отрядов СА, которые в нескончаемом факельном шествии маршировали мимо своего фюрера.
Но теперь Германия уже не маршировала: она пришла к концу пути. Среди развалин Вильгельмштрассе царила тишина, нигде не было видно ни души, и только из разрушенных домов тянуло трупным запахом. Издаваемая по советской лицензии немецкая газета «Теглихе рундшау» печатала фотоснимки с изображением развалин Берлина, напоминая, как Гитлер говорил в 1935 г.: «Через десять лет Берлин станет неузнаваем».
С момента капитуляции немцев прошел месяц. В начале мая в Берлине царил полнейший хаос: миллионы людей бродили среди развалин, не зная, что делать, куда пойти и где найти кусок хлеба. 4 мая, спустя два дня после капитуляции Берлина, советский комендант генерал Берзарин издал свой первый приказ:
«2. …Национал-социалистскую немецкую рабочую партию и все подчиненные ей организации… распустить… Руководящему составу всех учреждений НСДАП, гестапо, жандармерии… и всех других государственных учреждений в течение 48 часов… явиться… для регистрации.
В течение 72 часов на регистрацию также обязаны явиться все военнослужащие немецкой армии, войск СС…
4. Все коммунальные предприятия… все продовольственные магазины и хлебопекарни должны возобновить свою работу…
5. …В течение 24 часов… зарегистрировать все имеющиеся запасы продовольствия… Продовольствие отпускать не более как на 5-7 дней…
6. Владельцам и управляющим банков временно всякие финансовые операции прекратить…
7. Все лица, имеющие огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоприемники и радиопередатчики, фотоаппараты, автомашины, мотоциклы и горюче-смазочные материалы, обязаны… все перечисленное сдать в районные военные комендатуры…
Владельцы типографий, пишущих машинок… обязаны зарегистрироваться…
8. Населению города запрещается выходить из долгов и появляться на улицах… с 22.00 вечера до 8.00 утра…
9. Работу… кино, театров… отправление религиозных обрядов в кирках, работу ресторанов… разрешается производить до 21.00…»
Все население, кроме стариков и женщин с малыми детьми, было мобилизовано на работу. Мужчины должны были вернуться к своим обычным занятиям или же выполнять «тяжелую работу», например ремонтировать мосты и демонтировать предприятия; женщины - убирать щебень, складывать в кучи миллиарды кирпичей и хоронить тысячи разлагавшихся среди развалин трупов. Продовольственные карточки получали только лица, зарегистрировавшиеся для работы (а также старики и женщины с детьми). Выдача карточек началась 8 мая, но нормы выдачи продуктов по карточкам низшей категории были далеко не достаточными. Cрaзу же стал процветать «черный рынок». Немцы, которым нечего было обменять на продукты, просто голодали. Это особенно относилось к Берлину и Дрездену.
Сразу начался демонтаж предприятий - так называемая «трофейная акция». Демонтаж осуществлялся под руководством прибывших из СССР инженеров.
Спустя месяц после капитуляции Берлина полный хаос стал уступать место известному порядку. 5 июня был образован Союзный Контрольный Совет, а 9 июня маршал Жуков объявил о создании под своим началом Советской военной администрации в Германии - СВАТ. Еще до этого какое-то подобие администрации было создано в столице комендантом Берлина генералом Берзариным. 10 июня последовал приказ № 2 маршала Жукова, разрешавший образование и деятельность «всех антифашистских партий». На следующий же день Коммунистическая партия Германии во главе с Пиком и Ульбрихтом высказалась за «особый путь для Германии»:
«Мы считаем, что было бы неправильным навязывать Германии советскую систему, ибо она не соответствует нынешним условиям развития Германии. Мы, напротив, считаем, что жизненным интересам немецкого народа… соответствует… путь создания антифашистского, демократического режима, парламентарно-демократической республики, в которой народ пользовался бы демократическими правами и свободами».
Аналогичную позицию заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), часть руководства которой - а именно Фехнер, Гротеволь и Гнифке - вскоре высказалась за образование объединенной социалистическо-коммунистической партии, которая и была создана через год под названием Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). СВАТ разрешила также образование буржуазных партий - католической ХДС и либеральной ЛДПГ, при условии, что эти партии войдут в единый антифашистский фронт. Такой антифашистский блок был создан 14 июля 1945 г.
В те дни в Берлине были тысячи советских солдат. На развалинах рейхстага, где много дней шли кровопролитные бои, на колоннах разбитых Бранденбургских ворот, на пьедесталах Колонны победы, памятника Бисмарку, поваленной конной статуи кайзера Вильгельма I были нацарапаны, написаны карандашом или краской тысячи русских имен: «Сидоров из Тамбова» или «Иванов прошел от Сталинграда», «Михайлов, бивший фрицев под Курском», «Петров прошел от Ленинграда до Берлина» и т.д. В Тиргартене, вокруг рейхстага, были могилы советских солдат, а на главных улицах, особенно на более оживленных и менее разрушенных улицах Восточного Берлина, повсюду виднелись плакаты: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается». Упоминание о «германском государстве» давало многим немцам повод считать, что вскоре будет образовано центральное германское правительство. На перекрестках улиц стояли немецкие полицейские с белыми нарукавными повязками; в городе ходило несколько трамваев и действовали одна-две линии метро. Из других тоннелей метрополитена откачивали воду: они были затоплены по приказу Гитлера, и там погибло много людей.
На главных улицах наблюдалось оживленное движение военного транспорта, а также сотен тачек и тележек, на которых немцы перевозили свои пожитки. Встречались также грузовики с перемещенными лицами. Немцы выглядели покорными, и лишь изредка можно было заметить чей-нибудь злобный взгляд. Большинство из них были заняты на расчистке улиц и ремонте мостовых.
Русские общались с немцами больше, чем этого можно было ожидать. На углах улиц можно было видеть солдат, болтающих с немецкими мужчинами и девушками. Наиболее общительными были мальчишки и пожилые женщины. Мальчишки выпрашивали у русских продукты и сигареты, а пожилые женщины проявляли своего рода материнскую фамильярность. Они махали водителям советских грузовиков, прося подвезти, и грузовики нередко останавливались.
Комендант Берлина генерал-полковник Берзарин представлял собой прекрасный образчик советского генерала[262]. Ему определенно не улыбалась перспектива поделить вскоре Берлин с англичанами, американцами и французами. Он считал, что, раз Красная Армия потеряла тысячи людей в этом ожесточенном завершающем сражении войны, значит, она заслужила весь Берлин. Он находил также, что сделал все возможное в Берлине в невероятно трудных условиях мая 1945 г. и дела уже стали налаживаться. Прибытие других только вызвало бы соперничество и трения и подорвало бы авторитет в глазах немцев…
Во всяком случае, Берзарин не особенно нуждался в союзниках, и меньше всего в англичанах. Сын ленинградского сталевара, старый член партии, он в 1918 г. четырнадцатилетним подростком вступил в Красную Армию, а в 1919 г. воевал против англичан в Архангельске. «Да, - говорил он, - там мне довелось драться с нашими нынешними союзниками. Сперва они задали нам трепку, но позже я понял, какие они хорошие спортсмены, бегали они, несомненно, здорово!» В 1939 г. он участвовал в боях на Халхин-Голе, в 1941 г. командовал армией в Риге и «там принял первый удар немцев. Могу вас заверить: это был весьма сильный удар». Затем он воевал на разных фронтах, и вот «наша армия первая вышла на Одер, и это перед нами немцы наконец капитулировали в Берлине в прошлом месяце».
«Но нам пришлось тяжело, - продолжал он. - Это сражение выиграли наши артиллерия и пехота. Бомбардировщики союзников причинили Берлину большой ущерб, но не имели прямого военного значения. Союзники сбросили на Берлин 65 тыс. тонн бомб, мы же за две недели выпустили по нему 40 тыс. тонн снарядов. Нам приходилось сносить целые дома при помощи танков и артиллерии. Немцы дрались, как фанатики. Юнцы и девчонки бросали в нас ручные гранаты и обстреливали наши танки своими дьявольскими, почти самоубийственными фаустпатронами. По всему Берлину было построено много баррикад. Наконец 2 мая они капитулировали. Значительная часть населения и тысячи солдат укрывались в подвалах и убежищах. Но даже после капитуляции некоторые эсэсовцы и молодежь из «Гитлерюгенд» продолжали стрелять в нас из развалин. Это продолжалось несколько дней. И теперь еще время от времени случаются убийства советских солдат и особенно офицеров, но в общем все спокойно…»
Он утверждал, что в мае 1945 г. Красная Армия спасла Берлин от голода. Приведя цифры, характеризующие постепенное восстановление метро, трамвайных линий, телефона, газовой сети и т.д., он перешел к вопросу о нормированном снабжении. Все жители получали в день по 300 г картофеля, но нормы выдачи других продуктов сильно менялись в зависимости от категории: хлеб - от 600 до 300 г, мясо - от 80 до 20 г, сахар - от 30 до 15 г. Часть продовольствия даже приходилось доставлять из СССР.
«Скоро, однако, - сказал Берзарин, - немцам придется кормить Красную Армию, которая сейчас находится в основном на собственном довольствии, и поэтому мы требуем от крестьян выращивать всего как можно больше». Берзарин собирался разрешить в Берлине «вольную торговлю», что побудило бы крестьян везти продукты в город.
Население Берлина уже насчитывало почти три миллиона, а люди все прибывали. Серьезную проблему представляло медицинское обслуживание: все врачи были мобилизованы, а в Берлине в специальных госпиталях находилось 40 тыс. раненых немцев. Наиболее трудной была, конечно, жилищная проблема: 45% домов в Берлине было разрушено полностью. 35% частично и лишь 15-20%, главным образом в пригородах, осталось более или менее невредимым. Для большинства населения работы не было, и его использовали на расчистке улиц.
Берзарин дал также понять, что советские власти ценили помощь активных антинацистов и что все настоящие антинацисты пользовались большими преимуществами.
«Мы поручаем антинацистам проверять все назначения, особенно в полиции. Полицейских тщательно отбирают, но, несмотря на это, им не разрешается носить огнестрельное оружие, а только дубинки. На низших должностях мы разрешаем оставаться номинальным, неактивным нацистам. Все бывшие нацисты обязаны зарегистрироваться для направления на работу.
Культурная жизнь развивается: в Берлине работают 200 кинотеатров, и мы показываем им советские фильмы. Центром музыкальной жизни является Радиоцентр. Здесь опять выступает оркестр немецкой оперы под управлением Людвига. Школы будут открыты в ближайшем будущем, но все нацистские школьные учебники придется заменить. По-видимому, трудно будет найти достаточное число учителей-антинацистов.
Мы организовали муниципалитет, его возглавляет обер-бургомистр д-р Вернер, и он состоит из 16 отделов: продовольственного снабжения, здравоохранения, промышленности, торговли, административного, просвещения и т.д.».
Берлинский муниципалитет размещался в чудом уцелевшем здании бывшей страховой компании неподалеку от Александерплац. Обер-бургомистр д-р Вернер был худой красивый старик лет 68 в долгополом черном сюртуке, крахмальном воротничке и черном галстуке. Он был богатый рантье, имел собственную виллу в Лихтерфельде; советские войска захватили его за несколько дней до вступления в Берлин и назначили обер-бургомистром[263]. Вернер сказал, что до 1942 г. он жил хорошо и имел большой доход, но затем настали трудные времена, и он похудел на 24 килограмма. Постоянные бомбардировки Берлина измучили его. Теперь он говорит всю правду. Генерал Берзарин «оказал ему большую честь», назначив его обер-бургомистром Берлина. Снабжение Берлина продовольствием - труднейшая проблема, так как нацисты уничтожили все продовольственные склады, заявив: «Пока мы здесь, у вас будут продукты, но, когда придут большевики, вы будете голодать». Однако положение сейчас далеко не столь плохое, как ожидали немцы, вначале очень напуганные. Красная Армия предоставила Берлину тысячу грузовиков для вывоза мусора и проведения кое-каких восстановительных работ, а ему (Вернеру) дали машину, так как он живет в пятнадцати километрах от работы, и охрану из шести солдат. «Советские власти, - заявил он также, - дали нам 25 млн. марок, и этот великодушный жест был по достоинству оценен всеми берлинцами». К концу лета откроются школы, а «когда я поставил перед генералом Берзариным вопрос о религиозном воспитании, он сказал: «Мне безразлично, можете воспитывать их в религиозном духе». Эти слова обрадовали меня, так как я и моя семья - очень набожные лютеране».
Он сказал, что в берлинском муниципалитете есть отдел по делам церкви, его возглавляет католический священник Бухгольц, который после событий 20 июля 1944 г. был брошен в концлагерь. Вернер рассказал, что в Лихтерфельде у него есть сад с великолепными кустами роз и что он надеялся вскоре уйти на покой. Но сейчас он считает своим долгом сделать все, что в его силах, чтобы реабилитировать немецкий народ в глазах остального мира. Ведь немцы ужасно низко пали.
В этом ветхозаветном консервативном немце было что-то жалкое. Жалким, но по-другому, был и Гешке, маленький, изможденный человек, с налитыми кровью глазами. Он казался очень больным. Этот бывший депутат от германской компартии 12 лет провел в концлагере. В берлинском муниципалитете он возглавлял социально-бытовой отдел, а рассказывая о лагере, о пытках и газовых камерах, он вдруг не сдержался и заплакал.
Немцы, освобожденные из концлагерей, даже такие надломленные люди, как Гешке, играли важную роль в эти первые недели в Берлине: они подбирали сотрудников для немецкой администрации, занимались «демократической» пропагандой и проводили денацификацию. До образования четырех разрешенных советскими властями партий чисткой администрации и налаживанием «культурной жизни» в Берлине, в частности берлинского радиовещания, активно занималась организация под названием АНТИФА,
Спустя несколько дней маршал Жуков устроил свою знаменитую пресс-конференцию на веранде своей виллы с видом на озеро Ваннзее. Присутствовал также Вышинский. Жуков производил впечатление выдающейся личности. Москва, Ленинград, Сталинград, а потом еще и это наступление, начавшееся 12 января на Висле и закончившееся здесь, в Берлине, - имя Жукова было неотделимо от всего этого. Однако держался он просто и добродушно.
Он рассказал о сражении за Берлин:
«Оно не было похоже на битву под Москвой, Ленинградом или даже Сталинградом… В первые годы войны нам часто приходилось воевать в исключительно неблагоприятных условиях. К тому же у наших офицеров и солдат тогда не было такого опыта, как сейчас. В сражении за Германию мы имели превосходство в людях, танках, самолетах, артиллерии и во всем прочем в соотношении 3 : 1, а иногда даже 5 : 1. Но важно было не просто взять Берлин (это подразумевалось само собой), а взять его в кратчайший срок. Немцы ожидали нашего удара. Поэтому… мы очень долго думали над тем, как бы организовать его внезапно для противника.
…Я выбрал способ внезапной атаки ночью всем фронтом[264]. Прежде всего нами была проведена ночная артиллерийская подготовка, чего, по показаниям пленных, немцы не ожидали. Они предполагали, что мы, возможно, будем действовать ночью, но не думали, что это будет главная атака. Вслед за артиллерийской подготовкой нами была проведена ночная танковая атака. В наступление нами было брошено более четырех тысяч танков при поддержке двадцати двух тысяч стволов артиллерии и минометов. С воздуха удар сопровождался четырьмя-пятью тысячами самолетов… В течение суток было проведено свыше пятнадцати тысяч самолето-вылетов… Чтобы помочь танкам в ориентировке ночью, мы применили никем не проводившуюся до сих пор ночную подсветку прожекторами.
Это было около четырех часов, в ночь на 16 апреля. Применением этой новинки мы имели в виду не только подсветить нашим танкам и пехотинцам, но и ослепить противника, чтобы он не мог вести точный прицельный огонь.
Мы очень быстро прорвали германскую оборону на Одере на широком фронте. Противник, видя, что его оборона не выдержала, бросил на свою защиту все резервы из района Берлина и даже снял часть гарнизона из самого Берлина. Он надеялся остановить нас резервами, снятыми с обороны Берлина, и в этом был его большой просчет. Подходящие резервы врага были во встречных сражениях разбиты с воздуха и нашими танками. Когда советские войска прорвались к Берлину, оборона города была в ряде мест оголена. В частности, была оголена зенитная оборона противника».
Свое краткое сообщение Жуков закончил в типично профессиональном духе:
«Это было поучительное и интересное сражение, особенно в отношении темпов и тактики ночного боя такого масштаба.
Главное то, что немцы были разгромлены на Одере, в самом Берлине фактически происходила просто огромная операция по очистке. Сравнения с битвой под Москвой здесь не может быть»[265].
Кто-то спросил об отношении Советского Союза к немцам. Он ответил, что это будет зависеть от поведения немцев и что чем скорее они сделают для себя правильные выводы из того, что произошло, тем лучше. Он [Жуков] стоит за скорый суд над немецкими военными преступниками. Он считает, что по этому вопросу между союзниками достигнуто соглашение. «А по другим вопросам?» - поинтересовался кто-то. «По другим вопросам, - сказал он, - также должно быть достигнуто соглашение, если мы не хотим играть на руку немцам».
Рассказав о свадьбе Гитлера и Евы Браун в бомбоубежище, но, не высказав ясного мнения о дальнейшей судьбе «фюрера», Жуков затем неофициально рассказал о себе, сообщил, что родился в 1896 г. в Калужской области, что с 11 лет работал в скорняцкой мастерской, что в Первой мировой войне участвовал сначала как рядовой, а затем как унтер-офицер Новгородского драгунского полка и был награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями.
Жуков напомнил, что он член партии с 1919 г., а затем рассказал о своем пребывании на Дальнем Востоке, где в 1939 г. он громил японцев на Халхин-Голе.
«Немцы, - сказал он, - с технической точки зрения сильнее, чем японцы, и к тому же они очень хорошие солдаты (этого нельзя отрицать), но в общем у германской армии нет настоящего фанатизма, как у японцев».
Далее Жуков перешел к тому, что он назвал своей «основной деятельностью» во время только что закончившейся войны:
- С самого начала войны я занимался подготовкой обороны Москвы. Перед битвой под Москвой пришлось в течение некоторого времени заботиться также о Ленинграде, а потом уже было само Московское сражение. После этого мне пришлось организовывать оборону Сталинграда и затем сталинградское наступление. Я был заместителем Верховного Главнокомандующего. Далее была Украина и Варшава, остальное вы знаете.
- А Курск и Белоруссия? - спросил кто-то.
- Верно, к ним я также имел некоторое отношение, - улыбнулся Жуков.
Жуков воздал должное Сталину и «его прекрасному пониманию военных вопросов».
Несколько месяцев спустя маршал Жуков был отозван из Германии и назначен на сравнительно скромный пост командующего Одесским военным округом.
(обратно)Глава IV. Три месяца мира. Потсдам
Xотя всем было известно, что в эти летние месяцы на Дальний Восток перебрасывается большое количество войск, советский народ в целом очень мало думал о Японии. Для него война - настоящая война - закончилась с разгромом гитлеровской Германии. Описать общее настроение в то лето 1945 г. - дело не из легких. Это настроение складывалось из множества различных моментов. Главным, конечно, было чувство величайшего облегчения, что война кончилась. Но наряду с этим было и чувство огромной национальной гордости и ощущение грандиозности достигнутого: каждый солдат и почти каждый гражданин чувствовал, что и он внес свой вклад. Свое наиболее полное выражение это чувство стихийной радости, гордости и облегчения нашло, пожалуй, в тот незабываемый День Победы в Москве 9 мая.
Армия пользовалась огромной популярностью. 24 мая Сталин устроил в Кремле большой прием в честь советских маршалов, генералов и других высших офицеров. Там он произнес речь, в которой с особой похвалой отозвался о русском народе, являющемся «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». Он сказал, что русский народ - это «руководящий народ», у которого «имеется ясный ум, стойкий характер и терпение». У Советского правительства, заявил Сталин, было немало ошибок, но даже в моменты отчаянного положения в 1941-1942 гг. русский народ не потребовал ухода правительства, не допускал и мысли о мире с Германией, проявил доверие к Советскому правительству и решил любой ценой воевать до победы.
Затем, 24 июня, наступил черед великого апофеоза Красной Армии - на Красной площади состоялся знаменитый Парад Победы. Парад принимал маршал Жуков; Рокоссовский командовал парадом. Во время парада сотни немецких знамен были брошены под проливным дождем к подножию Мавзолея Ленина, к ногам победоносца Сталина. Из-за ливня демонстрация, которая должна была состояться после военного парада, была отменена. В тот же день вечером Сталин устроил в Кремле прием для 2500 генералов, офицеров и солдат. Здесь он произнес еще одну речь, в которой восхвалял «маленьких людей», «винтики» гигантской машины, без которых эта машина, со всеми ее маршалами, генералами и руководителями промышленности, не могла бы работать.
Прошло немного времени, и война стала делом прошлого. Вскоре после окончания войны с Японией вышла поэма Недогонова под названием «Флаг над сельсоветом», которая очень широко рекламировалась. Сущность ее сводилась к тому, что если ты солдат, то не должен почивать на лаврах, а хорошо работать в колхозе.
Все, что делалось, в общем было понятно. В 1945 г. экономическое положение Советского Союза было тяжелым; нужно было демобилизовать как можно больше солдат Красной Армии и приступить к суровому повседневному труду по восстановлению мирной экономики. Немцы разрушили полностью или частично сотни городов и десятки тысяч сел и деревень. Такие промышленные центры, как Харьков, Киев, Сталинград, Одесса, Ростов, Запорожье и Кривой Рог, район Донбасса, а также многие другие были разрушены. Миллионы русских, украинцев и белорусов были угнаны в Германию, и большинство из них вернулось больными или совершенно истощенными. Общие потери достигали 20 млн. человек, то есть одной десятой всего населения. Это был потрясающий процент потерь, равный которому знали только Польша и Югославия. Кроме того, насчитывалось несколько миллионов инвалидов войны.
Гражданскому населению Советского Союза в годы войны пришлось не только недоедать, но и слишком много работать. Сельское хозяйство страны держалось исключительно на женщинах, и они же обеспечивали работу промышленности во время войны, В 1945 г. женщины составляли 51% всех промышленных рабочих в Советском Союзе. Среди остальной части рабочих было много подростков.
Несмотря на все усилия советского народа, направленные на обеспечение работы военной промышленности (а без этих усилий масс СССР никогда не смог бы выиграть войну), к концу войны положение в промышленности в целом было очень тяжелым. После освобождения в 1943-1944 гг. некоторых промышленных районов и благодаря интенсификации производства на востоке и в центральных районах СССР производственные показатели за первые шесть месяцев 1945 г. несколько улучшились по сравнению с первым полугодием 1944 г. Но это было очень мало даже по сравнению с довоенными цифрами, тоже не слишком высокими.
«В первом полугодии 1945 г. добыча угля составила по отношению к первому полугодию 1941 г. лишь 77%, нефти - 54%, выработка электроэнергии - 77%, выплавка чугуна - 46%, стали - 52%, выжиг кокса - 54%… производство металлорежущих станков - 65%»[266].
Почти все ресурсы направлялись в военную промышленность, которая в первом полугодии 1945 г. выпустила почти 21 тыс. самолетов, 29 тыс. авиационных двигателей, более 9 тыс. танков, более 6 тыс. самоходных артиллерийских установок, 62 тыс. орудий, 873 тыс. винтовок, автоматов и пулеметов, 82 млн. снарядов, авиационных бомб и мин, более 3 млрд. патронов и т.д. По сравнению с 1941 г. промышленный потенциал Советского Союза практически сократился вдвое. В 1945 г. СССР выплавлял в восемь раз меньше стали, чем США. Советскому Союзу предстояло решить гигант-скуку задачу восстановления и развития экономики. Сельское хозяйство необходимо было почти заново снабдить машинами и обеспечить химическими удобрениями. Увеличение производства сельскохозяйственных машин и удобрений было одной из первых неотложных задач после окончания войны в Европе.
Поголовье скота, не такое уж большое в 1940 г., в 1945 г. стало еще меньше. В 1945 г. насчитывалось всего 47,4 млн. голов крупного рогатого скота (на 3,2 млн. больше, чем в 1944 г.). К концу 1945 г. общее поголовье крупного рогатого скота составляло по сравнению с 1940 г. всего 87%, в том числе коров - 82%, овец - 70%, свиней - 38%, лошадей - 51%. В освобожденных районах этот процент был еще ниже (крупный рогатый скот - 76 %, свиньи - 34 %, лошади - 44 %)[267].
Кроме того, в 1945 г. ощущалась нехватка высококачественных кормов. По этой и другим причинам государственные заготовки мяса составили по сравнению с 1940 г. 61,8%, а молока и молочных продуктов - 45%. Это означало, что населению, особенно городскому, приходилось по-прежнему довольствоваться скудными нормами. Принимались специальные меры, чтобы более или менее удовлетворить потребности промышленных рабочих и обеспечить дополнительным питанием школьников. Но большинству советских граждан все еще приходилось туго, и их рацион состоял почти исключительно из хлеба, картофеля и овощей с прибавлением очень небольшого количества сахара, жиров, мяса или рыбы. В 1945 г. я знал многие семьи, получавшие продовольственные карточки по категории служащих, которые хотя и не голодали в полном смысле слова, однако питались плохо и для которых кусок сахара к чаю был почти роскошью. Прекращение помощи по ленд-лизу, за счет которой в значительной мере обеспечивалось снабжение армии продовольствием, привело к заметному снижению общего количества продуктов питания, потреблявшихся в СССР. На Украине и в Белоруссии некоторую помощь, хотя и не слишком щедрую, оказывала ЮНРРА. Населению остальной территории Советского Союза от ЮНРРА не поступало никакой помощи. Сильная засуха 1946 г. временно еще более ухудшила положение в очень обширных районах Советского Союза.
Нельзя, однако, сказать, что эти лишения послевоенного периода, которые были в конечном счете лишь продолжением трудностей военного времени, снизили общий моральный дух советского народа, не считая того, что некоторое ослабление дисциплины в военное время нашло вскоре свое отражение в расширении «черного рынка» и в значительном росте преступности - обычном послевоенном явлении в большинстве стран. Однако летом 1945 г. настроение было по-прежнему приподнятое в связи с возвращением домой миллионов солдат. Во многих местах жизнь уже начала подниматься из руин. Быстро восстанавливались шахты Донбасса, приступил к выпуску тракторов Харьковский тракторный завод. В западных областях РСФСР и в Белоруссии быстро отстраивались заново деревни, хотя, как правило, строительство велось самыми примитивными методами. Сотни тысяч людей возвращались в Ленинград. Восстановление, начавшееся в освобожденных районах уже в 1944 г., пошло быстрее.
Наряду с этим были и миллионы личных трагедий - трагедии женщин, потерявших теперь всякую надежду на возвращение из плена своих мужей и сыновей, или трагедии бывших военнопленных, которые пережили войну, но теперь проходили проверку в НКВД, причем многим из них суждено было отправиться на много лет в лагеря,
Эти три мирных месяца «между окончанием войны с Германией и началом войны с Японией» протекали в несколько тревожной международной обстановке. Однако время холодной войны еще не наступило и официальные отношения СССР с его западными союзниками оставались дружественными.
В числе других дружественных жестов этого лета было вручение маршалом Жуковым орденов «Победа» Эйзенхауэру и Монтгомери. В порядке ответной любезности Монтгомери вручил высшие английские ордена маршалам Жукову и Рокоссовскому и генералам Соколовскому и Малинину.
С другой стороны, было много и всяких неприятностей. Так, советская печать с возмущением писала о «наглом и оскорбительном поведении английского фельдмаршала Александера по отношению к югославам в Триесте»[268].
Кроме того, русские, как уже было сказано выше, гневно обвиняли Черчилля в «подозрительном покровительстве» «фленсбургскому правительству». Затем имели место энергичные протесты против временного ареста в Северной Италии Ненни и Тольятти и много упреков в связи с английской политикой в Греции. Подчеркивалось, что коммунисты играли ведущую роль в итальянском и французском движении Сопротивления, но при всем том позиция русских по отношению к французской, итальянской и другим западным коммунистическим партиям оставалась весьма осторожной.
Самой острой проблемой в отношениях между западными союзниками и СССР в начале лета 1945 г. продолжала оставаться Польша. Еще до вступления на собственно польскую территорию, то есть в Западной Белоруссии и Литве, Красная Армия столкнулась с известным вооруженным сопротивлением и диверсионными актами со стороны «лондонского» польского подполья, Армии Крайовой, а с вступлением Красной Армии в Польшу положение ухудшилось. Советская сторона утверждала, что поляки убили несколько сот солдат и офицеров, Армия Крайова была изобличена в совершении многих террористических актов против советских представителей и в саботаже вербовки поляков в Польскую армию, сражавшуюся бок о бок с Красной Армией. В Польше также велась усиленная антисоветская пропаганда, проводившаяся как «лондонским» подпольем, так и церковью.
В январе 1945 г. по указаниям из Лондона Армия Крайова официально самораспустилась, но была заменена тайной организацией НИЕ (от слова - «ниподлеглосць» - независимость), которую возглавил генерал Окулицкий. (После поражения Варшавского восстания Окулицкий был назначен командующим Армией Крайовой вместо генерала Бур-Коморовского.) Новое подполье, «унаследовавшее» военное снаряжение и радиопередатчики Армии Крайовой, продолжало свою деятельность и после освобождения Красной Армией всей Польши. Поэтому в марте Советское правительство приняло решительные меры против антисоветских элементов в польском движении Сопротивления. Окулицкий и ряд других поляков, в том числе три члена «польского подпольного правительства» (Ян Янковский, Адам Бен и Станислав Ясюкович) и председатель «подпольного парламента» Пужак, были арестованы и увезены в Москву. 28 апреля Черчилль обратился к Сталину с посланием, в котором с тревогой спрашивал относительно «пятнадцати поляков», которые, по слухам, были «депортированы». 4 мая Сталин ответил, что он не намерен умалчивать об этих шестнадцати (а не пятнадцати) поляках. Все они или некоторые, в зависимости от результатов следствия, будут преданы суду.
«[Они] обвиняются в подготовке и совершении диверсионных актов в тылу Красной Армии, жертвой которых оказалось свыше ста бойцов и офицеров Красной Армии, а также обвиняются в содержании нелегальных радиопередающих станций в тылу наших войск. Все они или часть из них, в зависимости от результатов следствия, будут преданы суду. Так приходится Красной Армии защищать свои части и свой тыл от диверсантов…»
Он охарактеризовал Окулицкого как человека, отличающегося «особенной одиозностью»[269].
Арест этих поляков и весь польский вопрос был главной темой бесед Сталина и Гопкинса с 26 мая по 6 июня. Эти шесть встреч имели место во время «последней миссии», взятой на себя Гопкинсом (очень больным человеком, скончавшимся несколько месяцев спустя) по просьбе нового президента Гарри Трумэна. При первой же встрече со Сталиным Гопкинс припомнил, как на обратном пути из Ялты президент Рузвельт «часто отзывался о маршале Сталине с уважением и восхищением», но добавил, что «в последние шесть недель произошли такие глубокие изменения в общественном мнении, что это может неблагоприятно сказаться на отношениях между нашими двумя странами».
«В такой стране, как наша, - сказал Гопкинс, - на общественное мнение влияют конкретные инциденты и что в данном случае ухудшение… вызвано нашей неспособностью провести в жизнь Ялтинское соглашение о Польше».
Он неоднократно возвращался к этому вопросу, заявляя, что в глазах общественности Соединенных Штатов «Польша стала символом нашей способности разрешать проблемы с Советским Союзом». Гопкинс настаивал, чтобы Сталин ускорил формирование «нового» польского правительства, а также освободил находившихся под арестом руководителей польского подполья.
Сталин не хотел уступать в этом вопросе: деятели этого подполья не только совершили тяжкие преступления против Красной Армии, но к тому же представляли столь дорогую сердцу Черчилля политику «санитарного кордона». Английские консерваторы, говорил Сталин, не хотят, чтобы новая Польша была дружественной Советскому Союзу. В ответ на уговоры Гопкинса обеспечить в Польше все необходимые демократические свободы, как их понимала Америка, Сталин заявил, что 1) упомянутые Гопкинсом свободы могут быть введены лишь в мирное время, и то с некоторыми ограничениями; и что 2) например, фашистской партии, намеревающейся свергнуть демократическое правительство, нельзя разрешить полностью пользоваться этими свободами. Очевидно, по мысли Сталина, слово «фашистские» было применимо к Армии Крайовой и ко всем другим польским элементам, враждебно относившимся к СССР.
Тем не менее было достигнуто фактическое соглашение о включении в состав польского правительства Миколайчика и еще нескольких человек, и после четвертой встречи со Сталиным Гопкинс имел возможность доложить Трумэну:
«Кажется, Сталин намерен выполнить Крымское соглашение и разрешить представительной группе поляков приехать в Москву для консультации с комиссией» [Молотов - Гарриман - Керр].
Во время шести встреч Гопкинса и Сталина[270] обсуждался, конечно, и ряд других вопросов. Гопкинс просил Сталина безотлагательно назначить члена Контрольного Совета для Германии от Советского Союза, так как от Америки уже назначен Эйзенхауэр. Сталин сказал, что в ближайшие дни назначит Жукова.
Не возражая против прекращения поставок по ленд-лизу, Сталин сказал, что это было сделано «оскорбительным и неожиданным образом». Он сказал, что они (русские) «намеревались выразить в соответствующей форме благодарность Соединенным Штатам за помощь по ленд-лизу во время войны, но обстоятельства, какими сопровождалось прекращение выполнения этой программы, сделали это невозможным». Гопкинс выразил сожаление по поводу «технических неувязок», создавших такое положение, и сказал, что прекращение помощи по ленд-лизу не было «средством давления» на Советский Союз, как это предположил Сталин. Он добавил, что «мы [американцы] никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером. Она была достигнута героизмом и кровью русской армии».
Другой важный вопрос, обсуждавшийся Гопкинсом и Сталиным, касался вступления СССР в войну против Японии. Сталин заявил, что Красная Армия может занять позиции на маньчжурской границе к 8 августа. На этой части переговоров Гопкинса и Сталина мы остановимся далее.
Суд над польским подпольем начался в Москве в Колонном зале Дома Союзов 18 июня и продолжался три дня.
Главный обвиняемый, генерал Окулицкий, щеголеватый польский офицер, искусно и мужественно защищался; признав себя виновным по большинству пунктов обвинительного заключения (организация подполья после роспуска Армии Крайовой, игнорирование приказов Красной Армии о сдаче оружия и радиопередатчиков, секретная связь по радио с Лондоном, антисоветская пропаганда среди населения и т.д.), он отрицал свою ответственность за убийство советских офицеров и солдат. С момента принятия им командования над Армией Крайовой он находился в той части Польши, которая была еще оккупирована немцами, и его власть не распространялась на территорию Восточной Польши и Литвы, где были убиты эти советские люди. А когда Красная Армия вступила в Западную Польшу, там якобы ничего подобного не происходило.
После того как государственный обвинитель генерал Руденко спросил, с какой целью Окулицкий не сдал Красной Армии оружие, радиопередатчики и т.п., состоялся следующий диалог:
«Окулицкий. С целью сохранения для будущего.
Руденко. Против кого?
Окулицкий. Против того, кто будет угрожать.
Руденко. Назовите государство, которое, как вы считали, будет угрожать.
Окулицкий. - Советский Союз.
Руденко. На кого вы ориентировались?
Окулицкий. На блок государств против СССР.
Руденко. Из кого должен был, по-вашему, состоять этот блок - Польша, а еще какие государства?
Окулицкий. Англия…
Руденко. Еще?
Окулицкий. Еще - немцы.
Руденко. Значит, блок с врагами всех свободолюбивых народов - немцами, известными всему миру своей жестокостью, варварством, истреблением мирных жителей?
Окулицкий. Не с немцами, а с Европой. (Смех)»[271].
В последний день суда в своем «последнем слове» перед вынесением приговора Окулицкий признал, что он ошибался, не доверяя Советскому Союзу и доверяя польскому правительству в Лондоне. Это правительство не признало Ялтинское соглашение о Польше, и он сразу же понял, что это было ошибкой. Тем не менее он сохранил польское подполье со всеми его складами оружия и радиопередатчиками, ибо по-прежнему не доверял СССР. Он всегда помнил, что царская Россия угнетала Польшу 123 года, и не был убежден, что победившие русские станут уважать независимость Польши. В то время он не знал, какие изменения произошли в Советском Союзе. Он воевал с немцами, и, по его словам, из его директив Армии Крайовой не видно, что он приказывал совершать террористические акты против советских граждан, а если такие акты имели место без его ведома (а они имели место), то это весьма прискорбно. Что же касается его идей о союзе с Европой, включая Англию и Германию, то это относилось к будущему и носило чисто «гипотетический характер».
Дальше этого Окулицкий не пошел. Но официальные советские круги были вполне удовлетворены: на суде было разоблачено действительное лицо лондонского правительства и косвенно Черчилля с его «санитарным кордоном».
Как Сталин уже предсказывал Гопкинсу, приговоры были вынесены сравнительно мягкие. Государственный обвинитель не потребовал смертного приговора даже для Окулицкого, который был приговорён к 10 годам тюрьмы. Три члена «подпольного правительства» были приговорены к тюремному заключению на срок от 5 до 8 лет, некоторые - к гораздо меньшим срокам, а трое оправданы.
Благодаря настойчивости Гарри Гопкинса комиссии в составе Молотова, Гарримана и Керра удалось наконец добиться сформирования польского «правительства национального единства». В него вошло лишь небольшое число «лондонских поляков», но среди них не было ни одного члена правительства Арцишевского в Лондоне. Наиболее видной фигурой был Миколайчик, за несколько месяцев до этого вышедший из состава лондонского правительства и, правда, неохотно, но признавший Ялтинское соглашение о Польше. Несмотря на сильную враждебность к Миколайчику «люблинских поляков», Черчилль настоял, чтобы его включили в новое польское правительство. Заключительные переговоры, завершившиеся сформированием этого правительства, происходили в Москве с 17 по 24 июня, совпав, таким образом, с судом над Окулицким и другими руководителями польского антисоветского подполья.
Сформированное наконец польское правительство, в честь которого Сталин (перед отъездом членов его в Варшаву) устроил роскошный прием в Кремле, было несколько однобоким, так как ключевые позиции в нем заняли просоветски настроенные поляки. Но это было лучшее, чего западные державы могли добиться в тех условиях, и потому они поспешили признать новое польское правительство. В тот вечер Сталин в своей речи в Кремле говорил о вреде, который Польша и Россия причинили друг другу в прошлом, и признал, что вина России больше, нежели вина Польши. Он даже высказал предположение, что, прежде чем исчезнут вся горечь и обиды прошлого, должно будет вырасти новое поколение поляков. Германия, сказал он, по-прежнему будет представлять собой угрозу для Польши и России, и их союз необходим, но сам по себе он недостаточен, и поэтому обеим странам нужен союз с Соединенными Штатами, Англией и Францией[272].
В это время в самой Польше шла острая борьба между Востоком и Западом. Проведя вскоре после сформирования нового правительства десять дней в Польше, я обнаружил там нечто вроде атмосферы гражданской войны. Прибытие в Польшу необычайно большой группы западных корреспондентов послужило поводом для нескольких антисоветских выступлений. Одно из них носило особенно ужасный характер: в Кракове, чтобы показать нам, что «подполье» действует, возле нашей гостиницы были убиты два советских солдата.
За неимением лучшего символом истинного польского патриотизма стал Миколайчик. Вскоре после его прибытия в Польшу в Кракове состоялась многотысячная демонстрация в честь него. Этот, город стал как бы столицей старой и прозападной Польши, оплотом крестьянской партии - ПСЛ, а также всех клерикальных и наиболее реакционных элементов в стране. Краков с его знаменитыми костелами в стиле барокко и могилой Пилсудского - этой «антирусской» святыней, которую каждый день посещали тысячи людей, - пострадал меньше, чем большинство польских городов. Но хотя именно русские спасли Краков от разрушения, здесь к ним относились враждебней, чем где-либо. Советские солдаты в Кракове со своей стороны держались особенно нервозно.
В Варшаве обстановка была заметно лучше. Город, конечно, являл собой трагическое зрелище. Практически вся правительственная и другая деятельность была сосредоточена в предместье Варшавы - Праге, на другом берегу реки, и через Вислу можно было перейти только по временному деревянному мосту. В собственно Варшаве в числе немногих «живых» мест были гостиница «Полония» и несколько кварталов домов за ней: здесь до самого конца жили немцы, пока горела остальная Варшава. Вокруг на целые километры тянулась пустыня, на которой возвышались остовы сгоревших домов и целые горы обломков. Возле «Полонии» была табачная лавка, торговавшая главным образом сигаретами, полученными от ЮНРРА, а «четырнадцать цветочных ларьков» Варшавы рассматривались как маленькое робкое начало возрождения жизни. Советский Союз передал в дар Варшаве некоторое количество сборных домов, автобусов и трамвайных вагонов, и ходило много разговоров о том, что Россия намерена «восстановить половину Варшавы», но верно это было или нет, все это могло показать лишь будущее. Пока что большинство варшавских рабочих занимались расчисткой улиц и ремонтом тех зданий, которые еще как-то можно было приспособить для жилья. Но поразительнее всего была вера в то, что город будет восстановлен. Демократическое правительство объявило, что это будет сделано, и это было большим его козырем в психологическом отношении. Восстановление Варшавы и граница по Одеру - Нейсе являлись двумя пунктами, в отношении которых все поляки были согласны.
Как-то во время моего пребывания в Варшаве в Краковском предместье, лежавшем в развалинах, состоялась большая демонстрация 20 тыс. рабочих и нескольких крестьянских делегаций; с балкона выгоревшего здания Оперного театра демонстрантов приветствовали все члены правительства, включая Миколайчика. Из рядов демонстрантов неслось много приветствий, но они не обязательно предназначались одному Миколайчику, Многие из этих рабочих, несших красные знамена, были члены ППР и ППС, то есть коммунисты и социалисты. «Поразительно, поразительно, - говорил Миколайчик, - видеть такую жизнеспособность в нашем народе, а ведь эти люди живут среди развалин и голодны, очень голодны…»
В 1945 г. западные земли Польши представляли собой еще пустыню. Почти все немцы ушли, и деревни опустели. Урожай убирали польские и русские войска. Кое-где постепенно появились новоселы - частично из района Львова, а частично с крошечных «нерентабельных» ферм в центральной Польше. Некоторые приезжали без скота, и хотя им передали хорошие дома немецких фермеров, где они уже развесили свои распятия, жили они почти на одном картофеле. Кое-кто из поселившихся в районе между Одером и Западной Нейсе говорил: «Здесь нам дали больше земли, чем мы имели дома, но нам нечем ее обрабатывать - у нас нет лошадей, и потом это все-таки не наша страна». Спустя два года и общая картина в этих районах, и настроение людей совершенно изменились. К 1947 г. они уже стали смотреть на эту землю как на свою страну. Ведущую роль в этом процессе сыграл тогдашний министр западных земель Гомулка.
В 1945 г. там еще жило некоторое число немцев. Мне вспоминается сын местного мельника, дюжий, курносый, веснушчатый парень. Он выглядел растерянным. «Я не знаю, куда они нас пошлют. Нам некуда идти. Я прожил здесь всю жизнь». На дороге мы встретили несколько сот немцев - мужчин, женщин и детей, которые везли свои пожитки. Старики сидели на телегах. Конвоировавшие их польские солдаты заорали на немцев, когда те остановились, чтобы поплакаться нам на свою судьбу. Немцы раньше не жалели поляков, а теперь и поляки не испытывали особой жалости к немцам.
Разрушенный Данциг, ныне Гданьск, был ужасен. Здесь происходили очень тяжелые бои, и вдоль дороги, тянувшейся по побережью, между Гдыней и Данцигом, были десятки братских могил советских солдат. Под Данцигом мы видели фашистский экспериментальный завод по изготовлению мыла из человеческих трупов, которым руководил один немецкий профессор, по имени Шпаннер. Это было кошмарное зрелище: цистерны, полные человеческих голов и тел, плавающих в какой-то жидкости, лохани со слоистым веществом - мылом из людей. Туповатого вида молодой человек, который работал здесь лаборантом и выглядел теперь очень испуганным, сказал, что завод не пошел дальше экспериментальной стадии, но то мыло, какое успели изготовить, было хорошее. Оно плохо пахло, но потом стали добавлять какое-то химическое вещество, и оно придало мылу залах миндаля. Оно нравилось его матери. По его словам, профессор Шпаннер говорил ему, что после войны немцы построят мыловаренные заводы в каждом концентрационном лагере, так что производство сможет опираться на прочную сырьевую базу. Сейчас, когда евреи истреблены, говорил ему Шпаннер, можно приняться за миллионы славян.
По возвращении в Варшаву я беседовал с советским полковником, который сказал: «Здесь повсюду множество террористов из Армии Крайовой и НСЗ (польские фашисты), особенно в таких местах, как Краков. Польским коммунистам приходится трудно. Сотни их работников убиты. Нужно большое мужество, чтобы быть польским коммунистом».
Подспудно (и не так широко) в Польше шла в то время малая гражданская война. Конец ей был положен только в 1947 г. - при помощи широкой амнистии, но и не без содействия армии и сильной полиции. Миколайчик бежал в 1948 г., Осубку-Моравского сменил Циранкевич, а через несколько лет возникла новая Польша во главе с Гомулкой. Было бы, однако, ошибочно предполагать, что в 1945 г. в Польше не было настоящих социалистов или коммунистов или что все поляки обожали Запад. Подобно очень многим чехам, немало поляков очень хорошо понимали, что союз их страны с Западом не принес им пользы в 1939 г.
Не только многие руководители рабочего класса, но и значительная часть интеллигенции рассуждала так: «При такой разрушенной экономике, как наша, и при наличии западных земель, которые нужно заселить и устроить, со всеми этими задачами может справиться только централизованная социалистическая экономическая система». Это был «рациональный» подход. Будущее показало его справедливость.
В конечном счете польский вопрос был как-то улажен на третьей и последней конференции Большой тройки - в Потсдаме.
Советскую делегацию на открывшейся 17 июля Потсдамской конференции[273] возглавляли Сталин и Молотов, американскую - новый президент Гарри Трумэн и новый государственный секретарь Джеймс Бирнс, английскую - сначала Черчилль и Иден, а с 28 июля, то есть после победы лейбористов на всеобщих выборах, Эттли и Бевин - новый премьер-министр и новый министр иностранных дел.
По окончании конференции «Правда» писала 3 августа в передовой статье: «Итоги конференции свидетельствуют о дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества между тремя великими державами, боевой союз которых обеспечил победу в войне против общего врага». В последующие дни «Правда» гневно клеймила как злонамеренную клевету всякого рода предположения, появившиеся, например, в шведской печати, о том, что «в Потсдаме были посеяны семена раскола Европы и Германии».
К несчастью, однако, так оно и было, несмотря на пространное официальное коммюнике, создавшее видимость единства трех великих держав. Но даже этот документ показывал, что по ряду вопросов не было достигнуто соглашения, а решение многих проблем было отложено.
Этот документ на 20 страницах состоял из следующих разделов: I. Преамбула. II. Учреждение Совета министров иностранных дел. III. О Германии. IV. Репарации с Германии. V. Германский флот и торговые суда. VI. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район. VII. О военных преступниках. VIII. Об Австрии. IX. О Польше. X. О заключении мирных договоров и о допущении в Организацию Объединенных Наций. XI. О подопечных территориях. XII. О пересмотре процедуры Союзных контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии. XIII. Упорядоченное перемещение германского населения. XIV. Переговоры по военным вопросам.
Из этого видно, какой широкий круг вопросов обсуждался на тринадцати пленарных заседаниях конференции, не говоря о заседаниях различных комиссий и подкомиссий. Но даже и этот перечень далеко не исчерпывающ. В нем, например, нет специального упоминания о Японии, а между тем она занимала очень важное место в ходе как политических, так и военных переговоров в Потсдаме. Не упомянуты в нем и такие второстепенные вопросы, как Триест и Югославия или франкистская Испания. Главы всех трех держав согласились, что Испанию не следует допускать в ООН, но ни Англия, ни Соединенные Штаты не захотели порвать с ней дипломатические отношения, несмотря на настояния советской делегации.
Одним из важнейших достижений Потсдамской конференции явилось учреждение Совета министров иностранных дел, первоочередной задачей которого была подготовка проектов мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. В свое время Совет должен был также заняться подготовкой мирного урегулирования для Германии.
Большой раздел о Германии касался в основном многочисленных мер по демилитаризации, денацификации и демократизации, которые намечалось провести на ее территории. Ни о каком разделе Германии не было и речи, но в коммюнике говорилось, что пока не будет учреждено никакого центрального германского правительства. Однако предполагалось создать ряд центральных германских административных департаментов, действующих под руководством Контрольного Совета.
Вопрос о судьбе германского военно-морского флота и торговых судов был передан на рассмотрение комиссии экспертов. Англия и Соединенные Штаты согласились в принципе на передачу Советскому Союзу Кенигсберга и прилегающего к нему района. Было также достигнуто соглашение о процедуре, в результате которого был в конечном счете учрежден Нюрнбергский трибунал для суда над главными немецкими военными преступниками и другие суды для разбора аналогичных дел. Вопрос о признании правительства Реннера, сформированного в Австрии, был отложен до вступления в Вену английских и американских войск. Предложение русских, чтобы Советский Союз осуществлял опеку над одной из бывших итальянских колоний, не встретило поддержки со стороны Англии и Америки, и вопрос был передан на рассмотрение Совета министров иностранных дел, которому было поручено разработать мирный договор с Италией. Было решено, что впредь перемещение немцев, еще остававшихся в Польше, Чехословакии и Венгрии, будет осуществляться «организованным и гуманным способом».
Официальный тезис советской печати сводился к тому, что в Потсдаме все шло хорошо. На деле же обстановка в Потсдаме в корне отличалась от обстановки в Тегеране и Ялте. По широкому кругу вопросов выдвигалось много резких взаимных обвинений. Так, англичане и американцы рассматривали советскую политику в Болгарии и Румынии как нарушение ялтинской Декларации об освобожденной Европе. Советские представители парировали аналогичными обвинениями в отношении политики англичан в Греции. Трумэн чинил большие препятствия признанию болгарского, венгерского и румынского правительств. Ряд обвинений против СССР вызвал также вопрос об английской и американской собственности в Румынии, в частности об оборудовании нефтепромыслов, которое было конфисковано немцами, а затем перешло к Советскому Союзу. Русские также обвинили западные державы в установлении в Триесте «итальянского фашистского режима».
Но все это, хотя и явилось показательным, было не главное. Основные разногласия проявились в двух вопросах - о Германии и о Польше. Правда, на первый взгляд все меры по демилитаризации, денацификации и т.д. строго соответствовали предшествующим решениям. Казалось, что Германия также была поставлена под совместный контроль четырех держав. Косвенно был признан принцип политического и экономического единства Германии, и СССР впоследствии считал своей большой заслугой, что он еще в марте 1945 г. решительно возражал против всяких предложений западных держав относительно раздела Германии на западную часть (прилегающую к Руру и Рейнской области), южную часть (включая Австрию с Веной в качестве столицы) и восточную часть со столицей в Берлине. Но хотя такой раздел не был осуществлен, Потсдам, несомненно, заложил основу для раздела другого рода. Особенно наглядно о «зональном» разделе свидетельствовало достигнутое в конечном счете соглашение о репарациях - явно в обмен на принятие западными державами линии Одер - Нейсе, установленной в порядке свершившегося факта в качестве западной границы немецких земель, находившихся «под польским управлением» до окончательного мирного урегулирования с Германией. Эти земли не должны были рассматриваться как часть советской оккупационной зоны Германии.
Если Стеттиниус жаловался, что в Ялте позиции Англии и Соединенных Штатов не были сильными, то Трумэн и Бирнс считали, что в Потсдаме они имели очень сильные позиции. Незадолго перед тем был успешно осуществлен испытательный взрыв атомной бомбы, и, по словам военного министра Генри Стимсона, Трумэн был этим «исключительно доволен и обрадован». Президент заявил, что «это придало ему уверенности» в переговорах с русскими.
Черчилль был в восторге от нового президента и полностью поддерживал его «жесткую» линию в отношении СССР.
Русские были рады расстаться с Черчиллем, но, когда после английских всеобщих выборов Черчилля и Идена сменили Эттли и Бевин, они обнаружили, что им нечему радоваться. По словам Бирнса, Бевин крайне «агрессивно и энергично возражал» против новых польских границ. Вскоре после Потсдамской конференции один из членов советской делегации заметил мне, что он находит Бевина «очень волевым человеком», то есть выразил в вежливой форме мысль, что, по его мнению, новый английский министр иностранных дел крайне груб и несговорчив.
В Потсдаме было достигнуто соглашение о репарациях. Русские еще до Потсдамской конференции вывозили всякое оборудование из советской зоны, именовавшееся в то время «трофеями». Но они все еще надеялись, что в Потсдаме вопрос о репарациях будет поставлен на общегерманскую основу. Этому не суждено было случиться. 23 июля Бирнс заявил, что предложенная Сталиным сумма в 20 млрд. долларов (половина которой предназначалась для Советского Союза) является «нереальной», и отказался назвать какую-либо другую цифру. Он также повторил возражения правительства Соединенных Штатов против вмешательства СССР в осуществление контроля над промышленностью Рура и других районов Западной Германии. Затем произошел следующий разговор:
«Молотов. Насколько я понимаю, вы имеете в виду, что каждая страна должна получить репарации со своей собственной зоны. Если мы не придем к соглашению, результат будет тот же.
Бирнс. Да.
Молотов. Не означает ли ваше предложение, что каждая страна будет иметь свободу рук в своей зоне и будет Действовать совершенно независимо от других?
Бирнс. Это верно по существу»[274].
Советские представители больше недели противились принятию этого предложения, но в конечном счете согласились с ним на следующих условиях: им будет также дана возможность изъять германские активы во всей Восточной Европе; они получат дополнительно небольшой процент репараций, взимаемых с Западной Германии, и, наконец, западные державы «временно» признают линию Одер - Нейсе. В сущности, это означало полный отказ от подхода к решению вопроса о репарациях на общегерманской основе, за который СССР вел такую отчаянную борьбу. Даже те незначительные репарационные поставки для Советского Союза из Западной Германии, что сохраняли в какой-то мере видимость «общегерманского» подхода, были прекращены меньше чем через год, очевидно, под личную ответственность военного губернатора американской зоны генерала Люшьеса Клея…
Такое урегулирование вопроса о репарациях имело кардинальное значение: оно положило начало политике, направленной к тому, чтобы не допускать Советский Союз в Западную Германию, но в то же время укрепила его экономический, а тем самым и политический контроль над Восточной Германией и Восточной Европой в целом. Это очевидное проявление политики «сфер влияния», конечно, полностью противоречило провозглашенной Трумэном «политике открытых дверей», и американские эксперты продолжали спорить, в чем же подлинное значение этого явного противоречия.
Между американской атомной бомбой и необычной сделкой насчет репараций, заключенной в Потсдаме, была прямая связь. В сущности, это был симптом временного (как думал Трумэн) раскола Германии и Европы на две части. Хотя в течение последующих двух-трех лет еще поддерживалась какая-то видимость «мира между Большой тройкой», в действительности Потсдам ознаменовал собой начало конца этого мира, главной основой которого, по мнению советских руководителей, был совместный контроль над Германией.
(обратно)Глава V. Короткая советско-японская война. Хиросима
В советско-германской войне было два периода, когда русские опасались, что японцы нападут на них: в первые месяцы войны - по существу, до самого нападения Японии на Пирл-Харбор - ив тяжелые лето и осень 1942 г. В качестве меры предосторожности против японского нападения Советский Союз был вынужден держать на Дальнем Востоке значительные силы - около сорока дивизий. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах - во время битвы под Москвой и затем в период обороны Сталинграда - Советскому Верховному Главнокомандованию приходилось использовать часть дальневосточных сил и перебрасывать сибирские войска на советско-германский фронт, бесспорно, что в первые 18 месяцев войны Япония оказала Гитлеру очень большую услугу, сковав своей миллионной Квантунской армией крупные советские силы, которые очень пригодились бы для войны с Германией.
После Сталинграда и в связи с тем что война на Тихом океане развивалась вовсе не так успешно, как ожидали японцы, нападение Японии на Советский Союз было «отложено».
В советской «Истории войны» говорится:
«Победа Красной Армии на Волге нанесла непоправимый удар по японским планам вторжения в Советский Союз. Дальневосточный агрессор, погрязший в войне против Китая, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, имел все основания серьезно сомневаться в успехе военных действий, которые подготовлялись им против СССР… Японский посол в Берлине… 6 марта 1943 г. заявил Риббентропу: правительство Японии придерживается того мнения, что «не следует вступать в войну против России сейчас». Дальнейший ход Второй мировой войны не принес Японии благоприятных для нее изменений обстановки: в 1943 г. американские вооруженные силы на Тихом океане захватили в свои руки стратегическую инициативу… Весной 1945 г. японский генеральный штаб впервые приступил к разработке оборонительных планов на случай войны с СССР»[275].
Имеются веские основания полагать, что даже если в то время советские руководители не знали, что точно сказал японский посол в Берлине после Сталинграда, то они полностью отдавали себе отчет в реальном положении дел: их разведка в Японии была поставлена исключительно хорошо. До 1942 г. они пользовались неоценимыми услугами Рихарда Зорге, снискавшего доверие самого германского посла Отта!
У Советского Союза к тому времени накопилось немало обид на Японию. Он имел основания для подозрений, что на первой стадии войны японское посольство в Москве или Куйбышеве передавало немцам много ценной информации; по крайней мере до Сталинграда японцы создавали также большие трудности советскому судоходству на Тихом океане, особенно судам, доставлявшим грузы из США. За период с начала войны до конца 1944 г. (главным образом в первое время) японцы задержали и обыскали 178 советских судов, а три грузовых судна были потоплены японскими подводными лодками[276].
Несмотря на все это, в 1943 и 1944 гг. дипломатические отношения между Советским Союзом и Японией оставались холодными, но корректными, и японского посла по-прежнему приглашали на официальные приемы. В Тегеране и неоднократно после него англичанам и американцам говорили, что не может быть и речи о вступлении Советского Союза в войну против Японии до разгрома Германии. Тем не менее только в Ялте в феврале 1945 г. советские руководители взяли на себя твердое обязательство вступить в войну с Японией. Советский Союз должен был получить Южный Сахалин, отданный в 1905 г. японцам, и Курильские острова[277]. Пункты Ялтинского соглашения о сохранении статус-кво (Внешней Монголии) и о советских привилегиях в Китае были поставлены в зависимость от «согласия» китайского правительства, то есть Чан Кайши.
5 апреля 1945 г. у советского народа осталось мало сомнений, что ему все же придется воевать с Японией. В этот день Советское правительство денонсировало пакт о нейтралитете с Японией. Молотов уведомил японское правительство, что со времени заключения пакта в 1941 г. обстановка «изменилась в корне»: Германия напала на СССР, а Япония помогала Германии. Кроме того, Япония воюет с Англией и Соединенными Штатами, которые являются союзниками Советского Союза. «В соответствии со статьей 3-й… предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока действия пакта, Советское Правительство настоящим заявляет Правительству Японии о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года».
15 мая 1945 г. японское правительство аннулировало свой союз с отныне не существовавшим германским правительством и другими фашистскими правительствами. Советское правительство увидело в этом подготовку к новому ряду мирных зондажей, которые намеривались предпринять японцы. Ничто, однако, не показывало, что оно собиралось благоприятно реагировать на эти шаги. В конце мая Гарри Гопкинс обнаружил, что русские крайне неуступчивы в таких вопросах, как вопрос о Польше, но в то же время проявляли полную готовность сотрудничать в том, что касалось Японии. 28 мая он телеграфировал в Вашингтон, что, по словам Сталина, «к 8 августа Советская Армия займет уже позиции на маньчжурской границе»; что Сталин повторил свое заявление, сделанное в Ялте, что «русский народ должен иметь солидное основание для вступления в войну» и что это зависит от готовности китайцев согласиться на ялтинские предложения. Поэтому он просил Сун Цзывеня прибыть в Москву «не позже 1 июля» и настаивал, чтобы США (как это обещал Рузвельт) поставили этот вопрос перед Чан Кайши.
В свете последующих событий представляют особый интерес взгляды Сталина на Китай, как о них сообщил Гопкинс.
«Он [Сталин] категорически заявил, что сделает все возможное, чтобы способствовать объединению Китая под властью Чан Кайши. Его руководство сохранится и после войны, так как никто другой не обладает для этого достаточной силой. Он подчеркнул, что никто из коммунистических лидеров не является достаточно сильным, чтобы объединить Китай. Несмотря на имеющиеся у него оговорки в отношении Чан Кайши, он намерен поддерживать его»[278].
В другом послании в Вашингтон Гопкинс заявил, что Сталин целиком стоит за политику «открытых дверей» для Соединенных Штатов в Китае, ибо только они в состоянии оказать этой стране широкую финансовую помощь, России же придется позаботиться о собственном восстановлении.
Полная история событий, приведших к капитуляции Японии, - одна из самых сложных во всей Второй мировой войне. Ясно, что в Ялте как Рузвельт, так и Черчилль все еще очень хотели, чтобы Советский Союз как можно скорее вступил в войну против Японии. После того как президентом стал Трумэн, положение стало куда менее ясным. Судя по миссии Гопкинса в Москву в мае, Трумэн все еще желал, чтобы СССР вступил в войну, и это же было одной из главных причин, по которым новому президенту хотелось встретиться со Сталиным в Потсдаме. Теперь, однако, советские историки утверждают, что Трумэн еще до того, как он получил атомную бомбу, всеми силами стремился добиться безоговорочной капитуляции Японии или по крайней мере японских вооруженных сил до вступления СССР в войну. Возможно, русские подозревали об этом в то время на основании американских радиопередач на эту тему, начавшихся еще 8 мая, но отдавали себе отчет в том, что без разгрома Красной Армией Квантунской армии в Маньчжурии Японии нельзя нанести поражение, по крайней мере в короткий срок. В Ялте они узнали от Рузвельта, что без участия Советского Союза война против Японии затянулась бы до 1947 г. и стоила бы американцам и англичанам еще не меньше миллиона человек.
Уже в феврале - марте японцы пытались заручиться посредничеством СССР, желая кончить войну с США и Англией. В советской «Истории войны» говорится о нескольких таких мирных зондажах:
«В феврале - марте 1945 г. японское правительство через «частных» лиц - японского генерального консула в Харбине Миякава и крупного рыбопромышленника Танакамару - обратилось к СССР с просьбой о мирном посредничестве между Японией и США. В беседе с послом СССР в Японии Я.А. Маликом 4 марта Танакамару заявил, что «ни Америка, ни Япония не могут взять на себя смелость заговорить о мире. Должна прийти на помощь какая-то, так сказать, божественная сила извне и рекомендовать им помириться». Этой силой, по его мнению, является только Советский Союз.
После сформирования кабинета Судзуки подобные визиты в советское посольство участились… Во время официального приема у Я.А. Малика 20 апреля 1945 г. Того заявил, что он хотел бы лично встретиться с министром иностранных дел СССР».
Стремясь избежать безоговорочной капитуляции перед США, Того 3 июня направил к Малику бывшего премьер-министра Хиротака Хирота. Он подчеркнул желание Японии улучшить отношения с СССР. Вторая встреча состоялась на следующий день, а две другие - 24 июня[279].
В советской «Истории войны» все эти визиты Хирота к Малику и его предложения о широком советско-японском экономическом сотрудничестве характеризуются как наглость со стороны клики, виновной в стольких вероломных актах по отношению к Советскому Союзу. Тем не менее остается фактом, что Малик согласился четыре раза увидеться с Хирота.
Несмотря на все это, миссия Хирота провалилась, и японское правительство теперь пыталось установить непосредственный контакт с Советским правительством в Москве. 12 июля император решил послать в Москву принца Коноэ, и японскому послу в Москве Сато было поручено уведомить Советское правительство о желании императора. Но все было напрасно. В советской «Истории войны» говорится:
«Предложение японских правящих кругов осталось без ответа со стороны Советского правительства, которое в те дни готовилось к Берлинской конференции руководителей трех великих держав. На конференции советская делегация полностью проинформировала своих союзников о «мирных» маневрах Японии. Все попытки японских империалистов вызвать раскол антифашистской коалиции остались безуспешными»[280].
В Потсдаме американские военные поинтересовались, когда точно Красная Армия нанесет удар на Дальнем Востоке. Начальник советского Генштаба генерал Антонов подтвердил, что все будет готово к 8 августа, но что многое зависит от результатов советско-китайских переговоров, начавшихся в Москве незадолго до Потсдамской конференции.
Как мы сейчас знаем, американцы в период Потсдамской конференции уже не были, в сущности, заинтересованы в участии СССР в войне с Японией.
Вот что пишет Черчилль:
«17 июля [в Потсдам] пришло известие, потрясшее весь мир… Это значит, сказал Стимсон, что опыт в пустыне Нью-Мексико удался. Атомная бомба создана».
Первой же мыслью Черчилля было, что теперь в войне против Японии можно обойтись без Советского Союза.
«Нам не нужны будут русские. Окончание войны с Японией больше не зависело от участия их многочисленных армий… Нам не нужно было просить у них одолжений… Я сообщил Идену: «Совершенно ясно, что Соединенные Штаты в настоящее время не желают участия русских в войне против Японии».
Не было никакого сомнения, писал он, что атомная бомба будет использована.
«Сложнее был вопрос о том, что сказать Сталину. Президент и я больше не считали, что нам нужна его помощь для победы над Японией… Мы считали, что эти войска [советские войска на Дальнем Востоке] едва ли понадобятся и что поэтому козырь Сталина в переговорах, которым он так успешно пользовался против американцев в Ялте, исчез».
А далее следовало любопытное признание:
«Но все же он был замечательным союзником в войне против Гитлера, и мы оба [Черчилль и Трумэн] считали, что его нужно информировать о новом великом факте, который сейчас определял положение, не излагая подробностей»[281].
В конечном счете был избран следующий образ действий. Решено было ничего не писать. Взамен этого Трумэн предложил:
«Я думаю, что мне следует просто сказать ему после одного из наших заседаний, что у нас есть совершенно новый тип бомбы, нечто совсем из ряда вон выходящее, способное, по нашему мнению, оказать решающее воздействие на волю японцев продолжать войну».
Черчилль согласился с этим «планом»[282]. И вот как это было сделано:
«24 июля, после окончания пленарного заседания… я увидел, как президент подошел к Сталину, и они начали разговаривать одни при участии только своих переводчиков. Я стоял рядах в пяти от них и внимательно наблюдал эту важнейшую беседу. Я знал, что собирается сказать президент. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина. Я сейчас представляю себе всю эту сцену настолько отчетливо, как будто это было только вчера. Казалось, что он был в восторге. Новая бомба! Исключительной силы!… Какая удача!… Я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему рассказывали… Если он имел хоть малейшее представление… то это сразу было бы заметно… Ничто не помешало бы ему сказать: «…могу я направить своего эксперта… для встречи с вашим экспертом завтра утром?» Но на его лице сохранилось веселое и благодушное выражение… «Ну, как сошло?» - спросил я [Трумэна]. «Он не задал мне ни одного вопроса», - ответил президент»[283].
Здесь я должен добавить один очень важный исторический момент, который превосходным образом ставит точки над «i»› в рассказе Черчилля.
Когда в 1946 г. я в частной беседе спросил Молотова, было ли Советское правительство информировано в Потсдаме, что на Японию будет сброшена атомная бомба, он, казалось, удивился, подумал с минуту и затем сказал: «Это сложное дело, и на ваш вопрос следует одновременно ответить и «да» и «нет». Нам говорили о «сверхбомбе», о бомбе, подобной которой еще не было, но слово «атомная» не употреблялось».
Впоследствии я часто думал, был ли ответ Молотова совершенной правдой, и полагаю, что это так. Если бы Трумэн действительно сказал Сталину, что новое оружие представляло собой не просто «сверхбомбу», но атомную бомбу, то почти немыслимо, чтобы Сталин принял это известие так спокойно и весело, как рассказывает Черчилль, и ничего не предпринял в этой связи.
Несомненно, ничто в поведении Сталина или других советских представителей в Потсдаме, после того как им сообщили о новом оружии, не давало понять, что случилось что-то совершенно необычное. Их планы в отношении Японии не изменились ни на йоту. Переговоры с китайцами возобновились в Москве после возвращения Сталина из Потсдама. Не было никакого намека на то, что советские руководители стали проявлять большую нервозность, чем раньше.
Если в этих переговорах с китайцами по вопросу, уже заранее одобренному как Рузвельтом, так и Черчиллем, и было что-то странное, так это то, что китайцы старались затянуть переговоры. Бирнс впоследствии объяснил, что скрывалось за этой тактикой проволочек: «Если бы Сталин и Чан Кайши еще продолжали вести переговоры, это могло бы задержать вступление Советского Союза в войну, и японцы за эти время могли бы капитулировать»[284]. А 23 июля Вашингтон как раз и попросил Чан Кайши затянуть московские переговоры.
На первый взгляд эти советско-китайские переговоры, продолжавшиеся две недели до Потсдамской конференции (с 30 июня по 14 июля) и еще неделю после Потсдама (7-14 августа), представляли собой простую формальность. Правда, Ялтинское соглашение гласило, что «соглашение относительно Внешней Монголии… портов и железных дорог требует согласия генералиссимуса Чан Кайши», но, с другой стороны, в нем говорилось:
«Президент [Рузвельт] примет меры к тому, чтобы было получено такое согласие… Главы правительств Трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией».
Тем не менее переговоры по упомянутым выше вопросам и относительно договора о дружбе и союзе с Китаем, также предусмотренного в Ялтинском соглашении, не закончились, как это ожидалось, до вступления Советского Союза в войну 8 августа, то есть через два дня после того, как на Хиросиму была брошена атомная бомба.
Несомненно, что после этого события Чан Кайши хотел бы уклониться от соглашения с СССР, но это вряд ли представлялось возможным, учитывая твердые обязательства, взятые Рузвельтом и Черчиллем в Ялте, а главное, пожалуй, из-за того, что в этот момент в Маньчжурию вступили мощные советские вооруженные силы.
В Потсдаме русские были раздражены не туманными сообщениями о какой-то американской «сверхбомбе», а потсдамским ультиматумом», предъявленным Японии 26 июля и требовавшим ее безоговорочной капитуляции. Они утверждают, что с ними не консультировались по поводу этого англо-американо-китайского ультиматума, а когда они попросили отложить его опубликование на два дня, им было сказано, что текст ультиматума уже передан в газеты. Возможно, это навело русских на мысль, не хотят ли США и Англия добиться капитуляции Японии до вступления Советского Союза в войну.
Быть может, у них и была такая мысль, но они тем не менее ничего не предприняли в связи с этим, по-прежнему полагая, что без их участия войну не удастся выиграть в короткий срок. А они, несомненно, намеревались принять в ней участие в точном соответствии с обязательствами, принятыми ими на себя в Ялте.
Существует много противоречивых сведений относительно ответа японцев на потсдамский ультиматум. Согласно как американской, так и советской официальным версиям (советская версия повторена в «Истории войны»), японцы отклонили его. Согласно некоторым японским источникам, японское правительство «фактически» приняло ультиматум, хотя и попросило дальнейших разъяснений[285]. Как бы то ни было, точно известно, что 2 августа посол Сато нанес срочный визит Молотову в связи с потсдамским ультиматумом. Он добивался немедленного прекращения военных действий и надеялся, что при посредничестве СССР самый трудный вопрос об императоре (не упомянутый в потсдамском ультиматуме) будет урегулирован приемлемым образом. Молотов не проявил ни малейшей склонности пойти ему навстречу. Когда спустя шесть дней он пригласил к себе Сато, то лишь затем, чтобы информировать его об объявлении Советским Союзом войны Японии. Это была именно та дата, которую назвал генерал Антонов в Потсдаме.
В советском заявлении об объявлении войны Японии говорилось, что после капитуляции Германии она осталась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Поскольку Япония отклонила потсдамский ультиматум, предложение японского правительства, чтобы Советское правительство взяло на себя роль посредника, «теряет всякую почву». Так как Япония отказалась капитулировать, то союзники просили Советский Союз вступить в войну против Японии и тем сократить сроки окончания войны.
«Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции».
Начиная с 9 августа Советский Союз стал считать себя в состоянии войны с Японией.
Вечером 8 августа Молотов принял представителей печати, чтобы передать им текст заявления Советского правительства об объявлении войны Японии. Лицо у него было еще более непроницаемое, чем всегда, и, ответив всего на несколько совершенно безобидных вопросов, он поспешил закончить эту «пресс-конференцию». Ни Молотов, ни кто-либо другой не упомянул об атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму.
Однако весь этот день в Москве только и говорили что об атомной бомбе. Бомба была сброшена на Хиросиму утром 6 августа, и утром 8 августа советские газеты поместили короткую заметку (одну треть столбца, если уж быть точным), представлявшую собой выдержку из заявления Трумэна о Хиросиме. Мощность бомбы, говорилось в этом заявлении, равнялась 20 тыс. т. тринитротолуола.
Хотя в советской печати глухо сообщалось о хиросимской бомбе, а о бомбе, сброшенной на Нагасаки, было упомянуто лишь много позже, от народных масс не укрылось значение события в Хиросиме. Это событие произвело на всех угнетающее впечатление. Люди ясно сознавали, что это был новый фактор в мировой политике силы.
Опубликованное в тот же день сообщение о том, что Советский Союз объявил войну Японии, не вызвало ни малейшего энтузиазма. Мысль о новой войне после всех потерь, понесенных еще так недавно в войне с Германией, естественно, никого не могла радовать. Конечно, было давно известно, что крупные военные силы перебрасываются на Дальний Восток, и объявление войны не являлось полной неожиданностью.
Что же касается атомного оружия, то Советский Союз сделал все возможное для того, чтобы в минимальный срок догнать США. Вопреки расчетам американцев первая советская атомная бомба была взорвана 10 июля 1949 г. Советская водородная бомба появилась спустя четыре года.
Но все это произошло лишь впоследствии, а пока сознание того, что американцы обладают монополией на атомную бомбу, тревожило советское общественное мнение. Печать продолжала хранить молчание на этот счет, и номер английского еженедельника «Британский союзник», который был первым периодическим изданием в СССР, поместившим кое-какие подробности о Хиросиме и Нагасаки, был молниеносно распродан.
Чувство возмущения теми, кто сбросил атомную бомбу, было таким сильным, что всякая враждебность по отношению к Японии совершенно пропала. Я прекрасно помню вечер 8 августа. Японцы, которых много жило в гостинице «Метрополь» в Москве, были охвачены лихорадочной деятельностью. Они упаковывали свои чемоданы, чтобы до полуночи доставить их в японское посольство. Японцы были угрюмы, но держались с достоинством. Персонал гостиницы внимательно им помогал. Не проявляли злорадства и другие. Незадолго до полуночи, когда они грузили на машины последние чемоданы, вокруг собралась толпа, но никто не высказывал враждебности.
На следующий день газеты лишь изложили ноту об объявлении войны Японии и напомнили о всем том зле, которое Япония причинила России и Советскому Союзу в прошлом, начиная с русско-японской войны 1904-1905 гг. и интервенции 1919 г. и кончая событиями на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и всякого рода помощью, которую Япония оказывала Гитлеру.
В последующие несколько дней печать сообщила о массовых митингах на многих предприятиях, где единодушно одобрялось объявление войны «японским милитаристам и империалистам».
Существенный плюс этой войны состоял в том, что она продолжалась недолго. С самого начала было ясно, что три советских фронта - Забайкальский фронт под командованием маршала Малиновского, 1-й Дальневосточный фронт под командованием маршала Мерецкова и 2-й Дальневосточный фронт под командованием генерала Пуркаева (главнокомандующим был маршал Василевский) - имели подавляющее превосходство над хваленой Квантунской армией. Сильные и зачастую фанатичные контратаки японцев мало что дали. У Красной Армии было больше людей и несравненно больше орудий, танков и самолетов, чем у японцев. 16 августа начальник советского Генерального штаба генерал Антонов разъяснил, что заявление императора от 14 августа было «только общей декларацией о безоговорочной капитуляции» Японии и, что японским войскам, сражавшимся с русскими, еще не отдан приказ о прекращении огня. А поскольку действительная капитуляция японских вооруженных сил еще не наступила, «вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии». 17 августа маршал Василевский направил ультиматум командующему Квантунской армией, требуя капитуляции к полудню 20 августа. О капитуляции этой армии было объявлено в приказе Сталина от 22 августа. Советское командование широко использовало в Маньчжурии воздушно-десантные войска, в частности при занятии портов Дайрен и Порт-Артур. Оно ввело свои войска также в Северную Корею. Советский Тихоокеанский флот сыграл важную роль в комбинированных операциях, в результате которых были заняты Южный Сахалин и Курильские острова - здесь советские десанты столкнулись с особенно упорным сопротивлением японцев, продолжавшимся долгое время после официальной капитуляции.
В Маньчжурии многие японские части также продолжали вести бои даже после официальной капитуляции Квантунской армии, и окончательные итоги войны с Японией были опубликованы в специальной сводке Совинформбюро только 12 сентября. В ней говорилось, что потери японцев с 9 августа но 9 сентября составили 925 самолетов, 369 танков, 1226 орудий, 4836 пулеметов, 300 тыс. винтовок. Эти цифры в сопоставлении с числом военнопленных свидетельствовали о том, что многочисленная Квантунская армия была недостаточно хорошо вооружена. Было захвачено в плен 594 тыс. японцев, включая 20 тыс. раненых. Среди военнопленных было 148 генералов. Потери японцев убитыми составили 80 тыс. человек. По сравнению с этим, говорилось в сводке, потери Красной Армии были крайне незначительными - 8 тыс. убитыми и 22 тыс. ранеными[286].
2 сентября на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт об окончательной капитуляции Японии. От Советского Союза акт подписал генерал Деревянко.
В тот же день по радио выступил Сталин. Он пространно говорил о том, что победа над Японией является реваншем России за ее поражение в войне 1904-1905 гг. Он напомнил, что, воспользовавшись слабостью царского правительства, Япония вероломно напала на русский флот в Порт-Артуре почти так же, как через 37 лет она напала на американский флот в Пирл-Харборе.
В заключение он заявил, что мир наконец достигнут, что Советскому Союзу больше не угрожают ни Германия, ни Япония, и отметил заслуги вооруженных сил Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Китая и Великобритании, одержавших победу над Японией.
Вечером победа над Японией была отмечена салютом, но на Красной площади была едва ли десятая часть той толпы, какая собралась там 9 мая, чтобы отпраздновать разгром Германии.
Советская историография Второй мировой войны подчеркивала, что Япония капитулировала в результате вступления в войну Советского Союза: если бы сильная Квантунская армия не была разгромлена, сопротивление Японии Америке и Англии продолжалось бы еще долго и стоило бы им миллиона жизней или даже больше. В сущности, тот же довод Трумэн, Черчилль и другие приводили, говоря об атомных бомбах, которые, по их словам, ускорили безоговорочную капитуляцию Японии и спасли, таким образом, огромное число жизней англичан и американцев. Действительные же факты показывают, что никакой необходимости в применении атомной бомбы накануне вступления СССР в войну не было.
Если даже допустить, что японцы продолжали бы сопротивление и что все дело было в спасении жизни американцев, то и тогда атомную бомбардировку можно было бы отложить до сентября, то есть сбросить бомбу перед самым вторжением на остров Кюсю, которое иначе действительно стоило бы американцам огромных потерь. Поскольку же бомба была сброшена в отчаянной спешке 6 августа, это следует объяснить тем, что Трумэн решил ее сбросить до вступления СССР в войну, которое в соответствии с Ялтинским соглашением должно было последовать 8 августа или несколько позже[287]. Но и это было еще не все: судя по недвусмысленным намекам Трумэна, Бирнса, Стимсона и других, атомная бомба была сброшена в значительной мере в расчете на то, чтобы поразить СССР колоссальной мощью Америки. Окончание войны с Японией было делом второстепенным (оно и так было не за горами), главным же было остановить русских в Азии и сдержать их в Восточной Европе.
«Новый стиль» американской политики после атомной бомбардировки скоро стал очевидным. 16 августа Трумэн заявил, что в отличие от Германии Япония не будет разделена на оккупационные зоны. Трумэн решительно отклонил предложение СССР, чтобы в северной части острова Хоккайдо японцы капитулировали перед войсками Красной Армии. Русские также не должны были участвовать в оккупации Японии. Трумэн пошел даже дальше: 18 августа он попросил, чтобы Советский Союз разрешил американцам использовать один из Курильских островов в качестве авиационной базы, - предложение, которое Сталин категорически отклонил[288].
Если не считать какого-то периода опасений и замешательства, то единственным, что дало применение атомных бомб, было возникновение у советских людей гнева и крайнего недоверия к Западу. Отнюдь не став более сговорчивым, Советское правительство, наоборот, заняло более упорную позицию. Все в СССР хорошо понимали, что атомная бомба стала колоссальным фактором в политике мировых держав, и считали, что, хотя обе сброшенные бомбы уничтожили или изувечили несколько сот тысяч японцев, тем не менее истинная цель их применения заключалась в том, чтобы в первую очередь и главным образом запугать Советский Союз.
За окончанием войны последовали годы внешнеполитических трудностей и разочарований для советского народа. Надежды военного времени на мир между Большой тройкой уступили место реальности холодной войны и «железного занавеса». Радужные иллюзии 1944 г., что после войны жизнь станет более легкой и обеспеченной, вскоре тоже не оправдались. Ибо, во-первых, советское народное хозяйство было в большой мере разрушено и, чтобы восстановить его, требовалась гигантская программа экономии и напряженного труда. А во-вторых, политика возможно более быстрого восстановления тяжелой промышленности означала, что потребительские товары еще долгое время будут дефицитными. Жилищные условия были плохие, продовольствия не хватало.
И все же, несмотря на разочарования, наступившие за жестокой, но героической национальной войной 1941-1945 гг., эта война остается хоть и самым страшным, но и самым гордым воспоминанием советского народа; это была война, которая при всех ее жертвах превратила СССР в величайшую державу Старого Света.
(обратно) (обратно)О Книге Александра Верта «Россия в войне 1941-1945»
Книга представляет собой своеобразный и, бесспорно, интересный рассказ о Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг., причем автор информирует о ней как иностранный наблюдатель, дружественно расположенный к СССР и его народу. Эта книга впервые была опубликована в Великобритании и США в 1964 г., затем издана во Франции, в ФРГ, Японии, Италии, Голландии, Мексике, Бразилии и других странах, и почти всюду она встретила горячий прием.
Причина столь высокого интереса не в последнюю очередь связана с тем, что с июля 1941 по 1946 г. включительно А. Верт находился в СССР в качестве корреспондента газеты «Санди таймс» и радиокомпании Би-би-си. Отправиться в Москву его побудил глубокий и искренний интерес к нашей стране, ее народу, с которым его связывали воспоминания юности (А. Верт родился в Петербурге, провел там детство и юность), и отличное знание русского языка. Последнее обстоятельство облегчало ему работу.
Би-би-си каждое воскресенье передавала его «Русские комментарии», собиравшие у радиоприемников 12-13 млн. слушателей в Англии и многие миллионы в других странах.
А. Верт был в Ленинграде в 1943 г. во время блокады, в районе Сталинграда и в самом городе в феврале 1943 г., дважды в течение 1943 г. в Харькове и Орле, в Киеве, Одессе и Севастополе после их освобождения, в Румынии, Польше и Германии в 1944-1945 гг. Он встречался с известными военачальниками, в том числе В.Д. Соколовским (в Вязьме в 1941 г.), В.И. Чуйковым и Р.Я. Малиновским (в районе Сталинграда), К.К. Рокоссовским (в Польше) и Г.К. Жуковым (в Берлине). Верт жил в военной Москве, где общался со многими представителями советской интеллигенции: К.М. Симоновым, А.А. Сурковым, И.Г. Эренбургом, М.А. Шолоховым, А.А. Фадеевым, Б.Л. Пастернаком, С.С. Прокофьевым, Д.Д. Шостаковичем, В.И. Пудовкиным, С.М. Эйзенштейном, А.П. Довженко и многими другими. У него были встречи и личные контакты с высшими руководителями нашей страны. Все это позволило А. Верту убедительно и колоритно воспроизвести картину жизни страны в военные годы и в особенности события на фронтах.
О замысле книги и о мотивах, побудивших написать ее, А. Верт рассказывает в предисловии к. ее русскому изданию. Он предупреждает читателей, что его книгу «ни в коем случае нельзя назвать официальной историей войны. И это тем более не военная история, не история военных операций». Свой труд А. Верт именует «человеческой историей». Это верно, поскольку он главное внимание уделяет военным усилиям и жертвам советского народа, его героизму и достижениям. Народ - главное действующее лицо книги, хотя в ней много говорится и об отдельных политических деятелях, дипломатах, полководцах, хозяйственниках - всех, с кем сводила в те годы автора беспокойная профессия корреспондента. По наблюдениям А. Верта, «советский строй, советская организация обеспечивали лучшее использование имеющихся ресурсов, чем это было у немцев». Этот свой вывод он подтверждает всем содержанием книги.
Автор при написании книги полагался не только на свои личные наблюдения, он изучил всю доступную ему литературу, особенно вышедшую в СССР после XX съезда КПСС. В первую очередь здесь следует назвать шеститомную «Историю Великой Отечественной войны Советского Союза», увидевшую свет в 1963-1965 гг. На это издание в книге сделано свыше 70 отсылок, особенно много их в главах второй части книги, где рассматриваются события от начала вторжения германских войск в пределы СССР до окончания битвы под Москвой. Автор объясняет это тем, что в первые месяцы германского нашествия «можно было догадываться об очень многих вещах, но дать точное объяснение, почему через два месяца немцы были уже на подступах к Ленинграду, а за три с половиной месяца дошли до окрестностей Москвы, было практически невозможно». А. Верт, излагая причины поражений 1941 г., отмечает: «Из главных коренных причин одни являются историческими (например, чистки 1937 г. в Красной Армии), другие - психологическими (постоянная пропаганда тезиса о непобедимости Красной Армии), третьи - профессиональными (отсутствие у Красной Армии настоящего опыта ведения войны по сравнению с немцами и во многих случаях низкий уровень боевой подготовки) и, наконец, четвертое - экономическими (несмотря на передышку, предоставленную советско-германским пактом, советская военная промышленность не сумела превратить Красную Армию в хорошо оснащенную современную армию)».
Книга А. Верта не претендует на полное и систематическое описание военных действий. Он не смягчает критических оценок неудач и недочетов советских войск в первом периоде войны, но делает это без всякого злопыхательства и с акцентом на преодоление этих недочетов. Автор прослеживает рост советского военного искусства в грандиозных битвах под Сталинградом, Курском, наступательных операциях 1944-1945 гг. Руководящие советские военные кадры А. Верт называет блестящей плеядой «генералов и маршалов, равных которым не было со времен Великой армии Наполеона».
Невозможно читать без глубокого душевного волнения главы, посвященные героической обороне Ленинграда. А. Верт показывает, что воля ленинградцев к борьбе, их любовь к Родине и ненависть к фашизму оказались сильнее гитлеровских дальнобойных пушек, самолетов, голода, холода, всех мук и лишений, обрушенных на население города. Тогда А. Верт (как и корреспондент «Юнайтед Пресс» Г. Шапиро) получил разрешение посетить Ленинград во время блокады. В главе «Почему Ленинград выстоял» он отмечает, что «авторы некоторых исторических работ на Западе дают легкий, простой и на первый взгляд вполне основательный ответ, что, поскольку все шоссейные и железные дороги были перерезаны, у ленинградцев не было иного выхода, как выдержать и стать «героями» - хотели они того или нет». Верт же считает самым замечательным «не сам факт, что ленинградцы выстояли, а то как они выстояли».
С горечью и сочувствием к советским людям пишет А. Верт о преступлениях немецких фашистов на оккупированных территориях. В небольшой по объему главе «Преступления немцев в Советском Союзе» он рисует картину чудовищных зверств оккупантов, подкрепленную личными впечатлениями, вынесенными из посещения ряда освобожденных городов. Одним из первых иностранных корреспондентов он побывал в Майданеке (Польша) - фабрике смерти, расположенной в трех километрах от Люблина. «Майданек, - пишет А. Верт, - ярче, чем все остальное, показал истинную природу, масштабы и последствия нацистского режима в действии. Ибо здесь было огромное промышленное предприятие, где тысячи «простых» немцев трудились полный рабочий день над уничтожением миллионов других людей… относясь к происходящему с деловитой уверенностью в том, что это такая же работа, как и любая другая». А. Верт вспоминает, что когда он послал в Би-би-си свое первое сообщение о Майданеке, корпорация отказалась использовать его, считая, что это советский пропагандистский трюк. «Только тогда, - пишет он, - когда войска западных союзников обнаружили Бухенвальд, Дахау и Берген-Бельзен, Би-би-си убедилась в том, что и Майданек и Освенцим также были действительностью…»
Действиям фашистских преступников А. Верт противопоставляет гуманизм советского народа и его армии. Он неоднократно подчеркивает оправданность ненависти советских солдат к фашистам, однако считает, что в ней не было даже оттенка сознательной, рассчитанной жестокости и бесчеловечности, которые определяли поведение фашистских оккупантов.
Большое внимание в книге уделено экономике СССР во время войны. Массовую эвакуацию промышленности на восток во второй половине 1941 и начале 1942 годов и ее «расселение» на востоке А. Верт относит «к числу самых поразительных организаторских и человеческих подвигов Советского Союза во время войны».
Достаточно подробно рассматриваются в книге политические и психологические аспекты американо-английской экономической помощи СССР. Приведя подробные данные о поставках по ленд-лизу, А. Верт вместе с тем признает, что они «составляли сравнительно небольшой процент» по отношению к тому, что было поставлено фронту промышленностью СССР, а в наиболее тяжелом, 1942 г. «помощь со стороны союзников, безусловно, не принималась особенно всерьез» (настолько незначительны были ее размеры).
В главе «Кавказ - туда и обратно» автор книги касается национальных проблем, связанных с этим регионом. «Вторгаясь на Кавказ, - пишет он, - немцы очень рассчитывали на «нелояльность» кавказских народов к Москве. Советские органы власти также беспокоились по поводу Кавказа, и особенно проживавших там мусульманских народов. Это беспокойство, как оказалось, было в значительной мере необоснованным, тем более что немцы пробыли на Кубани и на Северном Кавказе очень недолго, а их политика была, мягко говоря, путаной и противоречивой. Тем не менее известная почва для таких опасений все же имелась». А. Верт констатирует, что немцам удалось установить контакт с некоторыми мусульманскими элементами на Северном Кавказе, а также с буддистскими элементами среди калмыков к востоку от Кубани. «Хотя немцам, - отмечает он, - не удалось проникнуть глубоко в Чечено-Ингушскую АССР (к югу от Грозного), среди этих двух народностей нашлись отдельные элементы, сочувствовавшие немцам». Без всяких личных комментариев А. Верт пишет о выселении с Северного Кавказа чеченцев, ингушей, карачаевцев, кабардинцев и балкарцев, «В течение нескольких дней, - пишет он, - все граждане этих народов были погружены в железнодорожные вагоны и отправлены «на восток». Этим пяти народам после смерти Сталина было разрешено вернуться домой».
Видное место в книге занимает так называемый «польский вопрос». Осуждая великопольский шовинизм «лондонских» поляков, А. Верт в то же время сочувствует им и с недоверием относится к внутренним руководящим силам демократического движения Сопротивления в Польше, к Союзу польских патриотов в СССР. Тем не менее в наиболее остром вопросе польской проблемы - истории Варшавского восстания 1944 г. - автор занял ясную позицию, целиком совпадавшую с точкой зрения советской и польской марксистской историографии.
«На Западе некоторые спрашивали иногда у меня, - вспоминает А. Верт, - как Россия могла вести и выиграть эту титаническую народную войну в условиях жесткой власти Сталина. Но народ сражался, и он сражался прежде всего, чтобы защитить «самого себя», то есть свою родину; а у Сталина было достаточно здравого смысла, чтобы с самого начала понять, что это прежде всего война отечественная».
За годы, прошедшие после издания книги А. Верта, историки уточнили многие статистические данные о войне, откорректировали оценки тех или иных событий. Однако ничего принципиально нового, кроме откровенно конъюнктурных измышлений и спекуляций, в исторических исследованиях о минувшей войне не появилось. Это свидетельствует о том, что книга А. Верта адекватно отражает события Великой Отечественной войны, а высокая журналистская квалификация автора способствует тому, что она и сейчас читается с огромным интересом.
Генерал армии В.Н. Лобов, доктор военных наук
(обратно)Примечания
1
По результатам исследований Управления статистики населения Госкомстата СССР и Центра по изучению проблем народонаселения МГУ, общие прямые людские потери за годы войны оцениваются почти в 27 млн. человек. См.: Гриф секретности снят. Потери ВС СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Статистическое исследование. М., 1993. с. 128. – Прим. ред.
(обратно)2
Об этом говорил, в частности, академик П.Н. Поспелов в своем докладе на научной конференции в Москве, посвященной 20-летию победы над фашистской Германией.
(обратно)3
Характерно, что Би-би-си прекратила мои комментарии из Москвы немедленно после капитуляции Германии в мае 1945 г.
(обратно)4
Роберт Делл из «Манчестер гардиан» очень правильно охарактеризовал эту позицию Англии, назвав ее «честной игрой с гремучей змеей».
(обратно)5
У Гитлера были в западной прессе свои «рупоры», на которых он всегда мог полагаться: Ф. де Бринон и Бертран де Жувенель во Франции, Уорд Прайс («Дейли мейл») в Англии, Карл фон Виганд (пресса Херста) в США и прочая фашистская сволочь.
(обратно)6
Документы и материалы кануна второй мировой войны. Архив Дирксена (1938-1939 гг.). М., 1948. Т. II. С/130.
(обратно)7
Потом, после войны, «История Великой Отечественной войны Советского Союза «1941-1945» (далее в сносках – ИВОВСС, а в тексте – «История войны») подвергла Молотова критике за эту его неверную фразу (см.: ИВОВСС. Т. 1. с. 249).
(обратно)8
ИВОВСС. Т. 1. с. 395.
(обратно)9
Эмери, входивший в состав правительства Чемберлена, сам говорил мне об этом 2 мая, за неделю до нападения немцев на Запад.
(обратно)10
Литературная Москва. Сборник. М., 1956. с. 499.
(обратно)11
Правда. 13 янв. 1941 г.
(обратно)12
Когда я услышал эту историю, я в июле 1941 г. спросил у Криппса в Москве, было ли это на самом деле. Он сказал: «Да, нечто подобное было. В общем мы это восприняли как намек». Подтвердил мне эту историю потом и английский военный атташе полковник Э.Р. Грир, хотя он и не мог припомнить точную дату этого вечера.
(обратно)13
Если где и были отдельные случаи паники и деморализации, так это, например, в таком небольшом городе, как Плимут, который немцы бомбили пять ночей подряд, в результате чего он был превращен в развалины и фактически все его население бежало.
(обратно)14
ИВОВСС. Т. 1. с. 441.
(обратно)15
Там же.
(обратно)16
Там же. с. 439.
(обратно)17
ИВОВСС. Т. 1. с. 439.
(обратно)18
ИВОВСС. Т. 1. с. 434-435.
(обратно)19
Там же. с. 405.
(обратно)20
Там же.
(обратно)21
ИВОВСС. Т. 1. с. 414.
(обратно)22
Там же. с. 415-416.
(обратно)23
ИВОВСС. Т. 1. с. 455.
(обратно)24
ИВОВСС. Т. 1. с. 474.
(обратно)25
Там же. с. 476-477.
(обратно)26
Philippi A. und Heim F. Der Feldzug gegen Sowjetrussland. Stuttgart, имя;, s. 11.
(обратно)27
Это понимали и наиболее дальновидные иностранные наблюдатели. Так, за несколько дней до своего отъезда из Лондона в СССР, 2 июля 1941 г., я имел продолжительную беседу с историком Бернардом Пэрсом, который сказал: «Я уже вижу, что это будет огромная отечественная война, более крупная и успешная, чем война 1914 года». Дж. Бернард Шоу писал в конце июня в газету «Таймс», что теперь, когда Сталин на нашей стороне, мы наверняка выиграем войну. В то же время английские военные эксперты на совещаниях в военном министерстве и в министерстве информации высказывали недвусмысленные предположения, что, по их мнению, война в России продлится всего несколько недель или, самое большее, месяцев.
(обратно)28
Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. М., 1959. с. 39. См. также: Федюнинский И.И. Поднятые по тревоге. М., 1961.
(обратно)29
ИВОВСС. Т. 2. с. 18.
(обратно)30
ИВОВСС. Т. 2. с. 29.
(обратно)31
Симонов К. Живые и мертвые. М., 1965. с. 61-62.
(обратно)32
ИВОВСС. Т. 2. с. 55.
(обратно)33
Цит. по: ИВОВСС. Т. 2. с. 66.
(обратно)34
Guderian H. Panzer Leader. London, 1952. p. 189-190.
(обратно)35
ИВОВСС. Т. 2. с. 77.
(обратно)36
Корреспондент агентства Гавас в Москве, примкнувший в 1941 г. к «свободным французам».
(обратно)37
С.А. Лозовский посмертно реабилитирован. - Прим… ред.
(обратно)38
М.М. Литвинов был назначен в ноябре 1941 г. послом СССР в США. Умер в 1951 г. – Прим. ред.
(обратно)39
В составе группы иностранных журналистов, кроме А. Верта, были также пресс-атташе английского посольства в Москве член палаты общин В. Бартлет, известный американский писатель Э. Колдуэлл, корреспондент «Нью-Йорк таймс» Сульцбергер, корреспондент Ассошиэйтед пресс Г. Кэссиди и др, – Прим. ред.
(обратно)40
ИВОВСС. Т. 2. с. 79.
(обратно)41
ИВОВСС. Т. 2. с. 88.
(обратно)42
Там же. с. 108.
(обратно)43
ИВОВСС. Т. 2. с. 108.
(обратно)44
Там же. с. 109.
(обратно)45
ИВОВСС. Т. 2. с. 110.
(обратно)46
Там же. с. 111.
(обратно)47
Там же.
(обратно)48
Guderian H. Op. cit. p. 225-226.
(обратно)49
ИВОВСС. Т. 2. с. 118.
(обратно)50
См.: Внешняя политика Советского Союза, 1946 г. М., 1947. с. 296-297.
(обратно)51
ИВОВСС. Т. 2. с. 149.
(обратно)52
ИВОВСС. Т. 2. с. 150-151.
(обратно)53
Erickson J. The Soviet High Command… 1918-1945. London, 1962. p. 62.
(обратно)54
Erickson J. Op. cit. p. 598.
(обратно)55
ИВОВСС. Т. 2. с. 245. Как обычно в таких вопросах, между немецкими и советскими и даже между отдельными советскими описаниями окружения в районе Вязьмы существуют значительные расхождения. Утверждения немцев, повторенные Типпельскирхом, что «русские в районе Вязьмы потеряли б7 стрелковых, 6 кавалерийских и 7 танковых дивизий, или в общем 663 тыс. пленными, 1242 танка и 5412 орудий», опровергаются советскими источниками. Эти данные преувеличены уже просто потому, что в данном районе не было такого количества советских войск, танков и орудий. Советская «История войны», отрицая преувеличенные данные немцев, в то же время дает понять, что в районе Вязьмы было окружено значительное количество войск. Из многих других работ также видно, что потери русских убитыми были велики. (См.: Народное ополчение Москвы. М., 1961; Болдин И.В. Страницы жизни. М., 1964 и др.) Пожалуй, показательно, что Гудериан, заявляя, что в результате окружения в районе Брянска было взято в плен 50 тыс. человек, в то же время не упоминает, сколько пленных было захвачено во время окружения в районе Вязьмы. Возможно, что его данные расходились с официальными немецкими цифрами.
(обратно)56
ИВОВСС. Т. 2. с. 244.
(обратно)57
Симонов К. Живые и мертвые. с. 249.
(обратно)58
Guderian H. Op. cit. p. 152.
(обратно)59
Guderian H. Op. cit. P. 248.
(обратно)60
В живой силе – 2:1; в орудиях – 3:1; в самолетах – 2:1 (ИВОВСС. Т. 2. с. 218).
(обратно)61
Атаки советских войск на Ростов на юге и на Тихвин на севере помогли также ослабить давление на Москву. Ростов был оставлен немцами без соответствующего приказа Гитлера, чем объяснялась временная опала Рундштедта.
(обратно)62
См.: Болдин И.В. Страницы жизни. с. 184-185.
(обратно)63
Guderian H, Op. cit. p. 246-249. Здесь же автор приводит куда более сомнительную историю о том, как хорошо якобы немцы заботились о снабжении продуктами русского гражданского населения в Орле и других местах. Как мы увидим ниже, зимой 1941/42г. в Орле под «нежной опекой» Гудериана свирепствовал голод.
(обратно)64
ИВОВСС. Т. 2. с. 268.
(обратно)65
Там же. с. 265.
(обратно)66
ИВОВСС. Т. 2, с. 260.
(обратно)67
ИВОВСС. Т. 2. с. 359.
(обратно)68
ИВОВСС. Т. 2. с. 359.
(обратно)69
Там же. с. 361.
(обратно)70
Churchill W. The Second World War. Vol. III. p. 320-323.
(обратно)71
Churchill W. Op. cit. Vol. III. p. 340.
(обратно)72
Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее – Переписка…). М., 1957. Т. 1. с. 11.
(обратно)73
Переписка… Т. 1. с. 14.
(обратно)74
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. М., 1958. Т. 1. с. 524-525.
(обратно)75
Там же. с. 525-526.
(обратно)76
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 1. с. 527.
(обратно)77
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 1. с. 535-539.
(обратно)78
Там же. с. 541-542.
(обратно)79
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 1. с. 544.
(обратно)80
Там же. с. 546.
(обратно)81
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 1. с. 547-548.
(обратно)82
Там же. с. 549.
(обратно)83
Возможно, что упорное нежелание Сталина оставить Киев отчасти объясняется его «обещанием» представителю США не сдавать города.
(обратно)84
Переписка… Т. 1. с. 19.
(обратно)85
Там же. с. 22.
(обратно)86
Переписка… Т. 1. с. 22-23.
(обратно)87
Werth A. Moscow, 41. p. 226-227.
(обратно)88
Churchill W. Op. cit. p. 416.
(обратно)89
В своем послании Сталину 6 октября Черчилль обещал, что конвой, который прибудет в Архангельск 12 октября, доставит 20 тяжелых танков и 193 истребителя; конвой, прибытие которого намечалось на 29 октября, – 140 тяжелых танков, 100 самолетов типа «Харрикейн», 200 транспортеров для пулеметов типа «Брен», 200 противотанковых ружей с патронами и 50 пушек калибром 42 мм со снарядами.
(обратно)90
Переписка… Т. 2. с. 16.
(обратно)91
Вот что рассказывает об этом Гаррисон Солсбери, один из иностранных корреспондентов, наблюдавших военную обстановку в СССР: «Это была величайшая и самая длительная осада, какую когда-либо переживал современный город, это был период тяжелейших испытаний, страданий и героизма, доходивших до высот трагизма и мужества, почти недоступного нашему пониманию…» (New York Times Book Review. May 10. 1962).
(обратно)92
Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. М., 1959. с. 67
(обратно)93
Там же. С. 71.
(обратно)94
Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. с. 99.
(обратно)95
Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. М., 1961. с. 15-16.
(обратно)96
Там же. с. 19.
(обратно)97
The Trial of German Major War Criminals. Vol. 15. London, 1947. p. 306-307 (далее сокращенно: TGMWC).
(обратно)98
Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. с. 183.
(обратно)99
Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. с. 59-60.
(обратно)100
Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. с. 137-138.
(обратно)101
Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. с. 118.
(обратно)102
Цифра, приведенная на Нюрнбергском процессе, основанная на данных регистратуры захоронений, не могла быть полной. После войны советские исследователи собрали большое количество сведений, позволяющих уточнить картину ужасных последствий голода. В книге «На защите невской твердыни» (Ин-т Истории партии при Лен. Обкоме КПСС, Ленинград, 1965) на стр. 336 говорится, что в Ленинграде и его пригородах в период блокады умерло от голода не менее одного миллиона человек. Близкие к этой цифре данные приведены в статье В.М. Ковальчука и Г.Л. Соловьева «Ленинградский реквием» (Вопросы истории. 1965. № 12). – Прим. ред.
(обратно)103
Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. с. 136-137.
(обратно)104
Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. с. 189.
(обратно)105
Там же. с. 227.
(обратно)106
Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. с. 190-192.
(обратно)107
Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. с. 156.
(обратно)108
Инбер В. Избр. произв. М., 1954. Т. 2. с. 346.
(обратно)109
Я был единственным иностранным корреспондентом, получившим разрешение посетить Ленинград во время блокады, кроме Генри Шапиро (корреспондента Юнайтед Пресс), который приехал сюда за несколько недель до меня. Для меня, уроженца Петербурга, прожившего здесь до 17-летнего возраста, это было особенно волнующим событием. После 25-летнего отсутствия я посетил все знакомые места, в том числе и дом, где провел свои детские и школьные годы. Многие дома на этой улице были разрушены бомбами, а в доме, где я некогда жил, множество людей умерло от голода зимой 1941/42 г. Я подробно описал это мое посещение в своей ранее изданной книге (Leningrad. London, 1944); я позволю себе взять из нее несколько рассказов о встречах и беседах, которые в известной степени передают дух Ленинграда периода блокады.
(обратно)110
Goure Leon. The Siege of Leningrad. Stanford, 1962. p. 304.
(обратно)111
Ibid. p. 304-306. Гаррисон Солсбери в газете «Нью-Йорк таймс» от 10 мая 1962 г. критиковал книгу Гура, напоминая о приказе Гитлера «сровнять Ленинград с землей» и его слова: «Мы не заинтересованы в том, чтобы сохранить даже часть населения этого огромного города». Смысл этого приказа был совершенно ясен для ленинградцев.
(обратно)112
Lundin с. Leonard. Finland in the Second World War. New York, 1957.
(обратно)113
G6rlitz Walter. Paulus and Stalingrad. London, 1963. p. 128.
(обратно)114
Эти данные были приведены в сообщении Совинформбюро. – Прим. ред.
(обратно)115
Немецкие генералы упорно отрицают, что казни совершались армией. Но, по показаниям свидетелей, которых я видел в 1942 г., вешали людей «простые солдаты». Однако многие оспаривали это; видимо, в разных местах было по-разному.
(обратно)116
Churchill W. Op. cit. Vol. IV. P. 288-289.
(обратно)117
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 2. с. 201 и Churchill W. Op. cit. Vol. IV. p. 305. Черчилль подчеркивает слова: «Мы поэтому не можем дать никаких обещаний».
(обратно)118
Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 2. с. 201-202.
(обратно)119
Manstein E. Verlorerie Siege. Bonn, 1955.
(обратно)120
ИВОВСС. Т. 2. с. 405.
(обратно)121
Там же. S. 246.
(обратно)122
Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. М., 1959. с. 119.
(обратно)123
ИВОВСС. Т. 2. с. 415.
(обратно)124
Борисов Б. Севастопольцы не сдаются. Симферополь, 1961. С. 129-130.
(обратно)125
Борисов Б. Севастопольцы не сдаются. Симферополь, 1961. с. 176.
(обратно)126
Весьма возможно, что цифра эта не является преувеличенной. Согласно «Истории войны», численность личного состава советских войск в Севастополе составляла к началу последнего немецкого наступления 106 625 человек, численность немец-ко-румынских войск достигала 203 800 человек. Еще большим превосходством немецко-румынские войска обладали в технике (кроме артиллерии).
(обратно)127
Чуйков В.И. Начало пути. М., 1959. с. 18.
(обратно)128
Некоторые из находившихся в ту пору в Москве военных наблюдателей, например французский военный атташе генерал Пети, поддерживавший тесный контакт с высшими советскими военными руководителями, придавали этому провалу величайшее значение: если бы немцам удалось прорваться у Воронежа, они могли бы окружить Москву; продвижение их на юг представляло меньшую опасность, и здесь была меньше вероятность того, что они смогут достичь быстрых и действительно решающих результатов.
(обратно)129
Ахматова Анна. Стихотворения (1909-1960). М., 1961. с. 205.
(обратно)130
Генерал Н.А. Таленский, говоря со мной о Сталинграде в 1945 г., назвал более высокую цифру – около 40 тыс. Разместить на этих плацдармах больше людей, сказал он, было физически невозможно.
(обратно)131
Знамя. 1963. №11. с. 7.
(обратно)132
Когда речь идет о Сталинградской битве, термин «дивизия» может иногда вводить в заблуждение, ибо многие из этих «дивизий» насчитывали всего лишь 2-3 тыс. человек, а часто и того меньше.
(обратно)133
Гуртьев был убит под Орлом летом 1943 г.
(обратно)134
Черчилль умалчивает о том, что главной причиной катастрофы, постигшей конвой PQ-17, было грубо ошибочное решение начальника английского военно-морского штаба адмирала Д. Паунда, который из-за боязни встречи английских военных кораблей с немецким линкором «Тирпиц» отозвал с полпути обратно крейсеры и эсминцы Сопровождения. Оставленные на произвол судьбы торговые суда подверглись яростным атакам фашистской авиации и подводных лодок. В результате противник потопил 23 транспортных судна из 34. С другой стороны, характерно, что, как указывает А. Верт, два крейсера, сопровождавшие майский конвой PQ-16, тоже его покинули на полпути после первого налета немецких бомбардировщиков. – Прим. ред.
(обратно)135
Речь идет о польской армии под командованием генерала В. Андерса, сформированной в СССР и с согласия Советского правительства покинувшей Советский Союз в марте 1942 г. Вместе с офицерами и солдатами этой армии выехали и члены их семей. Последняя группа была эвакуирована в августе 1942 г. – Прим. ред.
(обратно)136
Churchill W. Op. cit. Vol. IV. p. 425-428.
(обратно)137
Churchill W. Op. cit. Vol. IV. p. 450-451.
(обратно)138
Дизраэли Б. (1804-1881) – английский государственный деятель, писатель, лидер и идеолог консерваторов, премьер-министр Англии в 1868 и 1874-1880 гг. – Прим. ред.
(обратно)139
Почти точно такие же листовки немцы сбрасывали на французские войска в 1939 и 1940 гг.
(обратно)140
Высадка в Дьеппе была произведена главным образом канадцами 19 августа 1942 г. Десант был очень слабым – всего 5 тыс. человек, и ему, естественно, не удалось закрепиться. – Прим. ред.
(обратно)141
Интересно отметить, что несколькими днями позже английский военный атташе полковник Экзем пришел к выводу, что в результате этого наступления русские еще до конца зимы «дойдут до самого Харькова», тогда как генерал Микела и полковник Парк из американского посольства заявляли, что немцы поступили чертовски ловко, дав себя окружить в Сталинграде и сковав таким образом огромные силы русских, что причинит русским массу осложнений».
(обратно)142
ИВОВСС. Т. 3. с. 26.
(обратно)143
ИВОВСС. Т. 3. с. 43.
(обратно)144
Там же. 300
(обратно)145
Manstein E. Op. cit. S. 353.
(обратно)146
Philippi A., Helm F. Op. cit.
(обратно)147
ИВОВСС, Т. 3. с. 50.
(обратно)148
Приведя свидетельство одного итальянца (Giusto Tolloy. Con 1'armata italiana in Russia. Torino, 1947) об окружении крупных итальянских сил к югу от Богучара и о панике, возникшей среди итальянских офицеров и солдат, авторы «Истории войны» опровергают утверждения некоторых итальянских авторов, согласно которым тысячи итальянских военнопленных не вернулись на родину после войны. В «Истории войны» говорится, что многие из тех, кого итальянцы считали военнопленными, в действительности пали в бою и «нашли себе могилу в донских степях». Авторы «Истории войны» добавляют, что большое число итальянцев, уцелевших в битве на Дону, было затем уничтожено немцами – в частности, во Львове б 1943 г., – после того как они отказались (это было после падения Муссолини) присягнуть на верность Гитлеру.
(обратно)149
Wassen H. Was geschah in Stalingrad? Wo sind die Schuldigen? Salzburg, 1950. S. 69.
(обратно)150
Schroter H. Stalingrad… Цит. по: ИВОВСС. Т. 3. с. 60.
(обратно)151
Во время большого контрнаступления в ноябре войска Донского фронта прорвались к опорному району к северу от Сталинграда, у Рынка, который удерживали войска полковника Горохова, однако им не удалось дойти до главного района обороны Чуйкова. В результате большая часть 62-й армии на протяжении еще двух месяцев оставалась изолированной от остальных советских войск.
(обратно)152
Передавая рассказ Ф.М. Ильченко, автор допускает некоторые неточности. На самом деле ст. лейтенант Ильченко первым проник в подвал, где находился Паулюс. Но капитуляцию фельдмаршала принял не он, а прибывшие представители командования 64-й армии – начальник штаба генерал И. Ласкин, подполковник Мутовин и майор Рыков. Честь пленения штаба Паулюса принадлежит не лично Ф.М. Ильченко, а 38-й мотострелковой бригаде под командованием полковника И.Д. Бурмакова (в которой служил Ильченко). Паулюс и другие пленные генералы были отведены сначала к командующему 64-й армией генералу Шумилову. Об обстоятельствах пленения Паулюса см.: Военно-исторический журнал. 1959. № 2; 1961. № 3; книгу «Битва за Волгу» (Сталинградское книжн. изд-во, 1958), а также ИВОВСС. Т. 3. с. 61. – Прим. ред.
(обратно)153
Организация Тодта, часто использовавшая труд иностранных рабочих, занималась строительством дорог, укреплений и т.п.
(обратно)154
В интервью по поводу 20-й годовщины Сталинградской битвы, опубликованном в «Правде» 10 февраля 1963 г., маршал Малиновский назвал следующие цифры немецких потерь, включая все, что было захвачено или уничтожено в Сталинградском котле за время этой битвы, то есть по 2 февраля: 2 тыс. танков, 2 тыс. самолетов, более 10 тыс. орудий и минометов и 70 тыс. автомобилей.
(обратно)155
Это была самая многочисленная группа иностранных корреспондентов – около 20 человек, – когда-либо выезжавшая на фронт за все время войны. В поездке в Котельниково, описанной в гл. IV, участвовало всего 6-7 человек.
(обратно)156
Впоследствии я узнал, что он наотрез отказался делать какие-либо заявления.
(обратно)157
Об эвакуации населения с Кавказа см.: Тюленев И.В. Через три войны М., 1960. с. 176.
(обратно)158
Тюленев И.В. Через три войны. с. 188.
(обратно)159
Philippi A., Heim F. Op. cit. S. 203.
(обратно)160
Dallin A. German Rule in Russia. London, 1947. p. 300.
(обратно)161
Dallin A. Op. cit. p. 251.
(обратно)162
Возможно, что заявления немцев в 1943 г. о том, что они-де оставили на Кавказе «пятую колонну» в лице своих мусульманских друзей, убедили Кремль в необходимости каких-то радикальных мер в отношении «нелояльных» национальностей. Особенно хвастливая статья о германских «союзниках» на Кавказе появилась в геббельсовской газете «Дас рейх» 21 февраля 1943 г.
(обратно)163
См: Еременко А.И. Сталинград. М., 1959. с. 33-39.
(обратно)164
Dallin A. Op. cit. p. 254-255.
(обратно)165
Dallin A. Op. cit. p. 108-109.
(обратно)166
Dallin A. Op. cit. p. 407.
(обратно)167
Цифры, приводимые автором на основе книги Даллина, не отражают действительных масштабов экономического ограбления Украины фашистскими оккупантами. – Прим. ред.
(обратно)168
В 1943 г. крупнейшие угольные бассейны на востоке страны дали: Караганда – 9,7 млн. т (на 2,5 млн. т больше, чем в 1942 г.), Урал – 21 млн. т (на 5 млн. т больше, чем в 1942 г., и почти на 9 млн. т больше, чем в 1940 г.). Наконец, в Подмосковном угольном бассейне, с его крайне низкокачественным углем, было добыто, в 1943 г. 14 млн. т. После освобождения Донбасса полуразрушенные шахты давали в конце 1943 г. только 35 тыс. т угля в сутки; при таких показателях годовая добыча угля в Донбассе составила 11 млн. т.
(обратно)169
ИВОВСС. Т. 3. с. 161.
(обратно)170
ИВОВСС. Т. 3. с. 216.
(обратно)171
ИВОВСС. Т. 3. с. 214. Там же говорится, что эксперты союзников, как, например, Лиддел Гарт, теперь признают, что «применявшиеся русскими танки были почти все их собственного производства,». Некоторые из полученных русскими в 1941-1942 гг. танков, особенно английский танк «матильда», оказались крайне малоэффективными и «воспламенялись, как коробки спичек», как сказал мне с не удовольствием один полковник на Ржевском фронте летом 1942 г.
(обратно)172
Сообщение Наркомвнешторга, опубликованное в «Правде» в июне 1944 г., через несколько дней после высадки союзников в Нормандии.
(обратно)173
Deane J. R. The Strange Alliance. London, 1947. p. 93-95.
(обратно)174
В своем дневнике я нашел следующую запись от 9 марта 1943 г.: «После бурных пятичасовых телефонных переговоров русская цензура пропустила текст выступления Стэндли. Сотрудники отдела печати (Наркоминдела) смотрели сердито. Главный цензор Кожемяко побелел от гнева, ставя свою визу на телеграмме. Его мать умерла в Ленинграде от голода… Другой русский сказал сегодня: «Мы потеряли миллионы людей, а они хотят, чтобы мы ползали перед ними на коленях только за то, что они посылают нам тушенку. А сделал ли когда-нибудь «добренький» конгресс что-либо такое, что не отвечает его интересам? Не говорите мне, что ленд-лиз – это благотворительность».
(обратно)175
Philippi A., Heim F. Op. cit. S. 209-210.
(обратно)176
Philippi A., Heim F. Op. cit. S. 212.
(обратно)177
Фактически войска левого крыла Западного фронта и Брянского фронта перешли в контрнаступление 12 июля 1943 г. – Прим. ред.
(обратно)178
Ga1itz W. Paulus and Stalingrad. London, 1963. p. 288.
(обратно)179
Многие мины, как советские, так и немецкие, изготовленные в 1943 г., имели деревянный корпус, и поэтому их было особенно трудно обнаружить.
(обратно)180
В статье Джона Херси, опубликованной в журнале «Лайф» за октябрь 1944 г., дается подробное и волнующее описание ужасных событий в Клооге.
(обратно)181
Такой мерзкий тип, как Олендорф, шеф одной из эйнзатцкоманд, давая показания на Нюрнбергском процессе, сказал, что от использования автомашин-душегубок пришлось во многих случаях отказаться, так как они «шокировали» самих убийц – не потому, что были полны трупов, а потому, что трупы были перемешаны с испражнениями, которые выделяли жертвы немцев в предсмертной агонии. Этот особый отряд истребил за год с небольшим 90 тыс. человек.
(обратно)182
Zieser В. The Road to Stalingrad. New York, 1957. p. 29-32.
(обратно)183
Su1уо1с Dr. Deux nuits sans jour. Zurich, 1948. p. 88.
(обратно)184
TGMWC. Vol. I. p. 278.
(обратно)185
TGMWC. Vol. XXL p. 72
(обратно)186
Ibid., p. 73.
(обратно)187
TGMWC. Vol. III. p. 207.
(обратно)188
Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза… с. 99.
(обратно)189
Это утверждение автора лишено оснований. В советской исторической литературе высоко оценивается роль военнослужащих Красной Армии, попавших в окружение и перешедших к партизанским методам борьбы. – Прим. ред.
(обратно)190
К концу 1943 г. более половины территории Белоруссии контролировалось партизанами (см.: ИВОВСС. Т. 6. с. 253). – Прим. ред.
(обратно)191
Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза… С. 273.
(обратно)192
По данным, опубликованным в 6-м томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», на оккупированной советской территории «…партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и пленили полтора миллиона гитлеровских солдат и офицеров, чиновников оккупационного аппарата и их пособников из числа предателей. Они произвели более 18 тысяч крушений вражеских поездов» (С. 281). – Прим. ред.
(обратно)193
Глухов. Народные мстители. с. 78.
(обратно)194
Там же. с. 87.
(обратно)195
Из истории партизанского движения в Белоруссии (1941-1944 годы). с. 46.
(обратно)196
Нюрнбергский процесс. Т. 6. с. 149.
(обратно)197
Нюрнбергский процесс. Т. 3. с. 357-358.
(обратно)198
Там же. с. 353.
(обратно)199
Там же. с. 347.
(обратно)200
Партизанам, безусловно, удалось в 1942-м и особенно в 1943 г. внушить немцам чувство страха за их безопасность, особенно при передвижении по шоссе и железным дорогам. Фернан де Бринон, французский квислинговец, которому немцы разрешили посетить Россию в 1943 г., описывает, насколько сильно немецкие солдаты и чиновники, сопровождавшие его во время поездки, боялись партизан (Memoires. Paris, 1948. p. 141 ff.).
(обратно)201
Примечательно, что фельдмаршал Паулюс, генерал Корфес (тоже из-под Сталинграда) и некоторые другие военные поселились в Восточной Германии и стали гражданами ГДР.
(обратно)202
Dean J. R. Op. cit. p. 47, 152.
(обратно)203
Документы Тегеранской конференции см. в журнале «Международная жизнь». 1961. № 7, 8. – Прим. ред.
(обратно)204
Армия Крайова (АК) была организацией польского националистического движения Сопротивления, руководимого из Лондона.
(обратно)205
Изданные Герингом в июне 1941 г. «Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных районах».
(обратно)206
1 марта 1944 г. генерал Ватутин был смертельно ранен при обстреле его машины бандой украинских националистов, и командование 1-м Украинским фронтом принял на следующий день маршал Жуков.
(обратно)207
ИВОВСС. Т. 4. с. 68.
(обратно)208
Manstein E. Op. cit. S. 585. Подобный отчет об этой битве имеется также в работе Меллентина Ф. Танковые сражения. М., 1957.
(обратно)209
Большое расхождение между признаваемой немцами потерей 20 тыс. человек и приводимой русскими цифрой 80 тыс. убитых, раненых и пленных немцев, быть может, объясняется тем, что немцы говорят только о потерях во время «последней» попытки прорыва, без учета потерь в результате чрезвычайно тяжелых двухнедельных боев во время ликвидации котла. Если к числу 20 тыс. человек, потерянных 17 февраля, добавить потери, понесенные немцами за время этих боев, то русская цифра 80 тыс. человек станет вполне вероятной.
(обратно)210
По утверждению Филиппи и Гейма, их было семь.
(обратно)211
Это была, по-видимому, одна из немногих операций на столь позднем этапе войны, в которой кавалерия сыграла важную роль.
(обратно)212
О нем упоминалось на процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге как об одном из чиновников ведомства Заукеля по набору рабочей силы.
(обратно)213
Назначенный после падения диктатуры Муссолини премьер-министром Италии маршал Бадольо подписал 3 сентября 1943 г. договор о капитуляции Италии и 13 октября 1943 г. объявил войну Германии. – Прим. ред.
(обратно)214
В 1941 г. в Одессе имелось свыше 150 тыс. евреев, однако около двух третей их было эвакуировано морем вместе с большей частью советских войск и многими другими жителями города. Когда в июне 1944 г. я посетил город Ботошаны на занятой Красной Армией территории Румынии, я нашел здесь многочисленное еврейское население, которое румыны, несмотря на требования немцев, не уничтожили. В связи с этим вопросом в румынском правительстве имели место некоторые разногласия. (См.: Rit linger. The Final Solution. London, 1953. p. 404.)
(обратно)215
См.: Катаев В. За власть Советов. М., 1949.
(обратно)216
Philippi A. und Heim F. Op. cit. S. 243.
(обратно)217
ИВОВСС. Т. 4. с. 89.
(обратно)218
Согласно немецким источникам, Гитлер считал существенно важным удерживать Севастополь по крайней мере до тех пор, пока немцы не опрокинут войска союзников, высадка которых в Нормандии ожидалась через шесть-восемь недель.
(обратно)219
В 1947 г. заместитель министра обороны Польши Кароль Сверчевский был убит украинскими буржуазными террористами вблизи украинской границы.
(обратно)220
Jоhn R. Deane. Op. cit.
(обратно)221
В советской «Истории войны» опубликованы весьма интересные данные (в процентах), показывающие, что в период между Сталинградской операцией и концом войны лишь очень незначительно увеличилась численность личного состава Красной Армии, но оснащенность ее боевой техникой колоссально возросла (см.: ИВОВСС. Т. 5. С. 467).
Следующая таблица прекрасно иллюстрирует это положение:
ВремяЛичный составОрудия и минометыТанки и САУБоевые самолетыНа 19 ноября 1942 г.100100100100На 1 января 1944 г.111180133200На 1 января 1945 г.112217250343
(обратно)222
ИВОВСС Т. 4. с. 163-164. Немецкие источники оценивают советское превосходство еще выше.
(обратно)223
Там же. с. 164-166.
(обратно)224
Типпельскирх К. История второй мировой войны. М., 1956. с. 445.
(обратно)225
Kriegstagebuch des OKW. IV-I. S. 13-14.
(обратно)226
Guderian H. Op. cit. S. 336. Филиппи и Гейм называют 28 дивизий и 350 тыс. человек.
(обратно)227
Churchill W. Op. cit. Vol. VI. p. 117.
(обратно)228
Churchill W. Op. cit. p. 24.
(обратно)229
Ibid. p. 127.
(обратно)230
ИВОВСС. Т. 4. с. 243.
(обратно)231
Там же. с. 244 и след.
(обратно)232
Передачи радиостанции «Свит» велись «пролондонскими» поляками.
(обратно)233
Guderian H. Op. cit. p. 358-359.
(обратно)234
За несколько месяцев до того Грош, как один из руководящих деятелей Союза польских патриотов, хотел было съездить в Лондон, чтобы изложить английскому правительству точку зрения «московских поляков», но ему было отказано в визе. Грош был блестящим писателем и прекрасно говорил по-английски. Впоследствии он стал одним из главных советников по внешнеполитическим вопросам при Люблинском комитете, а затем в течение нескольких лет, вплоть до своей смерти, занимал видный поет в польском министерстве иностранных дел в Варшаве.
(обратно)235
Допрос подсудимых описан в моей статье «Первая встреча с Польшей», опубликованной в журнале «Russian Review», № 1 (Penguin Books, 1945).
(обратно)236
Philippi А., Неim F. Op. cit. S. 259.
(обратно)237
Это заявление подтверждается немецкими источниками, согласно которым немцы перебросили в июле несколько своих крупных соединений из Румынии на другие участки фронта (Philippi А., Неim F. Op. cit. S. 260.).
(обратно)238
Это не вполне соответствует действительности. Немецко-фашистское командование «перетасовало» свои и румынские дивизии в целях обеспечения большей устойчивости последних. Только крайний правый фланг группы армии, упиравшийся в море, занимали одни румынские соединения. Удары советских войск были нанесены по участкам, занимавшимся как румынами, так и немцами. – Прим. ред.
(обратно)239
Через несколько лет после окончания войны СССР отказался и от этого района.
(обратно)240
Немецкая авиабаза, основной задачей которой было уничтожение конвоев, шедших из Англии в Мурманск и Архангельск.
(обратно)241
Gafencu G. Prelirainaires de la guerre a 1'Est. Paris, 1944. p. 234-235.
(обратно)242
Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы. М,, 1959. с. 44, далее – Советско-французские отношения…
(обратно)243
Советско-французские отношения… с. 47.
(обратно)244
В этом он целиком следовал примеру, который показал де Голль в Лондоне. Беседуя с советскими дипломатами, генерал нередко жаловался им на английское правительство. Так, 25 ноября 1941 г. в ответ на слова посла Богомолова, что он регулярно читает его (де Голля) журнал «Франция», де Голль живо и твердо сказал: «Это не мой журнал… Это английский журнал. Его редакторы связаны с английским министерством пропаганды». В другой раз 26 сентября 1942 г. он сказал Богомолову, что англичане затеяли интригу с целью противопоставить ему Эррио. «С раздражением он заметил; что англичане непрерывно пытаются его свалить, используя то тех, то других лиц» (Советско-французские отношения… с. 50, 96).
(обратно)245
Советско-французские отношения… с. 118.
(обратно)246
Там же. с. 167.
(обратно)247
Советско-французские отношения… с. 339-383.
(обратно)248
Автор имеет в виду историческую справку «Фальсификаторы истории», изданную Советским информационным бюро. – Прим. ред.
(обратно)249
ИВОВСС. Т. 5. с. 57. Конечно, такое большое превосходство отнюдь не сохранялось в ходе последующих боев. Когда немцы подтянули резервы, на многих участках, например на Одере, под Кенигсбергом и т.д., в течение следующих четырех месяцев проходили весьма ожесточенные бои.
(обратно)250
Перед зданием английского посольства, находящимся на другом берегу Москвы-реки, на некотором расстоянии от места массовых гуляний, состоялись лишь небольшие дружественные демонстрации.
(обратно)251
Имеется в виду незаконное фашистское «правительство», созданное адмиралом Деницем и просуществовавшее 20 дней на территории, оккупированной англичанами. Дениц и его «министры» были в конечном счете арестованы по настоянию Советского Союза. – Прим. ред.
(обратно)252
Документы Крымской конференции см. в журнале «Международная жизнь». 1965. № 6-9. – Прим ред.
(обратно)253
Stettinius E. Roosevelt and the Russians. London, 1950.
(обратно)254
Stettinius E. Op. cit. p. 266.
(обратно)255
Речь шла о суде не над членами Армии Крайовой вообще, а над антинародными элементами в ее рядах, открыто или тайно боровшимися против новой, демократической Польши. – .Прим. ред.
(обратно)256
Автор не поясняет, что он имеет в виду. Подлинными «интересами СССР в Польше» было прежде всего создание дружественного Советскому Союзу независимого сильного демократического польского государства. – Прим. ред.
(обратно)257
Берлин выделялся в особую зону, разделенную на четыре сектора.
(обратно)258
В «Истории войны» утверждается, что на Ялтинской конференции русские выступали против расчленения Германии и с подозрением относились ко всяким планам расчленения, выдвигавшимся западными державами (ИВОВСС. Т. 5. с. 130-135). Вопрос о «расчленении» обсуждался на ряде совещаний, в частности в период между заседанием Европейской консультативной комиссии в ноябре 1944 г. и Потсдамской конференцией в июле 1945 г. На заседании Европейской консультативной комиссии в марте 1945 г. советские представители решительно высказались против расчленения.
(обратно)259
Stettinius E. Op. cit. p. 115.
(обратно)260
Там же. р. 198.
(обратно)261
Эта смерть произвела очень глубокое впечатление. Все советские газеты вышли с траурными рамками на первых полосах, и в силу какого-то непостижимого инстинкта люди чувствовали, что это была огромная утрата для СССР.
(обратно)262
Спустя всего неделю он погиб в автомобильной катастрофе.
(обратно)263
В состав членов муниципалитета Берлина входили семь представителей буржуазных партий, шесть коммунистов, два социал-демократа и двое беспартийных. Из коммунистов двое много лет просидели в нацистском концлагере.
(обратно)264
В действительности ночная атака была проведена ударной группировкой 1-го Белорусского фронта в составе четырех армий, сосредоточенных на плацдарме западнее Одера. – Прим. ред.
(обратно)265
Как следует из «Истории войны» (Т. 5. с. 288-290), Берлинская операция была куда более сложным делом, чем это выходило по словам Жукова. С обеих сторон в сражении участвовали 3,5 млн. человек, 50 тыс. орудий и минометов, 8 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок и свыше 9 тыс. самолетов. В ходе Берлинской операции Красная Армия разгромила 70 немецких пехотных дивизий, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий. До фактической капитуляции немцев 8 мая советские войска захватили 480 тыс. пленных, а также 1500 танков, более 4 тыс. самолетов и свыше 10 тыс. орудий и минометов. В «Истории войны» подчеркивается, что Берлинская операция была осуществлена не только 1-м Белорусским фронтом под командованием Жукова, но также двумя другими фронтами – 1-м Украинским и 2-м Белорусским. В ней говорится также, что Красная Армия имела в этой операции «подавляющее превосходство», но что немецкие солдаты и офицеры, ослепленные нацистской пропагандой, продолжали фанатично сражаться до самого конца и в период с 16 апреля по 8 мая нанесли русским очень серьезные потери. Три непосредственно участвовавших в операции фронта потеряли около 305 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, главным образом во время прорыва обороны на Одере и Нейсе и в боях в Берлине. Русские потеряли более 2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 1220 орудий, 527 самолетов. «Американо-английские войска за весь 1945 г. потеряли на Западном фронте 260 тыс. человек». Только во время штурма рейхстага погибло несколько сот, если не тысяча советских бойцов. Таким образом, бои в Берлине представляли собой нечто гораздо более серьезное, нежели просто «огромную операцию по очистке», как назвал их Жуков. Расхождения между приведенными выше цифрами и теми, которые называл Жуков, очевидно, показывают, что он говорил главным образом о своем 1-м Белорусском фронте, а не о Берлинской операции в целом.
(обратно)266
ИВОВСС. Т. 5. с. 384.
(обратно)267
Там же. с. 392.
(обратно)268
Вначале Александер дружественно относился к югославам, позже он по указанию Черчилля резко выступил против них, а однажды даже сравнил Тито с Гитлером и Муссолини, чем вызвал возмущение Сталина (см.: Churchill W. Op. cit. Vol. IV. p. 480-488).
(обратно)269
Переписка… Т. 1. с. 353.
(обратно)270
См.: Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Т. 2. с. 611-648.
(обратно)271
Правда. 20 июня 1945 г.
(обратно)272
Mikolajczyk S. The Rape of Poland. London, 1948. p. 157.
(обратно)273
Документы Потсдамской конференции см. в журнале «Международная жизнь». 1965, № 10, 12; 1966, № 1, 3, 5, 7. – Прим. ред.
(обратно)274
Цит. по: Williams W. A. The Tragedy of American Diplomacy. New York, 1962. p. 251.
(обратно)275
ИВОВСС. Т. 5. с. 526.
(обратно)276
Там же. с. 529.
(обратно)277
По русско-японскому соглашению 1855 г. Сахалин должен был совместно управляться двумя странами, тогда как Курильские острова были поделены между ними. В 1875 г. Япония отказалась от своих притязаний на Сахалин, но получила целиком Курильские острова. По мирному договору 1905 г. к Японии отошла южная часть Сахалина. Теперь СССР требовал не только возвращения Сахалина, но и всех Курильских островов, которые он рассматривал как японские базы, препятствующие советскому судоходству на Тихом океане. Возможно также, что советские руководители уже тогда подозревали, что США зарились на Курилы как на потенциальную авиационную базу.
(обратно)278
Sherwood R. The White House Papers of Harry Hopkins. Vol. II. London, 1949. p. 892.
(обратно)279
ИВОВСС. Т. 5. с. 536-537.
(обратно)280
Там же. с. 538.
(обратно)281
Churchill W. Op. cit. Vol. VI. p. 552-554.
(обратно)282
Ibid. p. 554.
(обратно)283
Churchill W. Op. cit. Vol. VI. p. 579-580.
(обратно)284
Byrnes I. All in one Lifetime. New York, 1958. p. 291-299.
(обратно)285
Немецкий автор Антон Цишка (Zischka A. Krieg oder Frieden. Giitersloch, 1961. S. 61-65) высказывает мнение, что японский ответ на ультиматум был либо случайно, либо, что более вероятно, умышленно неправильно переведен какими-то американскими должностными лицами. Слова премьер-министра Судзуки «воздерживаемся от комментариев до получения дальнейшей информации» были переведены как «мы игнорируем ультиматум». Японское слово «мокусацу» означает в зависимости от контекста и «игнорировать», и «воздерживаться» от комментариев.
(обратно)286
ИВОВСС (Т. 5. с. 581) приводит то же число японских военнопленных, но несколько увеличивает количество захваченной техники. Там говорится, что только войсками Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов было захвачено 1565 орудий, 2139 минометов, 600 танков, 861 самолет и 12 тыс. пулеметов.
(обратно)287
Когда в 1960 г. Бирнса спросили, была ли какая-то срочная необходимость закончить войну на Тихом океане до того, как Советский Союз окажется слишком глубоко втянут в нее, он ответил: «С моей точки зрения, несомненно, была. Мы хотели закончить с японской фазой войны до вступления в войну русских».
(обратно)288
Переписка… Т. 2. с. 264-265.
(обратно)
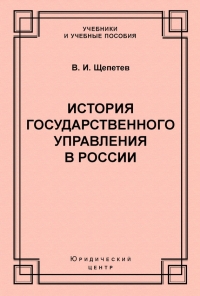

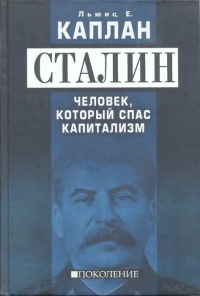
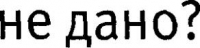
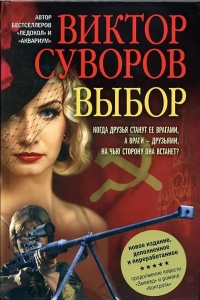
Комментарии к книге «Россия в войне 1941-1945», Александр Верт
Всего 0 комментариев