Нина Михайловна Молева Семь загадок Екатерины II, или Ошибка молодости
Действующие лица
Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822) — замечательный русский портретист.
Настасья Яковлевна — его жена.
Агапыч — крепостной слуга Левицкого.
Екатерина II Алексеевна (21 апреля 1729 — 6 ноября 1796), урожденная принцесса Ангальт-Цербская, — императрица Российская (1763–1796).
Павел I Петрович (20 сентября 1754 — 11 марта 1801) — Российский император (1796–1801).
Мария Федоровна (14 октября 1759 — 24 октября 1828), урожденная принцесса Вюртембергская, — супруга Павла I, императрица Российская.
Нелидова Екатерина Ивановна (12 декабря 1756 — 2 января 18..), воспитанница Смольного института, — фрейлина императрицы Марии Федоровны (с 1777 г.).
Вельможи:
Разумовский Алексей Григорьевич (17 марта 1709 — 6 июля 1771), необъявленный супруг императрицы Елизаветы Петровны, — оберегермейстер и генерал-фельдмаршал.
Разумовский Кирилл Григорьевич (18 марта 1724 — 9 апреля 1803) — брат предыдущего. Последний гетман Малороссии (1748–1765), президент императорской Академии наук.
Теплов Григорий Николаевич (1719 — 30 марта 1770) — воспитатель и доверенное лицо К. Г. Разумовского. Президент Академии наук. Статс-секретарь Екатерины II.
Шувалов Иван Иванович (1 ноября 1727 — 14 марта 1797) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, основатель Московского университета и императорской Академии художеств.
Трубецкой Никита Юрьевич (12 мая 1700 — 16 октября 1764) — при императрице Елизавете Петровне генерал-прокурор и фельдмаршал.
Трубецкой Николай Никитич — сын предыдущего, поэт и переводчик.
Херасков Михаил Матвеевич (25 октября 1733 — 27 сентября 1807) — пасынок и воспитанник Н. Ю. Трубецкого. Выдающийся поэт. Куратор Московского университета.
Бецкой Иван Иванович (1703 — 31 августа 1795) — внебрачный сын брата Н. Ю. Трубецкого. Основатель Воспитательных домов в Москве и Петербурге. Управляющий Канцелярией от строений. Главный директор Сухопутного шляхетного корпуса. Президент Академии художеств в течение 30 лет.
Строганов Александр Сергеевич (1734 — 27 сентября 1811) — президент Академии художеств, председатель Комиссии о построении Казанского собора в Петербурге.
Воронцов Михаил Илларионович (12 июля 1714 — 15 февраля 1767) — государственный канцлер Российской империи.
Дашкова Екатерина Романовна (27 марта 1743 — 4 января 1810), урожденная Воронцова, — племянница и воспитанница предыдущего. Президент Российской Академии и директор императорской Академии наук.
Нарышкин Семен Кириллович (5 апреля 1710 — 27 ноября 1775) — генерал-аншеф, обер-гермейстер, гофмаршал.
Безбородко Александр Андреевич (8 марта 1717 — 6 апреля 1799) — статс-секретарь и обер-гофмейстер при Екатерине II, государственный канцлер при Павле I, участник заключения мира в Яссах и окончания третьей русско-турецкой войны.
Прозоровский Александр Александрович (1732–1809) — генерал-фельдмаршал, участник русско-турецких войн, главнокомандующий Москвы (с 1790 г.).
Криденер Варвара-Юлия, урожденная баронесса Фитингоф (1764–1825) — известная писательница, проповедница мистических учений, одно время оказывавшая значительное влияние на императора Александра I.
Беркхейм фон Жюльетта, урожденная баронесса Криденер, — ее дочь. Родилась в 1787 году.
Стахиев Александр Александрович — русский чиновник на дипломатической службе, переводчик литературных произведений.
Мариньи де, маркиз — придворный Людовика XVI, занимавшийся иностранными делами.
Жюбер Анри — его секретарь.
Шешковский Степан Иванович (1724 — 12 мая 1794) — начальник Тайной канцелярии при Екатерине II.
Мнишек Урсула, урожденная графиня Замойская (1760–1806) — супруга литовского коронного гетмана М. Мнишека.
Писатели:
Сумароков Александр Петрович (1718 — 1 октября 1777) — выдающийся драматург, поэт, директор русского театра.
Богданович Ипполит Федорович (23 декабря 1743 — 6 января 1803) — поэт, автор поэмы «Душенька».
Львов Николай Александрович (1744–1803) — поэт, архитектор, специалист в области горнорудного дела, строительства, металлургии.
Хемницер Иван Иванович (1744 — 20 марта 1784) — баснописец.
Новиков Николай Иванович (26 апреля 1744 — 21 июля 1818) — выдающийся русский просветитель, писатель, критик, издатель.
Грибовский Николай Андрианович (1793–1864/65) — участник Отечественной войны 1812 года, переводчик.
Ржевский Алексей Андреевич (1737–1804) — поэт, писатель, президент Медицинской коллегии, сенатор.
Державин Гавриил Романович (3 июля 1745 — 9 июля 1816) — поэт. Статс-секретарь при Екатерине II, генерал-прокурор при Павле I, министр юстиции при Александре I.
Дидро Дени (1713–1784) — французский философ, энциклопедист, много лет состоял в переписке с Екатериной II.
Чекалевский Петр Петрович (1751–1815) — писатель, теоретик искусства, вице-президент Академии художеств.
Лабзин Александр Федорович (1766–1825) — писатель, издатель мистической литературы, конференц-секретарь Академии художеств.
Попугаев Василий Васильевич (1778 — около 1816) — писатель.
Художники:
Антропов Алексей Петрович (1716–1795) — живописец, состоял в Живописной команде Канцелярии от строений.
Токкэ Луи (1696–1772) — французский живописец, член Парижской Академии.
Лосенко Антон Павлович (1737–1773) — выдающийся исторический живописец, преподаватель Академии художеств.
Кокоринов Александр Филиппович (1726 — 9 марта 1772) — архитектор, строитель здания петербургской Академии художеств и первый ее директор.
Козлов Гаврила Игнатьевич (1738 — 22 мая 1791) — исторический живописец, адъюнкт-ректор Академии художеств, директор императорской Шпалерной мануфактуры.
Остенек (Востоков) Александр Христофорович (1781–1864) — архитектор, известный филолог.
Иванов Иван Алексеевич (1779–1848) — архитектор, живописец и график.
Репин-Фомин Флор Филиппович (1779 — после 1830) — живописец. Был преподавателем рисования при Харьковском университете.
Витберг Александр (Карл) Лаврентьевич (1787–1853) — исторический живописец и архитектор, автор первого неосуществленного проекта храма Христа Спасителя.
От автора
Ветер широкими волнами наплывает на глубины пустынной улицы. Солоноватой накипью оседает на стенах домов. Шелестит в неохватных тополях. Растекается за решетками садов. Ветер словно приподнимает низко опустившуюся пелену неба, жемчужно-серую, в чуть уловимых отсветах водной глади.
Вода… Улица начинается в ее могучем и тугом течении и вдали уходит в свинцовую рябь, вспоротую неустающим и бесшумным движением кораблей. Низко осевшие буксиры с алой перевязью тянущихся к небу труб. Привставший на лапах «Метеор», ядром снаряда проскакивающий под тяжело пригнувшимися арками мостов. Парусник с полуприбранными парусами, в тонкой паутине высоко взметнувшихся рей. Громады втиснувшихся среди домов океанских лайнеров. Чайки на захлестанных пеной обломках досок. Река ли, море ли, напружинившимися потоками хлынувшие в город.
Улица расступается простором сонной равнины. Мелькание троллейбусов, стремительный росчерк машин, кажется, не в силах оставить след в невозмутимом равнодушии ее тишины.
Сквер в сумеречной тени вековых лип. Игла гранитного обелиска — памяти военных побед слишком давних екатерининских времен. Чугунная чаша фонтана. Стайки воробьев, летящих навстречу одиноким прохожим.
Через мостовую — бесконечный простор окон и пилястр, перекрывавших кипенной белизной брусничную красоту стен, кажется, без входов, кажется, в застывшем за ними безлюдье. Когда-то знаменитый Меншиковский дворец, когда-то Сухопутный шляхетный корпус.
Дальше дома в одинаковом отсчете этажей, местами отступившие в сады, чаще сомкнувшиеся сплошной стеной. Светло-серые, лиловые, чуть тронутые мягкой желтизной. Они так и назывались — Линия. Не улица — порядок строений, непременно каменных, непременно рисованных архитекторами, как того требовал неумолимый ритуал заново строившегося города. Пилястры, редкие пятна скульптурных вставок и гладь новых стен в безошибочном расчете менявшихся с высотой оконных проемов — щегольская подпись давних строителей.
На перекрестке зелень густеет. Одинокие тополя уступают рядам лип. Раскидистых. Почти черных. Молчаливых. Аллеи застывают вековым бором, чуть припорошенным неярким и пьяным цветом. Сладковатая желтая пыль вьюжит у дверей, скользит в стиснутые стенами проходы, застывает в булыжных буераках домов.
Есть Петербург Достоевского и Некрасова, Петербург Пушкина и Петра I, Гоголя и екатерининских лет, чаще обозначаемый именами зодчих, чьи работы стали лицом города. Можно себе представить Петербург Ломоносова, Державина, даже Карла Брюллова. Но Петербург Левицкого, самого прославленного, самого обожаемого портретиста тех же лет, — существует ли такой? Можно ли отыскать его особенные и отделимые от других знаменитых современников художника черты, по-своему отозвавшиеся в полотнах портретистов, ожившие (оставшиеся жить?) в неповторимых оттенках того, что и как он делал, как вел рассказ о людях своих лет, чем и как жил сам?
Полвека в Петербурге. В дни шумной славы и в годы забвения, без попыток оставить ставший недружелюбным город, сменить столицу на Неве на гостеприимную, давно и во всех мелочах знакомую Москву, просто вернуться на родину, если уж что-то в жизни надломилось и нет впереди ни времени, ни надежды исправить случившееся.
Или надо сказать иначе. Полвека на Васильевском острове — несостоявшемся центре задуманной Петром столицы. Это как первая запись мысли об идеальном городе, слишком идеальном, чтобы его можно было создать. Неумолимая прямота безукоризненно расчерченных Линий. Дома, готовые для нового склада жизни. Академия наук. Кунсткамера. Двенадцать коллегий. Забытые дворцы. Зеленеющая даль проспектов. Гавань с кораблями далеких стран. И холодящее горьковатое дыхание моря, невидимого и угаданного, как предчувствие готовой свершиться свободы.
На доме нет никакой доски. Ни о заслугах перед русским искусством («памятник архитектуры… охраняется…»). Ни о событиях истории («жил… работал… умер… охраняется»). Вздыбившийся над соседними крышами узкий фасад. Тесно пробитые витрины нижних этажей. Разнобой громоздящихся над ними оконных проемов — выше, ниже, шире, уже. Широкий карниз, прошитый колоннами вынесенных почему-то далеко в сторону водосточных труб. Облепленная вперемежку желтыми и красными изразцами стена. Нелепые домыслы нашего века, за которыми, кажется, не угадать ясного и строгого почерка первых строителей. Впрочем, почерк зодчего, времени, устоявшегося распорядка жизни — так ли легко их окончательно стереть!
…За вросшей в землю одностворчатой дверью — низкий проход с сумеречным квадратом двора вдалеке. Ряд запертых висячими замками дверей. Поворот к лестнице. Зло и крупно изъеденные временем ступени. Очень пологие. Очень старые. На первой лестничной площадке — замурованное бесконечными слоями побелки устье камина. В проеме окна — колодец светового двора. В комнатах — остатки былой планировки, следы перебитых заново окон, дверей, куски штучных полов. Восемнадцатый век, оживающий в расчете пропорций, мелочах деталей, почти как написание букв, исправленных чужой и неграмотной рукой.
К такой неказистой на вид двери могли подъезжать кареты. Сквозным проходом прислуга уходила на задний, почти усадебный двор. За задами дверей местилась дворня. В бельэтаже могла располагаться мастерская художника, на втором — анфилада парадных комнат, подчеркнутая повисшим на фасаде балконом, наверху — жилые комнаты семьи. Старые ступени обрывались на третьем этаже — дальше поднималась не знавшая Левицкого надстройка. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Съездовская линия, 23… Отсюда начиналась первая загадка.
Дедушка с золотой кофейной чашкой
Все началось с письма. Обыкновенного делового письма из Познани, в котором профессор тамошнего университета Еугениуш Иванойко среди других новостей сообщал, что в одной из местных частных коллекций объявился любопытнейший мужской портрет. Полная подпись и дата — «Писал Левицкий. 1818» — уже проверены специалистами государственных реставрационных мастерских и не вызывают никаких сомнений в подлинности. Да и сама манера письма убеждает в авторстве великого русского портретиста: «Разве можно спутать Левицкого с другим художником!»
Радоваться бы открытию нового, еще неизвестного науке произведения мастера, если бы не позиция тогдашней заведующей отделом живописи XVIII — первой половины XIX века: такого портрета не должно существовать!
Общепринятая биографическая канва утверждала, что в последние двадцать лет жизни Левицкий почти перестал работать — лишился зрения и впал в глубочайший религиозный фанатизм, побудивший его забыть о живописи. Правда, документальных подтверждений обнаружить не удалось. Все удовлетворились единственным свидетельством двенадцатилетнего ребенка, якобы видевшего Левицкого, на ощупь ползущего на коленях к церковному алтарю.
Но таким уж был принцип советского искусствоведения: по каждому вопросу вырабатывалась официальная точка зрения — «идеологически выдержанная», которую исповедовали затем все редакторы, музейные работники, ученые. Всякого рода неожиданные открытия могли повлечь за собой нарушение идеологического баланса, каким представляла Левицкого официальная история искусства, с обращением к церкви неизбежно должен был лишиться и мастерства, и интереса к жизни. Шел 1978 год.
Получивший подобный ответ из Москвы владелец портрета Леон Диц д’Арма оказался в полной растерянности. Ведь доказательства требовали сложных разысканий в русской литературе и архивах. И начать надо было с изображенного лица, а холст не нес никаких намеков на его имя. Единственное, что удалось узнать у последних хозяев, в чьей собственности он долгое время находился, — принятое в семье название: «Портрет дедушки с золотой кофейной чашкой». Больше покинувшая Прибалтику в конце Второй мировой войны и переселившаяся в Западную Германию баронесса Мирбах решительно ничего не знала.
Дедушка? Но представленный на портрете мужчина совсем не стар. Рукой искусного парикмахера уложены его густые, чуть тронутые сединой волосы, подвиты по последней моде концы длинных бакенбард. Темный сюртук с расшитым воротом, два надетых друг на друга жилета, пышный галстук с крошечным бантом говорят о внимании ко всем тонкостям парижских новшеств. Красивые тонкие ухоженные руки. Скорее, можно было бы говорить о стареющем светском щеголе, если бы не удивительное лицо.
Возраст — в наплыве начинающих тяжелеть век, путанице залегших у висков морщин. Следы раздумий в глубоких складках лба. Тень горечи, почти потерянности в мягком абрисе рта, напряженно поднятых бровей. И неожиданный контраст легкому налету ранней усталости от жизни — сосредоточенный, словно обращенный в себя взгляд искрящихся изумрудной прозеленью, почти юношеских глаз. Чацкий… Таким мог стать Чацкий, если бы Грибоедов продлил срок его жизни до сорока пяти — пятидесяти лет.
Около руки мужчины, на краю выдвинутого углом стола, — золотая кофейная чашка, за спиной — книги. Целая полка переплетенных в тисненую кожу русско-немецких и русско-французских словарей, и на них серый, в простой бумажной обложке томик с надписью «Valerie. 2». Другой такой же томик с надписью «Valerie. 1» у мужчины в руке. Можно даже попытаться угадать, на каких он заложен страницах.
Польские специалисты были непоколебимы в своих выводах: только Левицкий, ничуть не постаревший в своем мастерстве, ничего не лишившийся с годами в своеобразии таланта. Их доводы в своей совокупности складывались в достаточно стройную картину. Если бы — если бы один вопрос упрямо не вставал на пути рождавшейся уверенности. Почему Левицкий, если постоянно продолжал работать и выполнять заказы, почему в обширнейшей мемуарной литературе этих лет никем и никогда не упоминалось его имя?
Померкшая слава? Но автор одного из самых прославленных, воспетого поэтами портрета Екатерины-Фелицы, Екатерины-Законодательницы, олицетворения мудрой и просвещенной монархини, не мог быть так просто забыт в александровские годы. К тому же при всей распространенности портретов написание каждого из них становилось событием в жизни портретируемого. О нем вспоминали часто, подробно, не забывая имен и обстоятельств. И если современники не скупятся на имена самых посредственных живописцев, даже ремесленников, даже крепостных, о чем может говорить их молчание в отношении мастера, чьи работы украшали дворцы и стали олицетворением Екатерининского века?
Доказательство того, что все-таки не работал, перестал писать? Но воспоминания простирались в глубь времени, начинались с XVIII века, где не знать Левицкого, не сталкиваться с его работами было попросту невозможным. Забывчивость, неосведомленность могли стать причиной в каком-то отдельном случае, но в отношении Левицкого они приобретали коллективный характер. Куда дальше, если в опубликованных еще при жизни художника воспоминаниях Федора Львова о его двоюродном брате, архитекторе, поэте, инженере Николае Львове, нет и тени Левицкого, хотя подробнейшим образом описаны все художнические контакты Львова, все его знакомства с деятелями искусства. А ведь теснейшая многолетняя связь Николай Львов— Левицкий — это не только эпоха, но и постоянное сотрудничество, единомыслие в вопросах искусства, общность взглядов, которые приходилось вместе отстаивать. Это многословная переписка и целая галерея портретов, написанных Левицким с самого Николая Александровича и его красавицы-жены Марьи Алексеевны Львовой-Дьяковой.
Для Федора Львова, как и для множества современников, все это очевидные и общеизвестные факты, только факты, о которых почему-то предпочтительно умолчать. Именно умолчать, как молчат о своем еще живом члене Академии художеств. В 1820 году, после пятилетнего перерыва, открывается большая академическая выставка работ ее членов, учеников и вольнопрактикующих художников. Левицкий мог не представлять своих полотен, но нигде и ни по какому поводу не упоминается его имя, хотя бы как педагога, хотя бы как воспитателя одного из представленных живописцев. Его нет и в отчетах Академии художеств о своих членах. То, что обязательно в отношении всех преподавателей, забывается в отношении старого заслуженного мастера.
Следующая выставка — 1821 года, и снова среди множества имен пробел везде, где должно было быть упомянуто имя прославленного портретиста. Не изменяет установившемуся правилу и П.П. Свиньин, выступающий с обзорами обеих выставок на страницах издаваемого им журнала «Отечественные записки».
Но если молчание было намеренным, может быть, одни и те же поводы побуждали молчать и других современников Левицкого? А если так, нет ли в этих поводах ключа к последним двадцати «пустым» годам художника, да и вообще к тем путям, которыми прошла у Дмитрия Левицкого вся его жизнь?
* * *
Петербург. Васильевский остров. Съездовская линия. Дом художника Левицкого. В прихожей — Агапыч и чужой лакей.
— Его благородию господину советнику Академии письмо принять извольте.
— Письмо, говоришь. Давай-давай. Ты чей будешь-то?
— Господ Грибовских. У Николая Андриановича нониче в услужении. Ответа дождаться велено.
— Грибовских, ишь ты. Издалека, значится, а погода-то, собаку не выгонишь.
— Да что уж, известно, февраль на дворе.
— Февраль февралем, а ты, покуда докладывать Дмитрию Григорьевичу пойду, на кухню ступай. Там тя кухарка чайком побалует.
— Премного благодарен. Хлопот бы вам не наделать.
— Какие хлопоты! У нас всегда так: напред всего обогреть да накормить. Порядок такой.
— С кем это ты, Агапыч, разговорился?
— А вот и наш барин собственной персоной. Да человек вам, батюшка, письмецо от господина Грибовского принес. Ответа ждать собирается, так я его на кухню отсылаю — чайку попить.
— Пусть попьет. А письмо давай. Какой еще ответ нужен.
«Милостивый государь и благодетель Дмитрий Григорьевич!
Спешу обрадовать Вас новостями сколь неожиданными, столь и приятными. Вчера получил весточку от пиита нашего Василия Львовича Пушкина из Москвы. Пишет о великих торжествах, кои в древней столице произошли. Наконец-то монумент прославленным в веках согражданам нашим гражданину Козьме Минину и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому при несметном стечении народа открыт был. Сопровождалось событие сие военной дефиладой, а ввечеру празднеством в зале Благородного собрания, где с необычным успехом исполнена была специально сочиненная композитором Кашиным оратория. Василий Львович не преминул и некоторые замечания по этому поводу простолюдинов привести, которые хотя и не вполне величие героев наших понимают, однако творение таланта Ивана Петровича Мартоса и их равнодушными не оставляет. Нельзя не признать, что у Василия Львовича особый дар наблюдения присутствует.
Так, с его слов, один толстый мужик с рыжею бородою заметил соседу: Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел. Другой заметил, что в старину все босые ходили, а теперь в немецкие сапоги обулись. Третий же всячески радовался, что прославляется Москва новыми чудесами, подобных которым еще не бывало. Но все это я к тому, что вы без малого двадцать лет назад о сем монументе в Вольном обществе любителей наук и художеств хлопотали и на том стояли, чтобы монумент сей сооружен был на народные пожертвования. И хоть поначалу идея сия правительством поддержана не была, однако после Отечественной войны до завершения все же доведена.
Успех Кашина нам не в удивление. Он давний любимец граждан московских. Но тем радостнее известие, что вновь удостоилась триумфа подлинного оратория покойного Степана Дегтярева „Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы“. После апреля 1811 года это первое ее исполнение. И сколь позорно для великого Отечества нашего, что рабство сгубило сей несомненный талант. Ежели интересно Вам, милостивый благодетель мой, то не премину переписать и прислать все тексты оных ораторий вместе с переводом на язык итальянский, как Вы о том высказаться пожелали.
В заключение приведу еще одну новость, крайне друзей наших общих взволновавшую. Сама госпожа Криденер имеет вскоре прибыть в Петербург. Сказывают, что приглашена она самим государем императором, который по-прежнему ученые философические беседы с сею ученою особою предпочитает светским развлечениям, и жить предполагает в столице. Одной из целей приезда баронессы называют также заботу о будущем супруга единственной ее дочери, с которой она никогда не расстается. Барону Беркхейму обещано вступление на российскую службу, о чем госпожа Криденер давно хлопотала. Остается надеяться, что и в нашем собрании мы будем иметь отменное удовольствие госпожу Криденер видеть и ее поручения и откровения слышать.
За сим остаюсь с великим почтением…
Пост скриптум. Ежели портрет мой Вами, милостивый благодетель, завершен, не соблаговолите ли передать его моему человеку, что доставит мне истинную радость.
Преданный Вам».
Портрет рано отсылать. Только вчера фарнисом по второму разу прикрыл. Присохнуть еще не мог. Где там! А вьюга, вьюга-то какая. Купола Академии опять не видно. Как заноза в сердце. Тридцать лет как туда ни ногой. Сам решил. Да что сам — одна слава! Не ушел бы, все равно не оставили. Светлейший князь Потемкин-Таврический — кому он супротивство спускал. А тут еще Грибовский Андриан Моисеевич свою лепту внес, старой дружбы не попомнил. К богатству да власти заторопился. Так всю жизнь и спешит. Бог с ним. Сын за отца не в ответе.
Портрет, пожалуй, еще завтра поглядеть надо. Может, и не покажется — пройти раз-другой придется. Завтра и напишу — Юшка, коли надо, сбегает. А ихнего человека чего держать. Отогреется и пусть домой собирается. Вот ведь с годами-то нет спокойствия, напротив — беспокойство приходит. Доделал ли как надо, не оплошал ли в чем. Верно говорят, смолоду торопиться, к старости остепениться. Даже в привычном своем деле поразмыслить хочется. Не столько сердцем, сколько и умом дойти.
Это хорошо, что госпожа Криденер в Петербург пожалует. Глядишь, и впрямь послушать удастся. Может, и прав Николай Андрианович — собрания нашего не обойдет. В мыслях единство большое. Ведь вот о христианстве как толкует, чтобы всем конфессиям христианским объединиться, промеж собой не враждовать — и без того вражды и крови в мире много, а будто бы ждет еще людей великая битва неверия и веры, где прольются моря крови. И впрямь до III века была Церковь единой, так почему бы к истокам истинным и не вернуться. Кто сказать может, в каком воплощении апостол новой веры явиться может. Сказывали, когда госпожа Криденер в родную Лифляндию, овдовев, приехала, там ей крестьянка-пророчица судьбу такую предсказала. Будто и сама она поначалу не поверила, а уж потом силу в себе ощутила. В Бадене первые ее проповеди. С тех пор, почитай, всю Европу объехала. Везде ей почет великий. Три года назад в Гейдельберге с государем императором встреча состоялась. Так сошлось все — государю о баронессе давно толковали, а тут после конгресса Венского отдохнуть решил. В делах дипломатических неустройство большое, Буонапарте с острова Эльбы во Францию вернулся. Обрадовался, когда баронесса перед ним предстала. Сказывали — вечером, в парке, сама в белом, как видение какое. Да и говорить стала не о пустяках каких — о мире, справедливости и вере, чтобы на них Священный союз государств европейских строить, и что делать это российскому монарху судьбой предначертано. Как тут божественного промысла не увидеть!..
— Агапыч! Человека от Грибовских отошли да проси передать Николаю Андриановичу, чтобы еще разок ко мне понаведался. Хочет, мол, Дмитрий Григорьевич еще портрет поглядеть.
* * *
Дом Левицкого. В прихожей Агапыч. Входит А.А. Стахиев.
— Юшка! Юшка, пострел треклятый! Куда подевался? Никак коляска остановилась — поглядит-ка.
— Коляска и есть. Конь гнедой. Упряжь — загляденье, Агапыч!
— Упряжь ему! В коляске-то кто? Пойтить отворить.
— Здорово, Агапыч! Здорово, старик. Барин дома?
— Александр Александрович! Радость-то какая! Давненько, давненько к нам не жаловали. Барин Дмитрий Григорьевич не раз к вам сам собирался, да все недосуг. Вон и сейчас за работой. А как же!
— Вот досада. Не увидать мне его, значит.
— Что вы, что вы, батюшка, как можно. Они уж давно пишут — почитай боле часу. Стало быть, сейчас кончать будут. Так что вы уж проходите, проходите. А мы сей момент Юшку пошлем — Дмитрию Григорьевичу доложить.
— Со стороны кого пишет барин?
— Нетути, батюшка, нетути. Ужо третий раз господина Грибовского пишут. Стало быть, скоро во окончание приведут.
— Это какого же Грибовского — Андриана Моисеевича?
— Сынка ихнего — Николая Андриановича. Да вон и Юшка прибежал. Ну, что ты?
— Дмитрий Григорьевич велели к нему проводить. Мол, сами бы вышли, да неспособно им — в красках все.
— Вот, батюшка Александр Александрович, я вас и провожу.
— Полно, Агапыч, сам дорогу знаю — не впервой ведь.
— Так-то оно так, да лестница-то у нас тут мудреная. Не дай Господь, на повороте зашибетесь. Менять бы ступеньки-то, менять пора. А таперича разрешите вперед вас пойду, двери-то приоткрою. Для свету.
— Благодарствуй, Агапыч. Сам-то не помогаешь более Дмитрию Григорьевичу?
— Где уж мне, батюшка Александр Александрович! У барина года не молоденькие, а я его старше. Краски-то я знатно тер — Дмитрий Григорьевич всегда похваливал, да силенок не осталось. Одышка проклятая замучила. Да сколько нас в доме, все при деле живописном состояли. Кто из сил выбился аль захворал, Дмитрий Григорьевич никого не кинул, всех при себе оставил. Прибытку-то ему никакого, разве что все сердцем за него болеем, пуще отца родного почитаем. Да вон уж Дмитрий Григорьевич перед вами и двери распахнул.
— Чтоб тебя унять, Агапыч! Опять разговорился не путем. Ступай с Богом, ступай. Прошу вас, Александр Александрович! С Николаем Андриановичем Грибовским, полагаю, знакомы?
— Мимоходом встречались.
— У господ Лабзиных имел удовольствие.
— Изволите в приятельстве с господами Лабзиными состоять?
— В каком приятельстве, Александр Александрович! Господин Грибовский в ложе у Черевина состоит. Так и ко мне часу от часу заезжает. Переводами своими благосклонно балует. Преотличные переводы, скажу я вам.
— Вот как! Что же для времяпрепровождения сим благородным делом заниматься изволите или по службе?
— К сожалению, по службе, хоть и занятию этому душа и лежит. Да ведь известно, после службы времени вольного немного остается.
— Да что за нужда вам служить? Батюшка ваш средствами не обижен. Были, знаю, у него неприятности, так прошли.
— То-то и оно, что пришлось батюшке все имения продать и с Петербургом распроститься. С прошлого года в Шурове своем под Коломной сиднем сидит. Не осталось у него более ничего. Да и не хотел бы и батюшкиными средствами пользоваться. Разнятся взгляды наши, а споров с родителем затевать не след.
— Ваша правда, господин Грибовский, ваша правда.
— Вот последний мазок и положил, Николай Андрианович. Более вас утомлять не стану. Сам допишу и тут же по окончании вас извещу.
— А коли так, не соблаговолили бы вы, Дмитрий Григорьевич, у меня сегодня и зарплату принять. Ну как ваш нарочный с портретом меня дома не застанет. В долгу быть не хочу.
— А уж я, Николай Андрианович, тем паче. Смолоду наперед денег не брал. Что уж на старости-то меняться. Нарочный вас не застанет, подошлете деньги, как удобно будет. Нужды нет.
— Воля ваша. За сим честь имею.
— Может, задержались бы, Николай Андрианович, — вместе с Александром Александровичем чайку бы попили? Агапыч вмиг стол накроет…
— Благодарствуйте, Дмитрий Григорьевич. Только вон вижу к крыльцу карета господина Губерти, зятя моего, подъехала — к сестрице надобно торопиться. Племянника мне она принесла, так на крестины.
— Святое дело, батюшка, святое дело. Езжайте, и от меня родильнице поздравления передайте. Портретом-то моим довольна ли?
— Была предовольна, да батюшка к себе в Шурово забрал. Так что позвольте откланяться.
Художник гостя до лестницы проводил. Возвращается медленно. Руками большими белыми за дверной косяк ухватился. Передохнул. Опять в путь пустился. К мольберту подошел, полотно накинул.
— Может, чайку попьете, Александр Александрович. Я и сам-то после работы с удовольствием бы выпил, и вам, сударь мой, на пользу: бледны вы очень.
— Что вам о чужих недугах толковать, Дмитрий Григорьевич! Вам, вижу, своих хватает.
— Хватает, батюшка, ой как хватает. Ревматизм проклятый руки-ноги изломал. Иной день так возьмется, что хоть в голос кричи. Сказать стыдно: писать стал сидя, как портреты доводить приходится. Слава богу, руки-то еще ничего, а колени… Что это я разболтался, хуже Агапыча. Ко мне-то вы как, Александр Александрович, с визитом или по делу?
— Угадали, Дмитрий Григорьевич, — по делу и очень срочному.
— Всегда рад служить, если сил хватит.
— Я к вам с заказом, Дмитрий Григорьевич.
— С заказом? Кого же хотите, чтобы написал?
— Меня, сударь, меня самого.
— Что ж, дело хорошее. Только покуда я справлюсь…
— То-то и оно, Дмитрий Григорьевич, спешить мне надо. Очень спешить. Потому и просить вас хочу поторопиться.
— Вот это труднее.
— Знаю, все знаю! Но вы и меня поймите — срок мой болезнью назначен. Ее не обманешь, отсрочки не выпросишь.
— О, Господи… Что уж вы сразу так. Бог милостив.
— Всему свой срок приходит, Мастер. Вам ли этого не знать. Да и обстоятельства тут такие. Завещать мне портрет одной персоне надобно, а она со дня на день в Россию прибудет и, Бог весть, надолго ли задержится. Так ли, так ли — все равно спешить надо. Неужто бы мне самому портрет запонадобился. Было время, может, и было на что посмотреть, а теперь что — память одна.
— Будь по-вашему, Александр Александрович. Сердечно вы меня огорчили, но приказывайте — когда начинать будем.
— Да если бы вы могли, Дмитрий Григорьевич, хоть сейчас. Не скрою, мне путь до вас вечностью показался: боль не милует. Лишний раз из дому не выбираться.
— Сейчас так сейчас. Юшка! Агапыч!
— Может, вам не под силу будет, Дмитрий Григорьевич, после первого-то сеанса?
— Ну, чего там себя баловать — выдюжу. Юшка, краски готовить будешь. Агапыч, Платошу приведи — холст мне чистый нужен. У той стенки вон должен стоять, что для госпожи Размаевой приготовлен. Для нее другой натяните. Поторопись, поторопись, Агапыч!
— Только просьба у меня к вам, Дмитрий Григорьевич, будет.
— Говорите, сударь мой, говорите. Сидеть ли, стоять ли намерены, в антураже каком. Костюм позже мне со всеми мелочами пришлете. Пока мне лишь общее сходство наметить надобно.
— Сидючи, Дмитрий Григорьевич, ровно бы в кабинете моем. У библиотеки. Книжки я вам позже пришлю. Да, и еще. Чтоб в руках у меня книжка была. Я тоже ее пришлю. Может, читали когда «Валери».
— Отлично, сударь мой, отлично. Мы и тут вас как в кабинете устроим. Пока другую книжку возьмете. Для рисунку.
— Нет, зачем же. «Валери» у меня с собой.
— Коли память мне не изменяет, сочинение госпожи Криденер?
— Читали вы ее, Дмитрий Григорьевич?
— В свое время читал, а спросите сегодня, поди и не перескажу. Да, а была она на французском диалекте. Может, кто потрудился — перевел?
— Да нет, не перевел. Я вот хотел, да до конца дело не довел. Отдельные главы сделал, а другие и не брался. Не мешаю ли я вам своей болтовней?
— Напротив, сударь мой, напротив. Когда сходство ищешь, оно хорошо, что человек о своем говорит. Так что же вы это заленились с сочинением баронессы? Помню, кто только его не читал. Еще дамы туалеты «а ля Валери» носили, ленты лиловые, прически «а ля Валери» куаферы делали. А вы заленились!
— Можно и так назвать. Впрочем… Не хотите ли, Дмитрий Григорьевич, я вместо разговору свой перевод почитаю. Хотя бы самое начало.
— С превеликим удовольствием, батюшка. Только не откажите, час от часу глаза на меня подымайте. А так прошу вас.
«Любезный друг! Если бы не клятвенное обещание писать тебе каждый день (да и что остается еще в моем положении!), я не взялся бы сегодня за перо. Деревенская жизнь однообразна, а события ее так ничтожны, по сравнению с городскими, что невольно умолкаешь, не успевши начать рассказа. Куры, утки, петухи, поющие зорю, поспешающие в горы за своим пастырем, перебранка служанок во дворе — вот и все актеры театра, который доставляет вид из моего окна. Не скрою, я рад и этому развлечению.
Дела по имению, изрядно расстроенному покойным батюшкой и перезаложенному, не веселят да и не даются мне, как тупому ученику, которого наставник тщетно пытается вразумить скучными, хоть и полезными предметами. О возвращении в ваш дружеский круг мечтать пока не смею. Все решится — вообрази себе! — будущим летом, или урожаем. Виноград, чьим кистям еще предстоит налиться янтарным соком, перебродить в огромных бочках и превратиться в утехе человеческой в живительную влагу, владеет моей судьбой. Вряд ли все эти скучные материи могут занять тебя. Впрочем, и у нас случаются забавные происшествия, способные если и не затронуть сердце, то хотя бы занять воображение.
Вчера, собираясь на обычную свою утреннюю прогулку, я услышал от доброго моего Росвейна, что в замке Од появились жильцы. Замок Од отстоит от моего обиталища в трех верстах. Его угрюмая громада высится на прибрежной скале, густо поросшей древними вязами и терновником. Единственная дорога, ведущая к подъемному мосту, поросла травой. Кованые ворота покрылись ржавчиной. На дне пересохшего рва лягушки устраивают вечерами свои несносные хоры.
Говорят, что свирепый барон, чей род не одно столетие владел этими землями, умер здесь в полном одиночестве, в одну из ненастных осенних ночей. Смерть его осталась незамеченной соседями. Вернувшийся из дальних краев сын застал у давно погасшего очага лишь облаченный в истлевшие одежды скелет. Молодой барон предал с должными почестями земле прах своего отца и поспешил оставить родные края, предпочтя чужбину мрачным преданиям семейного гнезда. Тому прошло немало лет…
Росвейн ничего не мог прибавить к скупым известиям, сообщенным женщинами из соседнего селения, которым довелось мыть и чистить некогда покинутое жилище.
Признаюсь, замок Од невольно занимал мои мысли, пока иноходец крупной рысью нес меня по росистому лугу. Утро было туманным. Темные облака за рекой предвещали непогоду. Ненастье не заставило себя ждать. Резкий порыв ветра взметнул кучи земли. Глухо застонали деревья. Удар грома сотряс землю. Пронзительное ржанье поразило мой слух. В свете молний белая кобыла с всадницей вылетела из леса и помчалась к реке.
Надо тебе сказать, что берег Эльмара здесь крут. Стремнина у его подножия полна водоворотов. Я дал шпоры иноходцу и, почти ослепнув от хлынувшего ливня, бросился наперерез всаднице. Конь мой действительно хорош — единственное сокровище, которое удалось спасти от распродажи отцовского состояния. В последнее мгновенье, у самой кручи, я успел перехватить поводья белой лошади. Кобыла взметнулась на дыбы и остановилась.
„Я обязана вам жизнью“, — сказала незнакомка. Слова после пережитого страха давались ей с трудом, грудь бурно вздымалась. Право, я не сумел бы сказать, была она хороша собой или дурна.
„Я обязана вам жизнью…“
„Густав де Линар“, — поспешил представиться я.
„Граф“, — добавила она.
„Вам знакомо мое имя?“
„Мы соседи, — отвечала незнакомка. — А теперь еще раз благодарю и прощайте“.
Она тронула поводья, и успокоившаяся лошадь пошла в галоп».
— Отличнейший перевод, Александр Александрович, отличнейший. И, я так полагаю, переводчик сообщил оригиналу новые достоинства. Какая досада, что вы не довели свой труд до издания. А, кстати, мне вспомнилось, как когда-то батюшка Николая Андриановича успешно начинал свою службу с переводов.
— Для меня новость, что Грибовский-старший всерьез занимался литературой.
— Как же, как же! Его сам Гавриила Романович Державин похвалял за язык легкий, непринужденный. Гавриил Романович частенько о сем студенте Московского университета у Львовых толковал. А уж когда Андриан Моисеевич свой перевод повести господина де Бакуляра д’Арно «Опасности городской жизни» выпустил, забрал его к себе в Петрозаводск да сразу казначеем приказа общественных денег и назначил. Вот какую ему службу перо сослужило!
— А впрочем, сочинения д’Арно я в те поры читал, и с превеликим удовольствием. «Испытания чувств», «Услаждения человека чувствительного», «Полезные досуги».
— Вот-вот, и все они в переводе Андриана Моисеевича.
— По службе своей тогдашней, дипломатической, довелось мне многое о господине д’Арно узнать. Знаю, что вел с ним переписку сам Фридрих Великий, к себе приглашал. Господин д’Арно у него в Берлине целый год провел. Потом в Дрезден советником французского посольства отправился. Во Франции во время террора в тюрьму попал. Да он уж больше десяти лет назад умер.
— Тогда у нас толковали, что господин д’Арно больше об ужасах всяческих писать любил. Николай Александрович Львов очень его за это порицал.
— Да, ваша правда, от его рассказов кровь в жилых подчас стыла. Мне довелось их читать с одной юной особой, так она подчас вскрикивала от страха. Чего стоило ее успокоить…
— Вы не были женаты, Александр Александрович?
— Женат? Что за идея!
— Почему же?
— Но… скорее всего, я не создан для семейных радостей.
* * *
Дом Левицкого. Мастерская художника. Входит Якимыч, позже А.А. Стахиев.
— Батюшка Дмитрий Григорьевич, барыня узнать велела, когда обед подавать прикажете: по обычаю аль попозже.
— Попозже, Агапыч, попозже. Сам видишь, погода какая стоит. Свет ясный, ровный — только бы писать да писать.
— Оно так и сказал барыне: не иначе Дмитрий Григорьевич писать станет. Была бы работа.
— Есть пока, грех жаловаться.
— Вчерась каково господин Грибовский портрету-то своему радовался. Уж таково-то расхваливал.
— Верно, понравился.
— Вашей работе-то, батюшка, да не порадоваться. А и то сказать, не всегда верна пословица: яблоко от яблоньки недалеко падает. Андриана Моисеевича сынок, да совсем другой человек. Уж на что папаша-то ловок был, а этот что твоя красна девица. Стеснительный да обходительный.
— И то правда, Агапыч.
— Ой, Господи, да как же я вас, Александр Александрович проглядел. Вот старый пень: коляски недослышал!
— Не казнись, старик, я коляску у шляхетного корпуса оставил. Пройтись решил.
— Стало быть, получше себя чувствуете, Александр Александрович? Значит, поработаем сегодня, а то перерыв большой получился.
— Знаю, что виноват, Дмитрий Григорьевич, да так вышло. Не так на здоровье жаловаться надобно, как новостями всякими отвлекся.
— Дай Бог, чтоб хорошими.
— Да ведь у каждой медали две стороны бывает. Кстати, слыхали, госпожа Криденер приезжает. Теперь уж самая верная весть. Сам государь император пригласить баронессу изволил. Благоволит к ней очень. Беседовать подолгу любит.
— Сказывали мне, до светских утех баронесса не охотница. Все больше философические разговоры ведет.
— Да, меняют людей годы.
— Это вы о ком изволите?
— Хоть о Грибовском. Отце, конечно.
— А я подумал, о баронессе отозвались.
— Откуда бы мне госпожу Криденер близко знать. С супругом ее точно работать по иностранным делам приходилось, не более. А с Грибовским, помнится, такие истории случались.
— Случались, ничего не скажешь. Гавриил Романович Державин тогда же в Петрозаводске из какой истории его спас: до денег казенных, непутевый, добрался.
— Не успел за службу приняться, и растрата?
— Да какая! А чтоб Гавриилу Романовичу обязанным не быть, в походную канцелярию Григория Александровича переметнулся. За декорации потемкинские принялся — деревни до поля картинами уставлять. Государыня императрица в те поры в Крым собиралась. Так Потемкину лучшего помощника было не сыскать: театр на пустом месте устраивать.
— Что ж, снова растрата.
— Ваша правда. А от Светлейшего соглядатаем в канцелярию графа Зубова назначен был.
— И благодетеля своего тут же и позабыл.
— Так он в большую силу вошел: за фаворита все вопросы решать стал. В покои государыни по этому случаю допущен был, и иностранную почту подносил, и указы составлял, а там и былое место Гавриила Романовича занял: статс-секретарем императрицы у принятия прошений.
— Говорят, взятки брал, как никто.
— Говорят. Да только недолго ему карманы-то набивать довелось. При государе Павле Петровиче сразу в крепость угодил.
— В крепость? Так государя разгневал?
— Что в крепость — сначала в Петропавловскую, а там и в Шлиссельбургскую! Не вступи на престол ныне здравствующий государь, так бы ему там и гнить до скончания века. Не знаю, правда ли, будто госпожа Криденер за него хлопотала. Уж не переводы ли старые вспомнила? Да нет, шучу, конечно. Она, поди, их и не знала. Хотя все толкуют, будто характер у нее непростой.
— Мало ли что говорят. Может, мне, Дмитрий Григорьевич, еще перевода моего почитать? И вам разговорами от дел отвлекать не буду.
— Премного обяжете, сударь мой.
«Приглашение застало меня врасплох. Барон В. просил меня оказать ему честь быть на званом ужине и танцах. Бал и ужин в замке Од! Любопытство мое было разожжено.
Правда, немалой помехой служил мой слишком давно не обновлявшийся гардероб. Ты знаешь, как редок порядочный портной в столице, о чем же говорить в нашем сельском захолустье. Пересмотр галстухов и жилетов занял у меня без малого целый день — я не хотел показаться ни старомодным, ни стесненным в средствах. Да простит мне Бог это невинное тщеславие! Не имея ни лакея, ни грума, я предпочел фаэтону своего верного иноходца и приспособил все доступные ухищрения туалета к верховой езде.
Должен признаться, метаморфоза с замком поразила меня. Дорога была старательно расчищена и у моста густо посыпана песком.
Окружающий лес словно лишился своей былой угрюмости. Ворота, сверкающие и, казалось, вчера окованные, были приветливо распахнуты, и толпа нарядно одетых слуг поспешила принять повод и помочь мне спешиться. На верхней площадке устланной ковром и уставленной редкими цветами лестницы дворецкий в бархатном камзоле и шелковых чулках осведомился о моем имени и громко сообщил о нем собравшимся, услужливо распахнув двери зала.
Гостей было множество. Некоторых я встречал в столице. Другие были мне незнакомы. От толпы отделился сухощавый невысокий мужчина, почти старик, в парике и с лорнетом. „Граф, вы оказали мне неоценимую услугу прежде, чем я имел счастие познакомиться с вами“. Я поклонился с некоторым недоумением. „Без вашей смелости неосмотрительность баронессы могла стоить ей жизни“. Моя незнакомка — его жена! Нерасцветшая юность и рассыпающаяся в прах старость — разве мало в жизни таких противуречий!
Барон церемонно подвел меня к своей жене. На баронессе было белое платье без украшений, прозрачная шаль скрывала белизну плеч. На руке, которую она мне протянула для поцелуя, темнело одно тонкое железное кольцо. Наши глаза встретились.
„Валери, — обратилась к баронессе дама в свисавшем к плечу бархатном берете по последней испанской моде. — Ваша карточная партия составилась“. Баронессе едва кивнула мне и направилась к дверям. „Валери“, — повторил про себя я.
Как видишь, любезный друг, происшествие во время грозы получило свое продолжение. Надолго ли, спросишь ты. Поживем — увидим, как говорят любезные твоей душе французы!»
— Отдохните, отдохните, сударь мой. Вон даже голосом ослабли. А покуда я вам свою историю продолжу или дополню, если угодно. Про господина Грибовского.
— Вижу, он занимает ваше воображение.
— И то верно. Дела у меня с родственником Андриана Моисеевича. Который нынче губернским прокурором в Полтаве.
— А вы, что же, с Полтавой отношений не прерываете? Мне казалось, вы и дорогу в Малороссию забыли.
— Как можно, сударь мой. И родина, и родных немало, да и землица кое-какая после батюшки досталась. Потому и пришлось хлопотать. Да, видно, из Петербурга туда не дотянешься. Придется самому ехать, только бы с силами собраться.
— Так что же вы рассказать хотели, Дмитрий Григорьевич, какую историю?
— А ту, что не сразу при государе императоре Павле Петровиче господин статс-секретарь в крепости оказался.
— Вот и мне казалось, что его лишь из столицы выслали.
— То-то и оно. Поначалу, как всех, кто государыне Екатерине Алексеевне служил. Сколько месяцев прошло, когда открылось, что Андриан Моисеевич будто бы картинами и разным имуществом из Таврического дворца попользовался. Так ли, нет ли, кто знает. Главное — против него свидетельства нашлись, что казенных крестьян на свои земли переселял. Еще при Светлейшем князе Потемкине начал.
— Ну и прокурат переводчик наш!
— Прокурат и есть, только допрежь всего в том, что откупиться сумел. Сумма набежала, сказать страшно. И за дворцовое имущество, и за крестьян до копейки с казной расплатился. За то и свободу получил.
— Дотла разорился?
— Полноте, батюшка! Какое разорение. Напомнить вам хочу, как живал-то перед тем Андриан Моисеевич.
— Что ж, дом один из богатейших в Петербурге. Сам не бывал, а от людей слышал.
— Повар первостатейный, из Парижа выписал. Кондитер итальянский — государыне позавидовать. Что ни день — празднества, фейерверки. А уж истинное чудо — оркестр. Лучших музыкантов изо всех домов петербургских переманил. Столько платил, что из дворца к нему бежать собирались.
— Позвольте, позвольте, да ведь он и сам с оркестром игрывал.
— А как же! Больше всего скрипкой своей гордился — Страдиварий настоящий, и порухи от его смычка сему знатному инструменту не было. Великолепно, доложу вам, играл. Преотменный музыкант был. Такого заслушаешься! Еще до государыни покойной слухи о его мотовстве доходили, да все ему прощалось.
— А что же с Шлиссельбургом случилось?
— Ну, уж тут иная история началась. Вышло по документам, что распродал господин Грибовский в Малороссии немало казенных земель.
— Еще и это!
— Да-с. Потому ныне благополучно царствующий государь освободить-то узника освободил, а на государственную службу дорогу ему закрыл. Амнистия, как известно, не оправдание. А об оправдании и речи быть не могло. Вот тут-то Андриан Моисеевич и переехал в Москву, будто фрондировать начал. Как же вы, Александр Александрович, истории его не знали? Будто на отлюдьи жили.
— Так случилось, Дмитрий Григорьевич. Я не искал общества, и общество не искало меня. Не желаете ли, чтоб я продолжил чтение?
— Так у вас, сударь мой, и продолжение есть?
— Случайно в карман положил…
«Робкая птичья трель прорезала предрассветную тишину. Ей ответила другая, более уверенная. Третья, и все вокруг заполнилось ликующим пением. Первые лучи солнца упали на верхушку старого вяза у окна спальни. Бледно-серое покрывало неба стало покрываться голубизной. Валери нетерпеливо поправила подушки, зажмурила глаза. „Вы не спите? — раздался голос вошедшего в спальню барона. — Я хотел сообщить вам, что отправляюсь на охоту к герцогу Д. и вряд ли вернусь ранее чем через два дня. Герцогские охоты всегда так продолжительны. Постарайтесь не скучать“. Дверь затворилась.
„Мой муж, — подумала Валери. — Барон — мой муж. Как странно“. Хотя она была замужем уже три года, удивление нет-нет да и возвращалось к ней, слишком неожиданно и просто совершился их брак, признанный всем светом самым счастливым.
Три года назад она готова была жалеть о монастырском пансионе, где провела свое детство. Но настало время подумать об устройстве ее судьбы, и отец, хотя и без большой охоты, приехал забрать выросшую дочь у монахинь. Дома ее появление ничего не изменило и никого не обрадовало. Мать часто выезжала: в свои сорок лет она была все еще хороша собой и предпочитала поклонников радостям семейного очага. Отец был занят делами и карточной игрой. Обычно он засиживался за зеленым сукном всю ночь и приезжал на рассвете, когда Валери, приученная строгими монастырскими порядками, уже вставала. Тем не менее мать позаботилась о ее туалетах, отец — о драгоценностях и новом выезде. Появление новой невесты в свете не прошло незамеченным. Валери была хороша собой и могла рассчитывать на неплохое приданое. Тетки пророчили ей успех. Но уже после третьего бала в их доме показался барон. Его переговоры с отцом, по-видимому, прошли успешно, потому что в свете он начал оказывать ей подчеркнутое внимание. Валери была польщена. О бароне говорили, его успехи у женщин пересказывали, самые модные красавицы на него заглядывались. Годы, казалось, обошли его стороной, а две жены, которых он успел похоронить, придавали ему таинственный ореол Синей Бороды.
Барон не замедлил сделать предложение родителям и получил согласие. В тот вечер родители сочли возможным в первый раз оставить их одних. „Вы согласны стать моей женой? — спросил барон, взяв ее за руку. — Ваше сердце никем не занято? Я не хочу быть насильником“. Валери покачала головой. „Тем лучше, хотя я все равно добился бы вашей руки“. Его уверенность заставила ее залиться краской. Барон держал в руках прелестное кольцо и бриллиантовый браслет — чудо ювелирного искусства. Голосом, едва слышным и неуверенным, запинаясь от робости, Валери попросила его несколько повременить, дать ей подумать. „Зачем? — возразил барон. — Поверьте, я не буду докучать вам своим присутствием. У вас будет достаточно времени для размышлений, когда вы станете баронессой. Я не люблю откладывать задуманное“. Через неделю состоялось их венчание».
* * *
Петербург. Дом баронессы Криденер. В гостиной баронесса, А.А. Стахиев.
Лакей в светлых, по английской моде, гетрах и куцем сюртучке приоткрыл белую штофную портьеру. Немолодая женщина в обложенном кожаными подушками высоком кресле не шелохнулась.
— Мне неприятно, что пришлось посылать за вами, милостивый государь. Вы не хотели меня видеть? После стольких лет вами могло бы руководить простое любопытство.
— Напротив, баронесса. Я хотел вас видеть все эти годы, но ваши прощальные слова лишили меня надежды на встречу.
— Они были подсказаны обстоятельствами, оставшимися в далеком прошлом.
— Однако они свидетельствовали о вашем гневе. Я не хотел вызывать его вновь.
— Мне нет нужды судить о ваших побуждениях. Вы были вправе поступать, как считали нужным. Наши дороги разошлись, и каждый проживал, как говорят французы, свою жизнь. Что вы знали о моей? Вы интересовались ею?
— Это не всегда удавалось. Я прочел ваши романы «Алексис», «Элизе». Мне живо напомнили «Максимы» Ларош Фуко «Размышления дамы-иностранки».
— Вы могли бы добавить, что отдали им предпочтение перед Ларош Фуко. А впрочем — я ничего не знала о вас. После того как вы так внезапно покинули службу у барона, вы служили?
— Немного и не слишком успешно.
— Вы нуждались в средствах?
— О, нет. Состояния, доставшегося от матушки — она из семьи Демидовых…
— Тех, которым, помнится, принадлежит весь Урал.
— Да, к одной из их ветвей. Ее состояния было достаточно, чтобы вести скромную, но вполне достойную жизнь.
— Ваш туалет не согласуется с вашими словами: вы в курсе парижских новинок.
— Простите мне эту слабость.
— Скорее, достоинство в человеке ваших лет. Вы женаты?
— У меня есть сын.
— Ах, так. Вы счастливый отец — у вас есть и дочь.
— Дочь? Что вы имеете в виду?
— Моя Жюльетта родилась в сентябре 1785 года.
— Боже мой! Не значит ли это, что, отказывая мне в моем чувстве…
— Да, я носила ее под сердцем.
— И ничего не сказали!
— Зачем? Я действовала не только в своих, но и прежде всего в ее интересах. Она должна была унаследовать титул и немалое состояние Криденеров.
— А барон…
— Что барон?
— Он знал?
— Полагаю. Ваше признание вывело его из заблуждения, если он в таковом и пребывал.
— И что же?
— Вы ждете драмы? Ее не было. Как светский человек, и притом по-настоящему просвещенный, барон не вел со мной подобных разговоров.
— Вы не уверите меня, что Иван Федорович не любил вас.
— Конечно, любил. В какие-то годы. Всякое чувство похоже на сладкий дурман весеннего сада на рассвете. Солнце встает, и туман рассеивается. Все перестает казаться сказочным, хотя и не теряет своих истинных материальных ценностей. Я возвращалась к барону после каждого своего очередного увлечения. Он настаивал на этом, а я не могла не быть благодарной ему за отеческие попечения о Жюльетте. Так было после академика Суарда и гусара де Фрежвиля. Труднее всего барону достался Гара, знаменитый Гара. Почему-то связь с певцом, которого знала и ценила вся Европа, его шокировала.
— В этом ряду не было места для секретаря посольства.
— Ничего удивительного. Там были любовные приключения, в отношении секретаря все представлялось много серьезнее.
— Полноте, баронесса. Супруга посла обратила свое внимание на ничтожного служащего только потому, что имела всего восемнадцать лет.
— Вы хотите сказать, она любила не секретаря, а свои восемнадцать лет? Идея для романа. Но я их больше не пишу. Любить свои годы — но в этом, пожалуй, смысл любого первого чувства. Но оставим романтические рассуждения поэтам. Не они руководили сегодня мною. Я сочла нужным представить вас Жюльетте.
— За что я сердечно вам благодарен.
— Она должна знать своего отца.
— Вы хотите ей все сказать?
— Что вас удивляет? Знала же императрица Екатерина Великая своего подлинного родителя. Господин Бецкой постоянно находился рядом с ней.
— Только не на официальных приемах.
— Вполне справедливо, иначе фамильное сходство становилось слишком очевидным. Зато в остальном императрица могла положиться на «гадкого генерала», как она шутливо называла господина Бецкого в своей переписке с Дидро.
— Но государыня в последние годы явно тяготилась им.
— Что ж, господин Бецкой постарел и явно потерял чувство меры — он стал слишком навязчивым. Надеюсь, с вами этого не произойдет.
— Не понимаю этого сравнения, баронесса.
— Все очень просто. Жюльетта приехала в Россию, чтобы здесь остаться. Вопрос о службе барона Беркхейма решен государем положительно. Моей маленькой баронессе может понадобиться дружеская поддержка.
— Но вы же не собираетесь расставаться с дочерью?
— Дело не в моем желании, а в обстоятельствах. Не знаю, как долго государь император пожелает меня терпеть в своем ближайшем окружении.
— Вы шутите, баронесса! Государь не может обходиться без общения с вами. Об этом все говорят.
— Не мог обходиться. Любое увлечение растворяется в повседневности, что ж говорить о политических играх. Государь должен и будет применяться к обстоятельствам, а я не изменю своим убеждениям. Волей-неволей мои советы станут докучными.
— Я всегда удивлялся беспощадности ваших суждений, баронесса. Кажется, вы никогда не испытывали снисхождения.
— И к себе — в первую очередь. Что же тут достойно удивления? Мы живем в заданных обстоятельствах и, если и можем их изменять, то только благодаря трезвой их оценке.
— Но чувства…
— Их тоже приходится принимать во внимание. До некоторой степени. Так вот, вам предстоит стать добрым ангелом вашей дочери.
— Ваш расчет неверен, баронесса.
— Вас не радует возможность общения с Жюльеттой?
— О, нет, дело не в этом. Мой век отмерен, и очень короткой мерой.
— Полноте, что за нелепые предчувствия.
— Не предчувствия — приговор врачей.
— Это так серьезно?
— Да, баронесса. И зная об этом, я даже решился заказать перед вашим приездом свой портрет, чтобы, если вам придется задержаться, вы могли хоть так бросить на меня взгляд. Портрет готов, и на мой вкус — он превосходен. Может быть, еще и потому, что писал его близкий мне по духу человек.
— Кто же?
— Вряд ли вы вспомните его имя, хотя в вашей юности он уже был знаменитостью, — советник Академии художеств Дмитрий Левицкий.
— А что за родственность взглядов?
— Он мастер ложи.
— Я должна его увидеть. Что же касается портрета — он должен остаться в семье Жюльетты. Вот увидите, вы подружитесь с нею.
— Я хочу вас просить о любезности, баронесса.
— Слушаю вас.
— Нельзя ли сделать так, чтобы мое свидание с баронессой Беркхейм не состоялось.
— Вы чувствуете себя настолько чужим ей? Невероятно!
— Нет, все иначе. Я болен, и разговаривая с нею, не хочу вступать в бессмысленную борьбу с моим недугом. Я покажусь баронессе не тем, каким бы хотел остаться в ее памяти, если уж вы решили раскрыть ей секрет ее рождения. Пусть все за меня скажет кисть художника. В портрет, в конце концов, можно вложить любые чувства. Все зависит от того, как на него смотреть.
— Я не вправе настаивать. Пусть будет по-вашему, мой друг. Мой старый друг.
— Кстати, господин Левицкий представил меня с томиком «Валери» в руках.
— Бог мой! С каким же? Со вторым?
— Нет, я слишком долго хранил вам верность, баронесса. Конечно, с первым.
* * *
Петербург. Дом Левицкого. Баронесса фон Беркхейм, Левицкий.
Дама высокая, стройная. В ротонде атласной — мех соболиный по краю переливается. На голове — шапочка соболевая, черной вуалью перекрыта. То ли по моде, то ли траур. Край чуть откинула перчаткой черной. Слуга в ливрее дверь попридержал, в прихожую хозяйку пропустил. Сзади остался.
— Господин Академии советник дома?
— А как же, ваше сиятельство. Как доложить прикажете?
— Скажи, баронесса Беркхейм господина советника видеть желает. Беркхейм — запомнил?
— Да вы, ваше сиятельство, не сомневайтесь. За мной пожалуйте, вот по лесенке.
Шубку своему лакею скинула: стоит — не шелохнется.
— Дмитрий Григорьевич, к вам баронесса…
— Жюльетта фон Беркхейм, господин советник.
— Прошу, сударыня, прошу. Может, тут у камина и расположитесь? Хоть и март на дворе, а у нас в Петербурге всегда промозгло.
— Я не хотела бы доставлять вам лишних хлопот, господин советник. У меня не совсем обычное дело, и я бы сразу хотела к нему приступить.
— Как пожелаете, сударыня, я весь внимание.
— Вы знаете, господин советник, что один из ваших заказчиков и, как мне стало известно, друзей скончался. Вы только что закончили его портрет, и моя матушка, баронесса Криденер, пожелала, чтобы я его взяла. Сколько вам требуется заплатить, я заплачу. Но где же он?
— Вы говорите об Александре Александровиче Стахиеве, сударыня?
— Да, конечно. Простите, мне непривычно произношение этого имени.
— Я не ждал такого визита, сударыня. Как, впрочем, не ждал и столь скоропостижной кончины моего старого доброго знакомца. Вот только у него остался воспитанник…
— Сын, хотите вы сказать, господин советник. Матушка посылала поговорить с ним. Он не намерен платить денег за портрет. И к тому же готов отказаться от своих прав на него после обещания матушки помочь ему в его продвижении по военной службе. Он состоит в Павловском полку, если не ошибаюсь.
— Простите мне мою настойчивость, сударыня, мне бы ни в чем не хотелось нарушать воли покойного.
— Напротив, вы ее выполните, передавая портрет мне.
— Тогда прошу вас, сударыня, вот он. Серое полотно падает с мольберта. Старческие руки не успевают подхватить. Первая мысль, как саван…
— Это и есть?..
— Это и есть Александр Александрович Стахиев, сударыня. Но — вы не встречались с ним, приехав в Петербург?
— Так вышло. Матушка намеревалась представить нас друг другу, но господин Стахиев отговаривался неотложными делами и, кажется, даже выезжал на какое-то время из Петербурга. Быть же на похоронах, не будучи знакомой с человеком, мне показалось не слишком ловким.
— Да, на них было совсем немного народу.
— Господин Стахиев был мизантропом?
— Нисколько. Так сложилась его жизнь.
— А вы, господин советник, вы знали его жизнь?
— Как можно сказать об этом с уверенностью, сударыня?
— О, нет, господин советник, не отказывайте мне в возможности узнать ее подробности. Матушка сказала, что вы были духовным наставником господина Стахиева и, значит, не могли не стать ему близким. Я прошу вас, господин советник. Очень прошу! Я с тем и приехала к вам сама.
— Что же, сударыня, вы хотели бы знать о господине Стахиеве?
— Все, что вы найдете мне возможным рассказать, решительно все. У меня растут дети, господин советник, и это будет нужно им не меньше, чем мне. Пожалуйста, не скупитесь на подробности.
— Но тогда, может быть, мы пройдем в гостиную, сударыня? Вам там будет покойнее.
— Нет-нет! Ведь господин Стахиев проводил последние часы своей жизни здесь. И потом, присутствие портрета…
— Ваша воля, сударыня.
— Из какой семьи происходил господин Стахиев? Он был простолюдином?
— Думаю, это определение не будет точным. Дед Александра Александровича был священнослужителем — он служил в церкви Знамения села Сарского, которое позже стало Царским. Село принадлежало государыне Екатерине Первой, и ходили слухи, будто отец Стахий был даже духовником императрицы. Во всяком случае, государыня очень к нему благоволила.
— Духовник императрицы… Он мог пользоваться влиянием при дворе.
— Сударыня, с моей стороны это было бы только домыслом. Я не знаком с придворным обиходом.
— Вы, господин советник? Вы шутите! Матушка говорила, что вашей кисти принадлежат портреты всех членов царствующей фамилии.
— И тем не менее. Одно верно — отец Стахий удачно выдал замуж двух своих доверей. Одна стала супругой господина де Брессана, другая — господина Пуговишникова.
— Это знатные русские фамилии?
— Нисколько, сударыня. Но вы интересовались влиянием при дворе. Господин де Брессан был камердинером императора Петра III — император очень считался с его мнением. Господин Пуговишников состоял секретарем Коллегии иностранных дел и доверенным сотрудником канцлера Бестужева-Рюмина, поддерживавшего будущую императрицу Екатерину Великую.
— Но вы ничего не говорите о сыновьях.
— Сын, насколько мне известно, был у отца Стахия один — Александр Стахиев. И он, благодаря браку сестры, поступил в Коллегию иностранных дел, состоял в русском посольстве в Швеции.
— Только в Швецию? Он был послом?
— Нет, сударыня, мне довелось познакомиться с Александром Стахиевичем в 1775 году, когда он получил назначение чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополь. Это была исключительно важная должность — Россия устраивала крымские дела. Александру Стахиевичу сопутствовала удача и за заключение Айнали-кавакской конвенции он был награжден пятью тысячами душ крестьян и поместьем в Белоруссии. Об остальных наградах — а они были — я просто запамятовал.
— Значит, его сын был совсем не беден, не правда ли?
— Если бы отец захотел делиться своим состоянием. Скорее, сыну приходилось рассчитывать на состояние матери. Я не сказал, что Александр Стахиевич нашел с помощью канцлера богатую невесту — из рода Демидовых. Им принадлежало множество заводов на Урале.
— А дальнейшая карьера отца?
— Ее не было. Почему-то Александру Стахиевичу вскоре было предложено уйти в отставку. Помочь сыну своим влиянием он уже не мог.
— Вы сказали, господин советник, сыну. Значит, у отца был единственный сын.
— Насколько мне известно, да. Александр Александрович никогда ничего не говорил о братьях.
— Но я с нетерпением жду рассказа именно о нем.
— Вы сами просили, сударыня, о всех подробностях.
— О, да! Простите мне мою нетерпеливость, господин советник. Но этот портрет завораживает меня. В нем, кажется, скрывается какая-то тайна.
— Я, наверное, разочарую вас, сударыня. Все было очень просто в жизни сына. Стахиев-младший рано поступает на службу, все в ту же Коллегию иностранных дел, и получает удачное назначение личным секретарем к барону Алексею Ивановичу Криденеру. Барон Криденер имел славу удачливого дипломата, уже успел побывать российским посланником в Варшаве и Венеции. Теперь его ждал Копенгаген, куда с ним и отправился Стахиев-младший.
— И что же дальше?
— Дальше юный секретарь чем-то не угодил своему патрону и вернулся в Россию.
— Он был недостаточно образован? Строптив? Замешан в какой-то истории?
— Александра Александровича всегда отличало безукоризненное воспитание. Не случайно его отец, уже выйдя в отставку с дипломатической службы, получил от императрицы Екатерины Великой звание члена Российской академии. Княгиня Дашкова, президент Академии и образованнейшая женщина, всегда отзывалась об Александре Александровиче с великой похвалой. Он был всегда очень сдержан и погружен в свои книжные занятия.
— Так что же все-таки прервало его службу?
— Сударыня, вы без пользы потратите время на разговор со мной. Я действительно ничего не знаю, кроме того, что господин Стахиев-старший счел нужным отправить сына в длительное заграничное путешествие. Александр Александрович объехал всю Европу. Мне трудно даже назвать год, когда господин Стахиев вернулся в Петербург. Кажется, он еще где-то служил, но мало и недолго. И, кстати, если у вас есть желание, я покажу вам одну из немногих книг, которые он выпустил здесь в переводе.
— Непременно, господин советник, непременно.
— Да, Александр Александрович еще недавно ее держал в руках, когда изволил мне позировать. Извольте!
— «Прелести детства и удовольствий материнской любви». 1794 год. Перевод с французского. Петербург. Какой странный выбор… Бог мой, да у вас, господин советник, здесь есть и сочинения матушки — «Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г.», один из самых известных ее романов. Вы читали его?
— Эти книги принес покойный Александр Александрович. Вы видите их на портрете.
— Ваша правда. Извините, что сразу не заметила, но я близорука, господин советник. Вы говорите, этого захотел господин… Стахиев? Да?
— Да, сударыня, это его выбор. Портретный художник всегда выполняет волю того, кого пишет.
— Понимаю. Но здесь есть закладка. Она тоже принадлежит господину Стахиеву?
— Во всяком случае, я не вкладывал ее туда.
«Раздался скрип гравия под чьими-то быстрыми шагами. На пороге беседки стояла баронесса. „Вы разговаривали с моим мужем?“ — „Да“. — „Как вы смели!“ — „Это была моя обязанность порядочного человека“. — „Порядочного относительно кого?“ Глаза Валери лихорадочно блестели, грудь высоко поднималась. „Вы называете порядочным выдать жену ее собственному мужу?“ — „Я не выдавал вас, Валери. Я ни словом не обмолвился о наших отношениях. Но я не мог скрывать от барона, что люблю вас и что пребывание в его доме превратилось для меня в сплошную муку“. — „И вы рассчитываете, что я покину этот дом вместе с вами?“ — „Но, Валери — наши мечты…“ — „Мечты — это только мечты, милый граф. Неужели вы могли подумать, что я брошу свое положение всеми уважаемой женщины, оставлю барона и стану скитаться с вами и вашей любовью по свету или закроюсь до конца своих дней в глуши вашей деревни, которой, впрочем, кажется, уже не осталось. Вы бедны, граф, просто бедны. Так что же вы хотели предложить любимой женщине за отказ от всего, чем она располагает?“ — „Ничего, кроме своей любви“. — „Любви! Надолго ли ее хватит, когда мы окажемся выброшенными из общества нищими, едва сводящими концы с концами! Вы можете себе представить меня, МЕНЯ в полотняном чепце и грубой суконной юбке у кухонной плиты или со спицами в руках. Что останется от ваших восторгов при виде такого огородного пугала! Вы признаетесь, что совершили ошибку, а я — что будет со мной? Нет, граф, порядочность не позволяет вам оставаться в стенах этого дома — не оставайтесь. Ступайте с богом и навсегда запомните: вы своими руками погубили вашу любовь. Прощайте!..“
— Бог мой, какая грустная история! Вы не разрешите мне взять эту книгу, господин советник?
— Она ваша, сударыня.
— О, благодарю вас. И за рассказ особенно. Какие все же зеленые глаза у господина Стахиева. А мне казалось, такой цвет только у меня. Меня за них звали русалкой.
* * *
Петербург. Дом Левицкого. Баронесса Криденер, Левицкий.
— Вы вынудили меня нанести вам этот визит, господин советник. Я надеялась встретиться с вами в доме господина вице-президента Академии художеств.
— Сударыня, я бесконечно обязан оказанной мне честью. Вы проявили столько доброты и снисходительности.
— Вы не ответили на мой вопрос, господин Левицкий: так почему же все-таки я не застала вас в доме господина Лабзина? Кстати, на каком языке мы с вами будем говорить. У меня в карете остался мой секретарь — он мог бы служить переводчиком. Может быть, вас стесняет французская речь?
— Нисколько, сударыня, если вы не хотите пользоваться русским.
— Если бы даже и хотела, я не настолько его помню. Помилуйте, господин советник, я не пользуюсь им больше тридцати лет, да он и не был никогда для меня родным.
— А мне казалось…
— Что раз моего отца звали на русский манер Иваном Федоровичем, он переставал в действительности быть бароном Отто Германом фон Фиттингофом?
— Но русская служба…
— Военная служба, хотите вы сказать. В то время она не требовала русского языка. Батюшка под начальством фельдмаршала Ласси участвовал в походе в Персию во времена императрицы Екатерины Петровны, отличился в кампаниях против Швеции и Пруссии. Выйдя же в 1775 году в отставку, он поселился в Риге и стал настоящим латышом. Я, скорее, могу припомнить многое из латышского языка.
— И все же воспоминания детства, вероятно, ожили.
— Бог ты мой, как все мужчины неистребимо романтичны. Конечно же, нет. Я бы скорее вспомнила Ригу. К тому же этот город обязан моему отцу своим театром: батюшка построил и содержал его на свои собственные средства. Клубом — батюшка позаботился и о нем. Наконец, множеством усовершенствований в сельском хозяйстве, которым батюшка до конца своих дней увлекался.
— Я счастлив, что мне удалось узнать господина барона.
— Вам? Я ничего об этом не знала.
— Я разминулся с вами, ваше сиятельство. Вы вышли замуж и последовали за супругом, когда ваш батюшка получил назначение главного директора медицинской науки в России. Его доклады привлекали многочисленную публику.
— Да-да, батюшка был очень доволен ими.
— Слушатели — тем более.
— И все же, господин советник, я поняла из разговоров в доме Лабзиных, что вы как бы разошлись с ними. Это мой стиль — я люблю прямую постановку вопросов: что же все-таки произошло? Раздоры в нашей среде людей, склоняющихся к учению Шварца, особенно вредны.
— Сударыня, мой возраст может служить мне извинением.
— Не может, господин советник. Не скрою, господин Лабзин, и особенно его супруга, намекали на ваши недуги и вследствие них на потерю способности работать. Но я видела портрет господина Стахиева, и подобные разговоры меня насторожили. Поймите, господин советник, сейчас как никогда важно создать вокруг императора благоприятную ауру для наших людей.
— Я далек от двора, сударыня.
— Не говорите так. Люди, с которыми вы связаны, бывают там постоянно. Мне нетрудно догадаться, как сильно может быть ваше воздействие. Я слушала много о ложе „Умирающий сфинкс“, где вы занимали второе после господина Лабзина место. Что послужило причиной вашего ухода? Ведь вы оставили ложу?
— Сударыня, вам ли не знать, что такие вопросы не могут найти ответа.
— Но вы же отстранились от дел и, может быть, отошли от наших идеалов?
— Ваше сиятельство, вы возвращаетесь постоянно к мысли о неких общих идеалах. Как можете вы знать, каковы мои идеалы?
— Значит, они изменились? Что вошло в них?
— Напротив, они остались неизменными. В какое-то время отдельные точки соприкосновения были восприняты господином Лабзиным как полная общность. Заблуждение рассеялось — только и всего.
— Заблуждение, говорите вы, господин советник. Но господин Лабзин — самый высокий мистик. Он по-настоящему предан принципам мистицизма, совершенно отвернувшись от мирских забот. Мистицизм в его высших проявлениях требует подобной отрешенности.
— Вы втягиваете меня в разговор, которого я не хотел бы вести, ваше сиятельство.
— Но почему же? У вас нет веских доводов?
— Мои доводы — это жизнь. Жизнь в нашем государстве и в наши годы.
— Что это значит?
— Человек должен быть прежде всего свободен.
— Но именно об этом и толкует господин Лабзин.
— Нет, ваше сиятельство, свобода духа приходит после физической свободы. Мы думали о просвещении, чтобы каждый человек понял несовместимость своего существования с положением раба.
— Раба? Но что вы принимаете за рабство?
— Крепостное право, сударыня. То самое право, которое душой и телом подчиняет одного человека другому, тогда как подчиняться и выполнять волю он должен по своему рождению только божественную — не человеческую.
— Но в этом есть свой великий смысл. Непросвещенный, мало чем отличающийся от животного крестьянин может почесть только благом заботу о нем просвещенного и справедливого сюзерена. Мне трудно вообразить себе такого крестьянина освобожденным. Последствия его действий могут оказаться фатальными для всего государства. Христианство учит нас смирению и подчинению, не так ли?
— И вы, ваше сиятельство, согласны подчиниться любому человеку?
— Любому? Конечно, нет. Люди слишком разнятся между собой. Я ведь уже сказала об этом.
— И, значит, вы признаете за собой право судить своих собратьев вместо Бога? Вы видите в себе наместника Бога на земле?
— Безусловно, среди людей есть Его избранники.
— Но их избранничество должно быть открыто другими людьми, исходя из поступков, всей жизни — не слов. Сам человек не вправе провозглашать свое избранничество.
— Мне ваши доводы, господин советник, представляются простыми силлогизмами. Жизнь диктует совсем другое.
— К великому сожалению.
— Но что именно привело к вашему расхождению с господином Лабзиным?
— Все то, о чем мы только что говорили, ваше сиятельство. Посланничество господина Лабзина, подкрепляемое его положением вице-президента Академии и властными действиями, не устроило меня.
— И других?
— И других.
— Многих? Кого именно? Может быть, мне знакомы их имена.
— Вряд ли, ваше сиятельство. Одно верно — мы все поплатились за свои взгляды. Жизнь доказала нашу правоту — один человек, тем более облеченный большой властью, может причинить много бед.
— Вы имеете в виду себя, господин советник? Господин Лабзин предпринял против вас какие-то меры? Я могу возразить против них в разговоре с императором и добиться изменения вашего положения.
— Умоляю вас не делать этого, ваше сиятельство. В моем возрасте в этом нет смысла. Да и кто поручится, что усердный чиновник может из-за философических разногласий стать неугодным?
…Красноватая россыпь крутолобых булыжников. Трудный подъем выступающих из свинцовой воды ступеней. Шорох грузно всплескивающихся на гранит волн. Зябкая стылость замерших в недоумевающем, почти тревожном ожидании сфинксов. Гладь отодвинутых от берега стен. Торжественных. Молчаливых. В широких вырезах никогда не открывающихся окон.
За неохватным полотнищем парадных дверей разворот вестибюля-двора. Рвущаяся строчка хоровода колонн. Сумрак, привычно густеющий у стен. Упругий марш широко развернувшихся лестниц. Наверху — строй колонн, уходящих капителями в высоту сумрачных потолков. Грузно опершийся на палицу Геракл. Стремительно шагающий Аполлон. Могучий Лаокоон, последними усилиями рвущийся освободиться от смертельных змеиных колец. Образы древних ваятелей, застывшие в безукоризненном строю гипсовых слепков, мерило вечности и права быть приобщенным к торжеству искусства. Императорская Академия трех знатнейших художеств. Васильевский остров. Санкт-Петербург… Первый шаг Левицкого к славе и — очередная загадка его жизни.
Первая выставка
Выставка была первой в только что отстроенных стенах. Строитель Академии трех знатнейших художеств А.Ф. Кокоринов мог замешкаться с отделкой мастерских, классов, тем более спален воспитанников и комнат для жилья — на это понадобится еще два года, — но выставка 1770 года должна была состояться. Наглядное свидетельство домашнего расцвета искусств под благодетельным скипетром Екатерины II, неоспоримое доказательство ее превосходства над всеми коронованными предшественниками и предшественницами. Кому бы пришло в голову вспомнить после такого торжества, что идея высшей школы искусств родилась и получила свое начало в предшествующее царствование? Где было еле справлявшейся с грамотой и не способной ни к каким государственным делам Елизавете Петровне соревноваться с размахом и замыслами просвещенной Екатерины! В Академии Екатерина утверждала очередную победу своего царствования, с которой следовало узнать всем подданным Российской империи и всем государствам европейским. Другое дело, что рядом с точным расчетом двора в тени его утверждались иные идеи и стремления людей, думавших о будущем развитии русского искусства.
Сама по себе выставка не могла удивить Петербурга. С далеких 20-х годов XVIII века и в старой и в новой столицах жила и процветала торговля, связанная с искусством. Особые магазины торговали печатными нотами — „нотными тетрадями“, изготовляемыми на московских фабриках, и привозными музыкальными инструментами. Для приобретения наиболее дорогих клавишных инструментов существовали посредники, оповещавшие желающих через газеты о предложениях в зарубежных городах, преимущественно Польши и Германии. Рядом процветала торговля эстампами, живописью, скульптурой. Написанная Антуаном Ватто вывеска — известная его картина „Лавка Жерсена“ — никому не показалась бы здесь в диковинку. Торговлю вели иностранцы и предлагали любителям привозные работы. Страны, откуда привозились картины или скульптуры, особенности ее национальной школы и мода на школу значили гораздо больше, чем имена художников, которые вообще не принято было называть. Покупателя вполне удовлетворяло название — „французская мебель“, „английские стулья из махагони“ (красного дерева), „голландские картины“, „итальянские мраморные вещи, а именно статуи, пирамиды, сосуды, львы, собаки, камины и столовые доски“, которые поставляли, например, купцы Кессель и Гак, регулярно извещавшие об этом через „Санкт-Петербургские ведомости“.
Но если всякая продажа была связана с показом продаваемых произведений искусства, то в так называемых магазинах-складах Канцелярии от строений из года в год устраивались настоящие выставки. Крупнейшая строительная организация России тех лет, Канцелярия имела в своем составе представителей всех прямо или косвенно связанных с архитектурой специальностей, в том числе живописцев, резчиков, скульпторов. Без художника не велось и не заканчивалось ни одно сколько-нибудь значительное строительство, не „убирались“ комнаты и залы. Картины и росписи еще с XVIII века стали обязательной частью жилой обстановки. Их можно было заказать, но можно и купить. В тех же „Санкт-Петербургских ведомостях“ объявлялось, что „в магазинах Канцелярии от Строений продаются живописные картины, плафоны и другие домовые вещи, бывшие уже в употреблении: охочим людям для покупки являться у находящегося реченной канцелярии от Строений при оных магазинах человека Гаврилы Козлова“. Только иногда здесь оказывались новые работы, по той или иной причине становившиеся „избыточными“ на строительствах.
Вновь образованная Академия трех знатнейших художеств обращается к выставкам почти сразу после своего открытия и сразу совсем по-иному. Сначала это показ экзаменационных ученических работ — свидетельство образования будущего художника, где оценки Совета служили указаниями для зрителей — на что надо обращать внимание, что именно представляет большую художественную ценность. Воспитание художника, но и воспитание зрителя — задачи, одинаково важные, в представлении создателей Академии.
К экзаменационным выставкам присоединяется постоянный показ работ воспитанников в организованной, по идее А.Ф. Кокоринова, факторской. Все учебные работы академистов — рисованные, живописные, скульптурные — поступали здесь в продажу с тем, чтобы ко времени своего выпуска каждый из молодых художников мог располагать известной денежной суммой. „А для лучшей пользы и ободрения учащихся в художествах и ремеслах, — указывал академический Совет, — юношеству стараться продавать их работы аукционным порядком. Учредить оные весь Генварь месяц по средам и во время танцевального класса и во время оных для большего привлечения публики и любви и склонности к художествам оказывать пристойное угощение и не предосудительные увеселения, употребляя на то 10-процентную сумму“. Той же цели служили и широко рассылавшиеся пригласительные билеты и каталоги „против французского образцу“.
Исключительно низкие, чаще всего и вовсе копеечные цены, разнообразные сюжеты обеспечивали большую популярность академической факторской, которая к тому же старалась распространять ученические работы и в других городах. Ее представители были и в Москве, и в Воронеже, и в Туле. В том же 1770 году в „Санкт-Петербургских ведомостях“ регулярно повторяется объявление: „При императорской академии художеств учрежденный фактор господам любителям художеств сим почтеннейшее объявляет, что сего декабря с 25 дня выставленные рисунки и картины воспитываемого юношества и учеников оныя Академии продаваться будут в их пользу по написанной на каждом ценам; чего для желающие могут оные видеть и покупать по средам и субботам пред полуднем и пополудни, покуда оные все проданы будут“.
И все же по сравнению со всеми предыдущими, и в том числе собственно академическими выставками, выставка 1770 года была необычной. Вниманию зрителей предлагались не ремесленные поделки и не ученические работы, какой бы мерой талантливости их авторы ни отличались. Перед зрителями представали произведения искусства, которые можно и нужно было смотреть не ради решения каких-то практических задач оформления интерьера, но ради той работы ума и чувства, которые их созерцание доставляло. Пышность обстановки выставки, торжественность начинавшего складываться ее ритуала представлялись современникам не только естественными — необходимыми. В этом те, кто связывал с Академией будущее русского искусства, готовы были согласиться с Екатериной. Назывались имена художников, и среди них — никому еще не известное, точнее, ни в печати, ни в документах не встречающееся, имя Дмитрия Григорьевича Левицкого.
Более того. Участники — трое архитекторов, один мозаичист и семеро живописцев. Всего тридцать девять работ — у каждого 2–3 произведения. Кроме Левицкого. Новичок был представлен сразу шестью портретами, и все они уже имели владельцев — были либо проданы, либо писались по заказу. Любителям художеств оставалось только удивляться: откуда так потаенно пришла к безвестному, Бог весть откуда появившемуся в столице художнику слава.
* * *
Петербург. Академия художеств. В вестибюле — Екатерина II и граф А.С. Строганов.
— Граф, вам придется стать моим чичероне. Не знаю, так ли вы осведомлены в вопросах живописи, как в музыке. Но привыкнув доверять вам в концертах, я готова рискнуть. Итак, во-первых, как вам нравится эта выставка?
— Государыня, я с радостью выполню любое ваше желание, что же касается живописи, мне не след себя хвалить, но я хочу напомнить: батюшка долгие годы собирал картины и портреты. Наше строгановское собрание, без преувеличения, — одно из самых больших в России.
— Полноте, Александр Сергеевич, я просто пошутила. Но за вами сохраняется ваша обязанность — около лучших картин вы должны подавать мне знак, как вы делаете это в концертах. Еще лучше — заранее предупредите меня о шедеврах.
— На мой взгляд, государыня, самые примечательные — это архитектурные проекты. Вы любите и умеете строить, ваше величество, — имена выставленных архитекторов подтверждают это.
— Но лестница уже кончается, граф, а вы еще не начали своих объяснений. Поторопитесь же, мой друг.
— Я бы начал с Вален-Деламота.
— Потому, что он строил это здание вместе с Кокориновым? Кстати, мне до сих пор непонятна доля участия того и другого.
— Но будьте же снисходительными, Ваше императорское величество! И прежде всего к отечественным зодчим. К тому же вы давно покровительствуете нашему французскому гостю.
— А вы помните, как многие сожалели, что я передала строительство Гостиного двора именно ему, отказавшись от услуг достославного графа Растрелли?
— Ваше величество чрезвычайно мудро поступили, приказав Деламоту соорудить обок Зимнего дворца и Старый Эрмитаж и Малый Зимний дворец. Старомодная вычурность расстрелиевская оказалась в строгой раме.
— Мне тоже казалось удачным ввести в Петербурге строгую расчетливость подлинного классицизма. В нем есть великолепная размеренность строк Расина.
— И как великолепно, государыня, что вашему примеру последовали наши вельможи.
— Вы имеете в виду дом Ивана Григорьевича Чернышева, что у Синего моста? Пожалуй. Но мне больше по душе церковь Святой Екатерины на Невском проспекте. Что же касается Ивана Григорьевича, его выбор меньше всего свидетельствует о его вкусе.
— Это лишнее свидетельство того немого обожания, которое он испытывает к Вашему величеству.
— Вот именно немого — даже в моем совете граф никогда не раскрывает рта, эдакий великий немой. Я гораздо более доверяю вкусу Кирилы Григорьевича — ведь он как-никак сумел довезти Деламота до своего черниговского имения. Как только бедный член Флорентийской и, если не ошибаюсь, Болонской академий выдержал подобное путешествие!
— Думаю, граф сумел устранить все неудобства. Он сам им не склонен подвергаться. К тому же Деламот сменил во владениях гетмана самого Растрелли.
— А это чьи листы? Они очень красивы.
— Но это же наш Юрий Матвеевич Фельтен.
— Что тут написано? „Проект месту для статуи конной его величества государя императора Петра Великого“. Неплохо, совсем неплохо. И подумать только, еще недавно этот архитектор строил Зимний дворец вместе с Растрелли! Кто бы мог его заподозрить в хорошем вкусе.
— Я еще раз прошу вас о снисхождении, Ваше величество. Архитектор всегда всего лишь портной, которому следует поспевать за модой. Не успеть, значит, проиграть свою жизнь.
— Вы становитесь выспренним, граф. Ремесленники не проигрывают жизнь — они просто перестают зарабатывать деньги, как оно случилось и с господином Растрелли. К тому же, мне приходится еще раз обратиться к своей памяти. Фельтен — сын всего-навсего кухмистера государя Петра Великого. Какие же высокие чувства здесь могут быть!
— Но вы не будете отрицать, государыня, значения образования? А образованности Юрия Матвеевича может позавидовать всякий.
— В каком смысле?
— В самом прямом. Он превосходный математик, воспитанник Тюбингенского университета, да и начинал со строительства замка в Штутгарте. Получить у Фридриха подобный заказ без отличных рекомендаций просто невозможно.
— Эти подробности мне незнакомы. Что же, тем лучше — он должен отличиться в набережных Невы.
— Я уверен, что этот наряд гранитной Невы будет превосходен.
— Александр Сергеевич, мне начинает казаться, что вы решили изменить музыке ради зодчества. Это ваше новое увлечение? И с каких пор? Кстати, дифирамбы Фельтену я слышу и от „гадкого генерала“ — Бецкой не может нахвалиться проектом своего дворца.
— О, нет, государыня, не пытайтесь обвинять меня в измене — я от рождения к ней не склонен. Интерес к зодчеству вызвали вы во мне, государыня, вы и только вы. Да, вот и еще один покровительствуемый вами архитектор. К тому же один из первых выучеников вашей Академии трех знатнейших художеств.
— Старов? Ну, конечно же, Старов. Да, мне приятно видеть сего русского академика. А что это за лист?
— Вы, как всегда, государыня, отличаете с первого взгляда лучшие работы. Рисунок превосходен. Манера легка. Что же это? Ах, вот: „Два вида церкви апостола святого Петра в Риме, когда она бывает освещена иллюминированным крестом с лампами, и который повешен бывает в купол в великой четверток и в пятницу, рисованы с натуры тушью“.
— Граф, позаботьтесь, чтобы эти два интерьера остались в Академии в качестве образцовых работ.
— Вы не хотите сказать об этом Бецкому, Ваше величество? Удобно ли мне передавать ваш приказ президенту Академии?
— Но я так хочу, а препирательства с „гадким генералом“, у которого по каждому вопросу особое мнение, не доставляют мне удовольствия.
— Как вам будет угодно, Ваше величество. Мне просто не хотелось огорчать президента, которому так дорого ваше внимание.
— Не старайтесь всем угодить, граф. Это бессмысленное занятие. К тому же Иван Иванович не оценит вашей деликатности и при первой же возможности постарается пренебрежительно отозваться не только о вас — о каждом.
— Иван Иванович очень ревнив к своей должности.
— Вот именно. Но довольно о нем. Слава богу, Старов строит дворец для графа Бобринского не под его началом. Но вы мне еще не показали листов Кокоринова.
— Их нет, Ваше величество.
— Как, нет? Совсем нет на выставке? Ему должно соревноваться с иными зодчими, раз он создает Академию!
— Но, государыня, та же Академия отнимает у него все время. Господин Вален-Деламот не интересуется строительством, тогда как Кокоринов проводит на нем без преувеличения все дни и ночи. Здание Академии поистине его детище.
— Дни и ночи, граф? Но это, как вижу, не мешает господину архитектору одеваться лучше моих придворных. Вы выдержали бы соревнование с таким щеголем, граф? И вообще, чей это портрет?
— Левицкого, государыня. Я докладывал вам об этом живописце. Он недавно приехал из Москвы.
— Бог мой, какой великолепный кафтан с соболевой опушкой! Серый камзол самого моднейшего оттенка и с каким золотым шитьем! Кружевное жабо! Положительно, это целое состояние. Мне начинает казаться, что мы положили слишком большое жалованье профессорам академическим, как бы талантливы они ни были.
— И в самом деле, Ваше величество, ходят слухи, будто этот наряд обошелся Кокоринову в годовой оклад и даже не профессорский, а ректорский — ведь он состоит ректором Академии. Но примите во внимание, государыня, Александр Филиппович достаточно состоятельный человек, чтобы себе это позволить.
— Что значит, состоятельный? Откуда? Я же отлично знаю, что учился он в Московском дворцовом ведомстве, был всего-навсего архитектурии учеником. Это верно, что ему благоволил Иван Иванович Шувалов, но не припомню случая, чтобы этот покровитель наук и художеств кого-нибудь облагодетельствовал больше, чем бутылкой вина или сладостями со своего стола. Что-что, а деньги любимец покойной императрицы умеет считать.
— Нет, Ваше величество, Шувалов здесь ни при чем. Александр Филиппович на редкость удачно женился.
— Здесь, в Петербурге? И нашлась такая богачка?
— Богачка, государыня, нашлась в Сибири. Ведь отец Кокоринова служил архитектором на демидовских заводах. Так вот Григорий Акинфиевич Демидов и стал его тестем, за Пульхерией Григорьевной отличное приданое дал.
— Мне кажется, недавно кто-то поминал еще одну дочку Григория Демидова.
— Возможно, Хиону Григорьевну — она с супругом в составе нашего посольства в Швецию уехала. С Александром Стахиевым.
— Ах, сыном этого священника из Царского Села. Не канцлер ли сам с большой похвалой о нем отзывался?
— Алексей Петрович Бестужев-Рюмин очень о нем печется.
— Есть на то особая причина?
— Презренный металл, государыня, всего лишь презренный металл. Из ваших подданных вряд ли кто откажется от дружбы с Демидовыми.
— Экой вы, Александр Сергеевич, не могли не задеть старика! Кто только сегодня не говорит мне о его скупости — словно сговорились!
— И то правда, государыня. Деньги деньгами, а иметь своего человека при посланнике тоже не грех. Граф Алексей Петрович всегда отдавал предпочтение собственной информации. Правда, подчас она запаздывала — вот тогда и приходилось смертными приговорами расплачиваться за промашку.
— И даже этого вы не хотите ему спустить! Подумайте только, чего старик ни натерпелся, когда решения своей судьбы ждал и при правительстве Анны Леопольдовны, а уж при тетушке, блаженной памяти императрице Елизавете Петровне, и не говорю. Помню, в каком гневе пребывала, что Алексей Петрович мне о ее припадке доложить сообщил. А я старику такой верности вовек не забуду.
— Бога ради, простите, Ваше величество, что отвлек вас своей глупой болтовней от выставки.
— Да, давайте лучше о выставке. О, да господин Кокоринов успел вашему протеже сам заказать портрет.
— Должен вас вывести из заблуждения, государыня. Портрет этот — программа господина Левицкого на звание академика. Академии пристало в парадных залах или, по крайней мере, в зале Совета иметь изображения всех своих членов. Так принято во всей Европе.
— Не собираюсь спорить и уверена, что звания академика господин Левицкий вполне заслужил. Кстати, какого он происхождения?
— Дворянин, Ваше величество.
— Приятно слышать. Но дворянин, зарабатывающий себе на хлеб художеством!
— Насколько я осведомлен, Ваше величество, у Левицкого есть наследственные земли в Малороссии, где-то на Полтавщине, но они очень невелики. К тому же его отец — известный художник-гравер.
— Как господин Чемесов?
— Вот именно, как наш несравненный Чемесов. Что же касается его братьев, то все они образованные и достойные люди.
— Тем лучше. И все же это не заставит меня изменить моей симпатии к господину Петру Жаркову. Его миниатюрные портреты, убедитесь сами, прелестны. Вы еще не заказывали собственного портрета у него?
— Я не большой охотник любоваться на собственную персону — в отношении нее у меня немалые претензии к натуре.
— Претензии претензиями, а Левицкому вы доверились и не прогадали. Не правда ли, граф? Мне положительно нравится ваш портрет. Он украсит ваше фамильное собрание. Оно по-прежнему великолепно?
— Вы бесконечно снисходительны, государыня. Оно и в самом деле обширно — батюшка не жалел на него средств. Но что касается самой живописи…
— Полноте, Александр Сергеевич, пусть оно не отвечает французским или английским образцам, но ведь это начало живописи российской. Одно это делает его бесценным.
— В этом смысле…
— Для меня это самый важный смысл. Иначе зачем было бы устраивать нашу Академию? Вы не согласны со мной?
— Просто я не думал об этом, государыня.
— А надо бы, Александр Сергеевич, ой, как надо. Я не испытываю ваших восторгов перед живописью, но твердо убеждена, что без трех знатнейших художеств никакой народ не может называться просвещенным.
— Мне остается снова и снова изумляться вашему чувству государственности, Ваше величество! Вы действительно великая монархиня.
— Я учусь ею быть, граф. И поверьте, это нелегкий труд. Подождите, подождите, а все эти остальные большие портреты?..
— Тоже господина Левицкого.
— Сколько их здесь всего?
— Шесть, государыня.
— Превосходно. Вы ему устроили настоящий бенефис.
— Неужели же незаслуженно?
— А кто этот почтенный старец?
— Штаб-лекарь Христиан Виргер, государыня.
— Штаб-лекарь? Надеюсь, в далеком прошлом? Он же дожил до Мафусаилова века, судя по портрету.
— Художник ничего не преувеличил, Ваше величество. Виргер начал служить еще при государе Алексее Михайловиче.
— Бог мой, но такого же не бывает! Ему что — сто лет?
— Сто два года, Ваше величество. Это один из российских раритетов, а если к тому добавить, что былой штаб-лекарь сохранил светлую голову, зрение и слух!
— Мой великий предок государь Петр Первый всенепременно увековечил бы его в Кунсткамере восковой фигурой, маской, не знаю, еще чем-нибудь. Кто же догадался заказать его портрет? Не Академия ли наук?
— Государыня, для наших академиков это слишком низменная материя. Портрет заказан Никитой Акинфиевичем Демидовым. Вы же знаете, как живо интересуется он натуральной историей.
— А это Богдан Васильевсич Умской? А он здесь в каком качестве?
— Спросите прежде всего Ивана Ивановича Бецкого, государыня.
— А при чем здесь „гадкий генерал“?
— Иван Иванович курирует Московский воспитательный дом, а господин Умской — опекун дома.
— Ах, так. Но знаете, Александр Сергеевич, меня всегда удивлял этот неряшливый увалень: никаких амбиций, никакой жажды хотя бы денег, если уж он равнодушен к служебной карьере. Как ни говорите, он мог рассчитывать при покойной государыне на многое.
— Может быть, он просто умен.
— Умен? Умской? Вы шутите, граф! Откуда такие предположения?
— А разве нежелание принимать участие в жизни двора, уйти от дворцовой суеты не свидетельствует об уме?
— При дворе его бы никто не оставил. Бог с вами, при его славе незаконнорожденного сына императрицы? Его скорее можно заподозрить в трусости.
— Или разумном расчете. Характер позволяет ему не охотиться за богатством, а обязанности опекуна Московского воспитательного дома явно не обременяют.
— Кстати, как относится к нему Москва?
— Москва? Скорее принимает. В нем заискивают многие.
— В надежде на амбиции, которые когда-нибудь могут ожить?
— О, нет, государыня, просто из врожденного желания чувствовать свою причастность к трону. Хотя бы и со стороны черного двора.
— Откуда вам знакомы такие подробности?
— Умской дружен с Никитой Акинфиевичем Демидовым.
— Ба! Ба! Снова Демидовы. Ваш художник явно нашел дорогу к их сердцу.
— Это может свидетельствовать только о его образованности. Никита Акинфиевич в этом смысле очень требователен.
— Трудно возразить, если он состоит в переписке с самим Вольтером.
— И вообще давно покровительствует ученым и художникам.
— Вашему художнику повезло.
— Никита Акинфиевич, наоборот, говорит, что это повезло ему.
— Так высоко ценит художника?
— И его ум. Он даже высказывался, что надеется видеть в господине Левицком живописца, который станет писать портреты людей, только близких ему по духу.
— И он уверен, что на это портретисту удастся прожить? А какими это такими высокими качествами наделен этот мужик, которого написал ваш протеже?
— Никифор Сеземов?
— Какая нелепая фигура с рынка! Эта всклокоченная голова, дурно сшитый кафтан! Чего стоит одно подпоясанное кушаком брюхо да еще некое послание в руке.
— Государыня, это бумага стоит многого — Сеземов пожертвовал Московскому воспитательному дому 20 000 рублей.
— Двадцать тысяч? Откуда они у него?
— Государыня, Сеземов — лучшее свидетельство того, как под вашим просвещенным покровительством начала расцветать Россия. Он всего лишь крепостной Петра Борисовича Шереметева, но даже в крепостном состоянии заработал сказочный капитал. И — вы станете смеяться — дружбу с Демидовыми.
— Какой же смех, граф! Все становится слишком серьезным. Так это Демидовы так или иначе протежируют господина Левицкого?
— О, нет. Разгадка кроется скорее вот в этом последнем портрете кисти художника.
— Это что, Григорий Теплов?
— Вы не узнали его, государыня? Левицкий не уловил сходство?
— Да нет, граф, тут другое. Я не представляла себе нашего Макиавелли таким романтичным. Хитрым, двуличным, ненадежным, но уж никак не без малого поэтом. Ваш Левицкий увидел то, чего нет на самом деле.
— Я всегда удивлялся вашей проницательности, государыня, но, может быть, в чем-то можно довериться и портретисту? Он зачастую способен видеть то, о чем не догадывается человек.
— На этот раз мне и впрямь нечего возразить: если сам Теплов не способен догадаться!
— Государыня, но разве не удивителен путь, который господину Теплову пришлось пройти? Сын, если память мне не изменяет, жены истопника в псковском архиерейском доме.
— Вот именно, жены. Злые языки утверждали, что дело не обошлось без самого преосвященного.
— Что ж, Феофан Прокопович был всего лишь человеком: почему ему было не иметь человеческих слабостей?
— Я невольно вспоминаю, как он благоволил и приветствовал всех преемников Петра Великого, хотя никто из них и не собирался продолжать тех принципов, о которых под покровительством государя пекся сам Феофан.
— У него была своя вера.
— Во что же?
— Во власть. Разве это не вера миллионов людей?
— Хотя у него были и свои добрые качества. Когда шляхта захотела ограничить самодержавные права русских государей, Феофан выступил в защиту подлинной монархии. Если бы не его вмешательство, императрица Анна вполне могла уступить заговорщикам.
— А сколько преосвященный делал для просвещения. Чего стоила одна его школа у Черной речки! По тем временам — настоящая гуманитарная академия.
— Что в ней было такого особенного?
— Прежде всего история, множество языков, и среди них древних, наконец, рисунок и живопись.
— Изящные искусства? Для кого?
— В школе занимались сироты и дети малоимущих. Но что вас удивляет, государыня, хотел же государь Федор Алексеевич открыть академию знатнейших художеств для детей нищих.
— Для меня это новость. Это, значит, в какие годы?
— Когда будущему государю Петру Великому не было и десяти лет.
— Что ж, значит, русские монархи всегда тяготели к просветительству. Я так и полагала, хотя и не знала фактов. Так что же все-таки с вашим Григорием Тепловым?
— Мне говорили, он блестяще учился, завершал свое образование за границей.
— Под опекой своего высокого покровителя?
— Несомненно. Но особенно опека сказалась позже, когда с вступлением на престол государыни Елизаветы Петровны Теплов был приставлен к младшему брату фаворита.
— Вы имеете в виду графа Кирилла Разумовского?
— О да, Кириллу Григорьевичу еще не было двадцати, и Теплов должен был сопровождать его за рубеж, чтобы помочь в считанные месяцы исправить все недостатки его воспитания.
— Вы великолепный дипломат, граф! Какого воспитания? Он едва умел читать и писать. Я узнала графа сразу после его возвращения из европейских университетов, на которые он потратил, по его словам, едва ли более двух лет.
— И что же, Ваше величество?
— Он был блистателен! И как же хорош собой. Знаете, Александр Сергеевич, что меня больше всего в Разумовском-младшем привлекало? Он ничего не принимал всерьез из того, что с ним происходило. Он лучше всех знал цену и своему образованию и тем преимуществам, которые так щедро раздавала ему покойная тетушка. Он умел смеяться над собой, а это уже делало его человеком в определенном смысле необыкновенным.
— Вы не обходили его вниманием, Ваше величество.
— Это что — ревность? Полноте, граф! Вы забыли о положении великой княгини в те годы. Едва ли не один вы да еще Кирила Разумовский осмеливались со мной говорить. Вы — в силу особого положения Строгановых в России. Кирила Григорьевич — как брат фаворита. Такое не забывается.
— Вам взгрустнулось, государыня? Бога ради, вернемся к Теплову. Может быть, он развлечет вас.
— Что же вы собираетесь, наш всеобщий защитник, о нем сказать?
— Только то, ваше величество, что Теплов хороший живописец.
— Да, помню, я видела у кого-то его тромпд’ойи. Но я не люблю этот обманный вид живописи.
— Тем не менее он требует немалого мастерства и выучки. Но главное — Григорий Николаевич превосходный музыкант. Он виртуозно играет на стольких инструментах и к тому же сам сочиняет музыку.
— Бог мой, снова ваша любимая музыка, граф. Побойтесь Бога, не докучайте мне ею.
— Государыня, вы говорите так, как будто Строганов уговаривает вас прослушать квартет! Но как же презреть то обстоятельство, что именно Теплову принадлежит первый сборник русских романсов. Он написал их более тридцати лет назад, когда о такого рода музыке никто и не думал.
— Да-да, вы правы — я могу оказаться необъективной в силу личных воспоминаний. Я слишком помню, как покойный император Петр Федорович обожал их напевать или того хуже — насвистывать по утрам на манер полкового марша.
— Покойный государь предпочитал военную музыку?
— Предпочитал! Он просто любил делать то, что выводило из себя окружающих. Сколько раз он принимался свистеть за столом к великой неловкости всех присутствующих.
— Государи имеют право на особенные привычки, Ваше величество.
— Надеюсь, мои никому не отравляют существование. А если это не так, я прошу, я требую, граф, чтобы вы мне о них говорили самым откровенным образом. Монарх обязан радовать, а не раздражать своих подданных. Насколько это возможно.
— И потом, государыня, вы вряд ли забыли очаровательный дуэт дочерей Теплова. Отец сам им аккомпанировал с редким искусством.
— Истинный букет талантов и добродетелей! Вы преподали целый урок, Александр Сергеевич.
— Как бы я смел, ваше величество! Если так получилось, в ваших глазах, я неутешен.
— Шучу, граф, конечно же, шучу. Тем не менее урок преподан, и я далеко не тупая ученица. Это славный пример того, как осторожно следует судить о людях, даже тех, которых, казалось бы, досконально знаешь.
— Простите мне мою настойчивость, государыня, но вы бы сами не простили мне моей оплошности: Григорий Николаевич представил в Академию художеств любопытнейшее рассуждение теоретическое — „Диссертацию“ о живописи и ее значении в человеческом обществе.
— И это он и обратил внимание на вашего Левицкого?
— Именно он, государыня. Еще во время своего пребывания в Киеве в связи со строительством Андреевского собора.
— Странно, что таким художником не заинтересовался граф Кирила Григорьевич. Он же у себя в Почаеве устроил настоящую столицу.
— Граф Разумовский сказал, что предпочитает видеть в качестве художников простолюдинов, а не дворян, да еще с большими амбициями.
— Ваш Левицкий так амбициозен?
— На мой взгляд, нисколько. Он просто держится так, как это соответствует его сословию.
— К которому Разумовский-младший оказался причисленным лишь по счастливой случайности.
— Как и мои родители, государыня.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Квартира Левицкого. Входит Г.Н. Теплов.
— Вон ты куда теперь, Дмитрий Григорьевич, забрался! Квартирка-то ладная. Того лучше — казенная. И сад под окнами. Не Украина твоя, а все лучше, чем камень один. Поди, по солнышку по-прежнему скучаешь?
— Не без того, Григорий Николаевич. Иной раз сколько недель пройдет — не вспомнишь. Все в делах. А то так за сердце возьмет — не продохнуть: больно свет серый, мглистый. Все глаза протереть хочется.
— Полно, полно, Дмитрий Григорьевич, краски-то у тебя, гляди, как горят. Смотришь — чистый итальянец. Побывать бы тебе в Италии-то. Мечтаешь?
— Затрудняюсь сказать. Пожалуй, что и нет. Забот много. Хорошо тому ездить, у кого семьи да дома нет, а у меня — сами знаете.
— Знаю. Да тебе по деньгам она в тягость не будет. За твои портреты теперь каждый с охотой платить станет.
— Да мне много и не надо.
— А вот за это хвалить не стану. Дмитрий Григорьевич, Дмитрий Григорьевич! Ведь не мальчишка — четвертый десяток когда разменял, в деле живописном давно, а того в толк не возьмешь, что портрет тебе не роспись церковная. В росписи кто дешевле уговорился, тому и работа пришла, а в портрете дешевого художника уважать не станут. Чем дороже, тем лестней. Ведь в портрете каждый гордостью свою утолить хочет. Перед всем светом покрасоваться, кстати и сказать, сколько денег выложить может — не скупится. Ты уж прости великодушно, что учу, так ведь ты еще к столице нашей непривычный.
— Какое прощение — от души благодарить вас, Григорий Николаевич, должен и до скончания века буду. Премного вам всем обязан.
— Насчет целого века не зарекайся. Простому человеку такой обет не по плечу, а уж при дворе и вовсе. Тут все минута решает. Сей час человек один, оглянуться не успеешь — другим станет. Вот и тебе опасение все время иметь следует. О благодарности же не сомневайся — придет время, сам тебе о ней напомню, и уж тогда не обессудь.
— Да какой из меня придворный!
— Кто знает, кто знает, сударь мой, как жизнь-то с тобой обойдется. Может, и узнавать Теплова не захочешь. Да не хмурься ты, это еще когда будет. Еще одно сказать тебе хотел — про сигнатуры на холстах: по-разному ты их подписал. И лучше бы по-французски.
— И в мысль не пришло. До сей поры так писал.
— На польский манер?
— На польский. Только разница велика ли — все одно латинскими литерами.
— Не все одно, сударь. Полагаешь, никто здесь польскому не навычен? Ан нет! Ты-то попомни, что еще при императоре Петре Великом при дворе на сем языке разговоры вели. Голландский-то на смену польскому пришел. Сестрицы старшие государевы на польском вирши сочиняли, целые пиесы разыгрывали. Так вот, чтобы сигнатуры твои тех давних времен не напоминали. Нынче портретисту модному быть должно.
— Охотно совету вашему, Григорий Николаевич, последую.
— Да и в сигнатуре написание имени твоего единым быть должно. Разночтения разве что холопу вчерашнему пристали, который до последней поры и вовсе без фамилии обходился. Дворянину то невместно. Пиши, как в книге шляхетской вписано.
— Так ведь Левицкий — не родовая фамилия наша.
— Как, не родовая?
— Прозвище скорее, да и то с недавних пор. Батюшка его принял, как художеством заниматься начал.
— Ничего ты мне о том не говорил.
— К слову не пришлось. Из Носов мы. Дед мой Кирила Нос по прозвищу Орел. Батюшка стал называться Григорий Кириллович Нос-Левицкий. Для отличия. В роду у нас больше священнослужители были, а он, хоть сан иерейский и восприял, одним художеством занимается. Вот от родных мест прозвище и прибавил.
— Родных мест? Что-то в толк не возьму, Дмитрий Григорьевич — нешто Левицкие сами по себе не дворянский род?
— Есть, есть такие роды в Малороссии, по древности Носам не уступают. Да только батюшка о них не думал — написание у нас иное.
— Совсем ты меня запутал! Какое другое?
— Оно и верно, что ни к чему вам было на батюшкины сигнатуры под гравюрами внимание обращать. Да вот уж коли полюбопытствовали, сейчас вам гравюры-то эти покажу. Не расстаюсь с ними — с ними будто к батюшке да родным местам ближе. Гляньте-ка, милостивый государь, гляньте. Здесь стоит „Левьцкий“, здесь — „Левьцский“, а на документе по полной форме — „иерей Левецкий“.
— И документ-то поздний. Ты уж, Дмитрий Григорьевич, к тому времени только „Левицким“ писался.
— Больше для благозвучия. Да и граф Кирила Григорьевич на том стоял, неужто не помните?
— Вот теперь и впрямь припоминаю. Погоди, погоди, а прозвище-то такое откуда?
— Тут история длинная. Со времен государя Алексея Михайловича тянется.
— Ты же знаешь, до истории я великий охотник. Вон супруга твоя уж и чайком распорядилась, покуда чаевничать будем, расскажи.
— Да что, Григорий Николаевич, не мы одни к той истории причастны. Вся Малороссия, как в котле, кипела. Гетманы по левому днепровскому берегу всегда к Москве прилежали.
— Не под турок же было идти!
— Вот вы так говорите, а на Правобережье гетманы себе великой воли искали.
— Потому с турками и водились. Пуще всех, помнится, Петр Дорошенко отличался. Как только в мусульманство не впал.
— Нет, вере-то он отцовской не изменил, зато всех казаков по правому берегу под власть турок подвел.
— Так-так, это когда с Портою Оттоманской в 1669 году договор подписал.
— Кабы бумагой все обошлось! А на деле трех лет не прошло, как султан Мухаммед IV да еще с войском хана Крымского в Польшу вторгся. Тут уж какое спасение. Каменец от разу взяли, Львов осадили. Грабежам и насилиям конца не было. Дорошенко ничему не препятствовал. Сам лютовал, аж страх.
— Слава богу, московские войска всему конец положили. Сколько всего лет-то под Дорошенкой прошло?
— По счету, может, и мало — четыре. А по жизни человеческой как считать? Все лиха хлебнули. Только попам православным пуще всех досталось. Турки над ними так катовали: где калечили, где в раках топили, где в домах убивали. Вы говорите, московские войска порядок навели. Навести, может, и навели, да не сразу. Надо было, чтобы весь народ сам еще супротив мучителей встал. Так оно и вышло, что без малого десять лет мира на правом берегу никто не видал. Прадед, блаженной памяти иерей Василий Нос, с четырьмя малыми сыновьями еле жив остался. Сколько ни терпел, все выходило — бежать надо. И бежал. Недалеко, правда. На границе самой между Гетманщиной и Сечью пристроился.
— И когда это случилось?
— Еще при государе Федоре Алексеевиче. А в 1680 году достался прадеду приход церкви Архангела Михаила в местечке Маячка, у городка Кобеляки.
— Насколько помню, на самом юге Полтавщины? Вот только самого городка не помню.
— Да и помнить нечего. Каменных домов почти что нет — одни мазанки. Церквей две да ярмарка.
— Немного.
— Что уж — село простое. Хорошо, что земля прадеду досталась богатая. Под пашню. Еще лесок. Луг отличный.
— Вся семья там и осталась?
— Куда же деваться было? У иерея Василия приход унаследовал сын Василий-младший. За Василием-младшим священничествовал снова сын — Степан. О нем и рассказов больше в семье. Он приход принял в 1691-м, а в 1704-м скончался. Семья большая, а приход один. Вот братья друг друга на нем и сменяли.
— Как, сменяли? Не по очереди же служили?
— Нет, конечно. Недолговечными все они были. В молодых летах прибирались. Первым дядюшка Дорофей Степанович, за ним — Алексей Степанович. Дальше очередь дедушки настала. Там еще младший сын Лукьян Степанович оставался. Вот до него очередь не дошла. Дедушка Кирила Степанович и приход держал, и художеством занимался — иконы писал. У нас дома хранятся. Батюшке сам Бог повелел искусством заняться.
— Так он у отца и воспринял азы науки?
— Чему-то, может, и научился. Присмотрелся, скорее. Дед Кирила Степанович цену мастерству знал — захотел, чтобы сын все тонкости мастерства постиг. Потому и направил его во Вроцлав. Школа гравюры там знатная была, а уж у Бартоломея Стаховского поучиться все за великую честь почитали. Кто только этого славного мастера в Европе не знал.
— Погоди, погоди, Дмитрий Григорьевич! А почему Вроцлав? Киев куда ближе был. И школа гравировального искусства знатная, и рубежей молодому человеку не переезжать, языку чужому не учиться.
— Да ему и не надо учиться было. Носы из тех мест происходят, оттуда на Полтавщину и бежали.
— Выходит, как на родину потянуло.
— Не без этого. Только главнее, что пан Стаховский в свойстве с Носами находился. Спокойнее было под его опекой. А язык — сами знаете — для меня и то что русский, что польский.
— Неисповедимы пути Господни! А на мой вопрос ты все же, Дмитрий Григорьевич, не ответил: Левицкий-то здесь причем?
— Не Левицкий, сударь мой, а Левецкий — из Левица. Это и есть родное наше место — промеж Львовом и Краковом, у самого что ни на есть подножия Татр. Его по-разному называют. По-славянски — город Левиц, по-немецки — Левец, по-венгерски — Лева. Батюшка как стал во Вроцлаве учиться, за фамилию название города родного взял. В западных странах так многие делали. Для отличия.
— Ну, что твоя сказка! Только ты, Дмитрий Григорьевич, сказками такими при дворе никого не удивишь. Лучше, чтоб на дворянский лад было: Левицкий, и все тут. Слыхал от служителей, что великая наша государыня с удовольствием о происхождении твоем отозвалась.
— А об умении моем?
— Экой ты, правда, в горячей воде выкупанный! Высочайшее благоволение — вот что главное. О мастерстве же лучше тебя самого никто не скажет. Да и, по правде сказать, близко к сердцу ее императорское величество искусств не берет. Только что зодчеством и строительством в столице очень интересуется.
— Так что же — ничего государыня о портретах моих не сказала?
— Опять за свое! Что сказала, не знаю, а ответ налицо: стал ты руководителем класса портретного, глядишь, и советником Академии станешь, а там и до профессора дослужишься. Всему свой час. Ты, главное, Дмитрий Григорьевич, строптивость-то свою подальше убери. Гляди, чтобы потрафить. За волю ни деньгами, ни отличиями, ни благосклонностью не платят. Обиделся, что ли? Ничего, ума хватит, притерпишься. Сердцу не будешь воли давать, оно и притерпишься. Не ты один — все терпят. У кого терпения больше да строптивости поменьше, те ко всем наградам и почестям и всплывают. Тут уж о талантах никто не толкует.
— Одного в толк не возьму, Григорий Николаевич, как сия лакейская устремленность совместима с целями искусства. Ведь сами же вы пишете в диссертации своей, сколь велика роли живописи в просвещении общества, в обучении его нравственном.
— И что же?
— Да что там далеко ходить, вот у меня диссертация ваша всегда под рукой, как это вы там блистательно пишете: „Но римляне обучались живописному искусству единственно для изображения роду и дел своих. По мнению их, живописец не меньшие качества в разуме и науках иметь должен, как и оратор или стихотворец, который похвалить вознамерился своего Героя, который удостоверить хочет изобретением своих речей мысль человеческую и который восхитить желает сердце слушателей. Те словами представляют картину, а сей — чертами и красками то изображает. Не излишне его превознесу, ежели скажу, что прямо воспитанный и обученный живописец не может лишаться ниже благонравия, ниже тех знаний, которые оратору и стихотворцу надобны; но Оратор и Стихотворец благонравный может остаться совершенным без знания живописного искусства. В таком-то мнении, как кажется, древние почитали сие искусство, и сие причиною было, что старинные греческие живописцы или полководцы или знатные в обществе люди при том были, и в Дельфах и Коринфе перед народом“.
— Теперь и я вас благодарю, Дмитрий Григорьевич, за столь лестное для сочинителя мнение. Однако же жизнь повседневная, друг мой, куда как от ораторских витийств отличается. Каждый оратор и стихотворец принужден был к ней применяться, а уж истории оставалось судить, сколь значительным или незначительным окажется для общества человеческого его наследие.
— Но если обратиться к мыслям Александра Петровича Сумарокова или „Поэтическому искусству“ Буало…
— Вот тебе, Дмитрий Григорьевич, и разница — между жизнью и выводами теоретическими. Хотя бы то вспомнить — Буало обращается к образцам античным, господину Сумарокову Феофан Прокопович ближе. Для Буало сюжет сам по себе важен, для Александра Петровича — русская ситуация историческая. Каких только од он ни писал — тут тебе и на победы императора Петра, и на Франкфуртскую победу или на погребение императрицы Елизаветы Петровны с нотациями для наследников государыни. Разве не так? А там, где политика, там без того, что вы так беспощадно холуйством определили, и не обойтись. Уж кто-кто, а господин Сумароков силы жизненных обстоятельств никогда не отрицал. Слаб человек, а в том его и сила, чтобы обстоятельствам этим не до конца подчиняться. А впрочем, Дмитрий Григорьевич, ведь у меня к тебе, господин академик, дело есть. Больно хорошо ты детей изображаешь — напиши и моих, особливо Алешеньку. Большие надежды на него возлагаю. В старости утешения великого от сынка жду.
О Москве не жалеешь ли? Помню, помню, как уезжать из нее не хотел, отговорки искал. Кабы Иван Иванович Бецкой не настоял, мне бы с тобой, поди, и не справиться.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Квартира Левицкого. В мастерской Левицкий, позже входит Агапыч.
…Москва. Если б с нее все начиналось! В тридцать пять лет о начале поздно говорить. Или чего-то достиг, или… А все из-за выставки — разговоры о суде, о потаенной славе. Николай Александрович Львов так прямо и спросил: у кого, мол, учились, кто ваши учителя? Что ответишь? Да и надо ли отвечать. Строганов Александр Сергеевич говорит, непременно надо. В славе, мол, без этого никак нельзя. Вон он книжку о живописцах русских писать собрался — без учителей не обойтись.
Не рано ли — книжку-то? Подождать бы. Еще бы поработать. Граф Александр Сергеевич не согласен. Когда, мол, еще выставка состоится, много ли полотен показать на ней удастся. А так разойдутся по домам да департаментам — кому в голову придет одного художника искать.
Батюшка толковался, шестнадцати ему не было, как из Маячки в Саксонские земли уехал, в ученики поступать. Тоже сразу не удалось. Вроде как в услужение к пану Стаховскому поступил. Спасибо, кров да еду дал. Это в последний год жизни государя императора Петра Великого было. А как возвращаться, в России на престоле государыня Анна Иоанновна сидела. Ладно вышло, что Разумовским судьба уже улыбнулась. Графа Алексея Григорьевича посланный из Москвы в первый же год, что государыня на престол вступила, отыскал. Не то, что отыскал, — в церкви в хоре услышал. Видный, ладный, голос хоть сильный, да мягкий. Соловьем разливался. Посланный и думать не стал — в столицу ехать предложил. Графу тогда что терять — в доме родительском нищета, сиротство, сестер полно, братцу — дай бог, чтоб лет десять было. Пастух с голоду не пропадет, так ведь не всю же жизнь за стадом ходить, когда в столицу зовут. Граф тогда у дядюшки иерея Алексея в Маячке благословился. В Маячке родных у Григория Розума да Натальи Демьяновны Розумихи полным-полно было. Самая что ни на есть бедность.
А батюшке в Маячку возвращаться ни к чему было. Приехал сразу в Киев, в Киево-Печерскую типографию поступил. В Москве в тот год, когда его книга „Деяния святых Апостол“, вышла, пожар великий был. Приезжал граф Алексей Григорьевич родных навещать, рассказывал. Такой пожар был, что после него новый план городу снимать пришлось. Театр там еще, сказывали, преогромный на площади Красной сгорел. Граф Алексей Григорьевич на том стоял, что огромней да красивей и позже никогда не видывал. Императрица Анна Иоанновна со строением спешила. Думала навсегда в Москве остаться. Петербурга боялась. Там и всякие перспективные чудеса появились — итальянские мастера декорации писать стали.
Граф Алексей Григорьевич не так сам в Малороссию зачастил — государыню цесаревну Елизавету Петровну оставлять одну ни за что не хотел, — как посыльные от цесаревны. Графиня Мавра Егоровна Шувалова как подруга цесаревне была, кто знает, за какими делами приезжала. По-малороссийски как по-русски говорила. Все больше с духовными беседы вела.
Государыня императрица Елизавета Петровна на престол вступила, Разумовские тотчас батюшку вспомнили. Он и первые панегирики молодым графам гравировал, и гербы, родословное древо. Батюшка колебался сан иерейский получать, Разумовские помогли. Семинарии не кончал, учился одному искусству. Семья, к тому же, большая. Вот тут Григорий Николаевич тоже помог. Так вышло, что батюшка сан и приход получил, а получивши, другому пресвитеру передал, чтобы тот ему долю на семью платил. Земля тоже впусте не лежала — арендаторы нашлись. Так ведь не чужие — свои же, родные, в спор вступили, чтобы батюшке такой льготы не давать. Вдова дядюшки Алексея Кирилловича жалобы писать принялась. Снова Теплов помог попадью утишить.
Сочинитель батюшка — преотменный. Когда префект Киевской академии Михаил Казачинский решил графу Алексею Григорьевичу „Аристотелеву философию“ презентовать, Григория Кирилловича Левицкого пригласил. Книгу в Львовской ставропигийской типографии на трех языках печатали — славянском, польском и латинском, батюшка гравированными листами с геральдическими сочинениями приукрасил. Нигде так полно подписи своей не ставил, как в том 745-м году: „Пресвитер Григорий Левицкий полку Полтавского городка Маиачкавы в Киеве выделал“. Живописью тоже занимался, хотя сего художества и не жаловал. Ему бы с резцами все сидеть — вот глаза и стали слезиться. Смотришь — сердце стесняется: не ослеп бы, Господи!
— Тебе что, Агапыч?
— Да вот гляжу на вас, батюшка, а вы все в раздумье: не захворал ли?
— Бог миловал.
— Ин и ладно. А думать — чего вам, батюшка, думать! Время позднее, того гляди господин заказчик приедет. Мы уж все в мастерской поизготовили, прибрали чистехонько. Может, хошь допрежь его чайком побалуетесь?
— Чайком, говоришь? Нет, ты мне лучше кваску нацеди.
— Какого прикажете — грушевого аль клюквенного?
— Нет, того, что рецепт батюшка в Киеве записал. Киев-то, помнишь ли?
— Как не помнить! Райский город. Одному солнышку не нарадуешься — все-то в нем жаром горит, так и сияет.
— Да, не тот свет в Петербурге. Как туман стоит. Солнце свинцовое: блестит, а цвету не дает. Когда мы в Киев-то приехали?
— Первый год пошел, как государыня императрица блаженной памяти Елизавета Петровна на престол вступила. Андреевский собор тогда заложить изволила, а батюшке вашему приказ — в Киев ехать.
— Он и работы тогда в типографии оставил?
— А что делать было? Все бросил. Сказывал, будто ему рисунки разные для резьбы в соборе делать велели.
— Помню, батюшка рисовал, а меня рядом сажал приглядываться.
— Что ж, Дмитрий Григорьевич, вам тогда всего-то восемь годочков было. Матушка ваша противная тому была, мол, дитяти поиграть бы, а батюшка — ни в какую. Сызмальства, говорит, не приучить, позже толку не будет. Так и забрал вас с собой.
— И долго мы там были?
— В Киеве-то? Да как сказать. Все время там не жили. Нешто не помните, как в Маячку езжали?
— Помнить помню, а счесть, сколько раз, нипочем не сочту. Да не о том я. Батюшка после первых рисунков опять за гравюры принялся.
— А как же! Да и дел по художеству тогда иных не было. Образа в Петербурге писались.
— Знаю, их Мина Колокольников с живописной командой Канцелярии от строений здесь и сочинял. Батюшка говорил, приказ такой был, чтобы все живописным письмом писались. Государыня Елизавета Петровна иконописи не жаловала.
— Вот-вот, а до эльфрейных работ в куполах да парусах еще дело не дошло. Так и вышло, что Григорий Кириллович опять за резцы взялся.
— А меня рисовать усадил.
— Да уж снисхождения батюшка ваш не ведал. Покуда свет, ни на шаг вас от стола не отпускал.
— Какой праздник был, когда Григорий Николаевич приезжал! Он и краски давал, и натуру ставил.
— Ну, батюшка, невелики уроки! Ладно, что на способного ученика пришлись. Вам два раза повторять не надо было. Ой, заговорил я вас, Дмитрий Григорьевич! Поди, пора вам в мастерскую. Заказчик того гляди заявится.
— И то верно. А за квасок, Агапыч, спасибо. Преотменный! И еще напомни мне, чтобы завтра-послезавтра всенепременно к Алексею Петровичу сходить. Давненько его не видал — не обиделся бы.
— Господин Антропов-то? Да на что он вам теперь-то? Как трудился в своей живописной команде, так ему там до скончания века сидеть, а вы вон как высоко летать стали!
— Никогда так, Агапыч, не говори! Никогда. Слышишь? Ни от какого звания человек достойнее не станет, а Алексею Петровичу я скольким обязан.
— Воля ваша, могу и не говорить. Да только что такого Алексей Петрович особенного вам сделал? Скажете, как с господином Тепловым, уроки преподал?
— Конечно, скажу, потому что правда.
— В чем правда-то? Эх, Дмитрий Григорьевич, Дмитрий Григорьевич, и все-то вы каждому честь отдать хотите, каждого уважить норовите. Чем только все они вам-то отплатят?
— А я не в лавке и не товаром торгую — мне ничего и ничем платить не надо. А то верно, что у Алексея Петровича я первый настоящий мольберт увидел, краски он мне все разобрал да толком показал.
— Вишь ты, все вас учили, а в академики вы один вышли. Таперича сами всех учить поставлены.
— Да когда ж ты, наконец, поймешь, Агапыч, ведь все их советы мне на пользу пошли. И полно, перестань пререкаться. Хватит!
— Как же хватит, когда вы уж и забыли, что в Киеве, когда туда Алексей Петрович приезжал, наездами лишь бывали.
— Это за три-то года? Помнится, Алексей Петрович в Киев в середине лета 752 года приехал, а уехал в октябре 755-го. Разве не верно?
— Все верно, да только вы тогда батюшке помогали, а батюшку для великих трудов в Маячку отпустили. Григорий Кириллович еще тогда гравюры для „Апостола“ Киев-Печерской лавры резал.
— И сколько месяцев на них пошло?
— Сколько ни пошло, а сразу пришлось батюшке за великий лист с портретом преосвященного Дмитрия Тупталы браться. Без вас Григорию Кирилловичу нипочем бы не успеть к сроку. А вы — Киев! Господин Антропов!
— Ну, приезжали же мы в Киев. И у Алексея Петровича я бывал. Он мне даже из соседней комнаты разрешал глядеть, как портреты пишет. Секретов из работы не делал.
— Да и зачем бы ему. Кто вы тогда были, Дмитрий Григорьевич! Годков-то вам всего семнадцать набежало.
— Немало.
— Немало, да и немного. А у господина Антропова к тому времени и слава была, и по службе преуспеяние. Откуда было ему знать, что вы таким знатным портретистом станете? А коли так, то и секретов таить ни к чему — одна морока. С батюшкой вашим он в большой приязни был, так и сынка привечал. Вот кабы не Москва…
— И ты с Москвой.
— И я? А кто ж ее, белокаменную, еще поминал?
— Григорий Николаевич Теплов интересовался, не скучаю ли по ней.
— А вы что, батюшка, сказали?
— Да ничего.
— Что так?
— Сам не знаю. Вспоминать вспоминаю, а так…
…История возвращается сюда по вечерам. Когда гаснут огни в коробках многоэтажек и прерывается поток машин, плотно заполняющих горловину когда-то просторной улицы. В свете фонарей зябко вздрагивают одинокие листья сохнущих лип — кто сегодня вспомнит, как сто лет назад их привезли из Голландии, самые пышные, самые душистые? На скупых лоскутах нетемнеющего городского неба вырисовываются силуэты церквей. Робко выступают к мостовой редкие особнячки за обрывками оград. Чтобы рассмотреть историю, здесь ее надо сначала узнать. Подробно и горько.
Приговор Замоскворечью был вынесен шестьдесят лет назад. Впрочем, не ему одному — всей Москве. Названная скопищем нищеты и бескультурья, она не могла рассчитывать на понимание и пощаду. Из трех великих магистралей, которыми предстояло рассечь столицу грядущего коммунизма, все три проходили через Замоскворечье — по Кузнецкой, Большой Ордынке, Полянке и Якиманке. До наших дней осуществилась полностью одна, стершая с лица земли Якиманку ради державной мощи „Президент-отеля“, еще недавно гостиницы „Октябрьская“.
Какое значение имеет, торговало ли Замоскворечье и как торговало, и уж тем более как жило. Едва ли не первыми в затишье просторных дворов, разлива сирени и жасмина, мир мощеных широкими желтоватыми плитами тротуаров, чугунных тумб — для дворников и привязи лошадей, деревянных калиток с чугунными кольцами, упрямых пучков одуванчика и сурепки у стен, тягучего колокольного перезвона и звонкого собачьего лая вступили советские писатели. Громада комфортного жилья надвинулась на Третьяковку и кружевную чугунную ограду особняка, привольно раскинувшегося за плотным рядом вековых лип. Одна из школ Ленинского района, музыкальная школа, наконец, библиотека Академии педагогических наук — любое название занимало место в справочниках, кроме главного, единственно нужного истории — дома Демидовых. Тех самых уральских богачей, которые сумели нажитые капиталы совмещать с занятиями наукой и с постоянной щедрейшей помощью этой науке. И еще. Демидовы — это Левицкий.
…Дворцовый интерьер непонятного помещения — то ли открытая колоннада, то ли зал. За выступом огромных, перехваченных вверху занавесом колонн перспектива московского Воспитательного дома. На переднем плане — простой стул, стол с книгами и лейкой, опершись на которую стоит в небрежной позе стареющий мужчина. Помятое лицо с запавшими от выпавших зубов щеками, покрасневшими, чуть припухшими веками и насмешливо-проницательным взглядом маленьких темных глаз. О портрете Демидова кисти Левицкого принято говорить, что его нарочитая простота, „домашность“ — свидетельство приближающегося сентиментализма, с обязательным стремлением к естественности (колпак и халат), природе (лейка и цветы), некие осуществившиеся образы Жан-Жака Руссо. Но подобное решение осталось единственным в творчестве Левицкого, как единственным в своем роде был самый человек, которого Левицкий писал. Художник всегда связан с живой моделью и все, чем наделяет ее в портрете, видит и находит в ней самой.
„Русский чудак XVIII столетия“ — такое название получит своеобразная монография, посвященная Прокофию Акинфиевичу Демидову одним из историков прошлого века. В XIX веке Прокофий Демидов становится неким символом своего времени со всеми его необъяснимыми чудачествами, бессмысленными фантазиями, желанием любой ценой отличаться от других, привлекать к себе всеобщее внимание. Он москвич, один из тех, о ком писал в 1771 году Екатерине II Григорий Орлов: „Москва и так была сброд самовольных людей, но по крайней мере род некоторого порядка сохраняла, а теперь все вышло из своего положения. Трудно завести в ней дисциплину полицейскую, так и пресечь развраты московских обывателей“. В том же году художник получает заказ на демидовский портрет.
На демидовский выезд сбегались смотреть толпы. Ярко-оранжевая колымага, запряженная цугом: две маленькие лошади в корню, пара огромных посередине, пара крошечных впереди, и при них два форейтора — гигант и карлик. К тому же Демидов заводит невиданную моду. Вся прислуга, лошади и даже собаки носят у него очки, а мужская прислуга должна ходить одна нога в онуче и лапте, другая — в чулке и башмаке. В семье несколько домов. Из них тот, что на Басманной — единственный в своем роде в Москве, от подвалов до крыши обитый снаружи железом. В стенах его комнат скрывались маленькие органчики, повсюду были размещены серебряные фонтанчики с вином, под потолками висели клетки с заморскими птицами, кругом разгуливали на свободе обезьяны и даже орангутанги.
Но был и другой Прокофий Демидов, словно скрывшийся в тени бесчисленного множества ходивших о нем легенд. Демидов — благотворитель и меценат, не жалевший денег ни на Московский воспитательный дом, ни на открытое на его средства так называемое демидовское коммерческое училище. Он пишет любопытное, основанное на тщательнейших многолетних наблюдениях исследование о пчелах и почти четверть века отдает созданию уникального гербария, который поступит впоследствии в Московский университет. Демидов умеет наблюдать, систематизировать наблюдения, делать выводы и только в общении с наукой сохраняет серьезность и собранность настоящего ученого.
Левицкий угадывает если не все, то многое в характере общепризнанного чудака. Домашний костюм, впрочем, достаточно модный и щеголеватый, как и аккуратно надетый колпак — дань странностям Демидова, но и его пренебрежению светскими условностями. Светская жизнь просто не занимает прославленного мецената.
Цветы и лейка — свидетельства увлечения ботаникой, которая Демидову явно дороже, чем ничего для него не значащее богатство интерьера. Скорее всего, он вообще относится к идее портрета достаточно безразлично. Единственное, что можно утверждать наверняка, — портрет писался в Москве. Демидов единожды заявил, что нога его не ступит за пределы первопрестольной. И свое обещание он выполнил.
На повороте от Демидовского дворца на Большом Толмачевском к Большой Ордынке сегодня кипит грязное торговище. Палатки, лотки, раскинутые на асфальте, в грязи и пыли картонки с товаром — от книг до пучков моркови. То нетерпеливая толпа, суетясь, втягивается под землю и волнами выплескивается из-под земли. Скорей! Скорей! Где тут обратить внимание на спокойную простоту Скорбященской церкви — по-настоящему, Всех Скорбящих радости, — отмеченную почерком двух очень московских зодчих, Василия Ивановича Баженова и Осипа Ивановича Бове. Кто поднимет голову полюбоваться стремительным взлетом колонн и пилястр Климентовской церкви, по-прежнему наглухо закрытой со всем великолепием своего скульптурного убранства и позолоты, дворцового размаха прошитых светом хор и уходящего в подкупольную высь вычурного иконостаса. Когда-то она должна была отметить вступление на престол Елизаветы Петровны и простояла незаконченной до появления в Москве Левицкого, бок о бок с храмом, посвященным восшествию на престол великой Екатерины, в которой Левицкий стал работать.
Всего два небольших квартала и перекресток других, запутавшихся в своих названиях переулков. Бывший Малый Маратовский, потому что неподалеку кондитерская фабрика имени Марата и потому что сам Марат — герой и душа французской революции, — он же бывший Курбатовский Малый. Через Ордынку — Погорельский, потому что так было решено назвать в 1922 году Большой Екатерининский Погорельский — потому что когда-то, в XVIII веке, переулок горел (а что не горело в деревянном городе?), Большой Екатерининский — потому что испокон веков стояла здесь Екатерининская церковь, построенная заново приказом Екатерины II. Отступившая глубоко в церковный двор, за изысканным росчерком отлитых на демидовских заводах чугунных решеток, чуть тронутая лепным кружевом, она стала — в порядке борьбы с религией — механическим заводом, прокопченным до черноты, разбитым в каждом дверном и оконном проеме для производственных нужд. И все же сохранившей маленькое замоскворецкое чудо — годами у ее стен первыми и единственными в округе пробивались сине-фиолетовые первоцветы. А старые москвичи уверяли, что если очень прислушаться, в весенние пасхальные дни шел „от великомученицы Екатерины“ еле слышный серебряный перезвон колоколов, когда-то сброшенных с колокольни и отбивших угол храма. Только в весенние дни, те самые, когда выносились и кололись на церковном дворе образа из иконостаса. Кисти Левицкого.
Московский узелок
Биографы Левицкого считали — у мастера было всего два учителя: только отец и только Антропов. Логические домыслы подтверждались почти свидетельствами. Один из поздних потомков художника уверенно утверждал: „Учителями его были отец и Антропов, человек, имевший зуб против Академии и очень недовольный даже частными уроками у профессоров. Поэтому и эти уроки (Левицкого) начались только тогда, когда ученик личными заказами стал на ноги и перестал зависеть от учителя“. Казалось, что все известно — даже взгляды Антропова, даже особенности его отношения к академическим профессорам. Вот только почему-то современник живописца, сам профессионально занимавшийся искусством Николай Александрович Львов всего через пять лет после смерти Антропова пытался выяснить, когда тот жил и что все-таки написал. Очевидное в своем значении для первых историков искусства, имя живописца полностью потерялось для людей рубежа XVIII–XIX веков.
К тому же обстоятельства свидетельствовали — Левицкий знакомился с живописью до Антропова. До знакомства с Антроповым должен был овладеть началом мастерства, приобрести достаточно широкий круг представлений об искусстве. В Академии он выступит сразу со сложными портретными композициями, свидетельствующими о знании современного западноевропейского, и в частности французского, искусства портрета, который никак не затронул творчества Антропова. Даже наиболее ранние из известных работ Левицкого не выдают его прямого ученичества, тем более каких бы то ни было прямых заимствований — доказательство достаточной профессиональной зрелости молодого портретиста. Связь Антропов— Левицкий — связь принципов, находящихся в неуклонном развитии и взаимном отрицании.
Семейные предания не были единогласными. Продолжающееся отсутствие документальных источников позволило строить предположения, и мнения потомков разделились. Наиболее убедительным представлялся вариант, что, оставляя родные места, Левицкий собирался поступить в число студентов первого набора проектировавшегося И.И. Шуваловым художественного факультета при Московском университете. Тем более что здесь снова всплывало имя Антропова — он был зачислен в штат университета рисовальным мастером в 1759 году. В литературе о Левицком эта версия повторяется без подтверждений, но и без опровержений, по принципу „почему бы и нет“. Во всяком случае, она позволяла объяснить решительность действий молодого художника. Конечно, приезды начинающих живописцев в столицу существовали, но наиболее известный из них, связанный с прославленным Боровиковским, имел достаточно вескую причину — Екатерина видела и одобрила работы будущего портретиста во время своей поездки в Крым. Художник, тем самым, мог рассчитывать на серьезную поддержку.
Идея создания художественного факультета при Московском университете, точнее — целой Академии художеств, приходит И.И. Шувалову почти одновременно с идеей открытия самостоятельной Академии трех знатнейших художеств в Петербурге. Он выдвигает московский проект еще в 1756 году и при этом пишет: „Если правительствующий Сенат, так же, как и о учреждении университета, оное представление принять изволит и сие опробовать, то можно некоторое число взять способных из Университета учеников, которые уже и определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художествам, то ими можно скоро доброе начало и успех видеть“. Шувалов торопится с проектом предполагаемого здания и в том же году заказывает его французскому архитектору Ж. Ф. Блонделю-младшему. Но мечты слишком опережают реальные возможности. Найти преподавателей для двух столиц оказывается практически невыполнимо. Приглашавшиеся иностранные мастера избегают самого разговора о Москве, и уже в 1757 году от московского проекта приходится отказаться.
Ученики университета, которых имел в виду И.И. Шувалов, были выделены для „занятий художествами“ за год до открытия Академии. Им преподавал рисунок гравер И. Штенглин. И все они приехали в Петербург в январе 1758 года. Там же в мае состоялся первый академический экзамен. Если бы Левицкий действительно рассчитывал на поступление в Московский университет, он должен был бы оказаться в Москве в начале 1757 года и заниматься у И. Штенглина. Что же касается Антропова, то он зачисляется в штат университета только 30 декабря 1759 года, когда ни о каких студентах-художниках уже речи не было. На долю рисовального мастера приходилась текущая работа, связанная с обширным университетским хозяйством.
Второй вариант семейного предания, минуя Москву, направляет Левицкого непосредственно в Петербург, где он будто бы занимается у вновь приглашенного в открытую недавно Академию художеств в качестве руководителя класса живописи исторической Л. Лагрене Старшего и — что признается бесспорным всеми биографами — у прославленного театрального декоратора и перспективиста Д. Валериани. И очередные „но“.
Луи Лагрене находился в Петербурге считанные месяцы — с декабря 1760 до марта 1761 года. Перегруженный заказами и преподавательской работой в Академии, он попросту не успел приобрести частных учеников, тем более что ученичество того времени складывалось не из отдельных уроков. В обучение поступали на достаточно долгий срок, часто поселялись в доме учителя. Обычно за обучение не платили — оно окупалось для учителя профессиональной помощью ученика. Поэтому в длительном пребывании будущего художника в своем доме был прежде всего заинтересован сам мастер.
К аналогичным соображениям в отношении Д. Валериани присоединяются и другие, также определяемые условиями времени. Одним из самых распространенных в середине века видом живописных работ было написание декораций для придворных театров Петербурга, городского и придворного театров Москвы. Каждая постановка требовала участия многих художников, которые вызывались по указанию автора художественного оформления спектакля, чаще всего Д. Валериани. Для постановки очередной оперы „Александр Македонский“, которая осуществлялась на петербургской сцене, а затем повторялась в московском Оперном доме, отзываются многие занятые на дворцовых росписях художники, а также специально вывезенные из Москвы вольные живописцы. Но ни в одном из списков тех лет не проходит имя Левицкого. Если бы портретист действительно занимался у Д. Валериани или каким-то иным образом оказался связанным с ним, декоратор не преминул бы его использовать на своих работах. Тем не менее он никогда не „заказывает“ Левицкого.
Число возражений и опровержений возрастало. И от всех них к той далекой неразгаданной правде тянулась одна-единственная нить — короткая строчка на обороте 297-го листа 141-й книги, хранящейся по 112-й описи в XIX фонде Государственного исторического архива Ленинградской области. Эта строчка неопровержимо свидетельствовала, что в 1758 году Дмитрий Левицкий, двадцати трех лет от роду, исповедовался в петербургской церкви Рождества на Песках с учениками и домочадцами живописного мастера Алексея Антропова. А дальше? Исповедные росписи Рождественской, да и всех остальных петербургских церквей хранили молчание. Малороссиянина Дмитрия Левицкого, по-видимому, больше не было в городе. В его жизни начиналась Москва, а вместе с ней — и третья загадка ранних екатерининских лет.
* * *
Петербург. Дом Шувалова. И.И. Бецкой и М.Л. Воронцов.
— Граф Михайла Ларионович! Порадовали, порадовали своим визитом. Признаться должен, никак не ждал вице-канцлера Воронцова, да еще поутру. Располагайтесь, прошу вас.
— Какое ж для меня, чиновничьей души, утро, Иван Иванович! Двенадцатый, поди, час. Вас не обеспокоил ли?
— Всегда вас видеть рад, Михайла Ларионович. Неужто повторять надо: у Шувалова двери для вас всегда настежь, о любой поре. Не прикажете ли чаю или кофею? Может, и чего покрепче с морозца? Рюмочка, она никогда не повредит.
— Благодарствуйте, Иван Иванович, только без дела не осмелился бы вас тревожить.
— Какое ж дело? Никак вчера ввечеру в театре расстались.
— Все верно, да больно меня моя Анна Карловна озаботила. В ложе она с государыней сидела и к такой мысли пришла, не надобно ли государыню развлечь, от мыслей ее черных отвести.
— О чем это вы, граф?
— Не прогневить бы мне вас только ненароком. Подумать можете, не по чину мысли держу. Только я, Иван Иванович, нашу матушку вон с каких лет знаю — десятый годочек цесаревне шел. Все рядом. Все для нее.
— Знаю-знаю, Михайла Ларионович, да беспокойство-то ваше о чем, не пойму.
— Оно, Иван Иванович, хоть и государыня, самодержица Всероссийская, а все женский пол. И то сказать, красавица писаная наша Елизавета Петровна.
— И что же?
— Это нам, мужеску полу, годы нипочем. Известно, никого они не красят, да считать мы их не считаем. А ведь женску полу все страх, все боязно, что краса да молодость уйти могут. Моя Анна Карловна иной раз по полдня у зеркал сидит, огорчается.
— Вот вы о чем. Да нашу государыню годы милуют. Думается, год от года краше становится.
— А я о чем? Лишь бы сама матушка наша в то поверила. Тогда бы за темными занавесями в день не просиживала, на люди бы выходила.
— Сколько ни докладывал государыне, не верит она мне. Иной день с утра, как птичка, вспорхнет, иной…
— Мне Анна Карловна так и сказала: ей, сестрице двоюродной, можно сказать, любимой тоже не верит. А что если, сударь вы мой, пригласить к государыне наизнатнейшего живописца, какого еще в наших краях не бывало. Пусть портреты ее напишет, государыня и удостоверится, на сердце у нее и полегчает.
— Прекрасная мысль, Михайла Ларионович, прекрасная! И кого же вы в виду имели? Есть на примете кто?
— А как же, Иван Иванович! Конечно, есть. Только надобно, чтобы вы рассудили — кто лучше вашего в живописцах-то разберется.
— Заинтриговали вы меня, Михайла Ларионович, ничего не скажешь. Так не томите, говорите.
— Полагаю, что как сердце нашей государыни всегда ко Франции прилежало, не просить ли королевского мастера. Оно и достойно российской государыни, и по мастерству никому из здешних приезжих не уступит.
— Франция? Отлично. Кто там нынче в фаворе из художников? Интересовались?
— На то чтобы интересовался, а так, между делом, посла нашего расспросил.
— И что же, посол в Академию обратился?
— Зачем же, сударь мой, в Академию — посол с маркизом Мериньи конфиденцию имел. Так маркиз ему тут же Луи Токкэ назвал. Сказал и сомневаться нечего.
— Луи Токкэ… Позвольте-позвольте, я его творения помню. Он еще королеву Марию Лещинскую писал, детей королевских. Что ж его теперь, мадам де Помпадур протежирует?
— Так полагаю, что маркиз де Мариньи тогда бы рекомендовать его бы поостерегся. Но от самого короля художник только что высокий пансион получил, что-то ливров 600 на год.
— И этот Токкэ согласен в Россию ехать? В деньгах нуждается?
— То-то и оно, что в деньгах у него нужды нет, и о России ему еще никто не говорил. Я, сударь мой, так рассчитал, будет ваше на него согласие, тогда и разговор поведем, а пока все в вашей воле.
— За осторожность, мой друг, спасибо. Главное, чтоб государыне нового портрета захотелось. Поговорю с ее величеством при случае. Впрочем, если Токкэ этот государыне не покажется, все равно в накладе француз не будет. Заказчиков в Петербурге множество найдет.
— Нет, Иван Иванович, он от короля отпуск получить будет должен. Тут каждый месяц на счету будет. Заказчиков у него и во Франции предостаточно.
* * *
Париж. Приемная маркиза де Мариньи. Де Мариньи, Жюбер, Токкэ.
— Господин маркиз, вы посылали за королевским советником господином Луи Токкэ?
— Да, Жюбер. Но я к тому же просил вас подготовить господина живописца к нашему разговору.
— Я выполнил ваше поручение, Ваше сиятельство, и, надеюсь, успешно.
— Каким образом?
— Что за идея? Причем тут разговор двух дам?
— Ваше сиятельство, я позволю себе ввести вас в некоторые подробности жизни этой семьи.
— Если в этом есть необходимость.
— Судите сами, Ваше сиятельство. Господин королевский советник женился на дочери своего учителя господина Натье.
— И что же? Такой брак среди художников, насколько мне известно, — вещь обычная.
— О да, как у всех ремесленников и артистов. Но мадам Токкэ, а в прошлом мадемуазель Мари-Катрин-Полин Натье, не только намного моложе своего супруга: Токкэ женился пятидесяти с лишним лет. У нее литературные амбиции.
— Вы находите в этом нечто удивительное? Может быть, для любой другой страны, но не для Франции же.
— Без сомнения. Только мадам Токкэ занимается жизнеописанием близких ей художников. Она закончила биографию отца и теперь обратилась к мужу. В результате мэтр очень считается с ее мнением и советами.
— Ах, так. Они недавно женаты?
— Еще нет десяти лет, но он за это время подошел к порогу старости, а она — к расцвету всех своих возможностей.
— Значит, вы были правы в вашем маневре, Жюбер. И что же решила госпожа Токкэ?
— Прежде всего моя супруга сумела ее заинтересовать Россией. Мадам полна нетерпения увидеть русский двор.
— Не хотите же вы сказать, что мэтр собирается ехать в этот Богом забытый край с женой?
— Вот именно, ваше сиятельство. Без мадам мэтр вообще не тронется с места.
— Это ее условие?
— Боже сохрани, его собственное. Но в данном случае мадам согласна на поездку. Весь вопрос в условиях — дешево это русскому двору не обойдется.
— Но русский двор никогда и не боялся расходов.
— Тем лучше, Ваше сиятельство. Вы предупреждены и, с вашего разрешения, я могу пригласить господина Токкэ.
— Да, конечно, просите.
— Господин королевский советник, его сиятельство маркиз де Мариньи ждет вас. Прошу!
— Господин маркиз…
— Умоляю, мэтр, без церемоний! После того как вы подарили мне такой прекрасный мой портрет, вы для меня посланец Аполлона, и это я должен приветствовать вас первым.
— Вы меня смущаете, Ваше сиятельство! Ваша снисходительность и доброта не знают границ.
— Напротив, очень даже знают. Вы составляете исключение, мэтр, но сегодня я принужден вас просить об одолжении, которое одинаково нужно королю, Франции и мне.
— Если это в моих силах, господин маркиз…
— Иначе я не стал бы к вам обращаться, Токкэ. Я знаю, как дорожите вы своим положением во дворце и насколько оно способствует вашим успехам. И тем не менее — российская императрица выразила желание быть изображенной кистью несравненного Токкэ. Она обратилась к нам с просьбой помочь убедить вас принять ее приглашение. И мы присоединяемся к ее просьбе.
— Я бесконечно польщен вниманием русской императрицы, но Петербург…
— Вы хотите сказать, слишком далеко, и вы не верите, что там живут знатоки живописи, достойные вашего таланта?
— Вы читаете мои мысли, Ваша сиятельство.
— Это нетрудно. Но примите во внимание, мэтр, что дорогу в Петербург до вас проделывали десятки, если не сотни ваших французских собратьев по искусству. И все они вполне благополучно возвращались на родину, разбогатевшие и довольные тем почетом, которого они удостаивались при русском дворе. Вас же касается личное приглашение.
— Ваше сиятельство, разрешите, я добавлю к вашим убедительным доводам несколько своих разъяснений, которые очевидны для вас как государственного деятеля, но могли не приходить в голову нашему достопочтенному мэтру.
— Охотно передаю вам слово, Жюбер.
— Господин Токкэ, я просто хочу напомнить, как важны сейчас для нашей с вами Франции добрые отношения с Россией. Франция вступила в войну, и притом на стороне Австрии. Удача не во всем сопутствует нашим войскам. Позиция России приобретает тем большее значение, и вы, мэтр, волей-неволей становитесь посланником доброй воли нашего короля.
— Вы возлагаете слишком большие обязанности на простого художника, господа. Я польщен, но так ли многое я сумею сделать?
— Достаточно многое, господин Токкэ. Поверьте, господин Жюбер не преувеличивает. К тому же он должен еще вам сказать, чего именно ждет от вас русская императрица.
— Полагаю, императорского портрета, Ваше сиятельство.
— Не только. У русской императрицы есть свои странности, мэтр. Она очень красивая женщина.
— Мне довелось видеть ее портреты.
— Постарайтесь выслушать до конца господина Жюбера, мэтр.
— О, простите мне мою бестактность!
— Так вот, мэтр, мне остается повторить: императрица была красивой женщиной, и несмотря на ту огромную власть, которой она облечена, это остается для нее главным. Она хочет нравиться и, как нелепо это ни звучит, она хочет кружить головы.
— Но особы, облеченные в порфиру, продолжают, при желании, кружить головы независимо от возраста. Так мне, по крайней мере, всегда казалось.
— И вы правы, мэтр. Но тщеславие Елизаветы состоит в том, чтобы нравиться без порфиры, и вы должны это иметь в виду. На ваших портретах она должна быть прежде всего ослепительной красавицей, которая бы нравилась самой себе.
— Ее следует просто обманывать: никаких следов возраста, господин Токкэ.
— Насколько же молодой она должна казаться, Ваше сиятельство?
— Все зависит от вашего чувства меры и такта, дорогой Токкэ. Что-то вам может подсказать ее нынешний фаворит господин Шувалов, хотя он слишком дипломатичен, чтобы себя выдать.
— Жюбер, вы забыли главное лицо интриги — вице-канцлера Михаила Воронцова. Думаю, мэтр, его имя вам следует запомнить в первую очередь. И помните, Елизавета настолько боится возраста, что в последнее время перестала появляться на людях при дневном свете. Она предпочитает проводить дни в личных покоях за закрытыми занавесками и показываться лишь при свечах — в придворном театре или придворном маскараде. Ваши портреты должны вернуть ее к жизни. Иначе…
— Иначе, Ваше сиятельство?
— Ее может сменить ее наследник, который безусловно благоволит Пруссии и видит в императоре Фридрихе единственного кумира.
— Ваше сиятельство, я постараюсь не обмануть вашего доверия, но…
— О, у вас есть но, мэтр!
— Я всего лишь обыкновенный человек, Ваше сиятельство, со всеми вытекающими из моего скромного положения и состояния следствия. Благодаря вашему благословенному покровительству, сегодня я могу зарабатывать в Париже, не покидая своей мастерской, до двенадцати тысяч ливров в год. Пускаясь в столь далекое и сопряженное со многими неудобствами путешествие, я должен иметь годовое содержание, увеличенное по крайней мере в два с половиной раза, причем выплаченным вперед. Какая гарантия, что по прошествии года русская императрица расплатится со мной с необходимой аккуратностью?
— Жюбер, мэтр прав: это условие надо поставить перед вице-канцлером. И это все?
— Нет-нет, ваше сиятельство, хотя все остальное — сущие мелочи, о которых тем не менее следует заботиться заблаговременно.
— Что же, говорите, Токкэ.
— К этим пятидесяти тысячам ливров годового содержания следует прибавить бесплатную квартиру в Петербурге со свечами, дровами и каретой. Было бы смешно мне там ее покупать.
— Вы неплохо подготовились к нашему разговору, мэтр.
— О, моя супруга очень предусмотрительна. Она сущий ангел, Ваше сиятельство, во всем, что избавляет меня от лишних хлопот.
— Вы намереваетесь ехать с мадам Токкэ?
— Само собой разумеется, господин Жюбер. Поэтому я прошу обеспечить мне хорошие условия путешествия — один я бы мог довольствоваться малым, но Мари-Катрин…
— У вас больше нет пожеланий, мэтр?
— Последнее — чтобы срок моей поездки был ограничен восемнадцатью месяцами. На больший я не могу согласиться.
— Тем лучше. Ваше пожелание совпадает с волей короля: через полтора года вы должны занять свои комнаты в Лувре.
* * *
Петербург. Дворец А.Г. Разумовского. А.Г. и К.Г. Разумовские.
— Братец, Алексей Григорьевич, наконец-то Бог свидеться привел! Ручку дозвольте.
— Кирила, ты ли? Я уж счет ночам потерял, тебя дожидаючись. Неужто поспешить не мог, аль нарочный замешкался?
— Что вы, батюшка-братец, нарочный за три дни до Глухова доскакал, да и я часу не терял — тут же собрался.
— Может, и так. Знать, мне время без конца показалось. Боялся за тебя, слов нет, как боялся.
— Да вы, братец, расскажите, о чем беспокойство ваше — из письма не все выразуметь мы с Тепловым сумели.
— Ты не выразумел, Григорий Николаевич бы должен. Да что там, Кирила, благодетельница наша, государыня, едва в лучший мир не отошла.
— Захворала чем?
— Хворь ее обычная — в падучей упала, как из церкви в Царском Селе выходить стала. Биться начала — сильно так, дохтур прибежать не успел — затихла. Кабы рядом был, знал, как ей, голубушке нашей, помочь. Где там! Мне к ее императорскому величеству и ходу нет. Одно слово — бывший. На руки, на руки бы ее, голубушку, поднять. У нас на селе каждая баба знала — в падучей от земли оторвать надо, а как же!
— Батюшка-братец, кто ж не знает, как вы ее величеству преданы, да ведь не вам довелось помогать государыне?
— Не мне, Кирила, не мне. А Иван Иванович, что ж, в сторонке стоит, только руки заламывает. Много от того проку будет!
— Чему дивиться! Силой-то ему с вами не меряться.
— Да и любовью тоже. Нешто так любят!
— Батюшка-братец, это уж государынино дело, ее государская воля — нам ли с ней спорить.
— Твоя правда, Кирила. Преданности своей да любви, коли сама Елизавета Петровна расхотела, ей не доказать. Давненько сквозь меня глядеть стала: стена — не стена, а так…
— Это дело прошлое, батюшка-братец, а что же вас теперь-то в опасение ввело?
— Да ты что полагаешь, я о друге твоем сердечном Иване Ивановиче Шувалове зря вспомнил? То-то и оно, что его превосходительство, ученый наш великий об себе думать стал.
— Как о себе?
— И не он один. Царедворцы все заметались, решили, государыне конец пришел. Кто к наследнику кинулся. А кто и того хитрее — к великой княгине.
— К Екатерине Алексеевне?
— К ней, к ней! К кому же еще?
— Да зачем? На троне ей самодержавной императрицей не бывать: и супруг есть, и наследник.
— А вот поди ж ты, канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин тут же ей весточку послал. Мол, так и так, государыне конец приходит, так чтобы вы, ваше высочество, о престоле для себя побеспокоились.
— Не верю! Бестужев-Рюмин?
— Он, он, Кирила, не сомневайся.
— Бестужев-Рюмин, и что бы так просчитался? Куда ж его опаска хваленая подевалась? Теплов мне из письма вычитал, да я в толк не возьму, чего старая бестия заторопилась!
— Куда уж дальше, коли генерал-фельдмаршалу Апраксину самовольно предписал из Польши в Россию возвратиться.
— А Апраксин?
— Что, Апраксин? Воротился. Теперь государыня в великом гневе, да не о нем толк, Кирила, — о тебе.
— Обо мне? С какой стати?
— А с той, что твои амуры с великой княгиней всему двору известны.
— Ну уж, скажете, братец, амуры!
— Ничего, выходит, и не было? Не махались вы с великой княгиней? Записочек друг другу не писывали? Никитка мой конвертиков раздушенных с половины великой княгини сюда не приносил?
— И что тут такого? Великая княгиня наверняка их жгла — кто ж такую корреспонденцию хранить станет?
— Видишь! Видишь! Сам признался про „такую корреспонденцию“! А коли до государыни дойдет, что делать будешь? Ты ей, благодетельнице нашей, всем, что есть, по гроб жизни обязан, а сам другого обжекту не нашел, кроме великой княгини. Знаешь ведь, никогда ее государыня не любила, а после записки канцлера и вовсе в подозрении иметь будет. Оно и выйдет, что граф Разумовский-младший против государыни в пользу невестки ее ненавистной интригует, на престоле великую княгиню видеть хочет.
— Да полноте, братец-батюшка, оттого голова кругом пойдет, что вы себе вообразить можете.
— Коли я могу, то императрица наша Елизавета Петровна и вовсе подумает. Она, друг мой, никогда никому лишней веры не давала.
— Государыня?
— А ты что думал, только и делала, что веселилась да на балах до упаду танцевала? Веселилась, верно. Танцевала ночи напролет, тоже верно. Иной раз занавесы в зале отдернут, на дворе утро, солнышко давно встало, у танцоров сил никаких нет, с лица спали, еле на ногах держатся, а она, матушка наша, только посмеивается. Личико, что маков цвет. Туфельки истоптанные сменит, и опять в пляс пускайся.
— Я о том и говорю, братец.
— О том, да не о том. Пришло время наследника сватать, супругу ему выбирать. Бецкой принцессу Ангель-Цербскую в Петербург привез. Уж и дело сладилось, и препон вроде бы для свадьбы никаких. А государыня Воронцову наказывает за перепиской принцессиной крепко-накрепко следить: нет ли с ее стороны умыслу какого в пользу иной державы. Бывалоча, скажу ее императорскому величеству, мол, кому же еще и верить, а она, матушка наша, как вскинется. Ты, мол, друг нелицемерной, в дипломатии несилен, так и времени на рассуждения твои тратить не стану. Вот ведь как!
— Вижу, братец-батюшка, тяжко вам болезнь государынина далась, а только смысла опасений ваших не вижу.
— Плохо, Кирила, коли разучился сам до всего доходить. Пораскинь умом-то: нельзя тебе более и близко к великой княгине подходить. И ход к ней забудь! Неровен час, государыне что померещится. Тут и до ссылки рукой подать. Да и не хочу я, чтоб от Разумовских некое огорчение ее постигло. Не хочу!
— Братец-батюшка…
— Что? По глазам вижу, спорить собрался. И думать не моги. Пока я тебе за отца, моей воле не перечь. Знаю я, откуда ветер дует. Это все Теплов, нечистая его душа, вам с великой княгиней потакал. Он, нечестивец, и сводил вас. Мне ли не знать! А теперь что еще крутит? Ну, учил он тебя попервоначалу, ну, по заграницам тебя возил, образованием твоим занимался, так когда это было. Что для юнца девятнадцатилетнего в самый раз, то гетману Всея Малороссии не пристало. Гони ты его, Кирила, гони, покуда до беды тебя не довел!
— Братец-батюшка, вы мне и до слова дойти не дозволяете.
— До слова! Опять свое гнуть станешь!
— Известно, свое. Только вы, братец-батюшка, и то в расчет возьмите, что век государыни нам неизвестен: долог ли, короток окажется.
— Дело Божье, известно.
— А коли Божье, не грех и о себе позаботиться.
— Как, позаботиться?
— Да просто. Хоть семейство наше ныне в известном отстранении от дворца пребывает, однако же великий князь зло помнить умеет. Неровен час, на престол вступит…
— Никогда великий князь от меня никакого неглижирования не видел. Напротив, я всегда с великим почтением…
— Это вы так, братец-батюшка, полагаете. Оно так и было, да ведь у его высочества на все свои причуды. Почем знать, как ему прошлое припомнится. Тетушки своей державной…
— И благодетельницы!
— И благодетельницы великий князь и не почитает и не любит. Разве что от крайней нужды перед ней предстает.
— Горько на то смотреть.
— Вот видите, братец-батюшка! Так ему ли былых верных друзей державной тетушки любить. Тут было — не было обид, все ими обернется.
— Твоя правда: добра не жди, хоть, кажется, скорее ему бы против Ивана Ивановича Шувалова недовольство иметь.
— Огорчать вас, братец-батюшка, не хочу, только и утешать тоже не время.
— Что ж тебе на ум пришло?
— А то, что не браните вы меня за великую княгиню. До крайности с ней не дойду, Бог свидетель, а так — для блезиру пусть уж все по-прежнему остается.
— Ой, не сносить тебе головы, Кирила Григорьевич! Ой, не сносить!
— А может, и сносить. Случись что с императрицей, Петру Федоровичу недолго царствовать.
— Да ты что! Что говоришь, бесстрашной!
— Не любит его армия. Офицерам нашим прусские порядки ни к чему.
— И что же?
— Да всякие разговоры в полках идут. Екатерина Алексеевна для каждого доброе слово найдет, каждого офицера по имени-отчеству помнит…
— Так ведь великий князь Петр Федорович наследник законный — родной внук блаженной памяти государя императора Петра Великого! А великая княгиня?
— Полно, полно, братец-батюшка! У великой княгини сынок есть — регентшей до его совершеннолетия стать может. Что ж ее сынок, незаконный?
— Да ведь это как шляхетство рассудит.
— О чем ты говоришь, братец-батюшка! Какое шляхетство? Причем тут оно? Когда ныне счастливо царствующая государыня правительницу Анну Леопольдовну с законным императором Иоанном Антоновичем арестовывать ехала, много ли с ней шляхетства было? Два Воронцовых да музыкант полковой пьяный — не так ли?
— О, Господи! И вспоминать не хочу: так к сердцу и подкатывает, страх какой.
— Страх не страх, а шляхетства не было. К чему же ему и теперь быть?
— Знаешь что-нибудь, наверное, Кирила?
— Ничего не знаю, а умом раскинуть, так оно получается. У Екатерины Алексеевны рука верная. Слезы да страха от нее еще никто не дождался.
— Хватит, хватит, Кирила Григорьевич, и так тошно. В Глухове-то у тебя как? Все строишься?
— Увидишь, Алексей Григорьевич, удивишься. Росписи больно в покоях хороши получились. Художник местный преотличный нашелся. Сын Григория Левицкого. Сюда его с собой захватил — подучиться модному манеру.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом А.П. Антропова. Антропов и Левицкий.
— Рад, душевно рад, Дмитрий Григорьевич, что в Петербург собрался. При твоем таланте что в Маячке, что в Киеве сидеть тебе ни к чему. Как до столицы-то добирался?
— Преотлично, Алексей Петрович. Господин Теплов место мне в обозе его превосходительства графа Кирилы Григорьевича Разумовского устроил. Как на крыльях летели. На всех станциях подстава — граф из кареты не выходил, торопился очень.
— Вот и слава Богу — трат меньше. Ты тут, батюшка, за денежками-то следи: в Петербурге они, как вода, текут. У меня лучше спроси, как да что. Устроиться-то где решил? Не у графа ли?
— Нет, Алексей Петрович, мог бы, да не хочу — в крепостные попадешь. Благодарность-то кабалой на всю жизнь обернется.
— Умница, батюшка, хвалю. Художнику свобода нужна. Много-то и ее и так художнику не дано — там заказчика сыщи, там его ублажи, там деньги с него получи. Иной раз на работу часу не хватает, а все лучше, чем в ярме.
— Мне и батюшка так говорил: не пошел он справщиком в типографию, что в Киево-Печерской лавре. Заказы берет, а чтобы в штат — ни-ни.
— Достойнейший человек Григорий Кириллыч, и дело свое в совершенстве знает. Как здоровьечко-то его?
— Да вот на глаза жаловаться стал — болят. Слеза замучила. Надолго, боится, его не хватит. Оттого и меня отослал, чтоб гравированием заниматься всерьез не стал.
— Что тут скажешь? Родителю нельзя о детях своих не печься. Только и вы, помнится, не слишком к гравированию прилежали?
— Ваша правда. Я цвет люблю.
— И как же теперь жизнь свою устраивать собираетесь? Не в Академию ли художеств поступать собрались? Мода теперь такая. Ежели граф Разумовский перед другом своим президентом Шуваловым похлопочет, то и сложности никакой не будет. Обождать малость придется, да ведь сенатский приказ об учреждении сего новомодного заведения уже есть.
— А вы сами что присоветуете, Алексей Петрович?
— Что же мне советовать — это как у кого сердце лежит. Сами приглядитесь. Человек вы молодой, к книгам душой прилежите, вот и разберитесь, что вам надобно.
— Вижу, Алексей Петрович, сомнение имеете?
— Как, батюшка, не иметь. Дело новое, невиданное.
— Так ведь сами рассказывали, при Академии наук гридоровальный департамент есть, граверов там образовывают. Поди, и здесь так же будет.
— Не так же, батюшка мой, не так же. В гридоровании — не в обиду батюшке вашему будь сказано — что важно? Как в чистописании — чтоб рука твердая была да навычная. Прием чтоб уверенный. Сто раз один и тот же рисунок повторить и чтоб за каждым разом штрих в штрих получалось. Отделка там требуется. Отделка да прием, так-то-с! А у живописца и рисунок другой — под цвет. Все от цвета идет, хотя без приема и здесь не обойтись. И позитуру человеческую выделять надобно, и с материей каждой изловчиться, и краски согласовать, как оно в хоре с голосами бывает. Как тут классом-то целым учить? А они, слыхал, в Академии классами все полагают. Впрочем, пока далее разговоров дело еще не идет.
— А дело любопытное.
— Известно, любопытное. Вот только как на деле получится. Мастер-то он своему ученику все хитрости покажет — и как холст на подрамник натянуть, грунт наложить, рисунок да подмалевок делать. Там уж дальше летай как вздумается, а на крыло он тебя поставит. Ведь вот что дорого! Да что это я? Может, хотите сами почитать прожект-то шуваловский?
— И есть такой?
— Как не быть! Среди художников в списках ходит.
— Чувствительно был бы благодарен, Алексей Петрович.
— Не за что. Вот, держи: „…необходимо должно установить Академию художеств, которой когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великою пользою казенным и партикулярным работам, за которыя иностранныя посредственного знания, получая великия деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного Русского ни в каком художестве, который бы умел что делать. Причина тому, что многие молодые люди, имея великую склонность, а более природное дарование, но не имея знания в иностранных языках, почему бы толкования своего мастера разумели, а еще меньше оснований наук, необходимых к художеству, если правительствующий Сенат так же, как и о учреждении Университета, оное представление принять изволит и сие опробовать, то можно некоторое число взять способных из Университета учеников, которые и уже определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художествам, то ими можно скоро доброе начало и успех видеть… Для чего он действительный камергер и кавалер и оного Университета куратор, надеясь на милостивое уважение сей просьбы правительствующего Сената с одним живописцем Клеро и резчиком Жилетом (оба Французской академии члены) контракт заключит. На содержание учителей и учеников, так и для нанятого дома потребно на первые годы 6000 руб., и если сие правительствующий Сенат опробовать изволит, то еще в конце нынешнего года начало свое взять может“.
— Прочитал? Теперь и думай.
— Чего ж тут думать. У моря погоды не ждут: когда-то все это образуется. Нет, Алексей Петрович, и ждать мне не с руки, да и в университете я не учусь.
— У его сиятельства графа поддержки попроси. Поди, не откажет. Да и Теплов Григорий Николаевич тоже.
— Нет у меня на такую высокую протекцию прав. Да и графу я скорее как мастер нужен — не школяр. Двадцать третий год — не школярский век. А что это за живописец такой — господин Клеро?
— Не слыхал, Дмитрий Григорьевич. На что он тебе?
— Да так. Я лучше к вам в помощники пойду, Алексей Петрович. Примете ли?
* * *
Петербург. Дворец И.И. Шувалова. Шувалов и К.Г. Разумовский.
— Вижу, Иван Иванович, картин в вашем великолепном собрании вновь прибавилось. Уж и так куда, казалось, лучше, ан шуваловская коллекция все новыми перлами пополняется.
— Приходится, Кирила Григорьевич. Вскоре уж вы сими перлами в доме на Итальянской не залюбуетесь.
— Почему же? Новое строительство затеяли?
— Куда мне до вашего Глухова, граф! Да и не охотник я строиться. Иначе решил — коллекцию в новообразуемую императорскую Академию трех знатнейших художеств отдать.
— Всю шуваловскую коллекцию? Поверить трудно!
— Не только живописные полотна, но и рисунки, что мы с вами рассматривали, все до единого. Что им здесь в сундуках пылиться, пусть доброму делу послужат. Без музеума и коллекции академии не завести.
— И тем самым столица первый музеум получит? Не для одних же учеников сокровища сии доступны будут!
— О том еще думать недосуг было. Но так полагаю, по итальянскому образцу, что во всех залах академических должны отличные образцы всех искусств выставлены быть — для развития вкуса. Как ни говорите, мой друг, только нам не одних художников — публику, и ту образовывать надо.
— Верно, государыня новый прожект ваш со всяческою охотою апробировала.
— А вы, друг мой, о событиях наших неужто в Малороссии своей не слыхали?
— С сердечным сокрушением узнал о несчастном случае, с государыней приключившемся. Но, слава тебе Господи, по возвращении своем в столицу застал ее императорское величество в полном здравии.
— Знаю-знаю, Кирила Григорьевич, как искренне вы государыне прилежите, а то у нас тут разброд пошел.
— Не преувеличиваете ли, Иван Иванович? В суматохе интенции человеческие не всегда правильно угадать можно.
— Полноте, Кирила Григорьевич! Не хуже меня наших придворных знаете. Права государыня, что никому веры не дает, разве что Воронцовым. А вот канцлер… Да, впрочем, что я о грустном. Поживете, сами разберетесь. Тому только радуюсь, что одним верным человеком около государыни больше стало, не правда ли?
— Неужто во мне засомневались, Иван Иванович?
— Нет-нет! Просто само сказалось. А вот новость вам прелюбопытную расскажу. Баталии-то вокруг ее императорского величества по поводу живописи не утихают. Вообразите себе, вице-канцлер, не иначе по совету Анны Карловны, удумал портретиста от французского двора выписать.
— Михайла Ларионович? Воронцов? Живописца?
— Вот в том-то и забава. Чтобы государыню от мыслей тяжелых отвлечь.
— И кого же господин вице-канцлер выбрал? Вкусом его интересуюсь. За сколько лет в первый раз к музам обратился!
— Сколько мне известно стало, без ведома канцлера с маркизом де Мариньи снесся, а тот ему порекомендовал.
— Да не томите же, Иван Иванович!
— Королевского советника Луи Токкэ.
— Об этом осведомлен. Отличный живописец.
— Спору нет, только и канцлер в долгу не остался. Немедля из Саксонии графа Ротари пригласил. Как там с Токкэ будет, кто знает. Вот уже два портрета ее императорского величества набросал, а государыне показать нечего: не потрафил. Я ему совет дал еще поработать.
— Портреты графа Ротари я видел во множестве. Он едва ли не всю Европу объездил. Веронец, помнится.
— Как вы все запоминаете, Кирила Григорьевич! Преотличнейшая у вас память.
— Мудреного мало. Сколько титулованных особ живописью на хлеб себе зарабатывают? Да и манера у графа Ротария особливая. Будто и возраста у его моделей нет: все молоды, все собой хороши. Так, значит, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин о нем хлопотал? Полагаю, опять наш канцлер будет в выигрыше.
— То-то и оно, что хлопотал явно его братец, граф Михайла Петрович. Мне вице-канцлер и письмо его оставил: в случае надобности государыне показать. Полюбопытствуйте.
„Со вчерашнею почтою получил я ответное письмо на мое от графа Ротари из Дрездена, которое при сем до вашего сиятельства прилагаю; из оного изволите усмотреть, как он охотно и с радостию к нам едит, ежели б его не удерживали всю королевскую фамилию малевать, яко и два табло в Королевскую галерею, которое он взялся изготовить и надеется в три или по долгому времени в четыре месяца окончать и потом с охотою сюда поедит. Не изволите ваше сиятельство как оригинальное ко мне, так и перевод с него учинить повелеть и к его превосходительству Ивану Ивановичу послать, дабы он ее императорскому величеству донес. Для высочайшего любопытства немедленно прислать в натуральной величине портрет славного карла Короля Польского Станислава. А ежели Вашему сиятельству готового портрета, который бы при том сходствовал, смекать не удастся, то извольте чрез пристойный оттуда в Марте или в Апреле выехал. Тогда длинные дни настанут, то он с успехом работу свою производить может. Жена моя пишет ко мне, что у нее был и также объявил, что он в своем письме упоминает и ежели бы он такого обязательства с королем не учинил, то бы тотчас на почту сел и сюда поехал“.
— А ваши симпатии на чью сторону склоняются, Иван Иванович? В сей баталии дипломатической вам одному судьей художественным быть придется.
— Пожалели бы вы своего друга, Кирила Григорьевич, — как-никак мне первому испытанию сему подвергаться. С меня первого претенденты портрет списывать будут, а уж там государыне представляться — как ее величество рассудит. Никак задумались о чем, граф?
— Простите великодушно, Иван Иванович. Подумалось как-то — сколько их у нас в столице сейчас, мастеров и французских, и итальянских?
— Сосчитать не труд.
— И никому вы роли в академии вашей будущей места не отвели?
— Кого же вы на мысли имеете, Кирила Григорьевич? Из французов у нас один Каравакк был да и тот уж три года как преставился. Его, сколько помню, еще господин Лефорт едва ли не сразу после Прутского похода на российскую службу пригласил. Мастер на все руки — все брался писать: и картины исторические, и аллегории, и баталии, и пейзажи, и цветы, и зверей. За миниатюрную живопись, и то брался. Может, в те времена и хорош был.
— На безрыбье и рак рыба.
— А на безлюдье и Фома дворянин. Хотя портреты в Бозе почившей императрицы Анны Иоанновны хорошо писал.
— Сам от государыни нашей слышал, как Каравакк сестрице ее двоюродной по сердцу пришелся. Впрочем, и самое государыню в пренежнейшем возрасте, вместе с сестрицею цесаревною Анною Петровной, отлично изобразил.
— Полноте, Кирила Григорьевич! Живопись сия тяжеловесная, грубая, краски мрачные да и весь манер для наших лет немоден. С такими полотнами перед другими европейскими дворами не предстанешь.
— Ваша правда, Иван Иванович. Пожалуй, кроме Каравакка из французов никого и не назвать.
— Разве что вам на ум Жувенет придет.
— Жувенет? Не помню такого.
— Да и что помнить. Государь Петр Алексеевич самолично сего мастера пригласил. Он еще презабавный портрет мужика написал, с палкой, а по тулупу таракан ползет.
— Таракан как живой!
— Вот-вот. Так что о французах и речи у нас быть не могло. Итальянцы, правда, были, так ведь только мастера по театру.
— Да уж, мастерство господина Валериания и по сей день в удивление приводит. Во многом опера наша своим успехом ему обязана.
— Мы с вами, Кирила Григорьевич, сами свидетели, когда государыня наша первый машкерад в 745-м году устраивала, Валериания и как живописца, и как балетмейстера, и как стихотворца к сему делу приставила.
— Куда до него Перезинотти, хоть тоже на нашем театре подвизается и не один год.
— В манере Юбера Робера пишет, однако много сего отменного мастера хуже.
— Краски тяжелы и черны, я так полагаю.
— Вот мы с вами, Кирила Григорьевич, всех мастеров петербургских и сочли. О немцах не говорю. Школы их не люблю и по образцу немецкому академии российской себе не мыслю. К тому же Валерианий уже несколько лет в рисовальных классах вашей же Академии наук учеников обучает. Граверы преотличные выходят, а живописцы…
— Академии де сианс живописцы не нужны.
— Не спорю, не спорю. Я это к тому, что педагогов все равно выписывать надо. Учиться живописи картинной у нас не у кого. Самая пора академию открывать.
* * *
Петербург. Дом Г.Н. Теплова. Теплов и Левицкий.
— Дмитрий Григорьевич! Совсем, батюшка, дорогу к тепловскому дому забыл. Так быстро с Петербургом освоился, дела свои устроил?
— Как можно, Григорий Николаевич. Заходил к вам, и не один раз, — дома не заставал.
— Что ж швейцару не сказался?
— Невелика птица, думал — в другой раз ваше благородие застану.
— А зря, голубчик, зря. Никогда такого впредь не делай. Тут и подумать можно, что заспесивился, при случае слово какое не то нужному человеку сказать. Ты уж себя аккуратней держи. Об уважении думай. Да и не так об уважении, как о свидетельстве. Может, и не принял бы я тебя сразу — это уж мое дело, а порядок бы ты соблюл, и я бы тебя соответственно обдумать да рекомендовать мог.
— Простите великодушно, Григорий Николаевич, в мыслях никакой гордости не имел. О вашем спокойствии думал.
— Ну, ладно, чего уж. На другой раз узелок на память завяжи. Так где ж ты подевался?
— Как вы рекомендовали, у Алексея Петровича Антропова.
— Жилье у него снял, и как?
— В помощники пошел. Заказов у Алексея Петровича уйма, а ученики еще сноровки не имеют, так он с радостью, думается, меня принял.
— Еще бы не с радостью! Только тебе учиться у него нечему. Ты себя, Дмитрий Григорьевич, обязательствами никакими договорами не связывай. Сегодня работаешь, квартиру, стол имеешь, а завтра дверь-то притворил и был таков.
— Как бы Алексей Петрович рассчитывать на меня не стал.
— Ну и что, коли станет? Жил без тебя, перебивался и дальше перебьется. А ты ищи, братец, ищи своего пути. Учиться тебе у иноземных новомодных мастеров следует, вот что.
— Спросить вас, Григорий Николаевич, хотел, что за мастер такой французской Клеро? Работу бы мне его повидать.
— Клеро, говоришь… Понял, все понял. Это ты прожектов Ивана Ивановича начитался. Помню, про имя такое и государыня императрица спрашивала. Да не приезжал он еще в Россию-то. Манеру его поглядеть решил? Так это его превосходительство для целей академических измыслил. Тебе же с прожектами его возиться ни к чему — время только потеряешь.
— Вот и я о годах своих думаю.
— И правильно делаешь. Школяров Иван Иванович и без тебя наберет. Ничего своей персоной людей тешить.
— А как вы, Григорий Николаевич, сами живописи учились? Преотличный портрет графа Кирилы Григорьевича написали. Иному иностранцу с вами не потягаться.
— Я-то? Что тебе сказать, посчастливилось мне, братец, куда как посчастливилось. При моем простонародном происхождении на меня сам преосвященный Феофан Прокопович милостивое внимание свое обратил. В свою школу взял. Так она и называлась — Карповская, что на речке Карповке здесь в Петербурге стояла. Преосвященный просвященнейшим человеком был, так и школу задумал. Тут тебе и римские древности, и история общая, и риторика, и логика, языки древние и новые. А уж особо преосвященный об искусствах думал. Учителя преотличнейшие что по рисованию, что по живописи. Музыку преподавали, пение всяческое, и духовное, и светское. На театре все ученики представлять были должны. Еще забыл — география была, науки математические. Это все в зависимости от способностей. У кого из учеников к чему склонность.
— Вы живописью и занялись?
— Да нет, веришь, братец, никаких особых талантов живописных у меня и не бывало. С языками куда лучше получалось. Вот и после школы меня в Академию наук переводчиком зачислили. Другие инженерным делом занялись, медициной. А были и такие, что на одних художествах остановились. Их в Канцелярию от строений и в Инженерный корпус, в чертежную отправляли. В свидетельствах так и написано было: понеже они, кроме того художества, иных никаких наук не обучались.
— Так неужто вы тогда же художество и забросили? К краскам да холсту вас не тянуло?
— Как не тянуть — тянуло. Да и Канцелярия от строений забывать сие мастерство не позволяла. Чуть работ живописных во дворцах поболе, так нас всех со своих мест и называли. Что я, переводчик, Мартын Шеин вон дело хирургическое превзошел, а что поделаешь, вместе со мной в 740-м году Новый Зимний дом расписывал.
— А портретами? Портретами вы в школе не занимались?
— Нет, уж это кто как у других мастеров подсмотрит, до чего сам своим умом да сметкой дойдет. О приемах разных это и я тебе рассказать могу. Вот, к примеру, как кисти для работы определять?
— Чтоб на конце не растрепалась, это каждый художник знает.
— А вот и нет, батюшка мой, вот и нет. Кистей-то три вида для работы иметь надобно: щетинные, хорьковые да беличьи. Щетинными вся работа ведется, сам знаешь, от прокладки до отделки.
— И новую кисть до работы непременно припалить надобно для мягкости.
— Верно. А вот с хорьковой — без нее отделки не сделать — прием иной. Волос намочить да закрутить надобно, когда волосы не разделятся, в один острый конец совьются, та кисть в дело и годится. А беличьи и того нежнее — ими краски сбивать да стушевывать требуется. Или, скажем, овощ какой в натюрморте положить. Тут на все свой способ. Не узнаешь, семь потов с тебя сойдет, покуда эффекту добьешься, а то и вовсе рукой махнешь.
— Поведайте, Григорий Николаевич, куда как любопытно!
— Известно, любопытно. Вот редьку простую возьми — ее подмалевывать белилами с зеленой надо, а прописывать самой что ни на есть жидко разведенной синей. В цвете повысить захочешь, бери белила и мешай с желтой. А для ботвы иное. Подмалевывать ее темно-зеленой краской голубого тона надо в смеси со светлой зеленой. Письмо же вести — темно-зеленой с самой малой примесью темно-синей, лишь бы тон ее глубокий был. А в цвете повысить только желтой можно. Ты до всего и без советов дойдешь, а с советом скорее, да и силы сбережешь общее решить. Может, и свое что придумаешь. От тебя другие мастера научатся.
— Вот я и думаю, Григорий Николаевич, около живого мастера в работе постоять. Во всем самому разобраться. От книжек, по моему разумению, тут толку не будет.
— Твоя правда. Художнику глаз более ума говорит, а коль мало говорит, значит, и мастера из тебя не будет. Насчет же мастера думал я и так полагаю, не обратиться ли тебе к господину королевскому советнику Токкэ.
— Да я слыхал, учеников он не берет.
— Не берет. И в договоре у него такого нету. Поди, своих помощников привез или как иначе обходится. Зачем ему в шестьдесят-то лет с учениками возиться. Маета одна.
— Так что же делать?
— А то, что надобно будет Кириле Григорьевичу с вице-канцлером графом Михайлой Ларионычем Воронцовым потолковать. Тот сам королевского советника приглашал, ему и лестно будет, коли граф походатайствовать придет тебя в помощники или как еще к нему взять. Воронцов скажет, господин королевский советник от отказа поостережется.
— Да ведь насильно мил не будешь.
— А ум это, братец, твоя печаль, чтобы господин Таккэ с первого же разу с тобой не расстался. Впрочем, ты никак французскому диалекту обучен?
— Сколько от вас, Григорий Николаевич, перенял.
— Вот и ладно. Скорей оговоришься.
* * *
Петербург. Дворец А.Г. Разумовского. А.Г. и К.Г. Разумовские.
— Какие перемены, братец-батюшка, какие перемены! Иной раз страх берет.
— О чем ты, Кирила? Случилось что?
— Как же не случилось! Нет более великого канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина — есть великий канцлер граф Михайла Ларионович Воронцов.
— Вот те на! И с чего бы? Разгневалась императрица-матушка на старого лиса?
— А как не разгневаться — все наружу вышло: и то, что самовольно армией Российской в Польше распорядился, фельдмаршала в столицу вызвал, и то, что с великой княгиней снестись поспешил.
— Ну, с армией-то и помириться можно, а вот великая княгиня давненько нашей матушке как кость в горле, и на поди — сам канцлер с ней связался, руку ее держать стал. Никогда я Бестужеву-Рюмину не верил, да с ее императорским высочеством не сговоришь. Всему поверила, что ей старый лицемер наплел и про правительницу, и про все семейство Брауншвейгское.
— Братец-батюшка, то дело прошлое, ин и Бог с ним. Вы послушайте лучше, во что теперь Алексею Петровичу его козни обошлись.
— Должность такую потерять — одного такого хватит.
— Ан не хватит! Ее императорское величество в государственной измене Бестужева-Рюмина обвинила, судить велела.
— Судить?
— То-то и оно. И уж приговор готов. Господа сенаторы минуты не думали.
— Не на то их государыня держит, чтобы думать, разве что желания свои угадывать.
— Значит, угадали: смертная казнь путем четвертования с конфискацией всех владений отеческих и благоприобретенных.
— Это в который же раз графу-то везет? При правительстве Анны Леопольдовны он до такого же приговора дослужился. Спасибо государыня наша на престол отеческий взошла, грехи его простила. Только правительница по неизреченной милости своей смертную казнь ссылкой с конфискацией заменила.
— И нынче то же: жизнь сохранить и в сельцо Горетовку, данное ему на пропитание, до гробовой доски сослать.
— Ох, Кирила Григорьевич, кто первый до гробовой доски дойдет, никому неизвестно. Только так полагаю, наш оборотень и тем разом увернется, вновь в Петербурге при дворе заявится.
— Да лет-то ему, братец-батюшка, многовато, чтобы маневрами сложными заниматься.
— А ты за него не бойся. Сколько же это ему будет — никак шестьдесят пять, а гляди, каким красавцем его господин королевский советник Токкэ представил. Одет по последней моде, на устах ухмылочка, бумаги у стола перебирает. Мол, вот она, моя сила-то.
— Зато теперь нового канцлера принялся писать.
— Шутишь?
— Какие шутки! Графиню Анну Карловну он ранее изобразил. Теперь супруга к ней присовокупил. Кстати, и метреску великого князя изобразил, Елизавету Романовну. Преотличнейший, признать должен, портрет. Графиня Воронцова по пояс в легкой тунике энтик представлена, со стрелой в руке, а за плечиком колчан полный. Мол, берегитесь, господа, не один великий князь жертвою моей пасть может. На голове наколочка из цветочков, а короной маленькой глядится.
— С намеком, выходит.
— Да уж какие намеки. Великий князь по простоте душевной за застольем чувств своих к „Романовне“ не скрывает. Из-за стола встает, руку графине подает, как супруге законной. А портрет отличный. Не захочешь, в такую Диану против собственной воли влюбишься.
— И сходство есть?
— Со сходством хуже. Да и как при подлинном сходстве к сей даме можно нежными чувствами воспылать. В том-то и дело, что узнать как бы и можно, и другой человек совсем. А Никиту Акинфовича Демидова в каком роскошном виде представил — маркиз французский, да и только. Кафтан золотым шитьем залит — так и переливается. Жабо тончайшее, равно манжеты кружевные — хоть потрогай. Руки — белые, тонкие, пальцы длинные. Любой красавице впору. Да к тому же взгляд задумчивый, строгий. Я у него увидел — залюбовался. Теперь, думаю, и мне пора свой портрет заказать.
— Экой ты, Кирила, тщеславный. На что тебе перед живописцами красоваться, да с Демидовым тягаться.
— А чем с Никитой Демидовым тягаться плохо? Прокофий, тот и впрямь своими чудачествами да юродствами на весь свет ославился. Никогда не знаешь, какую еще шутку выкинет.
— Да у него смолоду так, а вот когда покойный их батюшка, Акинфий Никитич, преставился — вскоре после восшествия не престол нашей государыни то случилось — по завещанию все богатства их несметные Никите должны были перейти. Прокофий государыне в ноги кинулся, а ее императорское величество рассудила завещание, как несправедливое, забвению предать, а все имущество поровну поделить. Как сейчас помню, по тому разделу достались Прокофию Акитнфиевичу четыре завода уральских, крепостных душ десять тысяч, сел да деревень более десятка, а про дома московские и петербургские разговоров не шло — не до них было.
— А делил-то Демидовых кто? Не государыня же сама?
— Как можно! Генерал-фельдмаршал Бутурлин на такое дело назначен был, так они его жалобами да домогательствами своими вконец замучили — жаловался мне.
— Было из-за чего! А портрет я господину Токкэ, не откладывая, и закажу. Пусть меня в гетманском обличии представит. У Никиты Акинфиевича вкус преотменный. Если уж на художника глаз положил, значит, того стоит. Да, и чуть не забыл. Знаете, братец-батюшка, кто в помощниках у француза состоит?
— Как, в помощниках?
— А так, не столько помогает, сколько к делу присматривается — шляхтич из Маячки Дмитрий Левицкий. Большие надежды подает, как Иван Иванович Шувалов полагает.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом А.П. Антропова. Антропов и Левицкий.
— Что это, Алексей Петрович, никак вы за копирование принялись? Оригинал-то, как посмотрю, Ротариев.
— Так оно и есть, братец. Господин канцлер пожелал портрет супруги ихней скопировать. У графа Ротария дорогонько выйдет, да и неловко знаменитость о такой малости просить, мне же все равно прибыток.
— Верьте не верьте, Алексей Петрович, мне ваши портреты куда более по душе. Хоть бы взять последний, что изволили писать, никак княгини Трубецкой.
— На добром слове спасибо, а поверить тебе, Дмитрий Григорьич, трудно. У Ротария куда ловчее выходит. Кисть-то полегше ходит, краски потоньше.
— Да не прием дорог, Алексей Петрович, а что разность у вас между людьми. У каждого характер свой выходит. Вот я княгиню вашу только на холсте видел, а в жизни, в Сианс академии встретил — сразу признал. Даже, кажется, голос ее от портрета слышал. Жеманится, слова без ужимки не скажет, а глаза так и буравят, так и буравят.
— Характер, говоришь. А может, характеру-то как раз и не нужно. Тягость от него одна — и от возраста не уйдешь, и мысли разные неприятные в складках лица, не дай Бог, прочтешь. Может, у твоего господина Таккэ и слава оттуда, что все себя легкими да красивыми видят. Как в добром сне. Иначе — чего на портретиста тратиться.
— Нет, всенепременно сущность натуры человеческой угадана быть должна. Не зря же Господь Бог всех на одно лицо делать не стал. Одно дело хочется, другое — правда. Вот только правды этой художники французские и впрямь не жалуют. Все хожу работы их, где удастся, смотреть.
— Да уж, понаехало господ живописцев, хоть пруд пруди. Я-то имена одни слышу. Где уж посмотреть!
— Помните, я вас про живописца Клеро спрашивал?
— А, насчет шуваловской Академии любопытствовал.
— Так и есть. Академия открылась, а господина Клеро нет как нет. Видно, не захотел в Россию тащиться.
— Полно тебе, любой потащится: за эдакими-то деньгами. Это нам с тобой, российским, до скончания веку копейки считать, а им куда как вольготно в землях наших. Едут по первому зову — не задумываются. Да вот хоть бы господин Ле Лоррен.
— Вот его-то его превосходительство Иван Иванович Шувалов вместо Клеро и пригласил. А насчет дороги к нам, то вот вам, Алексей Петрович, и пример. Очень господин президент о нем хлопотал, чтоб прямо из дворцов Людовика XV да в Петербург. А по дороге с ним возьми и несчастие случись: корабль, на котором господин Ле Лоррен плыл, англичане до нитки ограбили. Со всеми и его пожитки пропали. Ни рисунков, ни моделей, ни инструментов никаких не оставили.
— Да на что им? Поди, разглядев, все и выкинули.
— Может, выкинули, может, и покупателя нашли. Ведь у господина Ле Лоррена все самое лучшее, самое дорогое. Господин Шувалов даже, сказывали, великому канцлеру о том писал, помощи дипломатической просил.
— Какая уж тут от вора помощь? Сам, поди, раскошелиться да помочь не захотел?
— Сам? Да нет, ничего такого не слыхал.
— И никогда, Дмитрий Григорьевич, не услышишь. Это на словах все благотворят, а на деле копейки от меценатов наших не дождешься, в прихожих поседеешь, ожидаючи, спину сгорбатишь, кланяючись.
— Огорчил я вас разговором своим, Алексей Петрович. Вон как вы разволновались.
— Потому и разволновался, что в Канцелярии от строений бедолаг-то наших собратьев что не мера вижу. Кому иной раз возможность представится, повезет, другой сгинет не за понюх табаку. Ведь человеку не столько академии открывать надо, сколько в трудную минуту алтын сунуть. Дальше-то он и сам справится, сам в силу войдет. Лишь бы минуту эту горькую да надсадную не упустить.
— Оттого у вас всегда с черного хода посетители? Да никак часто одни и те же лица мелькают. Что ж, на содержании вашем живут?
— Никогда так не говори, Дмитрий Григорьевич, никогда! Бог даст разживешься, собственным домком обзаведешься, семейством, не жалей милостыни. Никто тебя за нее благодарить не станет — и не жди. Для себя добро делай. Свое сердце успокой, что помог кому хлеба кусок купить, кому красочками разжиться, при деле каком пристроиться. Сердце-то у тебя доброе — в Киеве еще приметил, так не дай ему зачерстветь да озлобиться. В нашей жизни оно, знаешь, как легко!
— Алексей Петрович, голубчик, да успокойтесь вы, Бога ради. Знаю я, как оно между художниками делается. Нужен — в глаза тебе глядит, не нужен — на улице мимо идет, будто век незнаком. Не по себе — по батюшке знаю. Скольких он учил, скольким помогал. Дело-то его многотрудное, а только уехал я, никого у него не осталось. Так, мальчишка на побегушках, да и тот без денег не удержится.
— А ты послушай, послушай, Дмитрий Григорьевич, вот хоть бы с Василием Андреевым. Сам знаешь, по контракту от Канцелярии от строений я его сейчас взял. Ровесник он тебе. Царскосельскую школу кончил. Там его и грамоте, и арифметике, и истории, и географии учили. Рисунку тоже. В восемнадцать лет Канцелярия от строений его по контракту к вольному живописцу Федоту Колокольникову отдала. Еще семь лет прошло. Теперь Колокольников, упокой Господи его душу, хороший человек был, преставился. Андреева поначалу сам мастер Вишняков к себе забрал, думал, поди, месячишко-другой поучит, а там и аттестует. Не вышло. Ко мне обратились. А я что — раньше чем через пять лет его не выпущу. Вот ему уже тридцать-то и набежит. И талант есть, уж верь мне, а благодетелей не видать. А сколько их таких, как он. Спасибо, на тебя персоны высокие глаз положили. Ты уж их крепко держись. Гонору-то своего шляхетского поубавь, коли в нашем мастерстве работать решил. Я тебе, братец, дурного не присоветую. Я ведь тебя на двадцать лет старше. Всякого повидал да на себе испытал. Не обижайся ты на меня, Дмитрий Григорьич, а про французов все ж расскажи.
— Что вы, что вы, Алексей Петрович, батюшка, какая обида. Для меня советам вашим цены нет. На родине батюшку послушать можно было, а здесь один, как палец. Кабы не вы да Елена Васильевна, и головы преклонить здесь негде. А за вами, как за каменной стеной.
— Вот и хорошо, вот и славно, а теперь про французов.
— О Ле Лоррене толковали. Так вот он после ограбления того морского так в силу и не пришел. Недолго в Петербурге пожил.
— Год, никак?
— Вроде того. Недавно ведь его хоронили. А мастер славный был. В Академии художеств сейчас его три плафона — „Игры амуров“ висят. Да еще, сказывали, портрет графини Воронцовой с посохом написал.
— Метрески-то наследниковой? „Романовны“?
— Не скажу, не видел. Зато портрет государыни императрицы удовольствие имел полюбоваться.
— В красках?
— Нет, тушью. Для медалей и рублевых монет. Работа тончайшая. У батюшки в лавре насмотреться всякого пришлось. А Ле Лоррен с помощником приехал.
— Как же, слыхал — мальчишка совсем.
— Потому, господин Теплов сказал, Иван Иванович Шувалов его в преподавателях и не оставил. А взял Де Велли.
— Так он уж не первый год в землях наших пребывает. Портреты писал. Мне чуть не досталось копию с персоны ее императорского величества делать. В толк не возьму, парным его, что ли, к персоне императрицы покойной Анны Иоанновны сделать хотели.
— Парный? А от господина Теплова слышать мне доводилось, что царствующая государыня…
— Сестрицы своей двоюродной не любила. Так то в жизни, а для государственного распорядку — дело иное. Да и нет более сестрицы, чего же теперь на персоне недовольство свое выказывать. Почему я о парном-то портрете сказал. Каравакк покойный государыню Анну Иоанновну в профиль написал. Прическа натуральная. Поворот в профиль, ровно на медаль. Украшений никаких, только по краю выреза глубокого жемчужин несколько самого крупного зерна. Вот и Девеллий так же императрицу Елизавету Петровну посадил, драгоценности в прическе только оставил. А в профиль ее императорское величество никогда себя рисовать не дозволяла.
— Да уж известно, под подбородком складка набежит.
— Вот и не угадал, носиком своим ее императорское величество недовольны бывают. Мол, коротенек, удлинить следует. А как его в профиль удлинять-то станешь. Вот и не потрафил ей будто Девеллий. Однако же персону его кисти в Пажеский корпус передали. Там и висит в рекреационной зале.
— Может, одно к одному пришлось. Де Велли всего год в Академии пробыл. Господин президент его господином Лагрене заменил. С братцем младшим.
— Ну, о них-то весь Петербург наслышан. Не помню, за что, а только кухмистера-немца крепко побили, платье на нем, бедняге, порвали. В долг будто больше не хотел господину профессору кушанье отпускать, расплаты требовал. Из живописи его только большой холст в Академии художеств видел. Мастер! Ничего не скажешь, крепкий мастер.
— Тут и спору нет. Картина преогромная. Фигур множество. Одна муза государыне картину кажет. Другая — прожект архитектурный. Еще одна — историю пишет. Амуры к небу занавесь подымают. Скульптура государя императора Петра Первого стоит. Сочинение прехитростное.
— Вот только государыня прямо с Девеллия списана — в профиль и сходство сомнительное. Персону списать — искусство особое. Не всякому дается.
— Зато, Алексей Петрович, ротариевские портреты день ото дня множатся. У его подъезда, сам видал, вереница целая экипажей. Дамы в каретах дожидаться готовы, пока мастер освободится.
— И государыне императрице куда более по вкусу пришелся, чем господин Токкэ.
— Похоже, что и так.
— Его сиятельство великий канцлер сам изволил сказать, что только четвертый портрет государыне по вкусу пришелся.
— Да и то, думается, по деликатности — чтобы канцлера не обидеть. Графа Ротари и во дворец приглашают. Прибор ему на парадных обедах ставят — куда ж больше.
— Еще тебе, Дмитрий Григорьевич, скажу. Заказчику не потрафить никак невозможно, а вкус свой иметь надобно. Заказчик какой ни на есть высокой в живописи толк знать не обязан. Да и то сказать, мода — она быстро проходит. Она для чужестранцев хороша. Приехали, заказов набрали да и след их простыл, а нам с тобой тут весь век работать. От нас зависит, чтобы всегда в моде оставаться. Так-то, голубчик.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом А.П. Антропова. Левицкий.
Вот и все. Вот он и конец. Нет больше государыни. Преставилась дочь Петра Великого. Который день солома перед дворцом лежала. Известно, не к добру. То ли болела государыня Елизавета Петровна.
То ли давно скончалась — народу не объявляли. Во дворце свой расчет, свои понятия. Только сегодня заупокойный звон над городом поплыл. Значит, свершилось. Да что звон! По городу карета великого князя со свитой мелькать начала. Чего ему скрывать, что наконец-то своего часу дождался. Лошади вскачь летят. Форейторы от крику хрипнут. Веселье одно!
В антроповском доме все притихли. Хоть и далеки от дворца, а известно, щепки далеко лететь будут. Алексей Петрович в мастерской сколько холстов отставил: теперь за ними заказчик не придет. Покойную императрицу никто в доме не повесит, да и те, что при покойнице состояли, о портретах и думать забудут. В который раз оно так. Мальчонкой Алексей Петрович помнил, как самого государя императора Петра Великого в последний путь провожали. Сколько недель тело в соборе Петропавловском, в крепости стояло. Государыня Екатерина Алексеевна каждый день слезы проливать туда ходила. Сходит, положенное время отстоит и за застолье. С любимцами хорониться не стала. Ровно знала, короткий ей век на престоле отпущен. С ней самой куда как быстро управились. Александр Данилович Меншиков со свадьбой императора Петра II торопился. Мочи нет, хотел дочку на престоле императрицей Всероссийской увидеть.
Художники только за дело принялись — молодых писать, ан государыня-невеста уже сменилась. Марию Александровну, меншиковскую дочку, с папашей в Березов, в жестокую ссылку, а Екатерину Алексеевну Долгорукову — во дворец. И снова как ни торопились, на тот раз жениха не стало — от простудной горячки в одночасье сгорел. Портреты так в кладовых Канцелярии от строений лежать и остались. До частных заказов дело не дошло, а в казенной работе отчитываться пришлось.
Молодого государя также в одночасье и схоронили, чтобы государыне Анне Иоанновне восшествия на престол не задержать. Известно, покойный самодержец — одна обуза. Зато Анна Иоанновна целых десять лет процарствовала. Портреты свои любила, многократно повторять велела. Смолоду красавица была, ничего не скажешь, а уж с годами… Да кого время красит? Государыне оно и вовсе снисхождения не дало. Все персоны по первым образцам писались, чтоб ничего не менять, какой перемены по ошибке не приметить. Хотела было государыня наследников своих изобразить, как свадьбу их объявила. Мол, быть наследником престола сыну племянницы ее принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны да герцога Антона Брауншвейгского. Да с мысли, видно, сбилась. Свадьбу быстро сыграли, а портреты недописанные — в кладовые. И счистить нельзя — что холсту-то пропадать! — и истребить — тем более.
Ну, а как государыня скончалась, принцесса Анна все ее из дворца вынести боялась. Так и арестовали ее с семейством — гроб в соседней зале стоял. Быстро все так. Поди, одни художники и замечали. По работе. За такую, что недоделана, платы не полагалось.
Дмитрию Григорьевичу рассказал, а он о бренности земной славы рассуждать стал. Книг больно много читать стал. Вечерами до ночи засиживается. И то сказать, у него свои огорчения. На графа Разумовского Кирилу Григорьевича надежду имел, ан графа под арест. То ли не потрафил новому императору, то ли тот в чем гетмана заподозрил. Сказывали, будто то во зло ему поставил, что ко гробу императрицы несколько раз приходил, со свечкой стоял. Сам государь около тетки и думать не думает бывать. Сказывали, если когда и войдет, так с „Романовной“ да другими дамами придворными. Постоят минуту, пошутят да и со смехом прочь пойдут. Выходит, никого около покойницы нет. Некому в последний путь проводить. Воронцовы, известно, опасятся, а Шувалов Иван Иванович как пожитки собрал, апартаменты свои во дворце после кончины государыниной освободил, так к покойнице ни ногой. На кого теперь Дмитрию Григорьевичу полагаться?
Господин президент и думать о своей Академии трех знатнейших художеств перестал. Графа Разумовского хоть через несколько дней и выпустили, да ни за кого он теперь ходатайствовать не станет. Где там! Вот и выходит: наверху аукнется, внизу откликнется. Одна надежда — заказа бы на коронационные торжества не упустить. Разве что Воронцовы помогут. Так ли, иначе ли, а „Романовна“, без пяти минут императрица, великому канцлеру родной племянницей приходится.
* * *
Москва. Дом Н.Ю. Трубецкого. Н.Ю. Трубецкой и И.И. Бецкой.
— Рад, душевно рад, племянничек, тебя в Москве видеть. Надолго ли, Иван Иванович?
— С письмом я к вам, дядюшка Никита Юрьевич. От самой государыни нашей Екатерины Алексеевны.
— Государыни, говоришь?
— От ее императорского величества ввиду предполагаемых в Москве коронационных торжеств.
— Да-с, посчитать, так до восьмого монарха в жизни дожил. Сказать, самому не верится.
— Осьмого? Полноте, дядюшка, откуда столько?
— Сам сочти, не поленись. На свет я пришел годом позже, что государь Петр Алексеевич из Великого посольства в западные страны вернулся. Крови-то что, слез кругом было, батюшка сказывал. Как Москва слезами да кровушкой той не захлебнулась.
— Полноте, дядюшка, Петр Великий монархом был справедливым и корабль империи Российской по верному курсу развернул. Иначе никак нельзя было.
— Нельзя? А как с душами невинно убиенных быть?
— Как же невинно, коли против законного императора руку поднять осмелились?
— Законного, говоришь. То-то и оно, что нет такого закона единого, чтобы самую правду утверждал. Петр Алексеевич младшим сынком государя Алексея Михайловича был, да и от второго брака.
— Но для России его ум боле значил.
— Ну, а как ты в уме мальчонки десятилетнего разберешься. По закону-то престол одному Иоанну Алексеевичу надлежал. О младшеньком и речи быть не могло.
— Так ведь была! Само же шляхетство за Нарышкиных встало. Разве не так?
— То-то и оно, что не так. Нарышкины за Нарышкиных и встали. Много их тогда при дворе было. В силу войти не успели, разбогатеть — тоже, а все возле государыни-сестрицы Натальи Кирилловны держались. В нужную минуту свое дело и сделали.
— Какое дело, дядюшка?
— Оно и видно, что ты, Иван Иванович, как в заморских краях родился, так и ума там набрался, обстоятельств российских не ведаешь. Да и не сказал бы я тебе ничего, кабы не твоя с новой государыней близость. Ей может пригодиться, да и тебе самому при случае не помешает. Так вот, Иван Иванович, государя Петра Алексеевича царем объявили, когда Федор Алексеевич еще не скончался. Вся семья царская в печали да отчаянии пребывала, а Нарышкины поторопились.
— Быть того не может!
— Вишь ты какой — в кипятке купанный: не может! Хочешь, старых придворных порасспроси, кто тогда при смертном ложе Федора Алексеевича пребывал. Скажут тебе, один князь Одоевский да царица Марфа Матвеевна. О царице что говорить, девочка совсем, замужем, дай Бог, месяц-другой прошел. Она тогда от горя и с ума тронулась. А князь Одоевский по-родственному батюшке, да и не ему одному, рассказывал. Тогда вся семья царская против Нарышкиных-то и встала, стрельцы поднялись. На том только и замириться удалось, что братьям обоим править. Вот и был Петр Алексеевич первым в моей жизни государем. При нем я и на службу в Преображенский полк вступил.
— Изумили вы меня, дядюшка.
— Изумил! Ты в прошлое российское всмотрись — еще каких чудес насмотришься. А монархи-то дальше один за другим пошли: Екатерина Алексеевна мелькнула, рассмотреть ее толком не успели, за ней Петр II — тоже недолго царствовал, куролесил больше по молодости лет, Долгоруковы им, как игрушкой какой, вертели. При императрице Анне Иоанновне я, почитай, во всех войнах участвовал, роздыху не знал. За ней император Иоанн VI Антонович.
— Что вы, дядюшка, о дитяти говорите. Правила-то тогда принцесса Мекленбургская.
— И она империей не правила — где ей было! А все время то венчанным да всеми законами признанным императором обозначать следует. Хочешь — не хочешь, был в России законный император, и спорить нечего.
— Что же тогда выходит, в Бозе почившая императрица Елизавета Петровна незаконно на престол отеческий вступила? Дядюшка, да вас слушать-то боязно!
— Ишь, какой боязливый, даром что в Швеции родился. Слыхал я, вояки там отменные вырастают. У тебя по матушке ихняя ведь кровь.
— Полноте, дядюшка, поле битвы с дворцом не сравнишь.
— В том твоя правда: во дворце опаснее. А насчет Елизаветы Петровны сам рассуди: младшая дочь младшей ветви царского дома и законный император из старшей ветви, к тому же мужескому полу всегда предпочтение на престолах перед женским отдавалось. Тут уж плох ли, хорош ли монарх, а всегда по закону у мужеска полу прав больше.
— Вы также и о государе Петре III Федоровиче рассуждаете?
— Ничего не рассуждаю. Был он для меня седьмым самодержцем, кому я присягу давал, а теперь вот государыня — осьмая.
— Дядюшка, так ведь и я вас немногим моложе — погодки мы. Так что литанию сию высокую знаю.
— Не с той стороны только. Да вот и теперь, вишь, какой узелок с императрицей завязался. Расскажи-ка ты мне, задним числом, что это про тебя злые языки болтали, будто амурничал ты не в меру с принцессой Иоганной Ангальт-Цербской, да и по какой такой причине принцесса без супруга в Париже объявилась?
— Э, дядюшка, что там прошлое-то ворошить! Не ладила принцесса с супругом, в разводе с ним жила — супружеских обязанностей исполнять не мог. Болел ли чем, от рождения ли, кто знает.
— Супруг законный не мог, а супруга от него в отдалении забеременела?
— Да уж так случилось.
— Известно, грех да беда на кого не живет. Поди, к законному супругу рожать полетела?
— А что делать было?
— Помню-помню, как тогда родитель твой гневался, тебя из Европы в Россию немедля выписал.
— Вы людей знаете, чего не надо приплетут.
— Люди-то? Они такие: правду за версту под землей учуют.
— Я не о правде — о сплетнях.
— Понимаю. Как не понимать. На то и пословица: нет дыма без огня. До сих пор не пойму, и как это ты, Иван Иванович, исхитрился дочку-то принцессину за наследника престола Российского сосватать? Какие такие слова для императрицы Елизаветы Петровны сыскал? Она, покойница, не из легковерных была: вид один, а так все себе на уме.
— Разве что больше о характере принцессином рассказать мог.
— Которой принцессы-то: старшей или младшей?
— Младшей откуда мне было знать, а принцесса Иоганна время от времени письмами меня жаловала, не забывала.
— Верно люди говорят, первая любовь долго помнится.
— Полноте, дядюшка! Слова-то какие говорите.
— Слова-то самые что ни на есть людские. Вознесены мы в сей жизни на разные высоты богатства и знатности, а суть природы человеческой едина остается.
— Но все же тонкость чувствований…
— Не охотник я до измышлений пиитических. Солдат я, хоть на гражданской службе и давненько. Главное — отправила тебя государыня императрица невесту сюда привести вместе с родительницей.
— Удостоился я такой доверенности.
— И ты родительницу государыни нашей новой уговорил, в Петербург привез, свадьбы дождался и с принцессой Иоганной обратно в европейские края уехал. Ей сколько лет-то, Иван Иванович?
— Пятнадцать набежало.
— Вона! Мне так целая жизнь показалась. И то сказать, уезжал — нам обоим под пятьдесят было, а теперь уж и за шестьдесят перевалило. Старики мы, выходит, племянничек, как есть старики. Только что хорохоримся. Да о приказании императрицы ты мне ничего не сказал.
— Заболтались мы, дядюшка, а письмо куда какое важное. На словах скажу, государыня императрица желает в Москве по случаю коронации ее величества великое празднество устроить с шествием костюмированным, с оказами разными, на холстах писанными, с триумфальными вратами по пути следования кортежа, с угощением великим для простого народа.
— Как при коронации императорской положено. Знаю, Иван Иванович, и все сделаю.
— Но это не все, дядюшка. Главное для ее императорского величества, чтобы через те оказы и шествия намерения ее царствования прояснены для простонародья и образованных людей проявлены были. А намерения эти — просвещение нашего народа, искоренение всех пороков общественных, торжество правосудия и справедливости.
— Так это господина Штелина надобно звать — он все как есть распишет. Должность у него такая. Каждого монарха как положено представит.
— И снова, дядюшка, намерений нашей государыни так просто не разгадать. Намеревается она предоставить вам возможность представить программу монаршего правления, как она шляхетству российскому видится. Кому, как не вам, знать, какие надежды просвещенное шляхетство на власть императорскую возлагает. Государыня о том вам написала, но и изустно передать велела, что ни читать, ни проверять замыслов ваших не будет, а целиком полагается на свое шляхетство, которое в лице ее свою подлинную благодетельницу и радетельницу приобрести может.
— Вот оно что! Озадачил ты меня, Иван Иванович, ничего не скажу. За честь премного благодарен, хоть и не больно уразуметь могу, почему она мне досталась.
— Государыне известно, сколь тесная дружба и доверие связывали вас с покойным пиитом нашим Кантемиром.
— А отколе государыне талант Антиоха Дмитриевича знаком? Ведь по сей день ни стихов, ни тем паче сатир видеть не пришлось. Не по нраву они монархам приходились. Последний раз Антиох Дмитриевич сатиры свои, переделав несколько, посвятил всерадостному восшествию на престол императрицы Елизаветы Петровны. Благодарность получил, а книги нет как нет.
— Государыне в списках сатиры Кантемировы давно знакомы. Особенно она похваляла сатиру седьмую — о воспитании, вам, дядюшка, персонально адресованную.
— Польщен и тронут, однако в одиночку за такой прожект приниматься не стану — помощники нужны.
— И в этом государыня вам полную свободу предоставляет: ни спрашиваться у нее, ни советоваться нужды нет.
* * *
Петербург. Дом Г.Н. Теплова. Теплов и Левицкий.
— Хотел бы в первопрестольной побывать, Дмитрий Григорьевич?
— Хотение великое, да участь горькая. Я ведь сам себе не хозяин, ваше превосходительство.
— Оставь ты с „превосходительством“! Был я для тебя и останусь Григорием Николаевичем, так что не серди ты меня. А ты все с Антроповым. Не засиделся ли? Не Бог весть какой он мастер — не тебе чета.
— Человек он хороший, Григорий Николаевич. Добрый. Работой со мной делится.
— Или твоими руками ее делает. Знаю-знаю я этих добродетелей! И не перечь ты мне, Бога ради. Не хочешь собственной квартирой обзавестись, заказчиков иметь?
— Может, и пора, да все духу не хватает.
— То-то и оно, робкий ты больно, Дмитрий Григорьевич. Потому и хочу, чтобы ты в Москву съездил.
— Работа какая там есть?
— И какая работа! Ее императорское величество апробировала четверо ворот триумфальных соорудить. Ты Москвы не знаешь, так что о местах говорить смысла нет. Одно скажу: на каждых по два портрета государыни в полный рост в туалете большого выхода. Регалии там, драгоценности, как положено. Кругом аллегории, сцены мифологические. Работу эту государыня всю увидит. По ней о тебе судить будет.
— Все мне одному, Григорий Николаевич?
— Нет, брат, такого куска ни один рот не проглотит. Художников на то Канцелярия от строений посылает. Мастеров живописцев трое — Иван Вишняков, Иван Бельский да твой Антропов. Подмастерьев двое — тоже их, поди, знаешь, Алексей Поспелов да Ефим Бельской. Живописцев одиннадцать человек, да, кажись, два ученика.
— А я причем?
— Притом, что по желанию можешь с ними ехать. В бумагах так и напишем: помощник Алексея Антропова. Ты, полагаю, аттестоваться в Канцелярии от строений по-прежнему не намерен?
— Боже сохрани! Я все надежду имею вольным живописцем стать.
— Станешь непременно, а здесь оказия редкая. Я Ивану Ивановичу Бецкому подскажу, чтоб портреты тебе доверил. Канцелярские, они больше украшения писать горазды, а здесь работа тонкая нужна. Видел я твои опыты после занятий у француза-то твоего — отлично ты в живописи продвинулся.
— Да, господину Токкэ я премного благодарен. Жаль, что недолго в Петербурге задержался.
— А зачем ему? У него от французского королевского двора отпуск всего на полтора года. Канцлер Михайла Ларионович сказывал, что даже апартаменты за ним в Лувре оставлены — вот почет какой. Только он от нас, опять же с разрешения французского двора, в Данию, в Копенгаген проследовал всю королевскую фамилию живописать. Жаль, не очень покойной государыне Елизавете Петровне по вкусу пришелся. Куда ему до Ротария!
— Не знаю, правда ли, но художники сказывали, будто сотни три его женских головок государыня приобрести изволила.
— Еще какая правда. Целый кабинет ими от потолка до полу завесить велела.
— Что так? Ведь живописи жалко. Оно каждый портрет следует в отдельности рассматривать.
— На то государская воля. Спасибо, ты этой манере не належишь.
— Рад бы — не получится. Меня в людях разность привлекает. Будто у каждого свою загадку разгадать можешь.
— А вот пока суд да дело, ты без загадок ее императорское величество преотличнейшим манером представить должен.
— Сколь могу, постараюсь.
— Старайся-старайся, Дмитрий Григорьевич, стоит того. И еще одно. Дам я тебе рекомендательное письмо к господину Хераскову Михайле Матвеевичу. Человек он образованнейший, достойнейший, таланту поэтического отменного.
— Работа у него какая?
— Никакой работы, Дмитрий Григорьевич, знакомство одно. Тебе с твоей образованностью да пониманием просвещения непременно ему представиться надо. Пригласит — бывай непременно.
— За протекцию премного благодарен.
— Покуда благодарность истинную ко мне питаешь и на преданность твою полагаться могу, помогать буду. А теперь, чтоб конфузии какой тебе не иметь, послушай, что к чему. О каждом человеке допрежь знакомства все вызнать следует: какие обстоятельства жизни его, какой характер имеет. Тогда и подход верный найти можно, а уж коли бы ты в портретисты пошел, то тут без дознания такого и вовсе делать нечего.
— Для портретиста?
— А как ты думал? Увидел по первому разу человека, тут все о нем и понял? Нет, братец, по первому разу тебе туалет да бриллианты больше займут. Вот коли ты уже про персону данную известия собрал, так и смотреть иначе станешь. Думаешь, сам до мыслей таких дошел? Нет, от преосвященного Феофана слышал. Мудрейший человек был, все меня при себе держал, поучал. Семнадцать годков мне стукнуло, как преосвященный преставился.
— И не грозен был преосвященный?
— Грозен? Не иначе болтовни ты в Канцелярии от строений наслушался. Знаю-знаю, винили преосвященного, что в Тайной канцелярии присутствовал, что пыточные вопросы составлял, с кого из пытаемых что спрашивать.
— Об Иване Никитине еще говорили.
— Сколько лет в одиночном заключении в крепости просидел?
— И что только тогда приговор ему вышел, как скончался преосвященный, а так все допрашивали его и пытали.
— Не вникал и вникать не стану. Тайная канцелярия дела государственные решает, а мы с тобой про портреты толкуем. Одно другому не помеха.
— Так полагаете?
— И полагать нечего. Философ и палачом быть может, ибо занятие сие его умственному взору не помеха. Взор его выше земной юдоли парить может, а казни во все времена были и будут. Что ж ты полагаешь, просвещенный монарх лютее непросвещенного быть не может? Может, и, если хочешь знать, должен.
— Лютее?!
— Так ведь он более дальнюю перспективу зреть может. Оттого ему и вред от одного человека понятнее. А преосвященный почитал, что для России единое благо — самодержавие, и никаких ограничений ему делать невозможно. Потому когда шляхта решила самовластье государыни Анны Иоанновны ограничить и в том особые Кондиции сочинило, его преосвященство о том государыню, в то время еще в Курляндии находившуюся, во благовременье известил и с амвона самодержицей провозгласил. Оттуда ему и доверие великое было. Государыня на него как на каменный столп полагалась. Знала, шляхетство может в свою пользу козни всяческие строить, да никто против хитрости ума преосвященного не выстоит. А Никитин Иван — он партию целую сколотил, факция называлась, чтобы государыниной воле предел положить. Кабы одни портреты писал, так и, может, и по сей день жив бы был. На что замахнешься, от того и смерть примешь. Разве не так?
— Не думал я об этом, Григорий Николаевич.
— И впредь не думай. Художнику от мыслей никогда еще пользы не бывало. Ты душой и мыслям к просвещению народному прилежишь, и отлично. На том и с Михайлой Матвеевичем сойтись должен. Полагаю, большая тебе от того польза может быть.
* * *
Москва. Дом Н.Ю. Трубецкого. Трубецкой и М.М. Херасков.
— Ну, здравствуй, Михайла, здравствуй. Давненько не видались. Врать не хочу, скучал по тебе и твоему семейству, а от матери и толковать нечего.
— Батюшка, Никита Юрьевич, оповещены были о вашем приезде, со дня на день ждали.
— Вот видишь, на старости лет какая честь твоему вотчиму досталась: верховный маршал при коронации государыни!
— Рад, душевно рад, батюшка, хотя по вашим заслугам лучшего человека государыня и выбрать не могла. Одно мне, признаюсь, удивительно, как ее величество выбор такой правильный сделала. Ведь к партии ее вы никогда не прилежали, с любимцами ее не кумились.
— С Кирилой Разумовским да с Орловыми? Упаси господь. Я всю жизнь тому самодержцу служил, которому присягал.
— То-то и оно, а ведь с покойным императором блаженной памяти Петром Федоровичем все непросто получилось.
— Вот и ошибаешься, мой друг. Так просто, что оторопь берет. У тебя тут в доме постороннего никого нет? Ушей лишних, сам знаешь, нам не надобно. Да и без супруги твоей обойдемся. Умная женщина Елизавета Васильевна, добрая, а все не бабьего ума это дело.
— Нет, батюшка, Лиза ко всенощной пошла. Не думали мы, что вы так скоро из Петербурга доберетесь. Наутро вас ожидали, да и то разве что под вечер.
— Скоро! При такой езде до царствия небесного вмиг долетишь — оглянуться не успеешь. Не поверишь, мой друг, 9 июля из Петербурга тронулись, везде на подставах лошади свежие, кушанье отменное приготовлено. Да решил я на своих конях ехать. Они мне здесь понадобятся — не ямских же брать. Вот роздых им и давал. Да и в поезду у меня народу не счесть. Живописцев, и тех с собой привез.
— Почто, батюшка, в Москве и своих предостаточно.
— Может, и предостаточно, да не таких. Не я им смотр производил — Иван Иванович Бецкой обо всем беспокоился.
— Иван Иванович, дядюшка-то наш? Как он?
— Наиважнейшая персона во дворце, доложу я тебе. Государыня с ним в послеобеденные часы запирается, не скажу, о чем толкуют, а времени много вместе проводят.
— А художники почто?
— Для ворот триумфальных. Четверо их должно быть: у Никольских ворот кремлевских, и Воскресенских китайгородских да двое по Тверской. Тут и архитекторы понадобятся.
— Привезли вы их?
— Здешними не обойтись?
— Обойдемся. Чай не на века строить будем. Времянки, одно слово. Только, батюшка, вы любопытство мое простите, как же дело такое во дворце состоялось, чтобы принцесса Ангальт-Цербская вместо российского законного императора, внука родного государя Петра Алексеевича…
— Нишкни, Михайла! И какой у вас, Херасковых, язык опасный. Был император — нету императора. Ничего более не вернешь. А от разговоров таких одна опасность.
— В Москве толковали, будто княгиня Дашкова молодая с супругом своим князем Михайлой Ивановичем немало тому поспособствовали. Статочное ли дело?
— Суетилась, это верно. Да она уж давно на великую княгиню как на образ святой смотрела. Все разговоры умные вели, про философию толковали. Государь либо на плацу пропадает, либо за столом куролесит. Уж чего только, господи прости, не придумывал покойник, чтобы норов свой потешить. Может, и супруга его в злость приводила. Он назло ей дурачился да глупости всякие говорил. Все молчат, одна Дашкова за великую княгиню вступалась.
— Вступалась даже?
— Да как! Иной раз такое молвит государю, что все онемеют: ну, быть беде. А он, голубчик, ничего. Только головкой покачает да рукой махнет. Любил крестницу, все спускал.
— А что вы, батюшка, сказали: суетилась?
— На мой разум, великую княгиню подзуживала, с офицерами гвардейскими толковала, князя Михайлу говорить заставляла. Сам на сам с великой княгиней в карете помчалась в полки гвардейские присягать их заставить.
— Да разве одного этого хватит?
— Во дворце-то? Может, и хватить. Только тут великая княгиня иначе себя обезопасила. Так мне мнится, потихоньку от Дашковой с Орловыми дело повела. Их в гвардии любят.
— Сказывали, и Кирила Разумовский на ее сторону переметнулся?
— Переметнешься, коли тебя в Тайный приказ поволокут.
— Графа Кирилу?
— Его, голубчика. Сначала он у государя в подозрении оказался.
— Брат фаворита?
— И все-то тебе дивит, Михайла. Совсем в первопрестольной своей от придворной политики отвык. Что из того, что брат? И фаворит бывший, и братец с великой княгиней махался.
— До Орловых, выходит?
— До ли, после ли, в то же ли время — со свечой в ногах не стоял, врать не буду. А только весь двор известен был. Не столько граф о великой княгине, сколько великая княгиня о нем вздыхала.
— Вот новости!
— Теперь уже и не новости. Государь арестовал графа Кирилу, в канцелярии подержал, допросам подверг, а там и выпустил. Одного не рассчитал: так хитрый хохол перепугался, что тут же с братьями Орловыми дружбу свел и в пользу великой княгини интриговать начал. Там и Теплову досталось. Тоже отведал тюрьмы да допросов, на сторону великой княгини и перешел. Да все это, друг мой, дело прошлое. О будущем думать надо. Государыня мне не просто коронацию препоручила. Ее воля — чем народ российский облагодетельствовать хочет, в картинах да в представлениях показать.
— Помнится, при Петре Великом так было.
— Верно, и ты мне, друг мой, в том очень даже помочь можешь.
— В чем же, батюшка?
— В сочинительстве, друг мой. Ты вот питомца своего хвалил — вирши его и впрямь ловкие показывал.
— Вы о Богдановиче, батюшка, думаете?
— Молод он, чтобы мне имя его запоминать. Твое дело старику подсказать. В дом ты его к себе взял.
— Богданович и есть, Ипполит Федорович.
— Из каких будет?
— Из шляхты малороссийской, только что родители его приупали — состояния никакого. Одна надежда — на службу.
— Вот и ему служба будет. Он сейчас при каком занятии?
— Только что университетский курс с большим успехом закончил, надзирателем за университетскими классами назначен. В Переволочне места его родные, неподалеку от Кременчуга.
— Ну, об этом мне знать ни к чему. Чин какой?
— Армейских полков прапорщик.
— Вот и ладно. Можно в Комиссию по торжествам взять — с почету-то какого службу начнет — всяк, поди, позавидует. Еще кого протежировать можешь?
— Лейб-гвардии подпоручика Алексея Андреевича Ржевского, батюшка.
— Кто таков? Фамилия древняя, от князей Смоленских.
— Так и есть, батюшка. Молоденек, но нашему складу мыслей и стихи преотличные слагает. Поди, удивлю вас, коли скажу, что и супруга его ему в стихотворстве не уступает. Дочка графа Федота Каменского.
— Так это гоф-юнкера, что при государе Петре Великом мундшенком при дворе состоял?
— Его самого, сестрица графа Михайлы Федотовича, что в Шляхетном корпусе при государыне Анне Иоанновне воспитывался, а позже волонтером во французскую армию вступил.
— Почтенное семейство, ничего не скажешь. Так мы и твоего Ржевского в Комиссию возьмем, а боле, пожалуй, и не понадобится. Все вместе умом-то и пораскинем, чтобы государыне угодить.
— Хорошо-то как, что у вас, батюшка, все с ее императорским величеством заладилось. А то мы большое опасение имели, раз покойный государь император вас так всегда отличал, какого бы высочайшего неудовольствия не вышло.
— Да-с, ничего не скажу, отличал меня его императорское величество. На плацу всегда рядом с собой держал. Куда больше — полковником Преображенского полка произвел. Шутка ли! В Совете заседать посадил. Что ни день собираться в личных апартаментах приходилось. Почтение великое оказывал.
— Вот о том и думали, чтобы с рук сошло.
— Ни словечком государыня меня не попрекнула. Оно верно, что с Преображенским полком расстаться пришлось.
— Сменили вас, батюшка?
— Ни-ни! Государыня учтивейшим образом просила, чтобы самовольно ей полковничество это уступил. Что делать-то было? Уступил, а государыня публично за любезность такую меня благодарила, за одолжение.
— Что ж, можно и так?
* * *
Москва. Дом Н.Ю. Трубецкого. Левицкий один, позже — Н.Ю. Трубецкой.
Верно Теплов Григорий Николаевич говорил: Москва да Петербург — как две страны разные. Порядок иной, дома иные, к говору привыкнуть надо. В Москве каждое слово выпевают, в Петербурге оборвать торопятся. То ли время берегут, то ли собеседника уважить боятся. Все комком да швырком. Подъезды все на улицу выходят. Коли во двор, так двор на французский манер разделен: цветники да проезд для экипажей. Подъехал к дверям, сошел, и уж коляски след простыл — один швейцар в поклоне гнется: чем помочь, как доложить. В Москве во двор въедешь, тут тебе и службы, и людские, и поварня дымится, конюшня — кто лошадей чистит, кто навоз гребет. У подъезда хоть на ночь экипаж оставляй — никому как есть дела нет.
Летним временем двери и вовсе отвором стоят. Дорогу знаешь, сам в покоях хозяев найдешь. Слуги то ли спят, то ли выходить не торопятся. На Украину похоже: всем лень, всех в дрему клонит.
Вот и у князя Никиты Юрьевича Трубецкого дом петербургский — как есть дворец, а в Москве, между Большой Никитской да Тверской — усадьба целая. Григорий Николаевич с письмом велел непременно быть, сыну фельдмаршальскому представиться, Николаю Юрьевичу. Книги кое-какие передать не то что в тайности, а чтоб в глаза не бросаться. Лакея еле дозвался, себя назвал: „Ждут-с вас, господин Левицкий“. Даже в жар бросило — любезность такая.
Через анфиладу зал повел, полы что зеркало. Меблировки мало. Ее, Алексей Петрович сказывал, и во дворцах недостает. По весне в Царское Село соберутся, из Зимнего всю меблировку везут, окромя кроватей. С теми обходятся. А так и картины захватят. К осени все обратно везут. Потерь да поломок не счесть. В анфиладе у Никиты Юрьевича мебель и новомодная французская, и та, что государя Петра Великого помнит. Видно, хозяева о доме не больно пекутся.
В угловой гостиной дым от трубок. Молодых людей множество — кто за столами на бумагах планы чертит, кто на диванах спорит.
— Вы и есть господин Левицкий? Рад познакомиться. Об образе мыслей ваших слыхал, о просвещенности — тоже. Льщу себя надеждой, друзьями будем.
— Осчастливить меня хотите, князь Николай Юрьевич. Не знаю, сказывал ли вам Григорий Николаевич, что по занятию своему я всего лишь художник.
— У нас художников, господин Левицкий, немало. Евграф Чемесов — полагаю, видали его преотличнейшие гравюры. Федор Рокотов — в мастерстве портретном немалых успехов достиг. Кокоринов — архитект, что Академию художеств строит. Вы по какому ведомству служите?
— Ни по какому, князь.
— Батюшка вам поможет или кузен мой Иван Иванович Бецкой.
— Боже избави, ваше сиятельство, я не ищу протекции, но лишь одной независимости душевной и служебной.
— Вот славно! Простите мою бесцеремонность, но не стесненные ли обстоятельства материальные побудили вас обратиться к занятиям живописью?
— Я не скрываю, что стеснен в материальных средствах, но не настолько, чтобы зарабатывать себе на пропитание. Живопись — скорее для меня душевное призвание. Небольшие земли на Полтавщине позволили бы мне существовать безбедно.
— Григорий Николаевич поминал, что ваш батюшка отличается в художестве и достаточно известен как отменный гравер.
— Значит, не слишком известен, ваше сиятельство, коли для вас проявился лишь через рекомендацию любезную господина Теплова.
— О нет, господин Левицкий, прошу прощения, это всего лишь свидетельство неосведомленности моей в делах художественных. Я слишком предан занятиям литературным. Мой удел — стихи, кои удается мне сочинять с переменным успехом, в глазах моих друзей, и переводы французские.
— Я слышал, ваше сиятельство, преимущественно философические.
— Вы правы, энциклопедия французская занимает мое воображение. Я полагаю, господин Левицкий, что без всеобщего просвещения народа Россия никогда не освободится от уз рабства, кои сковывают и ее мысль, и ее волю. Каждый человек должен рождаться с одинаковыми правами, даваемыми ему государством, как их дает ему Господь Вседержитель и Натура. Но в жизни своей ему предстоит все силы полагать на усовершенствование своей нравственности, на противостояние миру соблазнов и всеобщего зла.
— Совершенно разделяю ваши взгляды, ваше сиятельство.
— Мы на это и рассчитывали, друг мой. Разрешите мне ввести вас в наш круг. Господа! Перед вами — господин Левицкий, которого столь усиленно рекомендовал нам Григорий Николаевич Теплов. Первое, самое короткое общение с господином Левицким убедило меня в том, что мы будет иметь в его лица единомышленника и друга. Так вот, господин Левицкий, я представляю вас Алексею Андреевичу Ржевскому, Ипполиту Федоровичу Богдановичу, сочинителей и пиитов, и, прежде всего, Михаилу Матвеевичу Хераскову. Если все мы можем назвать себя всего лишь начинающими литераторами, Михаил Матвеевич уже успел прославиться изданием поэм „Плоды наук“ и „Храм славы“, трагедии „Венецианская…“
— „…монахиня“, не правда ли?
— Вам довелось ее читать?
— И с превеликим удовольствием.
— Автор может чувствовать себя только польщенным, тем более, что, мне сказывали, вы петербургский житель и только что приехали из северной столицы.
— Это правда, как правда и то, что театралы петербургские наслышаны о постановке на сцене московской иронической поэмы господина Хераскова „Безбожник“.
— После этого я и вовсе не сомневаюсь, что нам будет легко вместе работать. Вы знаете, о чем речь, господин Левицкий?
— В самых общих чертах, ваше превосходительство.
— Более частные нам предстоит сейчас определить. Итак, господа, торжество, которое мы должны сочинить здесь, должно заключать в себе программу наступающего царствования.
— Программу? Но разве самодержцы имеют какие-либо программы, кроме неограниченного использования власти?
— Так не бывало, но по желанию вступившей на российский престол самодержицы именно так должно впредь быть. Я предлагаю, господа, тему обещания мирного царствования ради развития промышленности, сельского хозяйства…
— И всех видов искусств!
— Непременно внимание к юношеству, ибо только ему достанется пожинать урожай сего благого посева.
— Но это следует превратить в фигуры аллегорические, как, например, „роскошь и праздность запрещенные“. Такое изображение возможно, господин Левицкий?
— Каждая аллегория может найти свое воплощение. Французы дали тому примеры неисчислимые.
— Тем лучше. Непременно нужно „Ободрение художеств“.
— И „Истина и достоинства венчанные“.
— „Спокойствие, поражающее несогласие“. Если аллегория предстанет не слишком явственной, ее можно дополнить приличествующею надписью, не правда ли?
— Мы забыли о „Безопасности границ Российской империи“. Они непременно должны присутствовать.
— Как и „Привлечение почтения о чужестранных“.
— Итак, господа, начинаем записывать.
* * *
Москва. Ивановский монастырь в Старых Садах. Покои А.П. Антропова. Левицкий.
Свершилось! Никита Юрьевич так и сказал: великий, мол, век начался. Екатеринин! Не было еще такого государя, кроме Петра Великого, чтобы так к просвещению прилежал, о народе думал, права и законы восстановить хотел. Где такое видано, чтобы монарх у подвластных своих советов просил, о действиях своих с ними вместе обдумывать хотел. А вот государыня захотела. Будучи в Петровском, сколько раз инкогнито Москву ездить смогла. Своими глазами, как столица древняя живет, увидеть. И убранство праздничное посмотреть. Где поправить велела, где для народного увеселения музыкантов да певчих разместить. Во все сама пожелала войти.
В субботу, двенадцатого сентября, торжественный въезд в Москву назначен был. С утра сколько раз дождь начинался, к середине дня и вовсе разошелся. Старики говорят, такого потопа не упомнят. Ветер — на ногах не устоишь. С всадников плюмажи срывало. Лошади иной раз останавливались. Тут уж как разберешь все тонкости убранства. Поди, за стеклами карет и вовсе ничего не видать. А смотреть было на что. Вдоль всей Тверской — елки стриженные шпалерами. На перекрестках — фигуры разные, гирлянды цветочные. Перед Кремлем, у наших ворот триумфальных, московский митрополит Тимофей государыне поздравительную речь произнес. Сказывал Никита Юрьевич, государыню, как ни берегли, всю измочило. Туфельки в воде. А словом не подосадовала. Будто все стихии по ее воле разыгрались.
На ворота наши государыня посмотрела. Портрет ее величества во всех императорских регалиях написан. Улыбнуться изволила: мол, словно в завтрашний день смотрит. Чуть дождь поутих, художники к живописи своей побежали. Боялись, всю смоет. Спасибо, служители присмотрели: только перед появлением ее величества открыли, а так все под навесами да рогожами держали. Обошлось. Ввечеру потише стало, а в пять утра приглашенные в дворец Кремлевский съезжаться стали. Никита Юрьевич распорядился, чтобы каждому свой час — толчеи бы не было. Народу видимо-невидимо, весь дворец заполонили. А как иначе — шляхетство со всей России съехалось, и государыня всем честь оказать соизволила.
В восемь часов войска на Ивановской площади выстроились, а еще через два часа процессия из дворца в собор Успенский тронулась. Богатство такое, как в сказке. Все в золоте да каменьях драгоценных переливается. Кажись, солнце бы выглянуло, ослепило. А и в серый день глаз не оторвешь.
Процессия без государыни пошла. Ее императорское величество во дворце осталась, где первое благословение священства приняла. Регалии императорские перед ней выложили. Из дворца выйти изволила — ни тесноты, ни народу простого. Все чинно, благолепно. На ступенях собора архимандриты да архиепископ Новгородский крест государыне поднесли для целования, водою святою окропили. Государыня к престолу царскому проследовала, порфиру и орден Андрея Первозванного на себя возложила, корону собственноручно надела. При том на Красной площади салютация произведена, клики народа раздались.
Никита Юрьевич умилялся: немецкая по происхождению принцесса, а на языке российском почти чисто говорит, в чине нигде не ошиблась. Из Успенского собора в Архангельский перешла — мощам предков поклониться. Оттуда во дворец в аудиенц-камеру — милости раздавать да поздравления принимать. Первый раз под балдахином села, а будто самодержицей родилась. Каждого добрым словом да улыбкой милостивой одарила. В Грановитой палате стол для шляхетства, а после стола разъехаться всем разрешено было. Никита Юрьевич еле жив, комплекция грузная, годы немолодые, целый день на ногах, а уехать не посмел. Да как уедешь: с сумерками государыня инкогнито на Красное крыльцо вышла иллюминацией московской полюбоваться — все под рукой следует быть. Хоть инкогнито, а с появлением ее императорского величества в Замоскворечье фейерверк препышнейший жечь начали.
День за днем едва не неделя в празднествах прошла. Ненастье отступило. Убранство ворот триумфальных во всей красоте выступило. Государыня похвалила. Отметить пожелала, что со смыслом все, для поучения народного получилось. На шестой день — празднество для народа на Красной площади. По улицам колесницы с жареными быками и горами хлеба — для бесплатного угощения. За ними роспуски с бочонками пива да меда. На некоторых перекрестках столы для бедных. А близ Кремля — шатры с флагами разноцветными с пряниками и сладостями. О тратах великий маршал и говорить не стал: Россия — государство богатейшее, выдержит. Оговорился: абы не каждый год такое. Кто знает!
* * *
Москва. Дом Н.Ю. Трубецкого. Трубецкой, М.М. Херасков, А.П. Сумароков, И.Ф. Богданович, А.А. Ржевский, Д.Г. Левицкий.
— Вот и отлично, что из монастыря своего к Никите Юрьевичу на двор выбрались, Дмитрий Григорьевич. Охота вам была на таком отлюдье жить. На дворе Трубецких — другое дело.
— Боюсь, не стеснить бы князя.
— Да уж есть чего бояться! Вы глядите, сколько у него народу живет. Год проживешь — всех в лицо не узнаешь. Тут уж московский обычай. Князь Никита Юрьевич сам в Петербурге, а нахлебники так табором и стоят.
— Вот я и говорю, нахлебником бы не стать, Ипполит Федорович.
— Да какой же вы нахлебник, Дмитрий Григорьевич. Сами знаете, как по мыслям хозяину и сыновьям его пришлись. А уж обо мне и говорить нечего. Невелика шишка Богданович, только и он здесь при деле, при своем месте. К тому же мы с вами без малого земляки — хоть по-польски поговорить, хоть по-малороссийски пошутить, все легче.
— Премного благодарен, Ипполит Федорович, за доброту вашу. Только работы для себя не больно много вижу. Живописцы-то, с которыми из Петербурга приехал, к Новому году все назад воротились. Канцелярия от строений всех отозвала, кроме Антропова. Так Алексей Петрович с 1759 года живописным мастером при Московском университете числится, не то что я.
— Неужто хотели бы в штате быть?
— Хотеть не хотел, а работу платную иметь надо.
— Бецкой намедни за ужином толковал, что как в январе Воспитательный дом императрица разрешила открыть, задумал он портреты всех опекунов в зале заседаний повесить. Большие. Парадные. Взялись бы, Дмитрий Григорьевич?
— Почему не попробовать, если заказ такой будет.
— Будет-будет, не сомневайтесь. Иван Иванович, кроме вас никакого иного и знать не захочет.
— Полноте, Ипполит Федорович, мало здесь иностранных живописцев. А теперь, как государыня решила зиму всю в Москве зимовать, так и те, что в Петербурге, сюда прилетели.
— А и бог с вами. Иван Иванович собирается отечественные художества выбирать. Ему иностранцев не надо. Да и дело Воспитательного дома куда какое необычное. Поди, во всей Европе не сыщешь такого.
— Слов нет, затея великая.
— А как же! Ни один сиротка, ни один прижитой младенец пропасть более не должен. Всем в Воспитательном доме место найдется.
— Михаил Матвеевич Херасков сказывал, будто государыня положила всех шпитонков грамоте да ремеслу учить, а как в возраст войдут, мальчикам на обзаведение денег давать, а девиц — замуж с приданым.
— Не только это, Дмитрий Григорьевич, не только это. Главное, по моему разумению, что коли шпитонок на крепостной женится, девка вольной становится, а коли шпитонка за крепостного выйдет, свободы своей не теряет и дети ее вольными остаются.
— Как ни говори, давно пора людям больше свободы дать. От зверств да насилия беречь начать. За одним помещиком они, может, как за каменной стеной, а за другим — страх помыслить. У нас в Малороссии такого, слава тебе господи, не водилось.
— Значит, опекунов вы писать станете, правда? Только это не все. Задумала государыня великий маскерад поучительный.
— Да ведь маскерады в Москве и так один за другим идут.
— Идут, да не такие. Хочет государыня великое представление дать. Одних актеров четыре тысячи!
— Господи! Да откуда столько собрать?
— Ну, не совсем настоящих актеров, а ряженых, так сказать, а уж среди них и певцы, и музыканты, и лицедеи. С согласия государыни, господам Хераскову и Сумарокову поручено программу сего шествия писать.
— Шествия? Вы же сказали, как будто, представления?
— И так, и так верно. Потому как действие сие будет происходить по ходу процессии, а процессия должна несколько дней по различным московским улицам передвигаться. Чтобы всем москвичам насмотреться вдосталь. Там и ваш труд, Дмитрий Григорьевич, не иначе понадобиться может.
— А где ж там место для живописи? Разве оказы какие или ворота новые?
— Заранее не скажу, только Михаил Матвеевич предупредить вас велел.
— Слышу, кто же это так горячо дискутирует? Голоса вроде знакомые, а сразу в толк не взял: Богданович с Левицким. Вот и отлично, господа, что я нашел вас. Прошу в гостиную голубую — наметки программы нашей послушаем. Готова — не готова, а посоветоваться не мешает. Кстати, Дмитрий Григорьевич, актера нашего преотличного узнаете — Волкова Федора. Ему государыня велела с актерами заниматься. Александру Петровичу Сумарокову одному не под силу, да и подход у него другой.
— Если память мне не изменяет, из Ярославля он?
— Из Ярославля. Купецкий сын.
— Да уж вы, Михайла Матвеевич, прибавьте, что господин Волков и в Шляхетном корпусе не один год провел. Без науки какой актер!
— Вот ты, Ипполит, все Левицкому в подробностях и расскажи, а теперь времени терять не будем. Раз, господа, все в сборе, прошу вас, Александр Петрович, начинайте.
— Что ж, порешили мы шествие сие из девяти отделений сделать, чтоб перед каждым свой знак несли.
— Подобно главам книжным?
— Вот именно. Здесь ведь что важно — чтобы народ в готовности был с каждой главой ознакомиться, сразу что к ней относится припомнил да в уме держал. Отделения — непростые. Сразу посмотреть — не разберешься. В них должно изъявить гнусность пороков и славу добродетели. Отсюда и название — „Торжествующая Минерва“. Мы с Михайлой Матвеевичем так постановили: объяснительные стихи к маскераду херасковские, а хоры — мои. Машины и всяческие аксессория театральный машинист господин Бригонций сделает.
— Итак, первыми пойдут провозвестники торжества с огромною свитою. С ними трубачи, литаврщики, чтобы народ собрать.
— Москвичей чего собирать. От них в какой тайне ни держи, все равно сбегутся. С ночи места занимать будут, никаким морозом или дождем не разгонишь.
— Верно, Михайла Матвеевич. Только без вступления никак нельзя. Подобно театру.
— Не спорю, не спорю, Александр Петрович. Это я только про москвичей. Любопытней, кажется, народу не сыщешь.
— Так вот перед первым отделением несен должен быть знак Момуса, бога насмешки, который ничему веры не дает, над всем потешаться норовит, каждому помыслу противустоит. Отсюда и наименование отделения — „Упражнение слабоумных“. Вы что здесь, господин Волков, предложить можете?
— Для начала музыкантов, кукольщиков во множестве, всадников на деревянных конях в том смысле, что по виду едут, а на самом деле с места сдвинуться не смогут. За ними верхом Родомант — храбрый дурак и чтоб паж косу его нес преогромную.
— И непременно Панталоне со служителями в комическом платье. Панталона в портшезе нести можно, чтобы с важностию по сторонам раскланивался.
— Панталона можно. Далее дикарей множество.
— Место для арлекина.
— А вот еще Александр Петрович задумал: быка с приделанными на груди рогами, на быке — человек, а у человека в груди окно, чтобы держал он модель вертящегося дома. Объяснить такую аллегорию нетрудно. Момус, видя человека, смеялся, для чего боги не сделали ему на грудях окна, сквозь которое бы в его сердце можно было смотреть; бык смеялся, для чего боги не поставили ему на грудях рогов и тем лишили его большой силы, а над домом смеялся, отчего нельзя так его сделать, что если худой сосед, то его поворотить на другую сторону.
— Не мудрено ли?
— В стихах все разъяснить можно. Да и государыня пожелание высказала, чтобы сразу критиканов осмеять. Для примера.
— Что ж, коли на то воля ее императорского величества, господину Волкову остается только талант свой приложить.
— Сделаю, что смогу, ваше превосходительство. Тут и второе отделение не проще — „Смех и Бесстыдство“. Бахусом представленные.
— И что же? Для начала ведь решили мы, чтобы картину везли. На картине — пещера Пана, в ней нимфы, сатиры, вакханки в буйном веселии, сатиры на козлах, свиньях и обезьянах.
— А за картиной — пьяный Силен на осле в окружении сатиров. За ним на быке толсторожий откупщик, бочка с корчемниками, целовальники, стойка с питием, за стойкой — чумаки с балалайками да в конце хор пьяниц.
— Тут уж Никита Юрьевич все подсказал. Видал он шествие Всешутейшего и Всепьянейшего собора государя императора Петра Великого. Народ тогда больно веселился.
— И здесь веселиться будет. Пьяницам у нас всегда почет. Не знаю, у какого еще народа поговорка такая быть может: пьян да умен — два угодья в нем.
— С третьим отделением вся надежда на картину — „Действие злых сердец“. Тут и ястреб, терзающий голубя, и паук, спускающийся на муху, и голова кошачья с мышью в зубах, и лисица, давящая петуха. Можно за ней хор музыки пустить, чтобы музыканты разными животными наряжены были да несогласно играли.
— Зато в четвертом картина простая — маска со змеями, кроющимися в розах и надписью „Пагубная прелесть“ и означать она должна „Обман“.
— Зато за нею цыгане и цыганки с песнями и танцами, пляшущие колдуны, ворожеи, дьяволы и сам Обман в лице аферистов и пустых прожектеров. Государыня особенно настаивала, чтобы прожектерство осудить. От него, по ее мнению, лишь смешение мыслей у народа наступить может.
— Подумать бы, как Обман от Невежества отличить. Невежеству и его посрамлению у нас пятая картина посвящена будет.
— Отделение, хотели вы сказать, Александр Петрович, потому что картины живописной тут на деле никакой — одно изображение черных сетей, нетопыря и ослиной головы с надписью „Вред непотребства“. Господин Волков придумал, чтобы за знаком четверо как бы замерзших змей отогревали, хор слепых друг дружку вел, Невежество на осле ехало, а за Праздностью и Злословием топа ленивых плелась.
— Шестое отделение, думается, Михайла Матвеевич, едва ли не самое важное — „Мздоимство“. Было оно, есть и будет в России, и все же уместно подчеркнуть, что ее императорское величество терпеть его более не намерена.
— Большое облегчение от того народ российский почувствовать должен, потому и отделению следует быть разнообразному — на все случаи жизни. Как там у вас, господин Волков, предполагается? На знаке, знаю, художники изобразить Гарпию взялися — птицу великую с человечьей головой, вокруг крапива, крючки, денежные мешки и изгнанные бесы.
— О том мы с господами живописцами уже толковали. Надпись еще они сделают: „Всеобщая пагуба“.
— А далее что решили?
— С ябедников и крючкотворцев начнем. Они знамя понесут с одним словом: „Завтра“, в том смысле, что ничего сразу решать не хотят. За ними особы замаскированные на крючьях тащить будут взяточников, обвешанных крючками. У сочинителей ябед своя толпа. Им положено идти с сетями, соседей своих стравливая и опутывая. А под конец хромая Правда на костылях еле тащиться будет, а сутяги и аферисты ее в спину тугими денежными мешками толкать.
— Отлично, господин Волков, отлично. Лишь бы лицедеи ваши все хорошо разыграли.
— Разыграют, не беспокойтесь, Александр Петрович. Я и актеров своих привез да из крепостных трупп немало народу набрали. Должно хватить.
— Смотрите! А ежели нехватка какая, тут же его сиятельству князю Никите Юрьевичу сообщайте. Он с деньгами жаться не будет.
— Премного благодарствую. Главное для меня, чтобы часу на репетиции хватило. За неделю такого действа не сгоношишь. Где там!
— Ну, уж тут как кривая вывезет. Мы сами себе не хозяева.
— И то подумайте, Александр Петрович, как седьмое отделение представлять.
— Да, тут у нас мир навыворот.
— „Превратный свет“, Михайла Матвеевич, а под знаком — на нем летающие звери четвероногие и лицо человеческое, вниз обращенное, над ним надпись: „Непросвещенные разумы“.
— Получится ли как задумали, господин Волков?
— Должно, хоть и непросто все. И то сказать, сначала хор в вывороченных одеждах, за ним музыканты верхами, кто на быках, кто на верблюдах. За музыкантами кареты — одну слуги в ливреях везут, внутри лошадь разлеглась, другую модники потянут с обезьяной внутри. Два люльки на колесах — старика спеленутого грудное дитя кормит и за старушкой с куклой девочка с розгой. Свинья преогромная на розах — это в следующей колеснице, за нею музыканты в обличье козлов и певчие — ослов. А в конце Химера — ее расписывать будут маляры и славословить рифмачи верхом на коровах.
— Лучше, полагаю, не придумаешь!
— Под конец же восьмое отделение над спесью глумиться станет.
— Простите, господа, не уразумел, панно здесь какое будет?
— Картина такая: павлиний хвост, окруженный нарциссами, а под ним зеркало с надутою харею да надписью: „Самолюбие без достоинств“. А в последней, девятой, изображение „Мотовство и бедность“. На знаке — опрокинутый рог изобилия, из которого золото течет, а кругом фимиам курится. Отсюда и надпись: „Беспечность о добре“.
— Ваш хор здесь, Александр Петрович? Лучше Сумарокова никому тему сию не сочинить, уверен.
— Хор мой, а певчие в платье, обшитом картами всех мастей. За ними Фортуна, счастливые и несчастливые игроки и нищие с котомками.
— Вот, пожалуй, и все, что вам знать следует, Дмитрий Григорьевич. В апофеозе живописи места нет. Тут уж господин Бригонций расстараться должен: колесница Венеры с Купидоном, колесница Юпитера, окруженная аркадскими пастухами, богиня Астрея, знаменующая пришествие на землю Золотого века, обращенная к пиитам, увенчанным лаврами, Парнас с музами, колесница Аполлона, а в заключение — поселяне со своими орудиями, жгущие в облаках дыма военные пушки.
— Как же, Александр Петрович, вы о группе Минервы забыли в окружении всех наук и художеств. За ней колесница Добродетели, вокруг старцы в белоснежных одеждах с лавровыми венками, отроки с зеленеющими ветвями, хоры и оркестры. И только за ними — гора Дианы, озаренная лучезарными светилами.
— Ни уму, ни воображению такое представить подлинно невозможно!
— Все возможно. Дал бы бог вёдро, да чтоб никто порядка не сбивал. А так — коли пришла пора Золотого века, отметить ее достойно следует. Пусть народу навсегда запомнится.
* * *
Москва. Дом Н.Ю. Трубецкого. Трубецкой и М.М. Херасков.
— Батюшка, Никита Юрьевич, неужто правда?!
— О какой правде говорить благоволишь, Михайла Матвеевич? Где, братец ты мой, правду увидел?
— Неужто, батюшка, уволила вас императрица? После таких-то торжеств!
— Что тебе отвечать, высочайшею ее императорского величества милостию уволен я, князь Никита Трубецкой, как от воинской, так и от гражданской службы вечно. Так-то, братец.
— Одного в толк не возьму, если неудовольствие какое со стороны государыни было, никому же ее величество не высказывала. Бецкой, и тот ничего не знал. А трудов-то, трудов сколько положено было!
— О том, кроме нас с тобой, Михайла, никто никогда и не вспомнит. Впрочем, стихи твои преотличные назовут, Александра Петровича Сумарокова помянут. Глядишь, и Федора Волкова назовут, а великого маршала…
— Батюшка, подумать только, над чем вы надзирание имели. Какое бы там „Торжество Минервы“ состоялось, кабы не двести колесниц преогромных.
— Скажи, в каждой от двенадцати до двадцати четырех волов, а ведь с Украины пригнать надо было.
— За что ни возьмись, без вас бы делу такому не состояться. Чего один выезд государынин стоил: карета раззолоченная, восьмерка лошадей неаполитанских с цветными кокардами на головах. На ее величестве платье русского алого бархата все в жемчугах. Государыня заикнуться не успеет, вы уже все охлопотали, где что достать подсказали.
— Верно, Михайла, все верно. А чего стоило на всех каретах приватных лакеев на запятках в платье маскерадное разодеть. Хозяева рады бы радешеньки, да в короткий срок где достанешь одного турком, другого арапом, третьего албанцем приодеть. Все лучшим образом устроено было.
— Да разве этот маскерад один был! Всю зиму государыня москвичей тешила. Такого богатства никто сроду не видал. Старики сказывали, даже при покойной императрице Анне Иоанновне все попроще было.
— Это и я тебе скажу. Покойная государыня сама пышно убираться любила, но чтоб целый город украсить да развлекать, и в мыслях не держала.
— А Федора Волкова жаль. Сгорел человек, как свечка, сгорел.
— Так ведь казалось, будто и не такой мороз, а на деле в конце масляной оттепель оттепелью, а все зима, теплом ниоткуда не повеет. Он, бедняга, с коня днями не сходил — досматривал, чтобы все по вашему замыслу было. Улицы длинные, народу — откуда только набралось, погреться негде.
— Да, три дня маскерад шел — три дня Федор Григорьевич не ел, не спал, в тепло не заходил. Не диво простудную горячку схватить. Но актер — одно дело, а вы, батюшка, человек чиновный, заслуженный.
— Думаю, все думаю, чем государыне императрице не угодил. Даже место полковничье добровольно отдал, а вот поди ж ты.
— А что же на аудиенции прощальной сказать изволила?
— Не было аудиенции, Михайла! Не было!
— А что Бецкой на то? Он же ежечасно при императрице?
— Сам не отходит, да и ее величество его от себя далеко не отпускает. Спесив наш Иван Иванович стал, куда как спесив. Понять дает, что все дела вместе с императрицей решает.
— Ну, там спесь его не про нас, полагать надо. Какая он ни есть персона при дворе, а все равно побочный сын Трубецких. Вам благодарен быть должен, что вы его приняли, родством сочлись. Фамилии, и той настоящей не имеет!
— Полно, Михайла Матвеевич, полно, братец. Что теперь-то счеты сводить. Иван Иванович недоумение великое по поводу отставки моей изобразил, будто неведом ей был, а потом намекнуть изволил про маскерад.
— Про „Торжествующую Минерву“? Что же это за намеки за такие?
— Мол, не многовато ли поучений императрице задумали, не слишком ли на самодержавие ее замахнулись: и то неверно, и то грех, и то народу не на пользу. Мол, государыня сама во всем разберется. А нам бы больше радоваться, что благополучно власть приняла.
— Не рано ли радоваться-то? Много ли знаем?
— Эх, Михайла Матвеевич, Михайла Матвеевич, самодержцы они и есть самодержцы. Думаешь, покойный государь Петр Алексеевич поучать бы себя позволил? Это, братец, все на словах да с одной стороны: государь сам о себе разговор ведет, сам себя хвалит. А тут от большого ума едва не энциклопедию французскую на улицах представлять начали. Какой коронованной особе понравится?
— Но ведь ее императорское величество все дни по улицам вдоль шествий проезжала, смеялась, нам благоволение свое высказывала.
— Вот и доездилась. Иван Иванович вчерась ввечеру заехал, от гордости да спеси разговорился, что мало народ на государыню дивился — больше зрелищем развлекался, того уразуметь не смог, что все это к восхвалению совершенства новой монархини.
— Даже так?
— А тебе и в голову не пришло?
— Да приходило, приходило, Михайла Матвеевич, когда стихи сочинял да программу придумывал! Потому и писал, я-то теперь знаю.
— Так ведь просвещенный монарх…
— Он и есть допрежь всего монарх, каким себя ни выставит. Я, старый дурень, за свое получил, а вот Левицкого мне жалко. Думал его придворным живописцем сделать, о награде ему хлопотал — у государыни ровно ушки золотом завешаны. На прошение мое ни привета, ни ответа.
— Коли так, какой ему резон в Петербург уезжать. Пусть в Москве потрудится. Для него работа живописная всегда найдется.
— Может, ты и прав. Присоветую ему в столицу не возвращаться, а уж ты тут его не забудь, слышишь!
* * *
Москва. Замоскворечье. Квартира Левицкого. Агапыч и Левицкий.
— Припозднились, батюшка, Дмитрий Григорьевич, ой как припозднились.
— Чего испугался, Агапыч?
— Как не испужаться, батюшка. Москва город преогромный, улицы, вона какие широченные, народищу тьма, а народ-то разный. Темным временем грех да беда на кого ни живет.
— Я ж тебе сказал, к его превосходительству Бецкому в Воспитательный дом еду.
— А чего у шпитонков впотьмах-то делать?
— Не у воспитанников, Агапыч. Другие у нас дела. Слыхал ты, что государыня императрица велела больницу городскую в честь наследника строить?
— Откуда ж слыхать-то?
— Так вот у Данилова монастыря больницу заложили — Павловской назвали. Пока палаты больничные из дерева рубить будут, а там, Бог даст, по прожекту господина Казакова построят. Так вот мне, Агапыч, церковь больничную расписать надо.
— Хорошее дело, Дмитрий Григорьевич, Божье. Работы много ли?
— Немало — сорок образов.
— И список есть?
— На той неделе дать должны, тогда и торговаться время настанет.
— Оно, батюшка, знаю, вам бы все персоны списывать, а по мне церква всегда лучше. И работа больше, и платит без обману. Вы пока, Дмитрий Григорьевич, не больно дорожитесь. Оно бы только заказ получить. Время придет, и свою цену назначать станете.
— Прокурат ты у меня, Агапыч! Тебя послушать: все разумы съел. А на деле? Что у нас повечерять-то есть?
— Кашка черная с обеда осталась, Дмитрий Григорьевич. Коли охота есть, так и щец взгреть можно. Трехденные они у нас — кислехоньки.
— Тебе дай потачку, с утра до вечера кашей да щами кормить станешь.
— Оно верно, батюшка, галушки бы лучше к месту пришлись, особливо со сметанкой. Можно бы и вареников каких спроворить.
— За чем дело стало?
— Вы уж меня, батюшка, хотите казните, хотите милуйте, пока хороших денег за работу не будет, лучше грош-то лишний приберечь. Чай, не на Полтавщине живем.
— Да разве мало тебе за маскерады вышло? Теперь еще больница.
— Больница-то впереди. А за маскерады вам бы, батюшка, еще прикопить да домик купить. В своем дому не в пример лучше, чем по квартирам-то чужим шастать.
— Думаешь, хватит?
— А вы только Агапыча-то не ругайте. Глядишь, он вам и скопит домик-то.
— Еще где тому домику быть, неизвестно.
— А уж это как Бог даст. Главное — было б на что купить.
— Похоже, Агапыч, в Москве нам с тобой оставаться.
— А хоть бы и в Москве — чем плохо? Дома барские богатые. Сады расцветут, как у нас на Украине. В каждом доме и кони, и скотина. Колодези с журавлями. Если уж домой не возвращаться…
— Опять ты о своем!
— Сердце-то щемит, батюшка Дмитрий Григорьевич, ой, как щемит.
— Хочешь, чтоб в Маячку тебя отослал?
— Ни-ни, батюшка, я без вас никуда. Сказали в Москве — в Москве и будем жить. Бог милостив, приобыкнем.
— Сбил ты меня с мысли, надо же!
— Никак о другой какой работе сказать хотели?
— Верно. Иван Иванович Бецкой захотел, чтобы я все портреты опекунов Воспитательного дома писать тут же начал.
— Вот и слава богу! Когда приниматься-то будем?
— С образами управимся. Не раньше.
— Не обиделся бы господин Бецкой.
— Объясню я Ивану Ивановичу.
— Объяснить, а все неуважительно выйдет. Может, об образах поминать не будете? К чему его превосходительству пустяками головку-то забивать.
— Чтобы мое положение выразумел.
— Ваше? Да нешто превосходительству интерес есть в вашем положении? Вы согласитесь, Дмитрий Григорьевич, обязательство какое подпишите, а там уж как Бог даст. Лишь бы работа не ушла. Немного нас, да с образами справимся.
* * *
Москва. Переулки у Арбата. Дом художника В.И. Васильевского. Васильевский и Левицкий.
— Не больно ли мы свой гонор тешим, Дмитрий Григорьич? Написали образа, подержали против срока, так и честь пора знать.
— Поговорка такая есть, Василий Иванович: хороша честь, когда нечего есть. Русская поговорка.
— Да и у нас в Польше такая же.
— Что ж вы тогда о чести толкуете? Заказ был, уговор записан, а денег нет как нет.
— Не велики мы птицы с тобой, друже, чтобы с панами из Гофинтендантской конторы тягаться.
— А коли на своем не настоять, образа отдать, они церковь осветят, тогда и вовсе не видеть нам своего заработка.
— Так императрицу ведь ждут.
— Потому и заплатить должны. Люди мы с вами вольные, достоинство свое иметь должны.
— И где ты, братец, смелости такой набрался. Меня от слов твоих так оторопь берет.
— Да сами посмотрите, Василий Иванович, вот он приказ 1 февралем 1767 года: „Иконописца Василия Васильевского и вольного малороссианина Дмитрия Левицкого есть ли они из состоявшейся за ними за написание в те церкви святых образов восьмисот семидесяти пяти рублей еще уступки не учинят и указанных пошлин на себя не примут, то к написанию оных образов допустить и за ту цену без вычета пошлин, ибо есть ли другие которые б пошлины на себя приняли или уступку от цены учинили приискивать и о том еще публике производить, то те образа к надобному времени как церкви нынешнего 1767 году летом совсем к освещению по именному высочайшему указу изготовить велено уповательно написаны не будут…“
— Спасибо Карлу Ивановичу Бланку.
— Конечно, спасибо. Как обещал, так и сделал. Только ведь и мы с вами, Василий Иванович, на своем настояли.
— Смелый ты, друже!
— Вам ли смелым не быть, Василий Иванович. Я еще в Петербурге, в Петропавловской крепости на ваши картины глядел.
— О каких ты, Дмитрий Григорьевич? Откуда узнал?
— Алексей Петрович Антропов мне ваше „Чудесное освобождение апостола Петра из темницы“ особо показывал. Будто еще при государе императоре Петре Великом вы писали.
— Что нет, то нет. При императоре Петре, да только Втором. Светлейший Александр Данилович Меншиков самолично мне заказывал в том понятии, что государь как бы чудесно на отеческий престол взошел. Покуда писал, светлейшего уже не стало. Спасибо, картину все равно взяли. А я тогда вместе с государем как на коронацию в Москву выехал, так уж в северную столицу возвращаться не стал. Здесь покойнее.
— А как же так случилось, Василий Иванович, что хотя вы и польской нации, назначили вас синодальной Изуграфской московской конторой руководить? Ведь контора за иконописанием и живописью церковной специально досматривала.
— Да, каждую икону нам представлять должны были новую. Плохое письмо досмотрщики отбирали, на хорошем клейма ставили. А на месте-то этом я Ивана Зарудного сменил. Отменнейший, скажу, мастер был, царствие ему небесное. И архитект, и живописец, а иконостасы какие рисовал — истинное чудо! В Москве со времен Оружейной палаты повелось художников по нациям не делить — знал бы мастерство свое в совершенстве.
— Так и мне показалось, в Москве художникам почет больший.
— Да и шляхетства среди них немало. Вот из государевых Петра Великого пенсионеров архитекты, что в Москве строили, — Мордвинов из помещиков, Мичурин из дворян костромских.
— А князь Ухтомский?
— О Дмитрии Васильевиче и не говорю. Ведь фамилия российская древнейшая, знаменитейшая. Из Рюриковичей. А начинал в Славяно-греко-латинской академии. Оттуда его по способностям к Ивану Мичурину в ученики направили архитектурии учеником, от Мичурина — к Коробову Ивану Кузьмичу. Иван Кузьмич пенсионером государевым в Голландии учился, сюда вернулся, до чина полковничьего дослужился. Жаль, умер рано, в первых летах правления государыни императрицы Елизаветы Петровны скончался. Тут его князь Дмитрий Васильевич и сменил — первым архитектором в Москве стал.
— И что же?
— Как, что же?
— Сказывали, теперь его и в Москве не увидишь. Будто только в Троице-Сергиевой лавре занят.
— Приказ такой в 760-м году вышел вместо него Петра Романовича Никитина назначить.
— За какую вину или недосмотр какой?
— Надоел прислужник, вина сама сыщется.
— И Никитин согласился? Ведь ученик он его — почему не отказался, резонов за учителя не представил?
— Вроде и в летах ты уже, Дмитрий Григорьевич, а по рассуждению — чисто младенец. Отказаться! Петр Романович бы отказался, другой согласился. Коли судьба такая князю, как ей перечить будешь.
— Я бы отказался!
— Дай же тебе Бог, друже, до старых лет с головой дожить: неровен час потеряешь.
— А хоть и потеряю, против совести не погрешу.
— Сказывал мне Михайла Матвеевич Херасков, какой ты отчаянный, да не верилось, чтоб уж до такого предела. Ему-то в радость, а мы с тобой, хоть и разной породы, а все люди подневольные. Неужто и впрямь думаешь, художника кто за барина почитать будет? Не будет, друже, ни за что не будет. И отчего не будет, скажу. Раз за работу тебе платят, а ты на плату эту живешь, все едино в одном ряду с прислужниками будешь. Да и лукавый силен: все думается, ниже поклонюсь, лучше угожу, больше получу. Художнику оно легко, вот друг перед другом и стараются. Вот ты сказал, картина тебе моя в церкви Петра и Павла по душе пришлась. Может, оно и так, а ведь мог бы я и в Италии поучиться. В пенсионеры государевы назначен был. Не дивись, не дивись, так и было, да сказал по молодости слово лишнее, так на всю жизнь здесь и остался. Спасибо, в Москве прижился. О большем и толковать не хочу. А ты мне будто в укор о совести толкуешь.
* * *
Москва. Замоскворечье. Квартира Левицкого. Левицкий.
Вьюжит. Который день вьюжит за окном. Свет блесткий, а без цвета. Краски гасит. В полдень сумеречными тенями в углах ложится. От печки высокой ценинной теплом тянет, от стен — холодом. Дом старый. Мох в срубе перегнил — хозяину горя мало. Съедешь — не пожалеет, все жарких печей опасается: пожары в Москве не в диковинку. А как без жара холсты сушить. Да холсты еще подождать могут, зато с образами спех великий. Для Кира и Иоанна к октябрю торопились, еще летом топить начали. Да вышло до января ждать. Контора Гофинтендантская под самый приезд государыни расплатилась: едва времени достало образа в иконостас вставить, кое-где фирнисом прикрыть. Для Екатерининского храма зимой спешили, особливо для придела Николы. О нем по первоначалу не подумали, а образов много оказалось. Теперь все. Опекунов в зал Совета в Воспитательный дом вывезли. Образов нет.
Днями Иван Иванович Бецкой к себе позвал. Следует, мол, в Петербург переезжать. В Петербурге Академия, выставки будут, Бог даст, двору приглянешься. А в Москве чего лямку из раза в раз тянуть. Да и заказов не дождешься — дела коронационные к исполнению пришли. Новых не будет. Не станет государыня о Москве думать.
Строганов Александр Сергеевич присоветовал тоже: портрет ему больно понравился. У скольких художников по всей Европе персону свою писать заказывал, а и здесь похвалил. Обещал перед императрицей предстательствовать. Вот и выходит, с первопрестольной прощаться пора. Михайла Матвеевич Херасков сам о Петербурге думает. Все на одно выходит: ехать.
…В старой Третьяковской галерее его можно было не заметить — знаменитого Левицкого, ютившегося в маленькой проходной комнате, с тремя дверными проемами: на главную лестницу, в большой зал, с которого начиналось новое русское искусство, и еще больший зал с полотнами Боровиковского, пейзажиста Федора Алексеева, портретами Степана Щукина. Любители и знатоки ухитрялись задерживаться в людском водовороте, подходить к отдельным холстам, на считанные мгновения встречаться взглядом со спокойными, погруженными в размышления лицами. Развешанные в несколько рядов, они ускользали от внимания, словно избегали встречи. Откупщик Сеземов, супруги Львовы, поэт И.И. Дмитриев — портретов было много, и все же…
Другое дело — Михайловский дворец. В Русском музее все выглядело иначе. Торжественный белоколонный зал. Штучный лощеный паркет. Сложнейшая роспись потолка. Окна, обращенные на газон просторного сада. Всегдашний сумрак — северная сторона! И одинокие посетители, теряющиеся в гулкой дворцовой пустоте, в окружении портретов, среди которых первыми обращали на себя внимание девушки, иначе — как их называли — „Смолянки“. В простых институтских, кокетливых театральных и роскошных модных платьях. Танцующие, декламирующие, рассуждающие, представляющие сценки из давно забытых спектаклей. Они вписывались и все-таки не очень вписывались в белоснежно-золотые интерьеры великолепного зодчего Карло Росси. Они подходили к ним по времени, но представлялись слишком непринужденными, своевольными, не скованными рамками придворного этикета. Они обладали характерами, хотя по требованиям времени должны обладать только красотой. Но красоту рождала кисть художника, его понимание человека и чувство цвета.
XIX столетие оказалось неблагосклонным к художнику. Произведения Левицкого были вытеснены из памяти зрителей, как, впрочем, и других мастеров XVIII века, произведениями более поздних мастеров. Только на рубеже ХХ столетия выставки заново открыли его любители: Павел Михайлович Третьяков интересовался современными ему художниками и обратился к прошлому лишь в конце своей собирательской жизни, Иван Евменьевич Цветков специально заинтересовался Боровиковским. Слава первооткрывателя великих русских портретистов XVIII века досталась Сергею Дягилеву. И, конечно, Александру Бенуа, восторгавшемуся „кукольным“ и „жеманным“ временем, в котором для Левицкого существовали просто люди. Московские годы помогли окончательно определиться художнику. Он умел и мог писать образа. Он знал, как следует писать самые сложные аллегорические панно. Но он умел и хотел писать только портреты. После академической выставки 1770 года последовало звание академика живописи, а в марте 1771 года — назначение руководителем одного из самых многолюдных в Академии трех знатнейших художеств — портретного класса. „Смолянки“ пришли почти сразу после нового назначения. Загадкой было, что представляла собой эта серия, растянувшаяся на несколько лет, кто нуждался к ней и почему.
* * *
Париж. Дом С.К. Нарышкина. Нарышкин и Дидро.
— Так что же, вы приняли наконец решение, Дидро?
— О поездке в Петербург?
— Конечно. Вы так долго колеблетесь, будто не способны вообще покинуть пределов Парижа.
— Но, дорогой князь, я и в самом деле не путешественник. Меня не манят чужие страны и я никогда не чувствовал в себе влечения к географии.
— Бог с ней, с географией, вас ждут ваши друзья и поклонники. Даже будучи полным эгоистом — а вы не способны таким стать — нельзя не подумать о них.
— Мои поклонники! Это лестное преувеличение — не более. Другое дело — императрица.
— Поверьте, ее императорское величество выражает мысли и чувства нашего общества. Такова удивительнейшая способность Великой Екатерины. Но если бы даже речь шла об одной государыне, неужели ее дружбы недостаточно для того, чтобы пуститься в путь?
— Но Петербург — это так далеко!
— Разве мало русских вы видите в Париже? И все они проделывают этот путь по многу раз в своей жизни.
— Их привычки приобретены на просторах России, мне же не слишком много доводилось ездить даже по Франции. Поверьте, князь, по-настоящему хорошо я чувствую себя только на парижских мостовых и в стенах парижских салонов. Даже загородная жизнь мне наскучивает очень быстро, и я стремлюсь опять к своим книгам, к своему бюро — только они и способны дарить мне настоящее счастье.
— Вы отвлекаетесь от моего вопроса, Дидро. Между тем я ведь тоже обязан отчетам ее императорскому величеству и использовал уже, кажется, все мыслимые и немыслимые доводы, чтобы оправдывать ваши бесконечные оттяжки.
— О, я чувствую, как использую вашу дружбу, князь.
— Только не надейтесь до бесконечности использовать мою снисходительность. Поверьте, Дидро, я думаю не столько о собственных огорчениях — в конце концов, я не столько дорожу службой, сколько о ваших перспективах. Без поездки в Петербург вам трудно будет пользоваться милостями ее императорского величества.
— Вы хотите напомнить, скольким я обязан Великой Екатерине? Поверьте, в этом нет нужды — моя благодарность вашей монархине умрет только вместе со мной.
— Я выдам вашу тайну, Дидро, если скажу, что вас что-то смущает в отношениях с государыней? Доверьтесь мне — я легко сумею объяснить любое недоразумение. А в том, что это всего лишь недоразумение, я абсолютно уверен.
— Князь! Какие же сомнения мог бы испытывать я, простой смертный, в отношении небожительницы? Удивляюсь, как подобная идея могла прийти вам в голову!
— Дидро, ваша ловкость неподражаема, и тем не менее я думаю, все дело в письмах вашего друга Фальконе. Он недоволен ходом работ над памятником, не правда ли? Или ждал совсем иного отношения со стороны императрицы? Ну же, мой друг, решайтесь на откровенность.
— Дело не в одном Фальконе. Мы вместе с императрицей обсуждали в письмах идею памятника великому Петру, и у нас не было разногласий.
— Так в чем же дело?
— В тех мелочных придирках, которые в конечном счете ничего не оставляют от нашей идеи. Фальконе, естественно, не соглашается, но это стоит ему стольких нервов и бессонных ночей.
— Разве эти придирки исходят от императрицы?
— Как бы я смел назвать придирками замечания ее императорского величества!
— А если не императрицы, то кого же?
— Господина Бецкого. Все дело в том, что со времени приезда в Петербург Фальконе не может добиться аудиенции у ее императорского величества. Господин Бецкой оказался его единственным начальником и верховным судьей.
— Вот видите!
— Что же здесь видеть? То, что ее императорское величество после стольких авансов попросту пренебрегает художником, которого сама же пригласила для работы?
— Дидро, помилуйте, о каком пренебрежении может быть речь? Это естественно, что государыня занята множеством государственных дел.
— Но она находила время для переписки с Фальконе, пока он находился в Париже. Наконец, можно лишить меня счастья получить лишнее письмо ее императорского величества, лишь бы достойно решить судьбу монумента, по которому потомки будут вспоминать правление Екатерины. Наконец, — и Фальконе это знает наверняка — ее императорское величество все вечера проводит за карточкой игрой. Так о каком же отсутствии времени вы говорите, князь?
— Мой дорогой, вы забываете, что скипетр и порфира налагают определенные обязательства. Государыня не считает возможным нарушать придворный протокол, тем более что та же карточная игра дает великолепную возможность для самых серьезных разговоров и с собственными сановниками, и с иностранными дипломатами. Неужели вы думаете, что Великая Екатерина тратит время на собственные удовольствия? Я удивляюсь вам, Дидро! Вас может извинить только ваша удаленность от придворной жизни.
— И слава Богу! Я никогда не мечтал о прожигании жизни во дворцах.
— Тем не менее вы не станете отрицать, что там должен существовать свой распорядок?
— Но письма…
— Я перебью вас, мой друг. У ее императорского величества есть часы, отведенные на личную корреспонденцию, и это то же входит в распорядок жизни императрицы. Нарушать его ради Фальконе? Но зачем? Государыня переписывалась с мастером, пока обсуждалась основная идея памятника. Коль скоро эта идея была выяснена, смысла в личном общении не осталось.
— Значит, этот пресловутый господин Бецкой передает скульптору желания императрицы?
— Я этого не говорил. Напротив — я думаю, это его личные замечания, совершенно, кстати сказать, не обязательные для Фальконе. Но у меня великолепная идея, мой друг! Приехав в Петербург, вы в личных беседах с императрицей разрешите все сомнения по поводу фальконетовского монумента, в котором принимаете столь живое участие.
— Вы просто соблазняете меня, князь. Кстати, должен вам сказать, что императрица находит время для разговоров с мадемуазель Колло, постоянно настаивает на ее присутствии по дворце и засыпает ее заказами.
— Это вам известно от Фальконе?
— Да, и он мне сообщает об этом не без доли вполне справедливой обиды.
— И, значит, мадемуазель Колло появляется во дворце в то время, как Фальконе вынужден сидеть в мастерской? Мне никто не сообщал об этом.
— В том-то и дело, что Мари-Анн отклоняет все самые лестные предложения и, несмотря на явное недовольство императрицы, не появляется нигде. Ее надо знать, нашу мадемуазель Виктуар. Она раз и навсегда определила свое место за спиной учителя.
— Нет, мой друг, положительно вы должны приехать в Петербург хотя бы ради ваших столь близких друзей. А что касается путешествия, в коляске Семена Кирилловича Нарышкина вы не ощутите никаких неудобств пути. А сколько интереснейших разговоров мы с вами будем вести. Ну, соглашайтесь же, Дидро, соглашайтесь!
На академическом Совете — волнение. Господа преподаватели только что узнали новость, и какую! Семен Кириллович Нарышкин везет в Петербург Дидро. Подумать только, такую знаменитость! Живописцев знаменитых перебывало в северной столице предостаточно, но никого из философов французских принимать ей не приходилось. Слухи растут и множатся. О дружбе философа со скульптором Фальконе — наконец-то монумент может быть приведен во окончание. О том, что не принял господин Дидро приглашения императрицы жить во дворце, но согласился поселиться у Семена Кирилловича — значит, свободе своей изменять не хочет. Что новые рукописи с собой везет — по живописи и скульптуре — скорее всего, удастся их прочесть. Споров в Академии много — на чьей-то стороне окажется великий энциклопедист. Антон Павлович Лосенко волнения не скрывает — ему дороже всех рассуждения Дидеротовы, да и приехал без году неделя из заморских стран, недавно в руководство классом живописи исторической вступил. Сколько из пенсионеров российских в Париже ни побывало, все о встречах с Дидеротом как о великом счастье писали. Помнится, в 1765-м закончил философ дополнение к „Салонам“ — обзорам выставок, что каждый год в Париже бывают, свой опыт „Опыт о живописи“, еще и публикации никакой не было, а уж российским пенсионерам все известно стало. Спасибо посланнику, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну. Он с Дидеротом в великой дружбе состоял, все мысли философа в собственноручном письме Совету Академии изложил, а прежде отправки пенсионерам прочитал.
* * *
Петербург. Академия художеств. А.Ф. Кокоринов и Г.И. Козлов.
Под сводами коридоров академических полутьма разлита. По углам к полу стекает. Окна огромные, да какой свет из внутреннего двора — циркумференции, тем паче зимой. Классы на Неву выходят — все светлее. В большом зале, где натура стоит, и вовсе свечи горят. Тишина. Ступить полной ногой боязно: не нашуметь бы. Храм искусств — трех знатнейших художеств. Едва отстроен, еще доделок не оберешься, а уже храм. Воспитанники, и те понимают: голосов не подымают, быстрым шагом не ходят. А может, от скульптуры греческой, что по всем залам расставлена: глазу учиться надо.
— Вы из портретного, Александр Филиппович?
— Мимоходом заглянул, Гаврила Игнатьевич.
— За нового руководителя опасаетесь?
— Откуда же? Господин Левицкий свое дело знает, хоть за учеников первые взялся.
— Поди, своих, частных-то держал.
— То-то и оно, что нет. Сам с Антроповым работал, в Москве — с Васильевским, а своих не имел.
— Как только с работой справлялся!
— Видно, получалось. Может, в Москве оставаться не хотел. Есть у него помощники — еще с Украины — сам говорил, а учеников не хотел.
— И все же, Александр Филиппович, опасение какое-то имеете. Которую неделю на вас смотрю — не в себе вы. Не из-за Левицкого же.
— Да нет-нет, Гаврила Игнатьевич, хотя… Пожалуй, вам одному и могу сказать. Одному тяжко.
— Господи, Александр Филиппович!
— Жизнь моя вам известна. До 752-го года состоял я в Москве архитектурии учеником, а там Иван Иванович Шувалов приехал в первопрестольную, посчастливилось — внимание на мои прожекты обратил. В Петербург с собой забрал, строить свой дом поручил.
— На Итальянской. Еще бы не знать! Преотличнейший дворец.
— Вот этот-то дворец поперек жизни моей и стал. Иван Иванович обещался пенсионером меня на казенный кошт в Италию послать, императрице доложил, всемилостивейшее разрешение получил. Только дом для него важнее был — с окончанием торопился, меня так и не отпустил.
— И впрямь досада великая. Зато какое новоселье пышное состоялось. Господин Ломоносов оду специальную сочинил, до сих пор начало помню: „Мы радость от небес, щедроты благодать, приемлем чрез тебя, Россиян верных мать“. Государыня Елизавета Петровна как вас хвалить изволила.
— О чести не говорю. Очень тогда граф Кирила Григорьевич добивался, чтобы к нему в Глухов ехать, мол, только мне и стоит дворец Разумовских возводить в его столице. К государыне самолично обращался. Где там!
— Зато господин Шувалов вас архитектором Академии назначил — это ли не почет.
— В 785-м году это случилось, что уж я единолично все работы по строительству вести стал, а там адъюнкт-ректор, потом ректор Академии.
— Так из чего ж огорчаться-то вам?
— Моя она — Академия, детище мое во всем, а вот теперь уходит от меня, день за днем все дальше уходит.
— Как, уходит? Не пойму вас, Александр Филиппович.
— Да вспомните вы, Гаврила Игнатьевич, как преподавателей мы собирали. И художники, художники-то какие! А где они все, позвольте вас спросить? Кого из них назовете? Хорош Левицкий, слова нет, да ведь ради него уволили Головачевского Кирилу Ивановича. Талантом он, может, Левицкого послабее, а усердием да опытом? Любовью к воспитанникам, к Академии самой? Сами скажите.
— Что сказать-с? Оно, конечно, товарищей жалко…
— То-то и оно, что жалко. Ведь все мы здешние, заграничными пенсионерами не удостоились быть, да и как бы ими стать могли. Антон Павлович Лосенко, Иван Семенович Саблуков да Кирила Иванович — все трое у Аргунова учиться пошли, когда с голосу как певчие спали.
— Да, с малолетства их с Украйны привезли. Певчих-то придворных никогда без дела не оставляли. Они о живописи просили. Придворное ведомство занятия их у Аргунова и оплачивало, почитай, лет пять.
— Еще Рокотов Федор Степанович назначен был — о нем иной разговор. Он московский, в родстве высоком состоит.
— Потому и уехал в Москву, Академию оставил. Даже с господином президентом объясняться не стал.
— Вот видите, видите, Гаврила Игнатьевич! Рокотов — в Москву, Саблуков — в Харьков. Сказался больным — грудь, мол, слаба, преподавать не может. А на деле? На днях письмо от него получил. Живет себе в Харькове, школу открыл, Бога благодарит, что от уз академических освободился. О Лосенке не говорю — он учеником академическим стал. А Головачевский уже в 762-м году адъюнктом произведен был, каких только обязанностей не исполнял. И казначей академический — честнее человека не сыщешь, и библиотекарем, и все имущество академическое на себя принять был должен. Четыре года прошло, звания советника удостоился, в Совете присутствовать стал. Еще году не прошло, класс ему портретный поручили. Ни в чем промашки не дал.
— Только, помнится, Кирила Иванович сам на пенсию запросился.
— А вы поверили? От какой иной должности бы отказался, нет, все разом порешил. А на поверку что вышло?
— Не отпустили, слава богу.
— Не отпустили! Все верно: инспектором назначили, библиотекарем да хранителем собраний академических оставили, только класса портретного лишили. Не нужен никому как учитель оказался. Каково это ему, как полагаете? Да еще на Совете соображение такое огласили, что „человек, не имевши начальных оснований для воспитания юношества и не пользующийся чтением иностранных книг, до того касающихся, не может быть способен к столь трудной и весьма нужнейшей для Академии должности“.
— Начальство — как с ним сладишь.
— Как я его отстоять хотел, с господином президентом на особность разговаривал. Куда! И слушать ничего не хочет, мол, образованности Кириле Ивановичу не хватает.
— Да как же тогда он библиотекой и музеем заниматься сможет?
— И я о том же подумал. Вслух сказать поопасился — еще и с этих должностей снимут.
— Неровен час! Лучше ему уж как-никак на академической службе оставаться.
— А Левицкий согласился на должность, даже не засомневался. О другом человеке не подумал.
— Полноте, Александр Филиппович, полноте! Да откуда ж ему было знать про наши внутренние дела? Пришел со стороны, знал, что предшественника его на другую должность перевели, не на улицу же выкинули.
— Еще чего недоставало!
— Все может быть, Александр Филиппович, все. Вот вы за Кирилу Ивановича гневаетесь, а каково его превосходительству Ивану Ивановичу Шувалову пришлось? Своими руками Академию создавал, всю коллекцию свою богатейшую в музей отдал, государыню, поди, совсем донял — все о средствах просил. А вышло что? И сам не нужен, и планы его не нужны. У нового начальника свои, у государыни апробированные. Лучше ли, хуже — время покажет. А может, и вовсе те же самые, да люди новые. У нас в России всегда так: новый государь — новые люди.
— Вот о том и хотел вам сказать: была Академия Ивана Ивановича Шувалова — стала Ивана Ивановича Бецкого, и нам, шуваловским, делать здесь боле нечего.
* * *
На пути из Парижа в Петербург. В дорожной карете С.К. Нарышкина и Д. Дидро.
— Мы путешествуем уже несколько дней, Дидро, у вас есть какие-либо претензии к экипажу или другим удобствам? Вы не выражаете никаких желаний, и это меня смущает. Как вы могли заметить, у меня их множество, и я постоянно их стараюсь устранять.
— По всей вероятности, у меня нет таких высоких требований к жизни, князь. Или я просто не научился им, но мне наша поездка кажется восхитительной. Это так покойно и вместе с тем любопытно. Вероятно, с такими удобствами ездит только турецкий падишах.
— О, я не хотел бы поменяться с ним местами. Турки всегда бывают потрясены русскими удобствами. В конце концов их бывает у нас немало — Россия ведь постоянно воюет с ними.
— Я имел в виду не падишаха турецкого, а некоего восточного деспота, образ из сказок „Тысячи и одной ночи“. Если наше путешествие во все время пути будет таким же восхитительным, мне останется только жалеть, что оно когда-нибудь подойдет к концу.
— Это произойдет в городе, который покорит ваше воображение. Нет-нет, не возражайте мне — даже после Парижа. Если бы вы могли сравнить его с Венецией…
— Князь, я не собираюсь этого делать и не сделаю.
— Но почему же?
— Я никогда не был в этом дивном городе и всегда вполне удовлетворялся восторгами моих друзей.
— Тогда, если вы попадете позже в Венецию, она уже не сможет привести вас в подлинный восторг.
— Даже так? Так великолепен Петербург?
— Венеция — тень прекрасного прошлого, Петербург — подлинность настоящего, и в нем трудились первоклассные зодчие. Впрочем, вы сами в этом скоро убедитесь. Единственная настоящая трудность для вашего друга Фальконе — создать памятник Петру Великому, достойный города этого императора.
— Позвольте-позвольте, князь, мне казалось, что вы уроженец Москвы, но мне еще не довелось услышать от вас ни единой похвалы этому древнему городу. Между тем о нем с восторгом писали все иностранцы, посещавшие когда-нибудь вашу родину. Вы, безусловно, предпочитаете ей град Петра?
— На ваш вопрос нет простого ответа. Для него нужно достаточно представлять себе историю российскую.
— Так дайте же мне хотя бы несколько ее уроков. Перед встречей с российской императрицей это будет для меня как нельзя более кстати.
— К тому же здесь замешаны семейные дела.
— Но это же великолепно! Кто, кроме вас, князь, может ввести меня в обиход русской жизни? Насколько мне известно, вы даже родственник великого Петра. Это правда?
— Правда. И довольно близкий.
— Тем более, тем более, князь! Если вас не утомляет рассказ, я готов его слушать до Москвы, неизменно восхищаясь вашим редким остроумием и даром рассказчика. В конце концов, я никогда не пустился бы в это путешествие без вас.
— Так что же вы хотите знать?
— Решительно все, что бы вы ни пожелали рассказать. Ваш отец общался с великим Петром?
— Он был одним из ближайших его сотрудников.
— Умоляю вас, начните именно с него.
— Пожалуй, но с одним условием — не смущайтесь спрашивать обо всем, что вам покажется непонятным. Жизнь и обиход в России никогда и ни в чем не были подобны французским.
— Обещаю с восторгом.
— Так вот батюшка мой Кирила Алексеевич получил придворную должность при государе, когда он был еще ребенком. Формально и Петр Алексеевич и его старший брат Иоанн являлись царями и соправителями. В действительности вся власть находилась в руках старшей сестры Иоанна Алексеевича — Софьи.
— О, я много слышал лестного об этой удивительной женщине. Я помню, что она обладала не только государственным умом, но сочиняла музыку, писала стихи и даже играла в пьесах собственного сочинения в придворном театре.
— Вы превосходно осведомлены, Дидро. Для иностранца, во всяком случае. Но мне трудно откликаться на ваши восторги. Дело шло о вражде двух ветвей царской семьи — от первой и второй супруги царя Алексея Михайловича. Царевна Софья представляла старшую, мы с царем Петром Алексеевичем — младшую.
— Бога ради, простите меня, князь, я невольно задел больные струны вашего прошлого. Но ведь оно было так давно, что любая струна должна была перестать звучать, не правда ли?
— И да, и нет, Дидро. Мы не будем просто развивать эту тему, если вы не возражаете.
— Князь, я винюсь в своей невольной бестактности.
— Так вот детство батюшки и государя Петра Великого прошло в общих играх и развлечениях. Когда государю удалось наконец избавиться от несносной для него и губительной для российского государства ферулы царевны Софьи, мой родитель стал его доверенным помощником во всех, и главным образом военных, делах. Он с успехом проходит вместе с государем так называемые Азовские походы на юг России, исполняет должность генерал-провиантмейстера при флоте.
— Но он же был, как следует из ваших слов, совсем молод?
— Так что же? Сила царствования Петра Великого заключалась в том, что он допустил к руководству государством молодых и незнатных людей. Все они были признательны за свое возвышение одному императору и вместе с тем были полны новых идей, не будучи приучены к старым.
— Это была настоящая революция!
— В определенном смысле — да, и государь мог полагаться на своих помощников. К тому же доверие к отцу было доверием родственным.
— Разве всегда родственные узы обеспечивали верность, князь? Я понимаю, ваш родитель мог быть исключением.
— Скажем, он им и был. Я наверняка собьюсь, если попытаюсь перечислить все службы и обязанности родителя.
— И все же, князь?
— Два года батюшка был воеводой во Пскове, как раз когда готовилась Северная война. В 1702 году, это я помню совершенно точно, ему досталось укреплять больверк в только что взятом русскими войсками Нотебурге — крепости, которая сегодня носит название Шлиссельбурга и которую вам непременно надо увидеть.
— Мне? Крепость? Вы смеетесь надо мной, князь. Фортификационное искусство никогда не волновало моего воображения.
— Дело не в фортификационном искусстве. Эта крепость, находящаяся в том месте, где река Нева вытекает из Ладожского озера, представляет город, который по праву заслуживает название северной Венеции.
— Венеции?
— Да-да, не удивляйтесь, именно Венеции. В ней нет дворцов — одни обывательские дома, зато вся она расчерчена сетью каналов, которые заменяют улицы и позволяют на лодках достигать едва ли не каждого дома.
— Что за идея!
— Очень мудрая, имея в виду, что кругом располагались ремонтные мастерские, а сообщение по реке избавляло от неудобств, которые приносит с собой осень в России. Невылазная грязь — наше национальное бедствие.
— Не пугайте меня, князь, я и так еле собрался с духом.
— Полноте, если бы только одни препоны физические мешали России, на них никто бы не обратил внимания.
— И ваш батюшка построил эту северную Венецию?
— Нет, государь перевел его на строительство одного из бастионов вновь основанной столицы на Неве. Вы скоро увидите напротив Зимнего дворца Заячий остров и на нем могучую Петропавловскую крепость, один из бастионов которой так и носит название Нарышкинского.
— Это очень лестно, князь, я готов завидовать вам.
— Не торопитесь, Дидро, главное, не торопитесь с выводами. В России никогда не известно, что последует за самой высокой славой.
— Конечно, разочарование и забвение, как и в любой другой стране.
— Тем лучше. Мне остается подтвердить, что моя родина не представляет исключения. Во всяком случае, батюшке моему после Петербурга довелось побывать обер-комендантом уже знакомого ему Пскова, затем Дерпта. Шесть лет он пробыл первым комендантом Петербурга. Назначение после этого московским комендантом свидетельствовало о недовольстве государя и было, как всегда в России, равнозначно ссылке.
— Ссылка в Москву на такую высокую должность? Наверное, это был не худший из возможных вариантов.
— Глядя из Парижа, Дидро. Но батюшка был возмущен до глубины души, не соглашался с назначением — в конце концов он был царственником и мог рассчитывать хотя бы на аудиенцию царя.
— Он не смог добиться аудиенции?
— Не только не смог. Сенат, ободренный неудовольствием императора, предъявил батюшке какие-то вздорные претензии и лишил его значительной части состояния.
— Значит, царь был настолько разгневан, что решил как можно чувствительнее наказать своего родственника?
— Все не так просто, Дидро, в государстве Российском. Государь разжаловал недавнего соратника, сослал и обездолил недавнего соратника, что не помешало ему включить моего родителя в состав судей, судивших старшего и единственного сына царя — царевича Алексея.
— И ваш батюшка были в числе тех, кто вынес смертный приговор несчастному принцу? В чем была его вина? Насколько это было справедливо?
— Дидро, вы задаете слишком много вопросов, и, кстати, на них нам не ответит ни один из русских придворных. Советую и вам умерить свое любопытство в этой области. События в царствующей фамилии не подлежат суду ее подданных.
— Я знаю, приговор был вынесен.
— Да, вынесен. Есть только одна небольшая подробность. Остается неизвестным — был ли этот приговор осуществлен или его нашли нужным вынести, когда принца уже не было в живых.
— Принц погиб в заключении? Болезнь? Самоубийство?
— Не будем вдаваться и в эти подробности. Известно только, что в момент смерти у него в темнице находился светлейший князь Меншиков.
— Так что он мог посодействовать этой кончине.
— Думайте, как знаете, Дидро, меня эта тема не интересует.
— А ваш батюшка — он был прощен царем?
— Почему вы так подумали? Просто он вскоре умер, уйдя из жизни за год с небольшим до кончины императора. Все его состояние было мне возвращено. Так принято — в России дети не должны отвечать за грехи родителей.
— И вы отправились завершать ваше образование!
— Мой Бог, как вы всегда торопитесь, Дидро. Батюшка дал мне превосходное домашнее образование. Я рано оказался при дворе в чине камер-юнкера, при дворе императрицы Анны Иоанновны никакого продвижения не имел и сразу после ее кончины выехал в Париж, куда мне и был прислан принцессой Мекленбургской чин камергера. По счастью, новая императрица Елизавета Петровна, моя дальняя родственница, не поставила мне этого во зло, и через несколько месяцев я оказался русским посланником в Англии.
— Перед вами открывалось великолепное поле деятельности, князь, не правда ли?
— Возможно, если бы меня интересовала служба. Но я оставался к ней равнодушен. В Париже я нашел свою вторую родину и стремился прежде всего туда вернуться. Моим близким другом был состоявший там русским посланником поэт Антиох Кантемир. Я дорожил отношениями с вами и с Фальконетом, и потому устроил так, что через полтора года мои обязанности были переданы другому вельможе. Правда, самому мне пришлось ехать в Петербург.
— Вы говорите об этом почти с огорчением!
— Мне действительно было жаль Парижа, но в Петербурге вокруг моего имени пошли шумные разговоры. Кто-то прочил меня президентом Академии наук — по счастью, эта скучная должность досталась девятнадцатилетнему почти неграмотному брату фаворита императрицы.
— Вот плоды самовластья!
— Не будьте так выспренны, Дидро. Кирила Разумовский, вы сами сможете в этом убедиться, милейший человек, великолепно знающий истинную цену всех своих наград. Меня, между тем, прочили даже в великие канцлеры — должность, также по счастью, предоставленная Алексею Бестужеву-Рюмину. Я откровенно сказал императрице, что не претендую ни на какие должности, не создан вообще для службы, и дело кончилось тем, что меня отправили за направлявшейся в Россию принцессой Ангальт-Цербской, которая везла представлять ко двору в качестве невесты боготворимую вами ныне монархиню.
— Бог мой, вы буквально стояли у колыбели рождения великой императрицы?
— Можно сказать и так. Хотя сам я смотрел на это дело куда более прозаически.
— Но как императрице Елизавете удалось угадать в подростке столь блестящие дарования? Или это перст Провидения?
— Прежде всего, никто не думал ни о каких дарованиях будущей супруги наследника российского престола. А в отношении Провидения все выглядело достаточно, я бы сказал, по-семейному. Дело в том, что в свое время Елизавета еще совсем юной принцессой была просватана за брата принцессы Каролины. Кажется, она была даже влюблена в него и, во всяком случае, очень тяжело пережила его раннюю смерть.
— От отравления?
— Дидро, вы неисправимы! От обыкновенной простудной горячки. Но удар для принцессы Елизаветы был тем ощутимее, что он обрекал ее на безбрачие и необходимость жить в стесненных и унизительных обстоятельствах при дворе сначала собственного племянника, а затем постоянно грозившей ей монастырем императрицы Анны. Императрица Елизавета не была сантиментальна, но та первая помолвка всегда вспоминалась ею едва не со слезами.
— Никогда не думал, что монархи способны на такие теплые чувства!
— И, скорее всего, были правы. Никакой верности своей первой любви императрица Елизавета не соблюдала. Скорее, наоборот — искала разнообразия и развлечений. Я думаю, она больше доверяла герцогине. Так или иначе, вместе с господином Бецким я поехал за невестой. Когда же бракосочетание совершилось, мне было дано звание гофмаршала двора наследника.
— Вы были до конца при несчастном императоре?
— Нет, меня никогда не интересовала политика. Я больше увлекался искусством и развлекал им великого князя.
— Вы имеете в виду музыку?
— И музыку — тоже. Вы увидите, Дидро, у меня превосходный собственный театр, который посещает весь двор.
— А как вы набираете актеров? Это же совсем не просто.
— Они принадлежат мне — только и всего.
— Они ваши рабы?
— Я не люблю этого слова, но в конце концов можно применить и его. Из принадлежащих мне крестьян я выбираю тех, кто обладает необходимыми способностями. Нанятые мною учителя учат их и потом выводят на сцену. Уверяю вас, они не оставят вас равнодушным.
— Они уже не оставили меня равнодушным: как можно совмещать рабское состояние с полетом творчества. Это нонсенс!
— Только не в России, Дидро, только не в России. Для нашего народа — это лучший способ выявлять и пестовать таланты. Все остальные пути слишком сложны.
— Россия не может составлять исключения среди стран Европы — вы никогда не убедите меня в этом! Никогда!
— Воля ваша, не я хочу привести вам самый простой и наглядный пример. В Петербурге придворный музыкант и капельмейстер, чех Иоганн Мареш изобрел особый род музыки. У каждого музыканта в руках находится рог, издающий одну-единственную определенную ноту. Чтобы сложилась мелодия, нужно множество музыкантов, почти как труб в хорошем органе. Кто из свободных исполнителей согласится на подобную роль — единственной ноты? Вы скажете, никто, и будете абсолютно правы. Но крепостные исполнители способны выполнить подобное условие без ропота и возражений — в результате рождается единственная в своем роде нарышкинская роговая музыка, которой я и надеюсь усладить ваш слух. Разве искусство не требует определенных жертв?
— Они не могут не выполнить ваших требований.
— Именно так. Но разве слушателю не безразлично, каким путем достигнут поражающий его эффект, который он, может быть, будет помнить всю свою жизнь?
— У меня нет слов!
— Вот именно. Имейте в виду, что эта музыка доставляет большое удовольствие нашей государыне. Мой племянник, граф Александр Сергеевич Строганов, специально разъяснял ее императорскому величеству все достоинства роговой музыки. Кстати, могу с гордостью сказать, граф служит чичероне императрицы и в области музыки, и в области изобразительного искусства. Я непременно познакомлю вас с ним.
* * *
Петербург. Дом С.К. Нарышкина. Нарышкин и Дидро.
— Итак, наша „Служанка-госпожа“ оставила вас равнодушным, Дидро. Вы даже не высказали необходимых комплиментов императрице. По помните, я пытался предупредить ваше разочарование или безразличие.
— Всегда и везде одни комплименты. С тех пор как я вышел из вашего экипажа в Петербурге, я физически ощущаю, как все и всюду ждут от меня комплиментов.
— Это так естественно: все готовились к вашему приезду.
— Дорогой князь, это становится слишком обременительным и к тому же совершенно, как вы знаете, не соответствует моей натуре. Я не придворный и делать из меня придворного совершенно бесполезное занятие, прежде всего неблагодарное.
— О, вы полны желчи, мой друг. Неужели вас вывела из себя эта действительно прелестная Сербина?
— Меня вывела из себя только пустая трата времени — ничего больше.
— Вы не допускаете самой возможности несколько развлечься, отойти от серьезных мыслей?
— Князь, я все допускаю, но в данном случае речь идет о моем детище, которое не унаследовало никаких черт своего родителя, и мое разочарование должно быть вам понятно.
— Вы имеете в виду институт благородных девиц?
— Вся система образования, в котором свелась к изумительной по богатству и изощренности — этого я отрицать не могу — театральной антрепризе, в которой заняты бедные девочки.
— Даже бедные?
— Бога ради, найдите для них иное определение — я не буду в претензии. Но как назвать их после того, как все детство было отнято у них ради бесчисленных упражнений, которые профессиональному актеру обеспечат всю будущность и кусок хлеба, а ими должны быть забыты сразу же, как они покинут — и это в скором будущем — стены института?
— Просто у них появятся другие обязанности.
— Вам все кажется таким простыми? О нет, князь, это далеко не так. Яд сцены отравит всю их будущую жизнь тем мишурным и призрачным счастьем, которого они больше никогда не достигнут.
— Не слишком ли серьезно подходите вы к простому детскому развлечению?
— Судя по потраченному времени и достигнутым результатам, оно и не детское и не развлечение. Это трудная работа, которую им придется бросить на полпути. Их по высочайшему капризу обрекли на время превратиться в актрис, и по такому же капризу всего лишат. Мне искренне жаль прелестную, как вы изволили выразиться, Сербину. Эта девочка действительно очень хороша, естественна, убедительна, к тому же, как мне показалось, она умна — в разговоре со мной она сумела блеснуть природным остроумием и непринужденностью, — но что же дальше? Что дальше, дорогой князь?
— Если так подходить к жизни, Дидро, никто не получит в ней и проблеска счастья.
— Мы говорим не о счастье, а о чужой воле распоряжаться юными жизнями. Я не скрываю, что протестую против всякого насилия.
— Мой друг, вы зашли слишком далеко. В таком случае и родители не должны распоряжаться судьбами своих детей.
— Родители? Но это совсем иное дело. Родители будут думать о своем чаде всю жизнь до гробовой доски, императрица же поиграет в занятные игрушки и просто их отбросит.
— Она безусловно обеспечит их будущность.
— Откупится от нее деньгами? Если бы все в жизни решалось так просто! Игра в куклы — вот как называется ваш пресловутый институт. Игра в куклы, которой забавляется ее императорское величество, может быть, потому, что не сложилась ее собственная семейная жизнь.
— Полноте, Дидро, что вы говорите: императрица не одинока и у нее растет сын.
— Меня не интересует институт фаворитов, а что касается сына, я не заметил и тени родственной привязанности в обращении императрицы с наследником.
— У великого князя непростой характер. И он очень напоминает собственного отца.
— Против такого преступления трудно возразить. Но это не мое дело, и я не хочу, чтобы меня заставляли по подобным поводам высказывать мою личную точку зрения. Кстати, что за идея вывесить портреты присутствующих здесь же в актовом зале воспитанниц? Это безвкусно и ранит самолюбие остальных воспитанниц.
— Не знаю, что имел в виду господин Бецкой, заказывая эту серию. Возможно, императрица захотела ими украсить дворцовые апартаменты в память своего благого начинания.
— Вы правы: дожидаться реальных результатов своих самых лучших начинаний — дело слишком долгое и в конечном счете неблагодарное. А между тем сами портреты показались мне достаточно необычными.
— В каком смысле?
— В них есть живость и непосредственность характеров. И хотя они несколько тяжеловаты, на мой вкус, по живописи, в них угадывается характер этих детей. Их писал несомненно русский художник?
— Да, господин Левицкий, руководитель портретного класса императорской Академии художеств.
— Он специально занимается портретами детей?
— Затрудняюсь сказать. Мне сказали, что он всего три года назад заявил о себе в Петербурге. Его предыстории я просто не знаю.
— Вы знаете, князь, я хотел бы с ним познакомиться.
— Нет ничего проще. Я приглашу его к себе.
— Отлично. У меня мелькнула мысль заказать ему мой собственный портрет. Не удивляйтесь, князь, меня можно заподозрить в тщеславии, тогда как в действительности мной руководит чистейшее любопытство. Мне любопытно узнавать, как меня видит разные художники. Тем более интересно, что сможет сказать кистью русский портретист.
— В таком случае я сразу же попрошу у вас разрешение заказать с него авторскую копию, чтобы оставить память о вас в моем доме.
— В принципе, это должна была бы сделать императрица, но, похоже, наши отношения не смогут сложиться.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. В мастерской Г.И. Козлов и Левицкий.
— Заказом доволен, Дмитрий Григорьевич?
— Еще бы не доволен, Гаврила Игнатьевич. Я бы и без заказа за честь почел ваш портрет с супругою написать.
— Мы с ней на портреты деньги не тратим, да и вешать бы у себя — велика честь для нас. Обойдемся. Другое дело — для коллекции академической. И нам почет, и тебе прок.
— Постараюсь, как смогу, Гаврила Игнатьевич.
— Старайся-старайся. Тебе главное для начала назначенного в академики устроиться, а там уж дорожка сама ториться будет. Усаживай нас с супругой как захочешь.
— Простите, Гаврила Игнатьевич, мне бы первый набросок стоячи сделать.
— А это почему?
— Господин Токкэ меня учил — чтобы положение корпуса натуральным было. Осанка опять же, а дальше хоть сажай, хоть клади.
— В первый раз слышу. Это что ж, его выдумка?
— Сказывал, французы все так поступают, разве что персону маленькую, миниатюрную пишет.
— Что ж, тебе видней.
— Да это недолго, вас не обеспокоит.
— Какое беспокойство! Ты лучше мне расскажи, как Москва там. Родом ведь мы с супругой оттуда. Дом князя моего Петра Федоровича Тюфякина не видал ли?
— Как не видать, коли мне сколько месяцев у его превосходительства князя Никиты Юрьевича Трубецкого стоять довелось.
— Ты посмотри, без пяти минут соседи, выходит. А слышать ничего про князя не слышал?
— Своими ушами слыхал разве что княжескую брань. Случилось мне Леонтьевским переулком идти, как княжеская колымага в грязи застряла. Лошади бьются, форейторы кнутами хлещут, а колымага чуть не по ось в грязь засела — не сдвинешь. Князь тут из колымаги высунулся, так браниться начал, что…
— Лошади карету вытащили. Известное дело! В Москве порядок такой — по весне, как снег сойдет, всю грязь на улице против собственного дома на свой огород свозить. Все чисто-начисто выскрести, а князь Петр Федорович ни в какую — до огородов далеко, так он и скотину, и людей жалеет, другими работами занимает. Дождь как пойдет, все у его ворот вязнут. Иной раз человек двадцать дворни выгонит, чтобы карету на руках вынести на сухое место. Сам вытаскивал — знаю.
— И как же вам удалось от ярма такого избавиться, простите за любопытство?
— Нечего прощать. Живописи одной я всем обязан.
— Как, живописи?
— Э, да ты с Малороссии, поди, порядков российских не знаешь. Неужто не дошло до вас, что Канцелярия от строений всех живописцев переписывает. Вольный ли, господский — все в ней помечены. Работы какие большие намечаются, живописный мастер тут же по списку определяет, кого вызывать.
— А помещики что же, соглашаются?
— А тут от их воли ничего не зависит. Еще с государя Петра Великого так повелось. Ежели талант да сноровка есть, мастеру и бояться нечего: не вернут его к господину, сколько тот ни требуй.
— И деньги за работу платят?
— Платят по таланту.
— И что же, их помещику отдавать следует?
— Вроде бы так, а на деле каждый боярин свой оброк положить должен, Канцелярия же от строений судит — правильный аль неправильный. Оброк заплатил, остальные деньги твои. Что хочешь, то и покупай. На себе испытал, все знаю.
— И сколько же лет вам так работать пришлось?
— Если честно сказать, немало. Для меня все 753-й год решил. Господин Перезиноттий тогда отделывать большой дворец в Царском Селе отделывать начал. Из Москвы преогромный список живописцев потребовал. Все живописцы с лейб-гвардейцами в путь отправились, меня одного мой князь не отпустил, в чулане держал. Князь на своем стоит, а господин Перезиноттий — на своем. Через два с половиной месяца дознались о моем заключении и меня под конвоем одного в Царское Село привезли. Как раз время подошло плафоны писать — мне их и поручили: господин Перезиноттий решил.
— Отличнейший мастер.
— Какой спор! Господин Перезиноттий после двух месяцев хотел меня в Петербург, в Летний дворец взять — не вышло. Начальство распорядилось мне плафон Эрмитажа в Царском Селе писать. Тут уж и господин Перезиноттий отступился. Жалованье по тем временам хорошее положили — 96 рублев в год. В театре для писания декораций занимать стали, а там и до вольной дело дошло. Сказывали, сначала государыне доложили, потом государыня князю Тюфякину намекнула. Тут уж не заартачишься — одно слово, царская воля. Как раз в это время и Академия основалась. Иван Иванович Шувалов решил меня в нее взять. В 1761 году это было, а в августе 762-го года в адъюнкт-профессоры произвели и положили отправлять дежурство в живописи исторической.
— А обязанности у вас какие, Гаврила Игнатьевич? Полюбопытствовать не разрешите ли?
— Отчего же нет. Это уж в августе 765-го, когда новый академический устав ввели и меня вместо адъюнкта академиком живописи исторической переименовали, порядок до конца расписан был. Прочтешь — руки опускаются, а на деле — ничего, и справиться можно, и для частных заказов время найти. Меня-то больше не заказы — школа моя интересовала.
— Независимо от классов академических? Это почему же?
— Не всем, Дмитрий Григорьевич, картины писать. Кому способности не позволяют, кому обстоятельства. Немало дворовых людей господа присылают подучиться, и им помочь надо. Глядишь, и выберутся, вроде меня. Менее 5–6 человек у меня не бывает. По дому тоже помочь могут — не прислугу же держать, да и скопом всегда ражней выходит.
— Дома, значит, по-старому учите?
— И по-старому, и не по-старому. Копировать да списывать с оригиналов их много заставляю, а в остальном пусть мой прием перенимают, за моей спиной стоят. Сам так учился, да и ты, Дмитрий Григорьевич, поди, тоже.
— Да уж, без срисовывания дело не обошлось.
— Вот видишь, и тебе не повредило.
— А в Академии как же, Гаврила Игнатьевич?
— Надо же, про Академию и забыл. Там, братец ты мой, мне четыре дня в неделю быть положено — понедельник, вторник, четверг и пятницу. Пред полуднем с девяти и до одиннадцати в классах для поправления в рисунках, колерах и композиции, пополудни же с четырех до шести в натурном классе — для установления модели и живой натуры и их поправления в работах ученических.
— Немало обязанностей, Гаврила Игнатьевич, совсем немало.
— Да и то не все. Приходится еще за преподавателями в Воспитательном училище смотреть, чтобы правильно начала рисовальные преподавали. Туда тоже на минуту не заглянешь — ко всему приглядеться следует, и с преподавателем, и с учениками потолковать.
— А когда ж, выходит, своими делами заниматься, своей школой?
— Можно в среду, можно на конце недели. Может, и немного времени свободного получается, зато оклад постоянный, почет. Заказы…
— Вот и кончил я набросок, Гаврила Игнатьевич. За терпение спасибо. Больше мучить вас не буду, разве что под конец что с натуры трону.
— Неужто и костюмы запомнил?
— Вот костюмы попрошу мне в мастерскую прислать — я их с манекенов писать буду.
Екатерина законодательница
Итак, в действительности все выглядело иначе, чем предполагали, впрочем, не располагая никакими документальными подтверждениями, историки искусства. „Смолянки“ не были заказом Екатерины — они стали лишним доказательством неприятия Екатериной художника. „Почерк“ Левицкого, его работы Екатерина знала достаточно давно, увлечения им не переживала никогда. В марте 1783 года она напишет Д. Гримму: „Есть портретная картина, выполненная Левицким, русским художником, для Безбородко, это именно ее Безбородко предпочитает всем остальным и с нее собирается сделать копию, чтобы послать вам“. Гримму был обещан царский портрет кисти неожиданно скончавшегося английского мастера Р. Бромптона. Но если французский корреспондент императрицы и не знал русского живописца, откуда все-таки полуизвиняющийся, полупренебрежительный тон, при котором Екатерина не нашла возможным добавить ни одного похвального слова в адрес художника, ни одного просто вежливого эпитета?
Судя по письму, Левицкий — выбор Безбородко, и только Безбородко. А между тем речь идет о „Екатерине Законодательнице в храме богини Правосудия“, одной из самых популярных среди современников картин мастера. Живописный аналог оды Державина „Видение Мурзы“, она была заказана Безбородко для его нового петербургского дома и с необычайной быстротой стала расходиться в копиях и, в том числе, в авторских повторениях. И тем не менее в словах Екатерины нет и тени признания — простое подчинение необходимости, навязанной статс-секретарем или даже не им одним.
Екатерину не волновала живопись. Как, впрочем, и балет, и театр, и музыка, и даже архитектура, которой императрица отдавала, по восторженным воспоминаниям царедворцев, так много часов в совещаниях со своими строителями. Ее настоящая страсть — слова: не воспринимать, но поучать, рассуждать, лишь бы поучения и рассуждения были должным образом оценены. И еще — она умеет, не скрываясь, любоваться каждым своим очередным избранником как интересной игрушкой, находя в нем все новые и новые достоинства по общепринятым меркам. Как раз на эти годы приходится „случай“ А.Д. Ланского.
Ланской несказанно увлекается живописью — почему бы и не одобрить его в этом, тем более что от получения полюбившейся картины „цвет лица его, всегда прекрасный, оживится еще более, а из глаз, и без того подобных двум факелам, посыплются искры“. Через полтора месяца после упоминания о Левицком императрица будет писать все тому же Гримму: „Бромптон умер, не окончив начатого портрета; но вы увидите, что выбор генерала Ланского недурен. Бог весть, откуда он умеет это выкапывать, каждое утро он рыскает по всем мастерским, и у него есть козлы отпущения, которых он заставляет работать словно каторжников; в моей галерее их слишком полдюжины, и он ежедневно доводит их до исступления. Одного из них он зовет Брудер, у остальных тоже имеются прозвища, но я готова биться об заклад, что он не знает их по имени“.
Был ли среди них Левицкий? Во всяком случае, в 1780 и 1782 годах он напишет два великолепных парадных портрета царского любимца, и один из них, особенно ценимый Екатериной, который она до конца своих дней будет хранить среди самых дорогих ей вещей. Ланской единственный в очереди избранников не дожил до своей отставки. Его раннюю и совершенно внезапную смерть окружающие готовы были связать с происками Г.А. Потемкина, а императрица отметила сооружением церкви в Царском Селе и памятника в царскосельском парке. Как же предположить, что она не знала Левицкого во всех подробностях его связанных с придворными кругами успехов.
Да, Екатерина никогда не позировала Левицкому — камер-фурьерские журналы, фиксировавшие каждый самый незначительный эпизод в жизни императрицы, позволяют это утверждать со всей определенностью. Имя Левицкого ни разу не возникает в ее переписке с Дидро, хотя вопросы искусства занимали в ней немалое место. А ведь Екатерина с явным удовольствием рассказывает о каждом очередном написанном с натуры изображении и всех своих переживаниях по этому поводу. В 1782 году она будет рассказывать об одном из таких эпизодов: „Живописец Лампи, приехавший к нам из Вены, недавно списал большущий портрет с вашей услужницы, и все говорят, что никогда не видали ничего подобного. Зато ж и мучили меня в 8 приемов“. Когда Лампи в соответствии с натурой попытался изобразить злосчастную морщину, Екатерина заявила, что он написал ее слишком серьезной и злой: „Пришлось переписать портрет, пока он не оказался портретом юной нимфы“.
Это давний специальный спор — любил ли и хотел Левицкий писать парадные портреты. Такие полотна есть в его наследии, их немало, и все же, что было ближе художнику — они или камерные изображения? Вряд ли в этом искусствоведческом споре есть смысл. Левицкий любил живопись, искусство и ремесло, умел легко и увлеченно применять свое мастерство к любой задаче и теми гранями, которые были нужны. Ланской — совсем юный красавец в изысканно-небрежной позе у подножия мраморного бюста своей явно стареющей державной покровительницы. Алый мундир артиллерийских войск — пусть новоиспеченный генерал не имел никакого отношения к артиллерии, главное, по мнению императрицы, ему к лицу алый цвет. Брошенная на кресло шляпа и в руках трость флигель-адъютанта. Мягкие переливы муара на орденских лентах — стала бы скупиться императрица на государственные награды! Золотое шитье мундирного камзола. Призрачные вспышки бриллиантов. Мягкий абрис щек, безвольный рот, капризный и неуверенный взгляд балованного ребенка. В нем нет ни ума, ни темперамента, разве беспомощность, неожиданно растрогавшая пятидесятилетнюю Екатерину. Сумел же он в минуту охлаждения императрицы так бесконечно и трогательно жаловаться на свою судьбу каждому встречному, что Екатерина — вещь неслыханная! — через несколько месяцев „вернула его в случай“. „Ланской, конечно, не хорошего был характера, — скажет о нем А.А. Безбородко, — но он имел друзей, не усиливался слишком вредить ближнему, а многим старался помогать“. Левицкий верен себе — там, где нечего сказать о душевной жизни своей модели, он не скупится на разноцветье натюрморта, виртуозно выписанных аксессуаров. Здесь они остаются неотъемлемой частью того, что можно назвать красотой Ланского.
Исследователями не придавалось значения тому обстоятельству, что в промежутке между выставкой 1770 года и первыми „Смолянками“ все время Левицкого занято царскими, исключительно высокооплачиваемыми портретами. Непосредственно после выставки Левицкий пишет, по свидетельству Якоба Штелина, портрет Екатерины „в ярко-красной русской одежде, в натуральную величину“, то есть в том самом виде, в каком императрица разъезжала по Москве во время знаменитого „Торжества Минервы“. Нещедрый на похвалы живописцам — его симпатии оставались на стороне музыки и театра, — Якоб Штелин здесь изменяет своему обычному правилу. Он отмечает, что художник „уловил сходство гораздо глубже, чем на всех остальных портретах, написанных до него“, и что „ему удалось показать всю силу выражения, прекрасную светотень и драпировку“. Тот же Якоб Штелин свидетельствует, что до портретов „Смолянок“ Левицкий исполнил еще один портрет Екатерины в натуральную величину, получив за него неслыханную среди русских мастеров цену в тысячу рублей.
Утверждения Якоба Штелина не были голословными. Дворцовые ведомости, в свою очередь, указывают, что годом позже Левицкому выплачивается за два императорских портрета тысяча рублей. На этот раз дело, по-видимому, шло о прямых повторениях. Оценка портретов и повторение заказов лучше всего свидетельствуют, что работы Левицкого получали апробацию при дворе и, скорее всего, были одобрены самой Екатериной. Одобрены, но не больше. Тон письма к Гримму это подтверждает.
Но есть и еще одно обстоятельство в жизни художника, которое может служить доказательством правильности того же предположения, — спорное дело Левицкого — Дебрессана. И кстати, откуда при дворе, в Дворцовом ведомстве могла возникнуть идея заказа большого царского парадного портрета, по сути дела, безвестному художнику, впервые показавшему свое мастерство в столице? Значит, были соответствующие рекомендации и поддержка определенного достаточно влиятельного лица.
Существо спорного дела заключалось в следующем. Директор Шпалерной мануфактуры А.И. Дебрессан решил уклониться от оплаты заказанного ранее Левицкому царского портрета на договорных условиях и вообще был склонен отказаться от заказа. Левицкий настаивал на оплате своего труда, в чем его деятельно поддерживал Совет Академии художеств. Оказывается, в 1774 году Шпалерная мануфактура уже располагала портретом Екатерины кисти Левицкого. Это был поясной портрет, и когда художник захотел им воспользоваться как оригиналом для очередного повторения, заказанного на этот раз З.Г. Чернышевым, Дебрессан поставил условием, чтобы Левицкий написал для мануфактуры еще один портрет императрицы — в рост. Явно недовольный таким оборотом, Левицкий пытался отговориться нехваткой времени. Но Дебрессан настаивал и предложил для ускорения дела грунтованный, натянутый на подрамник холст и казенного живописца в качестве помощника. Левицкому пришлось согласиться, приняв к тому же и дополнительное условие Дебрессана, чтобы лицо Екатерины было написано по портрету, написанному Левицким для княгини Екатерины Романовны Дашковой. В деле фигурировали все эти имена, а также имя Никиты Ивановича Панина, почему-то распоряжавшегося дашковским портретом.
Но то, чего так добивался директор Шпалерной мануфактуры в 1774 году, в 1775-м уже не было ему нужно. И трудно понять, откуда исполнительный чиновник набрался смелости отвергнуть заказанный царский портрет, если, к тому же, Левицкий пользовался поддержкой самой императрицы. Другое дело, если поддержка оказывалась художнику определенными лицами, придворной группировкой, к которой Дебрессан не принадлежал и против которой мог интриговать. В таком случае перечисление практически не связанных с существом спора имен приобретало совершенно особый смысл.
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова. По рождению из семьи Воронцовых, с которыми у Екатерины достаточно сложные отношения. Сестра Дашковой, Елизавета Романовна, — официальная фаворитка Петра III, которую тот мечтал возвести на российский престол. Но в отличие от ленивой и безразличной к политике старшей сестры, властная и честолюбивая Дашкова сразу принимает сторону Екатерины. Она — деятельная участница дворцового переворота, но почти сразу разочаровывается в новой императрице. Екатерина не думает предоставлять Дашковой исключительного положения при дворе, тяготится былой, со своей стороны, искусственной близостью и ищет предлогов положить ей конец. Не скрывающая возмущения княгиня после наступившей в 1764 году смерти горячо любимого мужа проводит несколько лет в деревне, в заграничных путешествиях и только в 1773 году возвращается в Петербург.
Связанный с бракосочетанием наследника съезд высоких гостей, появление Дидро и Гримма, лично знакомых с Дашковой и ценивших ее ум, редкую образованность, создавали благоприятную почву для попытки нового сближения с императрицей. И не ради ли такой попытки княгиня спешит заказать портрет государыни у Левицкого? Другой вопрос, что все усилия Дашковой бесплодны, и на грани полного разрыва с Екатериной она в 1775 году на много лет оставляет Россию. Само упоминание имени княгини в этот момент не может вызывать при дворе ничего, кроме открытого недовольства. Но, кстати сказать, когда Дашкова спустя несколько лет окажется снова в России и отношения с Екатериной будут формально восстановлены настолько, что княгиня получит назначение директором Академии наук, она обратится с заказом на собственный портрет снова к Левицкому, который его затем повторит, и притом несколько раз. Связь с художником выдержит испытание временем.
Второе имя — граф Захар Григорьевич Чернышев. Многолетний вице-президент Военной коллегии, в 1773 году он переживает свой самый высокий взлет и почти мгновенное падение: после назначения президентом Военной коллегии почти сразу следует назначение генерал-губернатором присоединенных к России по первому разделу Польши белорусских земель. Ссора с входившим в силу новым фаворитом Г.А. Потемкиным дала о себе знать без промедления. Ссылаться на З.Г. Чернышева в начале 1775 года равносильно желанию спровоцировать гнев самого Г.А. Потемкина. Дебрессан старается, к тому же, подчеркнуть подобострастное отношение художника к „бывшему военному президенту“: „Он Левицкой тогдашним временем господину графу Захару Григорьевичу Чернышеву часто домогался представить свою работу“.
Наконец, Никита Иванович Панин, чей затянувшийся на долгие годы конфликт с Екатериной именно в это время достигает особой остроты. Некогда сторонник переворота в пользу великой княгини, Панин видел в ней, однако, не будущую самодержицу, а всего лишь временную регентшу при несовершеннолетнем императоре-сыне. Но и сами по себе императорские права Никита Панин мечтал ограничить введением новой конституции. Утверждение за Екатериной всей полноты государственной власти не изменило его воззрений, а то, что его стремления выражали скрытые чаяния значительной и слишком влиятельной части дворянства, побудило Екатерину передать Панину наблюдение за воспитанием наследника и согласиться на его руководящую роль в Иностранной коллегии. Освободив Панина от обязанностей воспитателя в связи с женитьбой Павла в 1773 году, Екатерина могла с облегчением сказать: „Мой дом наконец-то очищен“. Но именно тогда и стало в полной мере очевидным влияние панинских идей в дворянских кругах.
Игнорируя официальные восторги по поводу организации государственной жизни при Екатерине, Панин позволяет себе сказать, что в России „в производстве дел всегда действовала более сила персон, чем власть мест государственных“. В одном из частных писем Екатерина скажет: „Панин был ленив по природе и обладал искусством придавать этой лености вид благоразумия и рассчитанности. Он не был одарен ни такою добротою, ни такою свежестью души, как князь Орлов; но он больше жил между людьми и лучше умел скрывать недостатки свои и свои пороки, а они у него были великие“.
Впрочем, императрица сама сознает, что такие булавочные уколы не изменят положения Панина в общественном мнении. Ни для кого в Европе не секрет, как твердо держится он и в совете императрицы, где поддерживает его Захар Чернышев. С обычной своей иронией Кирилл Разумовский заметит о собраниях этого совета: „Один Панин (Никита) думает, другой (Петр Панин) молчит, Чернышев (Захар) предлагает, другой (Иван Чернышев) трусит, я молчу, а другие хоть и говорят, да того хуже“. Но, не ограничиваясь словами, Никита Иванович Панин способен перейти к действиям. У него три доверенных секретаря: разделявший принципы энциклопедистов Я.Я. Убри, не менее склонный к вольтерьянству П.В. Бакунин Меньшой и создатель „Недоросля“ Д.И. Фонвизин. Этому последнему Панин поручает составление проекта конституции, которая виделась Екатерине прямой изменой ее правлению и основам трона, какой бы монархической в основе своей ни была.
Поминать имя Никиты Панина в деле Левицкого нет никакой нужды, но Дебрессан использует самый незначительный предлог, чтобы напомнить о той связи, которая многие годы существовала между этими людьми. Такого рода союз критически наблюдавших за происходящими при дворе событиями лиц мог только раздражать, если не представлять прямой опасности для спокойствия императрицы. Итак, три на первый взгляд случайных имени. Но были ли они случайными в жизни художника?
* * *
Нет! Само собой разумеется, нет! Родители и слышать не хотели о таком женихе для своей Машеньки. Ничего не скажешь, дворянин — но из немыслимой тверской глухомани. Единственный сын у отца — но от этого их родовые Черенчицы в шестнадцати верстах от Торжка не становились ни больше, ни богаче. Прекрасно образованный — но когда образование обеспечивало служебное преуспеяние? Принятый в домах самых блестящих петербургских вельмож — но живущий на гостеприимных хлебах у одного из них! Его покровитель, восходящая государственная звезда А.А. Безбородко, последние годы докладывал императрице все поступавшие на высочайшее имя письма — но, во-первых, частные, а во-вторых, с Николаем Александровичем Львовым его связывали всего только личная симпатия и служебные интересы, которые могли в любой момент измениться: никаких родственных связей не было и в помине.
И разве не вправе родители красавиц-дочерей, составлявших знаменитую кадриль наследника престола, великого князя Павла Петровича, рассчитывать на куда более высокую и связанную со двором партию для каждой из них? Тем более что старшую, Екатерину, удалось уже выдать замуж за графа Якова Стейнбока. Да и около младшей, выпускницы Смольного института Александры, неотступно находился богатейший малороссийский помещик Василий Капнист. При его землях и усадьбах можно было позволить себе даже писать и печатать стихи. О Николае же Львове поговаривали, будто и литературой он подрабатывал себе на жизнь! А всему виной — супруги Дьяковы не сомневались — злополучная мода на театральные представления и литературные опыты, в которых так выгодно отличалась от других девиц их дочь. В доме своего влиятельного родственника, дипломата Бакунина Старшего, где дня не проходило без любительского театра, концертов, шарад, Машенька Дьякова была предметом всеобщих восторгов.
Современники сравнивали Машеньку и с итальянскими певицами — у нее красивый, хорошо разработанный голос, и с французскими драматическими актрисами — у нее превосходный сценический темперамент. „Мария Алексеевна, — пишет в декабре 1777 года М.Н. Муравьев, отец будущих братьев-декабристов, — много жару и страсти полагает в своей игре“. И никто не остается равнодушным к ее изящным и совершенным по литературной форме экспромтам. Безнадежно влюбленный в Дьякову поэт Хемницер посвящает ей первое издание своих басен и тут же получает ответ:
По языку и мыслям я узнала, Кто басни новые и сказки сочинял: Их истина располагала, Природа рассказала, Хемницер написал.Пусть Дьяковой далеко до живших в те годы женщин-поэтесс Александры Ржевской-Каменской или Елизаветы Нероновой-Херасковой. Она не посвящает себя поэзии, но у нее есть ясность мысли, простота слога и тот разговорный, без славянизмов и выспренных оборотов язык, который введут в обиход русской литературы поэты окружения Н.А. Львова.
В 1778 году Левицкий напишет ее портрет, и граф Сегюр снабдит оборот холста восторженными французскими строками. В русском переводе они звучат так:
Как нежна ее улыбка, как прелестны ее уста, Ничто не сравнится с изяществом ее вида. Так все говорят, но что в ней любят больше всего — Это сердце, во сто крат более прекрасное, чем синева ее глаз.Со временем автор этого посвящения, французский посол в Петербурге, начнет пользоваться особым расположением Екатерины. Под полным своим титулом графа де Сегюр д’Арекко он напишет для императрицы собрание не лишенных литературных достоинств пьес „Эрмитажный театр“. Но при первой встрече с Дьяковой граф еще полон идей освободительной войны в Америке, в которой сам принимал участие. И эти вольнолюбивые мечтания делают его желанным гостем бакунинского дома.
На портрете Левицкого она кажется совсем юной, мечтательная красавица в пышных локонах искусной прически, напоминающей дело рук непревзойденного куафера королевы Марии-Антуанетты Боларда, в свечении шелковых тканей, лент, кружев, легко скользнувшего с плеча платья — полонеза. И она совсем не безразлична к прихотям быстро меняющейся моды, которая начинает требовать интимности и простоты и будет подражать фривольности утренних туалетов даже в официальных парадных костюмах. Просто художник сумел уловить, как нарочитость моды подчеркивает естественность манер девушки. Очарование Дьяковой не в правильности черт, не в классической красоте, которой у нее нет. Оно в той внутренней мягкости и теплоте, которыми светится ее облик, несмотря на отрешенный, словно отсутствующий взгляд. Сегюр прав, продолжая свой сонет:
В ней больше очарования, Чем смогла передать кисть, И в сердце больше добродетели, Чем красоты в лице.Только Левицкий гораздо сложнее видит свою модель. Что в этом отведенном в сторону взгляде Дьяковой: тень первых разочарований, начинающейся усталости или, может быть, домашнего разлада? Можно не выйти замуж в пятнадцать лет, хотя так поступали тогда многие, но это давно пора сделать в двадцать три. А Марья Алексеевна все еще на попечении родителей, далеких от ее художественных увлечений, откровенно враждебных к ним. В полотне Левицкого — целое повествование о человеке, его состоянии, душевном мире, сложном, неустойчивом, полном противоречий и воплощенном в симфонии едва уловимых в своей сложности и богатстве цветовых отношений. Знал ли художник о зарождающемся чувстве, которое свяжет Дьякову с его молодым другом, или это чувство еще не успело родиться, но уже годом позже разыгрывается первый акт семейной драмы.
Закипает досада в душе обер-прокурора Синода, отца Машеньки — Алексея Афанасьевича. И дело не столько в родословной Дьяковых, заслуженных служилых дворян, идущих от полулегендарного Федора Дьякова, основавшего на рубеже XVII–XVIII веков города Енисейск и Мангазею, и не в происхождении матери Марьи Алексеевны — она из древнего рода князей Мышецких. Для родителей гораздо важнее свойство с Бакуниными, которое открывало двери во многие петербургские дома и даже к самому Семену Кирилловичу Нарышкину, где не редкой гостьей, по свойству, бывала сама императрица. И вот первый соискатель Машенькиной руки, которому, впрочем, она сама откажет, — безродный полунищий баснописец Хемницер. Зато с Львовым все сложнее. Машенька не скрывает зародившегося в ее душе ответного чувства, и родители спешат прибегнуть к самым суровым мерам. Львов не просто получает отказ — ему вообще отказывают от дома. Львову не разрешают бывать у Дьяковых, тем более переписываться с любимой.
Но вопреки всем запретам, Львов каждый день появляется перед окнами дьяковского дома, находит способ передавать Машеньке записочки, в том числе под видом книжек для чтения. В один из томиков „Календаря“ он вписывает своей рукой строки о ее родителях:
Нет, не дождаться вам конца, Чтоб мы друг друга не любили, Вы говорить нам запретили, Но знать вы это позабыли, Что наши говорят сердца.Стихи так и были названы — „Завистникам нашего счастья“, и на них не могли не отозваться друзья.
Великий Капнист на правах официального жениха Сашеньки Дьяковой везет на бал невесту и ее сестру. Но по дороге карета заезжает в скромную церковку на краю Васильевского острова. Как в „Метели“ Пушкина, там все готово для венчания и ждет нетерпеливый Львов. Наскоро совершенный обряд, и молодые супруги разъезжаются по сторонам. Машенька с сестрой и Капнистом отправляются на бал, Львов — во дворец Безбородко, где будет продолжать жить на положении холостяка. Разлука продлится около четырех лет.
Слов нет, Машенька имела право уехать к супругу. Львов не думал ни о каком ее приданом, и ни о каких последствиях своего решительного шага. Зато обо всем заботилась Машенька. Впоследствии Львов признается в одном из своих писем: „Сколько труда и огорчений скрывать от людей под видом дружества и содержать в предосудительной тайне такую связь, которой обнародование разве бы только противу одной моды нас не извинило… Не достало бы, конечно, ни средств, ни терпения моего, если бы не был я подкреплен такою женщиною, которая верует в РЕЗОН, как во единого Бога“. Оказалось, романтическая музыкантша и поэтесса действительно выше всего ставила „резон“ — простой житейский смысл. И заботилась она не о себе — о своем „Львовиньке“, как будет всю жизнь называть мужа. Его творческие возможности, служебные успехи, доброе имя для нее важнее всего.
Львов переезжает в Петербург и записывается в военную службу в 1769 году. Он родился и первые восемнадцать лет жизни безвыездно провел в родных Черенчицах. Ни о каком сколько-нибудь серьезном образовании ему не приходилось говорить. По словам первого его биографа, он „явился в столицу в тогдашней славе дворянского сына, то есть лепетал несколько слов по-французски, по-русски писать почти не умел и тем только не дополнил славы сей, что, к счастью, не был богат и, следовательно, разными прихотями избалован“. Зато дальше все зависело от него самого, и Львов может сполна удовлетворить свою неистребимую жажду знаний.
В доме родственников — Соймоновых, которые отныне будут ему покровительствовать, определяются первые увлечения Львова, которым он не изменит до конца жизни. Соймоновы известны своими научными занятиями. Отец тогдашних владельцев петербургского дома, Федор Иванович — талантливый навигатор, картограф и гидрограф времен Петра I, поплатившийся жизнью при императрице Анне Иоанновне за свои политические убеждения. О роковом повороте его судьбы рассказывает в семейных записках дочь Львовых Елизавета Николаевна:
«При императрице Анне Иоанновне Бирон был всемогущ, и все его боялись. Федор Иванович Соймонов был тогда уже александровский кавалер, ему приходят сказать в одно утро:
«Не езди в Сенат, потому что там читать будут дело Бирона, и ты пойдешь против.
— Поеду, — отвечал Федор Иванович, — и буду говорить против: дело беззаконное.
— Тебя сошлют в Сибирь.
— И там люди живут, — отвечал Соймонов.
Поехал в Сенат, говорил против Бирона и от этого четыре раза был ударен кнутом на площади, лишен всего и сослан в Сибирь».
Судьбой Львова занялись сыновья Федора Ивановича. Из них старший был специалистом горного дела и служил в Берг-коллегии, младший — специалистом по строительному делу и занимался архитектурой. В истории русской техники останутся открытия и усовершенствования Львова по горнорудному делу, тем более его работы по технологии строительства. Но все это в будущем. Пока Львова ждет гвардейский Измайловский полк и полковая школа — род удивительного учебного заведения, где начинали едва ли не с азов грамотности, а через несколько лет выпускали блестяще образованных разносторонних специалистов.
Учили всему. Наряду с российской грамматикой и математикой преподавалось рисование и артиллерийское дело, фехтование и теория фортификационных сооружений, танцы и география, верховая езда и иностранные языки. Немецкий и французский выпускники знали настолько хорошо, что в случае необходимости спокойно переходили служить в Коллегию иностранных дел. Они считались лучшими переводчиками. Львов к тому же увлекается литературой, организует с товарищами кружок, где читаются и обсуждаются произведения русских и иностранных авторов и выпускается рукописный журнал «Труды четырех разумных общников». О множестве своих занятий он напишет в автоэпиграмме:
Итак, сегодня день немало я трудился: На острове я был, в полку теперь явился. И в школе пошалил, ландшафтик сделал я; Харламова побил; праздна ль рука моя? Я Сумарокова сегодня ж посетил, Что каменным избам фасад мне начертил. И Навакщенову велел портрет отдать, У Ермолаева что брал я рисовать…В 1776 году перед Львовым открывается возможность увидеть всю Европу. Его берет с собой в служебную поездку ставший директором Горного училища и Горного департамента М.Ф. Соймонов. Дрезден, Лейпциг, Кёльн, Амстердам, Антверпен, Брюссель, Париж… Говоря впоследствии об особенностях Львова-архитектора, тот же восторженно привязанный к нему М.Н. Муравьев заметит: «Много способствовали к образованию вкуса его и распространению знаний путешествия, совершенные им в лучшие годы жизни, когда чувствительность его могла быть управляема свойственным ему духу наблюдения. В Дрезденской галерее, в колоннаде Лувра, в затворах Эскуриала и, наконец, в Риме, отечестве искусств и древностей, почерпал он сии величественные формы, сие понятие простоты, сию неподражаемую соразмерность, которые дышат в превосходных трудах Палладиев и Мишель Анжев (Микеланджело)».
В августе 1777 года Львов возвращается в Петербург. Он живет сначала в доме Соймонова-младшего, усиленно занимаясь архитектурой, потом у тогдашнего своего начальника П.В. Бакунина, где и происходит их знакомство с Машенькой Дьяковой. Наконец, пребывание у А.А. Безбородко несомненно помогает высокому сановнику оценить дарование своего подопечного. А.А. Безбородко предлагает Львову принять участие в конкурсе на проект собора в Могилеве, который предполагалось построить в ознаменование встречи здесь Екатерины с австрийским императором Иосифом II, которая скрепила их союз против Турции. Это было сразу после тайного венчания, и не забота ли о будущем придала Львову сил выиграть конкурс у профессиональных архитекторов. Императрица одобрила строгий и скромный, в духе, как тогда говорилось, храмов Древнего Рима, собор, который стал первым словом нового направления в русской архитектуре — классицизма. Почти одновременно Львову было поручено оформление самых важных для общего облика столицы на Неве Невских ворот Петропавловской крепости. Начинающий архитектор получил полное признание.
Сегодня трудно себе представить, чем были эти крепостные ворота для России. В XVIII веке с ними связывались самые торжественные церемонии. Не говоря о том, что находятся они напротив Дворцовой набережной, почти в центре крепостной стены, и именно из них выносили и опускали на воду ботик Петра I, хранящийся в крепости. Впервые «дедушку русского флота» вынесли из Невских ворот 30 августа 1724 года по случаю заключения мира со Швецией. В дальнейшем это стало традицией. Под гром пушечных залпов и медь военного оркестра ботик помещали на большое судно и отвозили к Александро-Невской лавре, где служили торжественный молебен. С такими же почестями «дедушку русского флота» возвращали и обратно. Архитектор получал возможность прикоснуться к святая святых русской истории, и то монументальное строгое решение, которое он нашел, как нельзя больше соответствовало представлению о державной мощи России.
«Резон» Машеньки полностью оправдался. Связанный семейной жизнью и неизбежно возникающими в результате материальными заботами, ее «Львовинька» не смог бы дни и ночи проводить в работе, забывая и о себе и о постоянно задерживающихся выплатах и заработках. Зато ограничив себя личными радостями, он получает возможность сделать еще один шаг в карьере архитектора — ему поручается строительство в самом центре Петербурга. Биограф Львова права: «Казалось, что время за ним не поспевало!» Сам Львов признается: в мыслях он строил свое с Машенькой гнездо.
Идея строительства центрального российского почтамта принадлежала А.А. Безбородко, который в марте 1782 года назначается генерал-почт-директором, возглавившим выделенное из Коллегии иностранных дел «Главное почтовых дел правление». К лету того же года заказанный Львову проект был завершен. Дело оставалось за строителями.
Во вновь отстроенном архитектурном ансамбле Львов получает превосходную казенную квартиру — первую в его жизни! — где начинает собираться многолюдный кружок друзей. Здесь всегда можно застать Василия Капниста, композиторов Е.И. Фомина и Н.П. Яхонтова, Г.Р. Державина, будущего президента Академии художеств А.Н. Оленина и непременно Левицкого. Художник скажет, что это второе его петербургское пристанище. А когда с помощью Львова с Украины приезжает в столицу В.Л. Боровиковский, участвовавший в росписи Могилевского собора, он вообще на несколько лет поселяется в почтамтской квартире почти как член семьи. Всем здесь находятся стол и дом.
Львов, по словам его биографа, сразу «содкялся, так сказать, пристанищем художникам разного рода, занимаясь с ними беспрестанно. Мастер клавикордный просит его мнения на механику новую своего инструмента. Балетмейстер говорит с ним о живописном расположении групп своих. Там г-н Львов устраивает картинную галерею. Тут, на чугунном заводе, занимается он огненной машиной. Во многих местах возвышаются здания по его проектам. Академия ставит его в почетные свои члены. Вольное экономическое общество приглашает его к себе… Будучи свойств отличный, малейшее отличие в какой-либо способности привязывало г-на Львова к человеку и заставляло любить его: служить ему и давать ему все способы к усовершенствованию его искусства. Я помню попечения его о господине Боровиковском, занятия его с капельмейстером Фоминым и проч. Люди, по мастерству своему пришедшие в известность и нашедшие приют в его доме».
Теперь есть все основания попытаться добиться согласия родителей Дьяковых на супружеский союз с Машенькой. В 1784 году Львов официально повторяет предложение и оказывается принятым с распростертыми объятиями. Такому жениху могла позавидовать любая невеста.
Да, за прошедшие четыре года многое успело измениться. Кадриль великого князя Павла Петровича распалась. Сашенька, вышедшая замуж за Василия Капниста в 1780 году, устроилась в украинском своем поместье и думать не хочет о посещениях Петербурга. Графиня Катенька попала в тяжелое материальное положение. Граф Стенбок взялся поставить на строительство Исаакиевского собора понравившийся производителю работ инженеру Бетанкуру пудожский камень, вложил в поставки все свое состояние, но камень не понравился автору проекта собора Монферрану. Большие затруднения переживают сами Дьяковы. А главное — Машеньке двадцать восемь лет, и родители теряют надежду на устройство ее будущего. Восходящая звезда Львова, отношение к нему при дворе, множество хорошо оплачиваемых заказов заставляют на этот раз принять его предложение. Дьяковы дают согласие на брак дочери и даже на непонятное желание Машеньки венчаться в далекой Риге, у Стейнбоков.
Впрочем, назначенный день свадьбы приносит неожиданное объяснение. Молодые заявляют о своем уже состоявшемся браке — вторичное венчание было слишком большим грехом, — и Мария Алексеевна наконец-то входит полновластной хозяйкой в почтамтский дом, ничего не меняя ни в его обычаях, ни в заведенных мужем порядках хлебосольства и гостеприимства.
Друзья правы: Мария Алексеевна талантлива во всем, в том числе и в семейной жизни. Рядом с ней «Львовинька» обретает, кажется, еще большую трудоспособность. Он в постоянных разъездах — приходится вести авторский надзор за десятками разбросанных по губерниям усадебных домов и церквей. Здесь и дача-дворец П.А. Соймонова на Выборгской стороне с распланированным самим Львовым обширным садом, и имение Г.Р. Державина «Званка», и парк А.А. Безбородко в Москве, и дача Безбородко в Полюстрове, под Петербургом, и церковь в Мурине — имении Воронцовых под Торжком. Всего не перечесть.
Волей-неволей Мария Алексеевна остается одна, занимается хозяйством, даже пробует, хотя и неудачно, пуститься в хлебные спекуляции, воспитывает детей, которых становится год от года больше. В год свадьбы приходит на свет первенец Львовых Леонид, спустя четыре года — старшая дочь и историограф семьи Елизавета, в 1790 году — будущий камергер Александр, в 1792-м — Вера, родная бабушка художника Василия Дмитриевича Поленова, в 1793-м — Прасковья. Много времени приходится тратить на устройство своего имения под Торжком — Никольского и Черенчиц, где Львов строит для семьи настоящий дворцовый ансамбль с множеством строительных и пейзажных затей. Марии Алексеевне принадлежат совсем особенные обои — из расшитой шерстью соломы, которыми обтягивались отдельные комнаты. И при всем том она остается по-прежнему интересной собеседницей, не теряя ни своей красоты, ни светскости. Ее связывает с мужем такое же сильное и светлое чувство. Свою посвященную жене песню Львов напишет после рождения последней дочери:
Уж любовью оживился Обновлен весною мир И ко Флоре возвратился Ветреный ее Зефир. Он не любит и не в скуке, Справедлив ли жребий сей. Справедлив ли рок такой. Я влюблен и я в разлуке С милою моей женой. Красотою привлекают Ветреность одну цветы, На оных изображают Страшной связи красоты. Их любовь живет весною, С ветром улетит она. А для нас, мой друг, с тобою Будет целый век весна.Эти строки появляются до рождения Пушкина. Одновременно «Львовинька» просит Левицкого о новом портрете Марии Алексеевны.
Историки искусства спорят, в каком именно году был написан этот второй портрет. Стертая в авторской подписи цифра заставляет гадать: 1781-й, 1785-й или 1789-й. Перемены, произошедшие с Львовой, заставляют остановиться на последнем. Теперь на холсте — светская дама, уверенная в себе, знающая свои обязанности, привыкшая их выполнять. Искусно уложенная прическа с большим шиньоном, крупные кольца локонов на шее, платье полонез с еще более глубоким, чем на раннем портрете, вырезом — мода изменилась, и на смену бесчисленным оттенкам светлых цветов пришли интенсивные краски, звучные их сочетания.
У Левицкого к тому же густой лиловый шелк платья, ложащиеся глубокой тенью черные кружева помогают рассказу о произошедшей перемене. Былая пухлость щек уступила скульптурной определенности пролепленных возрастом черт лица. Отяжелели веки. В уголках рта за привычной полуулыбкой затаилась горчинка. В первой половине 1790-х годов Боровиковский напишет Марию Алексеевну в миниатюре почти такой же молодой, как на первом, «девичьем», портрете Левицкого, на фоне рощи, с портретом мужа в руках, в кокетливой позе романтической очаровательницы. Вряд ли правда была на стороне Боровиковского.
Между тем «Львовинка», наряду с проектированием и строительством, увлекается еще усовершенствованием отопительных систем. Его научный труд «Русская пиростатика» заключает в себе интересное решение воздушного отопления жилых и общественных зданий, храмов, русских бань, основным недостатком которых автор считает промерзающие полы. Сущность «воздушных печей» Львова заключалась в том, что благодаря вмонтированным в стены каналам, помещения одновременно обогревались и проветривались. «Надобно, — пишет он, — чтоб вышедший из бабушкиной каморки в мою теплую комнату испытал над собою то ощущение, которое чувствуем мы в летний день при выходе из тесного театра на просторный воздух; надобно, чтобы комнаты нагревались наружным воздухом и тем более были теплы, чем на дворе холоднее. Чтоб воздух сей сам собою беспрестанно переменою очищался, словом, чтобы можно было сделать в покое тепло, сколько надобно, но чтобы никогда не было в нем душно».
Львов становится инициатором первых разработок каменного угля, и в 1797 году назначается «директором угольных приисков и разработки оных в империи». Его мечта — обеспечить Россию отечественным каменным углем. В своей книге «О пользе и употреблении русского каменного угля» Львов напишет: «Ни о славе, ни о труде я действительно не мыслил, посвятив себя слишком десять лет… на обретение в России на выгодном месте минерального угля, нашел уголь и много».
Ему же принадлежит разработка неслыханной в России строительной технологии — сооружения построек из так называемой «битой» — спрессованной и скрепленной известковым раствором земли. Эту идею ему подсказала забота о варварски истребляемом русском лесе. И поначалу все складывалось как нельзя более благоприятно.
Специально обученные собственные крестьяне Львова возводят опытные землебитные строения в Павловске и домик в деревне Аропокази вблизи Гатчины, принадлежавшей Екатерине Ивановне Нелидовой, успевшей стать и фрейлиной и близким другом Павла I. Павел поддерживал идею открытия соответствующих училищ для строителей. Одно из них, под руководством самого Львова, открывается в его родном Никольском-Черенчицах, другое — в Тюфелевой роще в Москве. Император дает архитектору заказ на возведение в Павловске замка в новой технике — сохранившегося до наших дней Приората.
Львов придумывает и новый вид кровельных материалов — род рубероида, то есть мягкой кровли, более легкой и, в конечном счете, более стойкой, чем все привычные кровельные средства. «Свинец дорог, — пишет Львов, — железо на земле ржавеет, дерево гниет и горит, черепицею бьет еще больше людей, нежели самим ядром; кровле сей крепостной, следовательно, должно быть мягкой, негниющей и несгораемой».
Но со смертью А.А. Безбородко Львов лишается главного своего покровителя. Против него возбуждается дело по поводу расходов на землебитные постройки. Приходит болезнь: Львов на девять месяцев оказывается прикованным к постели. Но едва вступает на престол Александр I, как архитектор получает направление на Кавказ «для устроения и описания разных необходимостей при тамошних теплых водах». Подорванное здоровье сразу начинает давать о себе знать. На обратном пути с Кавказа Львов успевает доехать только до Москвы: в Черенчицы привозят его тело. Смерть постигла архитектора 21 декабря 1803 года. Львову исполнилось пятьдесят два года.
О чем думает осиротевшая Мария Алексеевна? Она не привыкла выдавать своих чувств, делиться горем даже с самыми близкими. Да и то, что она испытывает, трудно назвать горем. Это отчаяние. То немое безразличие и отчаяние, которому она может противостоять, пока хоть немного подрастут дети. Через четыре года Марии Алексеевны не стало. Она дожила до тех же пятидесяти двух лет. В храме села Никольского-Черенчицы рядом с надгробием Николая Александровича Львова появилась плита: «При вратах царских храма сего почиет прах освятившия оный Марьи Львовой…» Храм был также построен Львовым. Г.Р. Державин, женившийся к тому времени на младшей из сестер Дьяковых — Дарье Алексеевна, отозвался на смерть старого друга стихотворением «Поминки»: «Победительница смертных, Не имея сил терпеть Красоты побед несметных, Поразила Майну — смерть…» И от себя добавил, что супругам было подарено высшее человеческое счастье — единственной в жизни любви.
* * *
Петербург. Дом А.А. Безбородко. Н.А. Львов и Левицкий.
— Дмитрий Григорьевич! Хемницер провел у вас вчера чуть не целый день. Видите, как стекаются ко мне дружеские новости. Но даю слово, вы так и не догадались об истинной причине его прихода.
— Мы говорили о Вольтере, о лестнице, на которой видится Ивану Ивановичу все человеческое общество и еще…
— Полноте, полноте! Все это, несомненно, было, но — и еще раз но. Ивану Ивановичу хотелось лишний раз посмотреть на образ Марии Алексеевны.
— Мадемуазель Дьяковой? Но какой же портрет сравнится с оригиналом! Почему он не предпочел простого визита к Дьяковым?
— Все не так просто, как вы полагаете. Иван Иванович искал руки Марии Алексеевны и получил отказ. Если он и может теперь посещать дьяковский дом, то уж никак не вступая в беседы с самой Марией Алексеевной. А у вас в мастерской полная свобода налюбоваться прелестью сей девицы.
— Как же я в таком случае был глуп, втягивая Хемницера в умные разговоры.
— Вовсе нет. Уверен, у него было чувство, что он говорил с самой Марией Алексеевной. К тому же склад ее мыслей вполне соответствует тому, о чем вы толковали. Хемницер получил двойное удовольствие и даже сегодня выглядел куда более оживленным, чем все последнее время. Между тем ему необходимо хорошее самочувствие — он кончает удивительную работу. Вообразите себе, первый в России словарь научных выражений по горнорудному делу.
— Вы оба увлекаетесь этой наукой?
— Как иначе, когда оба служим по горному ведомству.
— Я имел в виду не служебные обязанности, а вашу неизменную увлеченность.
— А в этом, пожалуй, мы особенно с вами близки, Дмитрий Григорьевич. Вам не кажется? Как я признателен вам за то давнее проявление дружества, когда вы написали наши с вами два портрета. Я не расстаюсь со своим, а вашего нигде не вижу.
— Помилуйте, Николай Александрович, чтобы художник собственный портрет миниатюрный напоказ выставлял. Лежит он у меня в потайном месте. Настасье Яковлевне, и той нет охоты показывать. Это наше с вами, а остальным и дела нет.
— Мой портрет удивительный. Никогда бы не подумал, что из меня едва не мыслителя сделать можно.
— Да уж вы мне польстили, когда эпиграмму свою написали.
— Ах, эту! Да я ее и сейчас помню: Скажите, что умен так Львов изображен В него искусством ум Левицкого вложен.
— Льстец вы, Николай Александрович!
— Чистую правду сказал. Да, а зашел я к вам, конечно, не из-за Хемницера. Главное — думаю, удастся мне заказ на портрет ваш государыни устроить.
— Да портрета-то еще нету.
— Неважно. По крайней мере будете знать, на какое помещение и на каких зрителей рассчитывать.
— И где же чудо такое объявилось?
— У Безбородко. Я в новом Почтамте и залу для него превосходнейшую присмотрел. Так ее и отделаем.
— А сам Александр Андреевич что?
— Не глядя согласился. Он ведь к вам с великим почтением относится.
— Да нужен ли ему портрет?
— Нужен-нужен, не сомневайтесь, Дмитрий Григорьевич. Экой вы, как красная девушка: все вам неловко да неудобно. Сами рассудите, как Безбородке не желать, так скажем, вольтерьянского портрета. Обычные, как во всех учреждениях, ему не нужны. Вы его дорогу во дворец-то припомните. Небывалой ловкости требовала, да ведь осилил.
— Полноте, Николай Александрович, что же, у Александра Андреевича заслуг перед государыней мало? Помню на картине этой, что заключение Кучук-Кайнарджийского мира представляла, Румянцев-Задунайский с какими соратниками изображен был: Семен Романович Воронцов, Александр Андреевич да граф Завадовский Петр Васильевич. Сколько тогда толков ходило, что граф Воронцов вдвоем с Александром Андреевичем прожект мира этого сочиняли, да еще неизвестно, кто более постарался.
— Дмитрий Григорьевич, будто и в совершеннолетие вы еще не пришли! Будто раз заслуга, так и награда. Да вы с Семена Романовича Воронцова начните — где он теперь. В дипломатической миссии, все равно что в ссылке. Граф Завадовский свое время во дворце отбыл, самого Потемкина на первых порах сменил, да оглянуться не успел — в Малороссии оказался. Тут своя загадка. То ли императрица сама так решила, то ли подсказал ей кто. Ловко подсказал. А уж о самом Румянцеве-Задунайском и говорить нечего. Все ему отлилось — и успехи военные, и слухи всякие о происхождении. Правда — не правда, только императрице, конечно, радости в них мало.
— Это что родным сыном он государю императору Петру Великому приходится?
— Видите, и вы слыхали.
— Ловко так все получилось. Графа Кирилу Разумовского государыня гетманства лишила.
— Так ведь отменено было гетманство — мне ли не знать.
— Потому и отменено, что граф Разумовский стал императрицу просить наследственным его сделать, одному из сыновей своих передать.
— И государыня?
— Известно, не согласилась. Гетманство отменила, а вместо него генерал-губернаторство малороссийских земель, куда Румянцева-Задунайского начальствовать и отправила.
— Так что Александр Андреевич один, без поддержки, в столице остался?
— Спасибо, граф Петр Васильевич о протекции ему хлопотал.
Бакунину Меньшому письма специальные писал, чтобы обеспокоился судьбой да службой Александра Андреевича, что, мол, неосторожен он очень и в высказываниях пылок — не повредил бы он себе ненароком. Бог миловал до сей поры.
* * *
Петербург. Дом А.А. Безбородко. Безбородко, слуга Ефим, Н.А. Львов, Г.Р. Державин, И.И. Хемницер, И.Ф. Богданович, Левицкий.
— Ваше превосходительство, Александр Андреевич, на сколько персон ужин накрывать прикажете?
— Как обычно, Ефим. Сейчас сочтем: Державин Гаврила Романович, Хемницер Иван Иванович, мы с Николаем Александровичем, Богданович Ипполит Федорович, Василий Васильевич Капнист.
— Неужто из Малороссии приехал? Надолго ли?
— Сказывал, по делам. Поди, надолго не задержится. В разлуке с молодой женой быть не захочет.
— Значит, ему один прибор ставить?
— Дам у нас нонича, как всегда, не будет. Еще, пожалуй, три персоны да главный наш именинник — Левицкий Дмитрий Григорьевич. Видел его новую картину, что в галерее повесили?
— Как не видеть! Распрекрасная картина — глаз не оторвешь. Матушка-царица как в сказке стоит, вся так и сияет.
— Вот ты у нас какой знаток сделался. По случаю картины этой, которую мы все столько ждали, шампанского заморозить вели да хрусталь новый, богемский вели подать. Чтоб как на самый большой праздник.
— Неужто не сделаю? Будете довольны, Александр Андреевич. В таком дворце и к столу подавать одна радость. Дождались-таки царских хором.
— Скажешь тоже, царских. Велики — верно, а по отделке до дворца далеко.
— Не сразу Москва строилась. Будет время — все в наилучшем виде закончите. Оно уж галерея-то и нынче другим барам только позавидовать.
— Позавидовать, может, и могут, а своим признать — вот это куда труднее.
— Ничего-ничего, Александр Андреевич, лишь бы царице угодны были, а все другие тут же во фрунт станут. Да что мне, старому солдату, вам говорить — сами, поди, знаете.
— Разболтался ты, служака, а гости-то уже на дворе.
— Батюшки-светы! Бегу, бегу за столом приглядеть.
— Дмитрий Григорьевич, именинник вы у нас сегодня, доброго вам здоровья, как есть именинник.
— День добрый, ваше превосходительство, а вот насчет именинника не разумею.
— Чествовать сегодня картину вашу будем.
— Полноте!
— И не отмахивайтесь. Ипполит Федорович читали, поди, какие стихи на нее написал — «Екатерина Законодательница в храме Правосудия». А Гаврила Романович и того лучше — оду целую сочинил. Вот и послушаем сегодня, и посмотрим. Э, да покуда я с вами тут толкую, друзья-то наши все у картины вашей собрались, даже нас не примечают. Господа! Господа! Прошу, рассаживайтесь, итак, я полагаю, что начнем мы с программы, которую Дмитрий Григорьевич в основу своей картины положил. Знаю, Дмитрий Григорьевич, что вы ее для Богдановича написали, а теперь и нам разрешите приобщиться.
— Многословием-то я не грешу, если только вкратце.
— Как изволите.
— Как видите, господа, средина картины моей представляет храм, внутренность храма богини Правосудия, пред которой в виде Законодательницы ее императорское величество, жертвует своим покоем, сжигая на алтаре маковые цветы. Собственным покоем ради покоя общественного! Но делает это с лицом радостным и просветленным от сознания благороднейшей цели своего жертвования. Потому и увенчана ее императорское величество не короною, а лавровым венцом поверх короны гражданской, возложенной на главы ея. Знаки ордена Святого Владимира изображают отличность знаменитую за понесенные для пользы Отечества труды. А то, что труды сии Отечеству полезны, подтверждают лежащие у ног монархини книги законов, подтверждающие истинность и справедливость ее поступков. Победоносный орел покоится на законах, и вооруженный Перуном страж рачит о целости оных. Вдали поместил я открытое море, корабль как символ флота Российского и на развевающемся российском флаге, на военном щите Меркуриев жезл — потому что главным для народа является не война, но успешная торговля. Вот как будто, и все, господа.
— Вы существенное обстоятельство пропустили, Дмитрий Григорьевич!
— Что вы на мысли имеете, Гаврила Романович?
— Смысл кадуцея — жезла Меркуриева. Разве одну торговлю он означает?
— Это уж моя промашка при объяснении, прошу покорно извинить. Конечно, крылатый кадуцей означает прежде всего науки, кои приходят при нашей государыне в столь процветающее состояние.
— А Фемида? О Фемиде вы упомянуть забыли, а ведь какая мысль у художника высокая! Фемида может сдвинуть с глаз повязку, положить на колени весы и, отдыхаючи, глядеть, как обязанности ее успешно отправляет российская императрица.
— Господа, но все наши слова слабы перед строками, сочиненными Гаврилой Романовичем. Пусть он прочтет свое последнее творение «Видение Мурзы».
— Его вдохновение мне подарил чудный образ Левицкого. Если разрешите, господа:
Раздвиглись стены и стократно Ярче молний пролилось Сиянье вкруг меня небесно; Сокрылась, побледнев, луна. Виденье я узрел чудесно: Сошла со облаков жена, Сошла — и жрицей очутилась Или богиней предо мной. Одежда белая струилась На ней серебряной волной; Градская на главе корона, Сиял на персях пояс злат; Из черноогненна виссона, Подобный радуге, наряд С плеча десного полосою Висел на левую бедру; Простертой на алтарь рукою На жертвенном она жару Сжигая благовонны маки, Служила вышню божеству, Орел полунощный, огромный, Сопутник молний торжеству, Геройской провозвестник славы, Сидя пред ней на груде книг, Священны блюл ее уставы; Потухший гром в когтях своих И лавр с оливными ветвями Держал, как будто бы уснув. Сафиросветлыми очами, Как в гневе иль в жару, блеснув, Богиня на меня воззрела. Пребудет образ ввек во мне, Она который впечатлела! "Мурза! — она вещала мне. — Ты быть себя счастливцем чаешь, Когда по дням и по ночам На лире ты своей играешь И песни лишь поешь царям. Вострепещи, мурза несчастный, И страшны истины внемли, Которым стихотворцы страстны Едва ли верят на земли: Одно к тебе лишь доброхотство Мне их открыть велит. Когда Поэзия не сумасбродство, Но вышний дар богов, — тогда Сей дар богов лишь к чести И к поученью их путей Быть должен обращен — не к лести И тленной похвале людей. Владыки света люди те же, В них страсти, хоть на них венцы; Яд лести их вредит не реже, А где поэты не льстецы?" …"Кого я зрю столь дерзновенну, И чьи уста меня разят? Кто ты? Богиня или жрица?" Мечту стоящу я спросил. Она рекла мне: «Я Фелица»…— Фелица? Иными словами, Фелицитас — благодетельная богиня Счастья.
— Именно Счастья — в отличие от Фортуны. Фортуна всегда была суровой, Фелицатас — благой. С кадуцеем и рогом изобилия. Если вы решитесь повторить свою композицию, Дмитрий Григорьевич, вам непременно нужно будет написать рог изобилия.
— И чтобы из него лилось потоком злато как символ благополучия. Помнится, в Риме было несколько храмов Фелицы.
— И стояли статуи на Марсовом поле и на Капитолии.
— Какая счастливая находка, Гавриил Романович!
— Но эту находку подсказал мне Дмитрий Григорьевич. Это его представление о просвещенной монархине.
— Василий Васильевич, разве вы не хотите поделиться своими мыслями? Не могло же оставить вас равнодушным творение Левицкого! Но молчащий Капнист — это так необычно.
— Не вызывайте меня на откровения, Львов.
— Это почему же?
— Я не хочу вносить диссонанса в ваш слитный хор.
— Так, значит, картина не пришлась вам по сердцу?
— Полноте, полноте, Хемницер! Картина превосходна, другое дело — ее соответствие действительности. Хотеть учить царей — неблагодарное занятие, как бы вы ни старались подсластить пилюлю.
— Но государыня сама требует от своего окружения откровенности и изгоняет льстецов.
— По всей вероятности, неумелых. У государыни превосходный вкус, и она вправе рассчитывать на более тонкие кружева лести и высокопарных излияний. Возьмите хотя бы слишком многочисленных и слишком часто сменяющихся флигель-адъютантов.
— Василий Васильевич, Державин недаром написал: «Владыки света люди те же, / В них страсти, хоть на них венцы». Вряд ли мы вправе вторгаться в личную жизнь монархини.
— Но эта жизнь не безобидна для тысяч подданных.
— Флигель-адъютанты?
— Но ведь каждое назначение сопровождается дарением земель и людей, расточительством и обращением к казне. Неожиданно родившиеся начальники, ничего не понимая в своих новых обязанностях, губят любое дело, к которому бы ни прикоснулись. А впрочем, господа, я не намерен выводить вас из вашего сладкого неведения. Думаю, за меня это сделает жизнь.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. В.В. Капнист и Левицкий.
— Вы оставляете столицу, Василий Васильевич?
— Я не думаю, чтобы кто-то, кроме самых близких друзей, посетовал на исчезновение Капниста. Но вас я отношу к своим прямым друзьям, Дмитрий Григорьевич.
— Что побудило вас к такому решению: ведь не женитьба же? Да и Александре Алексеевне, даме светской, не покажется ли скучной провинциальная жизнь?
— Нет, Дмитрий Григорьевич, Сашенька моя во всем со мной согласна. Она сама торопит меня с отъездом.
— Вы, по крайней мере, собираетесь обосноваться в Киеве?
— Не приведи Господь! Только в моей милой Обуховке! Это истинный земной рай, тем паче для молодых супругов.
— Но не этот же рай подвиг вас на подобное решение? Я уверен, что нет. Уж не нападки ли на вас, как на автора «Сатиры первой и последней»? И вы придаете значение людской хуле и похвале? Это так на вас не похоже! Не вы ли писали о мирском маскераде, за ветошью которого скрываются самые низменные чувства?
— Именно потому что писал, я начал чувствовать отзвуки недовольства вашей Фелицы.
— Вы не преувеличиваете?
— Нисколько. Мне были переданы слова государыни, что нельзя все российское общество представлять в виде взяточников и казнокрадов, тем более что некоторые из высоких чиновников приняли сии рассуждения за намеки на свой счет. Судья Драч в их числе был оскорблен и потребовал немедленной сатисфакции. Я не боюсь его гнева, но не хочу подвергать его действию Александру Алексеевну, тем более что родители ее со мною ни в чем не соглашаются.
— Мне сказывал Николай Александрович, вам и ранее приходилось прилагать немалые усилия для поддержания в мире родственников.
— Ему ли не знать! Ведь когда родители Марии Алексеевны и Сашеньки отказали после неудачного предложения ему от дому, то и от меня потребовали, чтобы я всякие сношения с ним прервал.
— Знаю, вы отвергли сей ультиматум.
— Отверг с негодованием, и тогда мне пригрозили разрывом помолвки с Сашенькой. Сашенька была в отчаянии и умоляла подчиниться родительским требованиям хотя бы временно и внешне. Я не захотел оскорблять своего с Львовым дружества, и, в свою очередь, объявил, что согласен отложить свадьбу. Даже сам Львов просил меня так не делать. Но дружество ставлю я превыше всех светских требований и условностей.
— Позиция ваша достойна всяческого уважения.
— Теперь родители Сашеньки вновь пугают ее, бедную, а я хочу положить конец их влиянию на дочь.
— Но что могло их напугать, когда ваша «Сатира первая и последняя» напечатана в «Собеседнике любителей российского слова»? Ведь сама государыня печатает свои сочинения в этом журнале княгини Дашковой. Княгиня, как довелось мне портрет ее сиятельства писать, рассказывала.
— Только того княгиня не договорила, что государыня и Екатерине Романовне недовольство свое высказала.
— Быть не может!
— Еще как может. Да у княгини нрав крутенек — в спор с государыней вступила, доказывать стала, а все неприятность. Раз на раз не приходится. Сегодня княгиня так посмотрит, завтра же — кто знает…
— Писать более не хотите?
— Напротив. Писать много собираюсь. Комедия одна у меня задумана о крючкотворах. Посидеть над ней в тишине да спокойствии надо.
— Слыхал я, ода у вас новая, Василий Васильевич.
— А у меня она с собой. Хотите прочесть дам?
— Сделайте милость. Пока-то ее напечатанной увидишь.
— Пожалуй, не увидите, Дмитрий Григорьевич.
— Что так?
— Гаврила Романович усиленно советует повременить. Тоже последствий всяческих опасается.
— О чем же ода, если не секрет?
— Если и секрет, то не от вас. Слыхали ведь, ее императорское величество указ подписала, чтобы всем малороссийским крестьянам в крепостном состоянии быть.
— Слыхал и душевно скорблю. Видеть нашу Малороссию закрепощенной! Так и кажется, умолкнут теперь наши песни, кончатся гулянья да ярмарки…
— Может, так сразу и не умолкнут, а горе для людей наших — страшное. Не знаю, правда, нет ли, будто Александр Андреевич Безбородко к тому причинился.
— Да, такого при графе Кириле Разумовском не случилось бы. Он бы государыню уговорил.
— Которую государыню? Елизавету Петровну?
— Так ведь мы в век просвещенный вступили.
— Только, выходит, человека обыкновенного в беде чужой убедить легче, чем просвещенного. У просвещенного и физиогномий на разные случаи жизни больше разных. Он к случаю да выгоде легче примениться может.
— Трудно с вами не согласиться.
— Конечно, трудно, ведь вы портреты списываете, личность человеческую проникаете.
— О том и ода?
— Да что мне перед вами таиться. Назвал я ее «Одой на рабство», имея в виду, что государыня запретила в бумагах официальных и прошениях всяческих отныне подписываться именем раба, но подданного.
— Ошибаетесь, Василий Васильевич, — еще не запретила, только разговор подобный место имел. Вот все и всполошились.
— О звании я не говорю, а только аллегорически весь позор рабства и крепостного ярма для государства, мнящего себя просвещенным, разбираю. Там и панегирических оборотов предостаточно, да Гаврила Романович на своем стоит: отложить печатание до лучших времен.
— Кто знает, не его ли правда.
— А вы что колеблетесь, Дмитрий Григорьевич? Ведь какую «Государыню Законодательницу» представили, и на меня в досаде были, что не расхвалил картины.
— Самолюбие авторское, Василий Васильевич, а по существу…
* * *
Петербург. Дом Михайла Мнишека. Урсула Мнишек-Замойская и Левицкий.
— Я рада, что вы будете писать мой портрет, господин Левицкий.
— Вы льстите мне, ваше сиятельство. Это для меня великая честь написать портрет прекраснейшей польской дамы, супруги коронного гетмана Литовского Михайлы Мнишека. Я постараюсь вас не разочаровать.
— А я в этом уверена, что никакого разочарования не может быть: вы блестящий мастер, Левицкий. Кстати, перечисляя должность моего мужа, вы забыли, что я сама урожденная Замойская и племянница короля Станислава Августа Понятовского. Вот в таком случае мой официальный портрет будет завершен. Впрочем, я никогда не была тщеславна, и мне искренне интересно, как вы прочтете меня на портрете.
— Ваше сиятельство, вы не обидитесь, если я осмелюсь сказать, что наравне с вашей удивительной красотой я хочу передать и вашу увлеченность литературой, искусством.
— Откуда вы это знаете? Вам что-нибудь известно о моем салоне?
— Конечно, ваше сиятельство. Если бы даже Петербург был в несколько раз дальше от Вильны, разговоры о вашем салоне дошли бы до него.
— Как это великолепно, что вы интересуетесь литературой. И кстати, откуда вы так хорошо знаете польский язык? Безбородко меня предупреждал, что вы приехали с Украины, но у вас совсем иной выговор. Вы должны были жить в Польше.
— Я учился в Саксонских землях, ваше сиятельство.
— А, это объясняет многое, в том числе вашу светскость, которой так недостает даже многим местным вельможам. Ведь вы советник Академии художеств, не правда ли?
— Да, ваше сиятельство.
— И вы преподаете искусство?
— Портретное искусство.
— Оно что — выделено среди остальных видов живописи?
— Я руковожу классом живописи портретной.
— И сколько же лет занимаются у вас ваши ученики? Года два-три? Во всяком случае, так принято в Европе. Мой дядюшка король очень увлекается искусством, и я вполне разделяю его страсть.
— Нет, ваше сиятельство, мои ученики проводят со мной шесть лет. И это не моя прихоть — принятая в петербургской Академии программа.
— Как же они успевают вам надоесть, особенно те, кто лишен больших способностей!
— Искусство делается не выдающимися мастерами. Мастера — это как вершины в цепи гор. Без общей горной гряды их существование выглядело бы по крайней мере нелепым.
— Левицкий, вы еще и поэт! Но оставим пока в стороне поэзию. Чем же занимаются ваши питомцы? Помогают вам в ваших заказах? Пишут самостоятельные портреты?
— И ни то, и ни то. Они рисуют гипсы и живую натуру.
— Натурщиков, хотите вы сказать?
— Вот именно!
— Но к чему им это? В исторической живописи строятся сцены, действие, а в портрете все возможности сводятся к тому, чтобы посадить или поставить модель, взять полфигуры или фигуру в рост. Я не хочу вас обидеть, мэтр, но какое может быть сравнение со сложностью построений исторической картины!
— Вряд ли есть нужда их сравнивать, ваше сиятельство. Историческая картина передает историческое действие, где отдельный человек в конце концов не так уж и важен.
— Полноте! И даже герой?
— И даже герой, потому что он занят в некоем событии, касающемся многих людей. Исторический художник имеет дело с духом истории, портретист — с отдельным человеком, в котором заключен тоже целый мир.
— Что же из этого следует?
— Только то, что он должен знать все особенности строения человеческого тела, то, как человек выражает себя в движении, но и ту среду, в которой человек находится. Ему необходимо иметь представление о том, как пишутся пейзаж, натюрморт, цветы, фрукты, животные и как, наконец, строится жанровая сцена.
— Не слишком ли много вы возлагаете на бедного художника, задача которого сводится к простому сходству?
— Но ведь есть портреты и портреты, ваше сиятельство. Вы разрешаете живописцу ограничиться списыванием черт лица, тогда как истинная его задача — выразить то, что скрывает в себе это лицо.
— Вы уверены, что все вам будут благодарны за подобные откровения, если, конечно, они окажутся вам под силу?
— Я имею в виду не разоблачения, но то лучшее, чего человек сам в себе подчас не замечает.
— О, это уже звучит гораздо более заманчиво. И обнадеживающе. Но вы, вероятно, показываете вашим воспитанникам каким-то образцы?
— В искусстве без этого невозможно, ваше сиятельство. Не обязательно подражать, но разобраться в профессиональных секретах ученики академические обязаны.
— А каким образом вам это удается? В Петербурге мне говорили, есть отличные частные собрания, но сомневаюсь, что они были доступны для учеников Академии.
— Напрасно вы так думаете, ваше сиятельство. Охотников поддержать будущих художников в Петербурге совсем не мало. Но главное — императорский Эрмитаж. Ее Императорское Величество разрешает и рассматривать его коллекции и даже копировать их.
— Императорский Эрмитаж? Что же в него входит? Я хорошо знаю собрание моего дяди — оно великолепно, но он никогда не позволил бы наполнять залы дворца молодыми ремесленниками, другое дело — мастера, такие, как вы, мэтр.
— Я назову вам всего несколько собраний, которые приобретены императрицей для Эрмитажа. В 1763 году это было собрание Гоцковского, в 769-м — Троншена.
— О, этого друга Вольтера, Дидро и даже Гримма, которого императрица сейчас так расхваливает как своего ближайшего конфидента?
— Совершенно верно, графиня. Ведь он пользовался при коллекционировании советами французских энциклопедистов.
— Что же, ничего не скажешь, эти собрания очень недурны.
— Но это лишь часть сокровищ Эрмитажа, ваше сиятельство. В 772-м году императрица приобрела собрание Кроза, а затем коллекцию Шуазеля и Амбуаза.
— О, вы могли бы служить чичероне по Эрмитажу, мэтр.
— Я бы никогда не взял на себя такой смелости. Но я действительно знаю Эрмитаж, потому что провожу в нем немало времени с моими учениками.
— Они только смотрят?
— И копируют.
— Это любопытно, кому вы отдаете предпочтение?
— В собрании Кроза, например, это картины Рембрандта, этюд мужских голов Тенирса, этюд старика Рубенса. Каждый из учеников моего класса должен выполнить хотя бы одну копию с Ван Дика и непременно с Рембрандта.
— На этих примерах мне не удастся разгадать ваших вкусов. Назовите же более земные имена, мэтр, или вы к таким совсем не обращаетесь?
— Обращаюсь, и постоянно. Молодым художникам необходимо познакомиться со всем разнообразием портретных изображений. Не знаю, знакомо ли вам, ваше сиятельство, имя Де Труа.
— Пожалуй, нет.
— Он работал во Франции в первой половине нашего столетия. Гораздо более знаменит Гиацинт Риго.
— Еще бы! Он так великолепен в своих костюмах!
— Я мог бы еще назвать Караччи, Рафаэля и Джанбеттино Чиниаролли, того самого Чиниаролли…
— Не продолжайте, Левицкий. Я сама продолжу рассказ и, кто знает, сумею сообщить вам несколько неизвестных вам мелочей. Император Иосиф II после посещения Вероны заявил, что видел там два чуда — амфитеатр и величайшего живописца Европы, как он окрестил Чиниаролли. Современники сказали о нем, что он находчив в композиции, изыскан в рисунке и насыщен в колорите. Император так увлекся его дарованием, что забрал итальянца в Вену, где Чиниаролли стал сначала директором венской Академии художеств, а одновременно — и основателем знаменитой Венской картинной галереи. Вы согласны с подобными восторгами, мэтр?
— Я разочарую вас, ваше сиятельство, сказав, что меня больше занимают теоретические выводы Чиниаролли, его труд о живописи и очерки о творчестве старых итальянцев. Тем не менее все ученики портретного класса выполняют хотя бы по одной копии с его работ.
— А, видите, и вам не удалось избежать его очарования! Кто ж еще достается на долю будущих портретистов?
— Я утомлю вас перечислением, ваше сиятельство, хотя и могу назвать Джузеппе Ногарини, Франческо Тревизани, Николо Бамбини. Я не называю русских имен — они вряд ли вам знакомы.
— Но, значит, есть и такие?
— Конечно, есть. Школа должна сохранять свои национальные черты.
— И тем не менее вы не удовлетворили моего любопытства. Вы говорите о многочисленных копиях. Но куда же они деваются? Не могу себе представить, чтобы их можно было уничтожить — в отношении живописи это было бы настоящим варварством.
— И вы совершенно правы, ваше сиятельство. Никто не покушается на существование этих картин, даже самых ранних и самых неумелых.
— Тогда что же? Я бы купила несколько из них, чтобы поддержать молодых художников. Вероятно, они небогаты.
— По большей части, очень бедны. А совершить свой благородный поступок вы можете в факторской — там продаются все учебные копии, композиции, натурные этюды и зарисовки. Они не представляют интереса для знатоков, но простонародье охотно разбирает их по грошовой цене для украшения своих домов.
— Как умно. Но послушайте, мэтр, для своего сельского дома я непременно отберу несколько десятков головок, непременно одинакового размера, и обобью ими одну из комнат. Это будет положительно чудесно, вы не находите?
— Наша императрица так поступила с работами художника Ротари. Он был очень трудоспособен, и после его смерти осталось несколько сотен головок, которые Ее Величество и велела в качестве обоев приобрести.
— Я поступлю совершенно так же. Но, дорогой мэтр, наш сеанс подходит к концу. Не могу ли я вас попросить о любезности — отберите сами четыре-пять десятков работ. Мой секретарь заплатит, сколько надо.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. Н.А. Львов и Левицкий.
— Дмитрий Григорьевич, поздравляю вас с победой, и нешуточной.
— О чем вы, Николай Александрович, в толк не возьму?
— В толк можете и не брать, а графиня Урсула Мнишек от вас положительно в восторге. Вчера она наговорила Безбородке столько лестных слов, что положительно я, как индюк, напыжился от одного только, что имею честь водить с вами знакомство. Так-то-с, сударь! А теперь извольте объяснить, чем же вы нашу красавицу приворожили?
— Графиня очень снисходительна ко мне.
— Кто? Урсула Мнишек? Вы что, не знаете полячек: они способны быть снисходительными только к самим себе. А здесь разговор шел о вашем знании искусства, о родстве вкусов и множестве других вещей — всего и не упомнишь.
— Не вводите меня в смущение, Николай Александрович, тем более что ничего умного я, видит Бог, не сказал. Немного растолковал, как ученики в классе живописи портретной занимаются, что копируют — не больше.
— Так ли, иначе ли, графиня уже объявила, что это будет ее лучший портрет, который она поместит в своем салоне, а у нее, надо сказать, собирается весь литературный мир. Повезло же вам одновременно писать таких двух красавиц.
— Вы об Анне Давиа?
— Конечно, о ней. Разве не хороша? Первая певица комической оперы и вторая певица серьезной оперы, как написано в ее контракте! Только на деле она стала первой в такой серьезной драме для Александра Андреевича, что дай Бог ему ноги из всей этой истории унести.
— Ничего не понимаю. При чем здесь Безбородко?
— А кто вам, господин Академии советник, позвольте спросить, портрет сей заказал?
— Александр Андреевич. Но ведь он же графинин портрет писать приказал.
— Мнишек — одно, а Анна Давиа-Бернуцци — совсем другое. Мнишки — гости Безбородки. Что же касается госпожи Бернуцци, придется вас просветить, чтобы вы неловкости какой не сделали. Госпожа Бернуцци сюда в итальянскую оперу по контракту приехала, и так нашего бедного Александра Андреевича очаровала, что он сумел из гастролей контракт на несколько лет певице устроить. А там пошли лошади, кареты, туалеты, бриллианты без числа. Поговаривать стали, что разорится Александр Андреевич того и глядя дотла.
— Да мало ли что говорят. Живет себе Александр Андреевич, слава богу, и процветает.
— Только потому, что в дело сама государыня вмешалась. Высылкой Бернуцци пригрозила, если не уймется. Уняться-то наш Александр Андреевич вроде бы и унялся. Только в том чудеса, что у самой Бернуцци не только никаких неприятностей не было. Новый договор с ней заключили да еще много выгоднее былого. И императрица к ней благоволить начала, и Безбородко своего места при примадонне не потерял. А портрет у вас чудесный получился: и собой хороша, и на птицу хищную похожа — так и смотрит, своего чтобы не упустить. Александр Андреевич, поди, доволен будет.
— Хвалил, это верно.
— Вот видите! Да не из-за того я к вам заглянул, Дмитрий Григорьевич, спросить хотел, как Василий Морозов учителем рисования в училище академическое назначен был.
— Что это вы о старых делах вспомнили?
— А то, что сегодня у Бецкого разговор был, мол, отлично Левицкий учеников своих рисованию учит, так что не из класса живописи исторической, а из его — портретного мастера рисовальный взят. Тут кто-то и скажи, что впопыхах дело было. Не заслуга это класса портретного. Кто сказал, неважно, а знать мне нужно.
— История короткая. Вы, может, и не знаете, что на месте этом — мастера первых начал рисования — состоял Филипп Неклюдов.
— Не тот ли, что, говорили, первые в истории Академии медали за живопись и рисунок получал?
— Он и есть — из первых воспитанников академических был. Молодым скончался. Известно, как художников чахотка косит. Совет Академии еще по экзаменам на работы Василия Морозова внимание обращал. Меня спросили, и порешили его назначить. Оказия тут с ним вышла. Назначили его еще до получения аттестата. Уже будучи учителем, аттестат получил.
— Вы за всех своих, Дмитрий Григорьевич, болеете.
— А как не болеть. Художник — профессия горькая. Труда не счесть, славы же не жди. К кому придет, к кому нет. Талант тут не поможет.
— Труд, труд каждодневный, а там, может, и удача. Был у греков бог такой Счастливого случая, Кайрос, поди слыхали? Он бы заметил, вот что нужно.
* * *
Тревога… Как ее уймешь. Капнист дождался подписания указа, новую оду написал «На истребление в России звания раба». Императрица и впрямь распорядилась документы подписывать — не нижайший и всеподданнейший раб, а верноподданный. Предлог один — простить не может, что закабалили крестьян у нас на Полтавщине. Никогда в ярме не ходили, а теперь будто под турок попали. О племянниках думать надо. Нечего им на Украйну возвращаться.
Чего там дождешься. Документов не хватит — из шляхтича в раба превратишься. Спасибо Марку Федоровичу Полторацкому — взял без малого пятнадцать лет назад мальчишек в придворный хор. Уставщик в хоре — всему голова. Теперь с голосу спали — пристраивать пора. Дмитрия отчислили — на службу не хочет, о родных местах думает. Николая удалось в Морской шляхетный Черноморский кадетский корпус зачислить. Малый с головой, поднапрячься — инженером станет. Куда лучше. Брата младшего, Павла, тоже довелось морским офицером увидеть. О художестве никто и толковать не стал. Может, оно и к лучшему. Горек хлеб-то этот, куда как горек! Советник Академии — куда ни шло, а все с Иваном Ивановичем Бецким трения выходят. Марк Федорович напрямик сказал, мол, из ума президент выживает. Перед царицей выслужиться хочет, а на деле наоборот получается. Вот на Академии художеств все и вымещает.
Настасья Яковлевна все свое твердит: портретов парадных побольше бы брать. Дочь того гляди заневестится — деньги нужны. Не лежит душа. Чужих ненадобно. Свои, может, и дешевле платят — рука не поднимается цену высокую назначить. Зато над холстом посидишь, подумаешь — душа отдыхает. Николай Александрович правильно сказал, будто я с портретом разговариваю. А с чужими не поговоришь. Вот и для воспитанников программы придумал давать, как из жизни. Михайла Бельской золотую медаль получил, если по правилам, так и не за портрет вовсе. Так и написал тогда: представить учителя с двумя воспитанниками упражняющегося в истолковании наук 3-му возрасту. А Степану Щукину, как в старший возраст перешел, досталось представить портреты: в картине две фигуры с руками поясные, — учительницу с воспитанницею, в приличном их одеянии и упражнении.
Бецкому программы не нравятся. Так и сказал, лучше бы свитского генерала или кого из высоких чиновников с оригинала чьего-нибудь списать. Зачем непременно натуру брать? В жизни, мол, и так портретисту чаще по чужому портрету свой писать приходится. Всей-то и воли платье иное присмотреть да расположить, композицию свою сделать. Да что о воспитанниках толковать, самому вон что с «Законодательницей» сделать пришлось! Один раз орел не понадобился, другой — без жертвенника обойдется, в третий — вместо моря с кораблем пейзаж написать. Вот и выходит, прав был тогда Капнист, как у Безбородки Гаврила Романович перед «Законодательницей» свое «Видение мурзы» читал. Молодых и вовсе не убережешь, хотя бы классы спокойно кончили. Основание должное получат, так и соблазнам так легко не поддадутся, а коли поддадутся, значит, судьба, значит, одним художником меньше станет. По Академии толки пошли, будто всех учеников в юные степи на работы перед приездом государыни брать будут. Дорогу на Крым благоустраивать. Пробовали господа профессора у президента спросить, отмахнулся, мол, не ваше дело. С важным видом сказать изволил, мол, это…
Секрет Потемкина Таврического
Итак, начало 1787 года. Из Петербурга выезжает грандиозный кортеж — сама Екатерина в ослепительном окружении всего двора и дипломатического корпуса. Путь на Киев, Южную Украину, Крым.
Желание увидеть недавно обретенные Российской империей земли, узнать их особенности, масштабы, потребности? Нет, такой любознательностью Екатерина не грешила никогда. По собственному признанию, ей за глаза достаточно словесных описаний и рисованных планов. Зато политическая демонстрация — об этом в Петербурге думают не первый год.
Отношения с Оттоманской Портой продолжают ухудшаться. Турецкая война висит в воздухе. Надо демонстрировать расцвет государства, его успехи, силу будущим союзникам. Отсюда царские почести, оказанные послам Франции и Англии, которых приглашают принять участие в поездке. Отсюда заранее намеченная встреча с самим австрийским императором Иосифом II и согласие дать по дороге аудиенцию Станиславу Августу Понятовскому. Екатерина уже не играет в нежную дружбу с теряющим былую силу польским королем, но все же в большом дипломатическом розыгрыше лишний монарх может пригодиться.
Впрочем, внешне все выглядит совсем иначе. Идут усиленные разговоры о необходимости проверить состояние новых земель — Екатерина всегда умела слыть рачительной хозяйкой. Дать возможность подданным увидеть обожаемую монархиню — Екатерина не вправе лишить их такого законного счастья. И даже — кто бы мог подумать! — подвергнуть ревизии наместника Новороссии, самого Потемкина. Якобы до императрицы наконец-то дошли о нем неблагоприятные слухи. Якобы наконец-то стало истощаться ее многомилостивое терпение. А если европейские дворы и не склонны верить во все это — их дело. Камуфляж — неизбежная дань дипломатическим условностям — им достаточно хорошо понятен.
…Без малого двести экипажей и карет — почти как при выезде на коронацию в Москву. Пятьсот с лишним сменявшихся на каждой станции лошадей. Со всей тщательностью отделанные галереи для минутных остановок в пути — на самых живописных местах, у самых привлекательных видов. Чудом поднявшиеся путевые дворцы в щедрой позолоте мебели, внутренней отделки, сверкании зеркал, бронзы, каскадах хрусталя — для ночного отдыха. Пусть без печей, зато с необъятными погребами и ледниками для «необходимого провианту», с обязательным, предписанным запасом в 500 светильных плошек, 10 фонарей и шесть пустых смоляных бочек — освещать покои и «местность». Дороги — для «покойной езды», тщательнейшим образом уравненные, мосты — где надо, то и заново отстроенные, паромы — со всеми предосторожностями и удобствами наведенные. Распорядок — кому с кем ехать, сидеть за столами, обок отводить покои. И расписание — подробнейшее, на каждый день, каждый час: где еда, где ночлег, где передышка для разминки, а где «променад» под очередными триумфальными арками. Никаких случайностей, корректив на ходу, импровизаций. Все было предусмотрено и установлено почти за год до выезда, утверждено специальным сенатским указом 13 марта 1787 года, разработано предписаниями для каждого исполнителя, наконец, подтверждено в выполнении простынями расходных ведомостей.
И Новороссия поражает участников поездки порядком, благоустроенностью, размахом строительства — уже завершенного — цветущими городами и селами — уже существующими. Что там успехи в освоении нового! Никакого сравнения со старыми, коренными районами Российской империи! Да что говорить, если едва не опальный, по слухам, князь Потемкин за «несравненные» его заслуги в управлении землями тут же, на обратном пути получает знаменательный титул Таврического и в его честь выбивается медаль. «А твои собственные чувства и мысли тем наипаче милы мне, чтоб я тебя и службу твою, исходящую из чистого усердия, весьма-весьма люблю и сам ты бесценной», — строки из письма Екатерины Светлейшему, наспех набросанного перед возвращением в Петербург.
Факты и факты. «Остается жалеть, что в делах не найдено никаких сведений собственно о путешествии императрицы. Сколько было свидетелей этого величественного шествия великой государыни с блистательною свитой в новоприобретенную страну, а мало сохранено о том сведений (кроме описаний, иностранцами изданных), и в преданиях и на письме собственно местными жителями». Одесское общество истории и древностей Российских, отозвавшееся таким образом в отчете за 1879 год, трудно заподозрить в недостаточно энергичной деятельности. Но ни первые, ни последующие его «уловы», рассчитанные на создание местных исторических архивов, не приносят ничего: ни преданий, ни толков, ни писем, ни дневниковых записей. Едва ли не один Гоголь в «Майской ночи» поминает крымскую поездку — как случилось его кривоглазому голове быть провожатым царицыного поезда и даже сидеть на одном облучке с царским кучером: «А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге…»
Только историки продолжали упрямо искать — и непременно впечатлений очевидцев. Казалось бы, что в них по сравнению с неопровержимой буквой документов? Воспоминания всегда противоречивы, всегда зависят от личных обстоятельств рассказчика, не говоря о возрасте, впечатлительности, памяти. Придворная служба, дворцовые интриги, расчет карьеры, благополучия, простого спокойствия душевного слишком часто «тьмы низких истин нам дороже…». Очевидец всегда остается прежде всего человеком, открытым давно улегшимся для потомков ветрам своих случайностей, своей личной судьбы.
С письмами не легче. Кто же из них, счастливцев золотого Екатерининского века, тем более из близких ко двору рискнул бы довериться почте своих дней? «В ее (Екатерины II. — Н.М.) империи, — замечает французский посол, — как и везде, чиновники раскрывали всякие письма и депеши». Своеобразное приобщение к общеевропейской государственной цивилизации! Перлюстрация входила в понятия очевидные, каждодневные, для слишком многих кончавшиеся ссылкой, монаршим гневом, если не заключением в крепости. Недаром такой несокрушимой и беспредельно почитаемой сменявшимися монархами силой оставался от Анны Иоанновны до самой Екатерины II директор почт барон Аш, умевший все узнавать, обо всем первым сообщать и… забывать.
Кто-то первый бросил слово — умышленно или неосторожно. Наверняка полушепотом. Только для ушей ближайшего, доверенного соседа. Гнев Потемкина — разве можно было рисковать ему подвергнуться! «Даже заочно не смели гласно осуждать его, — замечает современник, — лишь тайком бессильная зависть подкапывалась под его славу». Именно зависть — ни в коем случае не правда. Один из ближайших наследников и родственников Светлейшего граф Самойлов в многословном, откровенно панегирическом сочинении «Жизнь и деяния князя Г.А. Потемкина Таврического» готов поставить все точки над «и». Простая зависть представляется ему недостаточным по масштабу объяснением. Нет, дискредитация Потемкина — дело государственной важности, дело рук и расчета иностранцев.
«Что деятельность Потемкина была крайне неприятна иностранцам, — пишет Самойлов, — это вполне понятно. Господствуя у нас печатным словом, иноземцы распространили мнение (которое и доселе не совсем уничтожилось), будто все эти работы были каким-то торжественным обманом, будто Потемкин попусту бросал деньги и показывал государыне живые картины вместо настоящих городов и сел».
«Живые картины» — это был истинный смысл, явный отклик на слова и обвинения современников, смысл «потемкинских деревень». Но любопытно, что доморощенная защита находит самую деятельную поддержку у всех философов официального толка. Впрочем, для этих историков все объяснится иначе. Они не склонны оспаривать самого факта «живых картин» — по всей вероятности, это было бы и бесполезно, — зато об организации их можно сказать совсем иначе. Просто в крымской поездке Потемкин оказался человеком, «с замечательным искусством сумевшим скрыть все слабые стороны действительности и выставить блестящие свои успехи». Только и всего. Так, во всяком случае, представляет Светлейшего читателям энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Все сходилось в гибкой формуле: пусть первоначальный размах не соответствовал результатам, но результаты были, и, тем самым, почвы для каких бы то ни было разоблачений попросту не существовало. «Потемкинские деревни» незаметно и логично передвигались в категорию обыкновенного обывательского злословия.
И все-таки — в чем подлинный смысл упорства историков в поисках очевидцев? Не в этом ли разночтении преисполненных триумфальных фанфар официальных отчетов, высочайших отзывов и непреодолимом молчании рядовых современников, за которым невольно встает неясный отсвет «потемкинских деревень»?
Да и как, на самом деле, представить себе официальную бумагу, черным по белому, за подписями и печатями, свидетельствующую, что никаких цветущих сел и городов в действительности не было и что все показанное Потемкиным кортежу Екатерины оказалось фикцией! Такой правде, к тому же обоюдоострой и для могущественного князя, и для самой императрицы Всероссийской, могло найтись место лишь в экспедиции Сената, сменившей в непрекращающемся наследовании Приказ тайных розыскных дел. Но там — удостовериться в этом не представляет особых трудностей — никакого следствия против генерал-фельдмаршала российских войск, графа и Светлейшего князя Священной Римской империи Григория Александровича Потемкина Таврического не поднималось никогда.
Оставались намеки, случайно оброненные слова и недомолвки современников, колкости дипломатов, их обычные двусмысленные похвалы, союз молчания сильных мира сего и… суд народной памяти. Суд неумолимый, переживший в своем приговоре, без поправок и снисхождения двести с лишним лет. Суд, выдержавший и натиск времени — сколько провозглашенных наиважнейшими проблем неотвратимо стерто его медлительным течением! — и позицию исторических трудов.
…В общем ряду биографических фактов это выглядело одной из ступеней карьеры знаменитого государственного деятеля: 1774 год — назначение Потемкина «главным командиром Новороссии». Только дело в том, что никакого государственного деятеля еще не было и в помине.
Государственное мышление, широта натуры, личная храбрость, редкий талант в интригах, особая приверженность к внешнеполитическим делам — обо всем этом будет говориться на разные лады. Потом, со временем. Пока назначение — всего лишь подарок, всего лишь много раз и по-разному повторявшийся царский прием утвердить «случай» очередного, нежданно-негаданно появившегося фаворита. Именно «случай», как язвительно-вежливо умел говорить XVIII век, но не заслуги неродовитого, полунищего да к тому же и недоученного шляхтича из Смоленска.
Умел ли Потемкин выделиться деловыми качествами, умом, деятельностью? Скорее всего, знал, чуть не сызмальства знал, к чему надо стремиться, и ради своих единожды намеченных целей готов был идти любыми путями. Лишь бы скорее, лишь бы короче.
В восемнадцать лет один из студентов только открывшегося Московского университета, представленный самой императрице Елизавете Петровне в числе способнейших, через считанные месяцы он отчислен оттуда по «нерадению» к учебе. Эта дорога не устроила Потемкина: слишком долго, да и каких особенных результатов ждать от ученых занятий. И в двадцать один год вахмистр Потемкин не только в армии. Он в числе участников дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину.
При всем желании биографы Светлейшего не сумели выяснить, к чему свелось это участие. Безусловно одно: новая царица не оставила без внимания заслуг молоденького вахмистра — ему достаются четыреста крестьян и чин.
* * *
Петербург. Академия художеств. А. Иванов, А.Х. Востоков (Остенек).
— Получил я от Ермолаева преинтереснейшее письмо. Полагаю его при случае господину Левицкому занести прочесть.
— Ты давно у него был?
— Не так давно, да неудачно. Работал он в мастерской, принять нас не мог, однако усиленно просил его снова навестить и книги дал.
— Из тех? Философических?
— И по истории Российской последние сочинения. Вот потому и думаю, что ему понравится сие сочинение ермолаевское. А впрочем, сам послушай: «Политическая твоя статья весьма хорошо написана, и я тебя за нее особливо благодарю, и весьма за выписку об экспедиции и характера генерала Буонапарте. Я никак не могу всему верить, что о нем пишут в Лондонских известиях, и для многих причин. Мне нет времени представить их тебе по порядку, а скажу только то, что если бы Буонапарте не имел тех талантов, чрез которые он сделался столь известен, то я уверен, что Директория Французская не поручила бы ему главного начальства над такою армиею, какова Итальянская, на которую Директория положилась в произведении главнейших своих планов против Римского императора; притом Буонапарте должен был бы во всем следовать советам Бертье; но мы, напротив того, знаем, что во время баталии при Лоди Буонапарте не послушался и — одержал победу. Стало быть, Буонапарте имел таланты, которые доставляют ему верх над неприятелем, в то время когда Бертье не находит в себе и столько искусства, чтобы хоть не проиграть батальи».
— Любопытные мысли. И ты почему, Иванов, полагаешь, что господину Левицкому интересны они будут? Ведь его, сколько я знаю, вопросы усовершенствования натуры человеческой более занимают.
— Дмитрий Григорьевич их от ситуации политической не отделяет в той мере, в какой они способствовать конечной высокой цели способны. И литературою он чрезвычайно интересуется. Скажем ты, Остенек, в последних днях в кружке нашего Нарежного хвалил. А я похвалю тебе князя Долгорукова, коего я недавно читал две или три пиесы в стихах весьма прекрасные, по моему мнению. Штиль его не разнится от Фонвизинова. Его ода к слову «АВОСЬ» весьма замысловата. Другая пиеса «Я», там он с любезною откровенностию себя описывает. Еще недавно узнал я одного, весьма непоследнего из русских авторов Хемницера, хотя и сие имя и знал, что он автор, но не знал, что он русской. Между прочим, это Львов собрал и издал его басни, которые мне кажутся весьма прекрасными. А ведь все сии литераторы — ближайшие друзья господина Левицкого, и о творениях их рассказывает он чрезвычайно интересно.
— Послушай, Иванов, а ты меня не представишь господину Левицкому? Возможно ли такое?
— Почему же невозможно. Дмитрий Григорьевич каждому академисту рад, никогда от дома не откажет. А о нашем кружке все досконально знает, обо всем извещен.
— Так ты меня с собой возьми.
— Возьму. Сам увидишь, каким художнику следует быть. Обо всем известен. Никаких тем не сторонится. Даже нам помогал роман Дюлорана «Отец Матье» переводить. А среди разговоров литературных да политических нет-нет на искусство перейдет. Не заметишь, а уж он тебе целый урок преподаст.
— Он ведь в Академии преподавал?
— Преподавал, да не ко двору пришелся. С президентом спорить стал, академистов отстаивать. А на мой разум, так и без этого спора от него бы начальство избавилось. Я так полагаю, искусству мыслящие художники нужны, а власть имущим — никогда. Я вот тебе свое письмо из Новгорода прочту. Очень его Дмитрий Григорьевич расхвалил. У него тогда и господин Львов Николай Александрович был, и Семен Иванович Гамалея — из Авдотьина, от Новикова приезжал.
«…Новгород Великий виделся только издали. Подъезжая к нему за несколько верст еще, открывается златая глава Софийского собора. Въехав в город, я почувствовал что-то такое, чего тебе сказать не умею. История Новгорода представилась моему воображению; я думал видеть наяву, что я знаю по описанию; при виде каждой старинной церкви приводил я себе на память какое-нибудь деяние из Отечественной истории. Воображение мое созидало огромные палаты на всяком месте, которое представлялось глазам моим. Где теперь хоромы посадника Добрыни? думал я сам в себе и сердце мое сжималось; какая-то тоска овладевала оным. Наконец, представилась мне старинная стена крепости (по-старинному детинца или тверди!). Какой прекрасный вид! Стена уже получила цвет, подобный ржавчине, который гораздо темнее наверху, нежели внизу; и весьма походит на архитектурное построение. Зубцы по большей части обвалились, а на их месте растет трава и небольшие березовые кустики… в некотором расстоянии внутри крепости есть башня, которая, по уверению некоторых людей, составляла часть княжеских теремов. Не знаю, правда ли это, однако же когда мне о том сказали, то старинная башня сделалась для меня еще интереснее. Здесь может быть писана РУССКАЯ ПРАВДА… Удалось окинуть мне глазом внутренность Софийского собора и найти, что славные медные двери, привезенные Владимиром из Херсона, которые нам только рекомендовал граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, не суть важны, как говорит Михайлов, потому что они деревянные и сделаны при царе Иване Васильевиче в 1560 году, каким-то Псковитянином и каким-то Белозерцем, это я увидел из подписи, вырезанной на самих дверях…» Ну, каково тебе, брат?
— Отменно.
— Вот и остается сказать, обстоятельства чувствительно увеличивают круг моих познаний, а без них, как любит повторять Николай Александрович Львов, и художника быть не может. Покуда граф Алексей Иванович при руководстве Академиею нашей состоит, в обстоятельствах благоприятных, думается, недостатку не будет.
— Так полагаешь?
— А ты что же, братец, сомневаться начал?
— Не хотел бы, да приходится.
— С чего бы?
— Сам посуди. Со времени кончины великой государыни не завелась ли у нас в Академии игра в солдаты?
— Это ты о мундирах?
— И о мундирах тоже. Пуговицы не расстегни, в мастерской али в классах без мундира не работай. А там на минуту не опоздай, с рабочего места не отлучись.
— Ну, это пустяки!
— Пустяки, говоришь? Только с чего казарма начинается, не с таких ли мелочей? Да и граф Алексей Иванович хоть историей и занимается, к художествам отношения не имеет и особенностей их, по моему разумению, понимать не хочет.
— Уж это ты, брат, загнул! Как это, не понимает?
— А ты слова его на инаугурации президентской забыл? Мол, пламенеет сердце усердием и желанием к ревностному звания происхождению.
— Чего ж тебе еще!
— А ты не прерывай, до конца дослушай: но не равносильны оному ни сведения, ни способности.
— Сие только лишь о достоинствах и скромности душевной графе свидетельствует.
— Кабы так! А то, что все классы по единому ранжиру теперь выстроены, тебя не тревожит? Положим, нам, архитекторам, страх не велик, а каково-то живописцам придется? О том не подумал? Прежде каждый профессор за своих учеников мог на Совете постоять, нынче — всего лишь профессору историческому доложиться. Президент и принимать его не станет: не положено субординацию нарушать. Так-то, братец. Может, еще спасибо скажем, что вовремя из стен академических выходим.
* * *
Петербург. Васильевский остров. Дом Левицкого. Н.А. Львов и Левицкий.
— Слыхали, Дмитрий Григорьевич, в Академии опять перемены. Не одним царедворцам ночами не спать — теперь и до господ чиновников академических дело дошло.
— Новые идеи графа Мусина-Пушкина, Николай Александрович?
— Какое! В том-то и дело, пришлось графу с президентским креслом расплатиться.
— Так он же без году неделю, как порядки свои вводить начал.
— Выходит, недели этой пресловутой и хватило. Слухи ходят, будто государю не понравились его разговоры с академистами. Больно накоротке с ними президент стал.
— Ну уж в этом-то и вовсе беды нет, казалось бы.
— И по старым меркам беда была, а по новым и толковать нечего. Сняли графа Алексея Ивановича.
— И сменщик его известен?
— А как же — граф Шуазель-Гуфье.
— Видно, и впрямь слишком стар становлюсь, Николай Александрович. Невдомек мне, что сей аристократ и беглец французский, сколько знаю, разве что дипломатией баловавшийся, в Академии художеств делать способен.
— Годы ваши, Дмитрий Григорьевич, здесь ни при чем. Да и какие ваши годы — на живопись свою поглядите: год от года интереснее портреты пишете. От портрета супругов Лабзиных глаз не оторвешь. А что до Академии, вы в ней храм искусств видеть желаете, а на деле есть она ни много ни мало учреждение государственное и порядки новые государственные проводить должна.
— Так ведь до утверждения дойти можно, что и выпускать Академия чиновников должна.
— Кого же еще, Дмитрий Григорьевич? Государь так и пояснил: коль на воспитанников государственные деньги тратятся, коли им по окончании привилегии государственные положены, скажем, почетное личное гражданство, освобождение от воинской повинности и податного состояния во всех нисходящих коленах, то и подчиняться им государственной дисциплине необходимо. В логике таким рассуждениям не откажешь.
— А искусству в чем отказать придется?
— Полноте, полноте, Дмитрий Григорьевич, коли способности у человека есть, он, получивши образование, так сказать, начальное, далее сам свою дорогу найдет.
— И от ферулы государственных властей освободится, вы полагаете?
— Коли освободится, ни на признание, ни на славу, ни на средства особенные рассчитывать не сможет. Останется ему на самого себя и счастливый случай полагаться, а ведь это только смолоду хорошо. С годами ой-ой как круто придется. Может, в Италии или Франции самопас жизнь пройти можно, а у нас в России… И трудно, и, доложу я вам, бесполезно.
— Не сойтись нам в этом, Николай Александрович, сколько толковать не будем. Ну, да Бог с ним, вы лучше насчет нового президента расскажите.
— Что ж, новому графу в познаниях не откажешь. Дипломатией он, как вы изволили заметить, и впрямь баловался, но умел обязанности дипломатические с увлечениями душевными совмещать, и притом весьма успешно. По Греции немало поездил, в раскопках археологических участие принимал, гомеровские места самолично осмотрел. Оттуда и его трехтомная «Живописная история Греции» родилась. Труд отменный. Есть что посмотреть, есть и что читать. С французскими художниками знакомство водил, а директора Французской академии в Риме господина Менажо вознамерился к нам пригласить для руководства классом живописи исторической. Господину Менажо в известности и славе не откажешь. Так что школа наша присоединится к школе французской.
— Да ведь наша-то Академия русская, Николай Александрович. Об этом бы тоже помнить не грех.
— Вот-вот, Дмитрий Григорьевич, вы будто из академического Совета и не выходили. Совет также сему назначению воспротивился.
— Не может быть иначе.
— И может, и будет. Граф Шуазель-Гуфье так прямо и ответил, к великому удовольствию Его Императорского Величества: «Я есмь и буду впредь лично порукою во всех данных мною приказаниях».
— Что же новый президент и в отношении государя таким же непреклонным быть собирается?
— В отношении императора? Конечно, нет. Для примера приведу вам пожелание государыни императрицы, которое граф с чрезвычайною поспешностью уже выполнить успел силами мастеров академических, — прикрепить фиговые листки на все обнаженные античные статуи, в Павловске находящиеся.
— И это знаток искусства древнего?!
— Чего ж вы хотите, живет граф в нынешние дни, и в конце концов, статуи составляют собственность Ее Императорского Величества.
— Удивляюсь вам, Николай Александрович, и вы так спокойно о сем говорите, вы, просвещеннейший человек.
— Всего лишь грешный и смертный человек. Зато послушайте, с каким проектом граф Шуазель-Гуфье сразу же согласился и Совету в поддержку выступил — завести институт вольноприходящих учеников. Подумайте сами, не надо теперь молодому человеку вакансии ждать, способы изыскивать в число воспитанников попасть. Коли средства позволяют — а много ли их нужно! — может все классы академические посещать, награды наравне с казенными учениками получать и тех же преимуществ добиться.
— Но ведь об этом не новый президент, а с давних пор сами профессора хлопотали.
— Хлопотали, да без толку. А граф всего прямо при вступлении в должность добился. Плохо ли? Кстати, помянул я портрет супругов Лабзиных. Что-то не вижу его в мастерской. Забрали его уже?
— Не они. Да не они и заказчиками были. Об их портрете Николай Иванович Новиков хлопотал. Многих наших он у себя в Авдотьине видеть хотел. Вот и здесь просил не задерживать. Нарочного прислал.
— Жаль, что не увидел. Только так полагаю, с самим оригиналом нам еще не раз встретиться доведется. У господина Лабзина впереди широкая дорога.




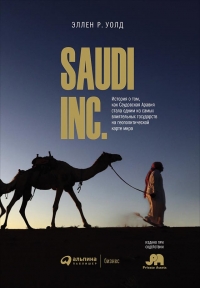
Комментарии к книге «Семь загадок Екатерины II, или Ошибка молодости», Нина Михайловна Молева
Всего 0 комментариев