Семен Резник Вместе или врозь? Судьба евреев в России Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына «Двести лет вместе»
От автора
«Треть евреев вымрет, треть евреев выселится, а треть евреев совершенно растворится среди окружающего населения».
Так в конце XIX века К. П. Победоносцев — один из ведущих государственных деятелей двух последних царствований — сформулировал генеральную линию российской власти по отношению к евреям. Как это ни парадоксально, но в Советской России программа идеолога царизма осуществлялась с еще большей энергией: социальные перевороты и катаклизмы тектонического масштаба лишь ускоряли ее реализацию. Если жизнь вносила в формулу поправочные коэффициенты, то в том смысле, что либо вымирание проводилось более интенсивно, чем переселение, либо переселение опережало растворение. Задачи были определены, цели поставлены — они оставались неизменными.
В годы Второй мировой войны «решению вопроса» сильно способствовал Гитлер, уничтожавший еврейское население оккупированных территорий (вот когда вымирание многократно перекрывало действие остальных факторов), но ликвидация евреев как религиозно-этнической общности со своим «лица не общим выраженьем» не прекращалась властями России ни до, ни после войны. В XIX веке примерно две трети мирового еврейства проживало в Российской империи — 6–6,5 миллиона человек; к концу XX века в Российской Федерации осталось примерно 2–3 процента еврейского населения — несколько более 300 тысяч; а на всех территориях бывшей Российской империи 6–7 процентов — 600–700 тысяч. Причем, эти остатки крупнейшей еврейской общины настолько ассимилированы, что никакой связи со своими национальными корнями большинство из них не чувствует и охотно забыло бы о них, если бы не настойчивые напоминания со стороны антисемитов.
Попытки возрождения еврейской культуры в постсоветской России приносят определенные плоды: вновь появились еврейские школы, синагоги, музеи, научные и культурные центры. Но большинство «лиц еврейского происхождения» держится от них в стороне — либо из полного равнодушия, либо из страха. В современной России глумление над евреями и всем еврейским — это «бытовое явление», нередко сопровождающееся актами вандализма, насилия и угрозами насилия. Так было всегда, но теперь выражается с беспрецедентной откровенностью и цинизмом.
Объектами особой ненависти становятся русские интеллигенты, которые пытаются противостоять коричневой чуме. Заказное убийство летом 2004 года — воровски, через дверь — петербургского этнографа и эксперта по национальным отношениям Н. М. Гиренко вызвало ликование национал-патриотов. Они публично поздравили убийц с успехом, публиковали на своих вэб-сайтах списки «недругов России», подстрекая к новым актам нацистского террора. Убийцы «не найдены», подстрекатели, которых разыскивать не надо — имена и адреса известны, — к ответственности не привлечены.
Убыль еврейского населения продолжается быстрыми темпами — за счет всех трех победоносцевских факторов: вымирания, переселения (эмиграции) и растворения (смешанные браки, сокрытие еврейских корней).
То, что происходило и продолжает происходить с евреями в России—СССР—России, возможно, не подпадает под понятие геноцид (физическое уничтожение народа), но безусловно подпадает под понятие этноцид. Как и какими методами он осуществлялся, чем обосновывался, какое воздействие оказывал на общий моральный и политический климат страны, как отражался на судьбах русской государственности и «коренного» народа — об этом мое историко-документальное повествование.
Книга написана в два этапа. Я приступил к «заметкам на полях» сразу же после выхода в свет первого тома дилогии А. И. Солженицына «Двести лет вместе», охватывающей дореволюционный период. Так появилась работа «Вместе или врозь?». Она печаталась главами в балтиморском журнале «Вестник», издательство «Захаров» выпустило ее отдельной книгой в Москве. Рукопись была в редакционной подготовке, когда появился второй том дилогии Солженицына — о советском периоде. В последний момент я успел добавить сжатый «Необязательный постскриптум о втором томе», чем и поставил (как тогда считал) последнюю точку.
С начала публикации журнального варианта стали приходить устные и письменные отзывы, комментарии, замечания; после выхода книги в Москве этот поток усилился. Настойчивее других мне высказывались пожелания продолжить «заметки на полях» — для более углубленного освещения советского периода. Поначалу я отмахивался от этой идеи, но постепенно стал сознавать, что, густо разрисовав поля первого тома дилогии, не могу ограничиться лишь несколькими отметинами на полях второго тома. Это мнение особенно укрепилось во мне в декабре 2003 года, в Москве, где я встречался с писателями, читателями, журналистами и с моими новыми друзьями — издателем Игорем Валентиновичем Захаровым и директором издательства «Захаров» и редактором книги Ириной Евгеньевной Богат. Было решено подготовить новое, исправленное и значительно дополненное издание.
Исправить мелкие погрешности, пойманные некоторыми читателями, было несложно, а вот дополнение потребовало целого года напряженной работы. Надеюсь, мне удалось показать, что антисемитская политика царского режима по своей жестокости и лицемерию была лишь бледной тенью того, что творила «диктатура пролетариата». Так появилась фактически новая книга. «Вместе или врозь?» входит в нее как составная часть.
Хочу возразить некоторым критикам: тем, кто, даже при общей положительной оценке моей работы, воспринял ее как «еврейский ответ русскому писателю»; и еще тем, кто недоумевал — почему «заметки на полях», ведь книга вовсе не сводится к полемике с Солженицыным.
В свое «оправдание» могу сказать вот что.
Все мы питаемся соками и отравляемся ядами духовного, интеллектуального, идейно-информационного пространства, в котором живем и чьими испарениями дышим. По большому счету, почти все, что мы пишем, это «заметки на полях» написанного кем-то до нас.
Моя книга инспирирована книгой Солженицына, моим несогласием с ним, но это не ответ автору дилогии и, тем более, не изложение еврейской точки зрения в противовес русской. У Солженицына, по его собственным словам, «еврейские голоса звучат много обильнее, нежели русские», тогда как у меня «много обильнее» звучат русские голоса. Историческая правда не может быть русской или еврейской или еще какой-то. Правда одна, хотя ни у кого нет монопольного права на нее. Я попытался рассказать правду — в той мере, в какой она мне открылась за десятки лет изучения данной темы, — которую Солженицын частью не знает, частью игнорирует и частью искажает.
Я даю свое прочтение политической истории России параллельно с попыткой определить реальное место в ней евреев и так называемого «еврейского вопроса». В какой мере убедительно мое прочтение, судить не мне.
Если Солженицын привлекал преимущественно вторичные источники (материалы «Еврейских энциклопедий», публицистические работы и мемуары по большей части второстепенных «еврейских» авторов), то я полагался на документы-первоисточники, свидетельства высших чинов царской администрации, советских политических деятелей и идеологов, прямых участников событий, в отдельных случаях — на специальные труды историков. Ссылки на цитируемые мною работы даны в подстрочных примечаниях, а номера цитируемых страниц двухтом¬ника Солженицына обозначены в скобках после самих цитат.
Журнальный вариант книги, как говорилось, был «обкатан» в журнале «Вестник» (№№ 8—26, 2002; №№ 1–3, 2003; №№ 14–26, 2004), за что я признателен его издателю и редактору В. Прайсу. Многочисленные отзывы, замечания, советы, материалы, указания на библиографические источники, которые я получал, служили большой моральной поддержкой и конкретной помощью в работе. Всем, кто откликнулся, моя сердечная благодарность, в особенности Марку Авербуху (Филадельфия), Семену Бадашу (Бед Эмс, Германия), Иззи Вишневецкому (Уилмингтон, Пенсильвания), Виктору Жуку (Москва), Семену Ицковичу (Чикаго), Александру Клейнерману (Москва), Борису Кушнеру (Питтсбург), Льву и Ирине Левинсон (Израиль), Якову Лотовскому (Филадельфия), Владимиру Нехамкину-Мохову (Минск), Владимиру Порудоминскому (Кельн), Сергею Романову (Новгород), Иосифу Саксонову (Лос-Анджелес), а также моей жене Римме Резник, терпеливо переносившей мои полуночные бдения у компьютера, читавшей черновые варианты рукописи и всеми другими способами помогавшей мне в работе.
Особая признательность моим издателям И. В. Захарову и И. Е. Богат — за необыкновенно бережное отношение к авторскому тексту, за деловитость, оперативность и просто за доброе отношение.
С.Р.
2005 г.
Вашингтон
Книга первая ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
Если такое изложение истории считать объективным, то до истины не договориться.
А. И. СолженицынЧАСТЬ I
Ожидание шедевра
Книга Александра Солженицына «Двести лет вместе (1795–1995), часть I» у меня не вызвала изумления. Те, кто читает (а не только почитает) А. И. Солженицына, знают, что в ней нет ничего неожиданного. Вопреки претензии автора, что он якобы посягнул на какую-то запретную, табуированную тему (более десятилетия назад такую же претензию заявил И. Р. Шафаревич, автор «Русофобии»), в России публикуется множество книг аналогичного содержания и направленности, причем некоторые из них написаны гораздо сильнее.
Вялая по стилю, рыхлая по композиции, опирающаяся на вторичные, селективные, тенденциозно или поверхностно толкуемые материалы, книга Солженицына совершенно не оригинальна. Если бы она вышла под другим именем, на нее мало кто обратил бы внимания. Но громкое имя обладает особой притягательной силой, а имя Солженицына в этом отношении совершенно уникально. Когда вспоминаешь масштаб его таланта, проявившегося в произведениях ГУЛАГовского цикла, когда вспоминаешь о той беспримерной стойкости, с какой «теленок» бодался с дубом советского тоталитаризма, когда думаешь об орлиной высоте, на которую он взмыл, чтобы охватить единым взором весь мертвый ландшафт кровавого коммунистического режима, когда, наконец, вспоминаешь о тех острых переживаниях, которые испытывали многие из нас, вертя ручки радиоприемников, чтобы, сквозь треск глушилок, услышать набатный солженицынский призыв «жить не по лжи», то от каждой его новой работы ждешь нового, проникновенного СЛОВА. Заранее полагаешь, что ничего, кроме шедевра из-под пера такого писателя выйти не может. И если шедевра не находишь, то прилагаешь неимоверные усилия, чтобы все-таки отыскать. Эта «презумпция шедевра» туманит не только рядовых читателей, но и иных профессионалов, что подтверждает, к примеру, рецензия Льва Аннинского под выразительным названием «Бикфордов шнур длиною двести лет».[1]
Статья написана с присущим критику темпераментом. То, что новая книга Солженицына гениальна, у него сомнений не вызывает, а потому все усилия направлены на то, чтобы выразить свое восхищение, объяснив себе и другим, в чем именно состоят ее несомненные достоинства. «Он нигде не перешел грани. Он эту грань перелетел, отнесясь в сверхзадаче к смыслу драмы: к тому, что свело русских и евреев во всемирной истории, почему этот контакт оказался столь значимым, чему они научили друг друга, в том числе и горьким урокам… Вопросы в связи с этим возникают вечные, то есть проклятые, окончательного решения не имеющие. Думать над ними в связи с книгой Солженицына — счастливый труд», комментирует маститый критик. Вряд ли подлежит сомнению, что если бы та же работа принадлежала менее именитому автору, восторги Л. Аннинского не были бы столь пылкими. Даже натыкаясь в книге на фактические неточности, критик — а ему не занимать эрудиции — предпочитает скорее не доверять собственным познаниям, чем автору рецензируемой книги: «Не хочется выверять, где и как Солженицын подобрал цитаты, или ловить его на фактах. А то еще и сам поймаешься».[2]
Магическую власть имени Солженицына я испытал на себе много лет назад, когда с растерянностью вчитывался в «Август 1914-го», первый «узел» «Красного колеса». Брал ее в руки с трепетным, нетерпеливым ожиданием счастья, которое всегда испытываешь при соприкосновении с творением подлинного таланта. Но чем глубже погружался в чтение, тем больше оно меня обескураживало. Я не мог не видеть, как беспомощна эта проза, но упорно уговаривал себя, что тут что-то не так; я, видимо, чего-то не улавливаю, передо мной, видимо, какой-то новаторский вид литературы; если роман не производит на меня должного впечатления, то, видимо, я еще не готов воспринять это новаторство. «Может быть, мудрость, красота и глубинная правда этой прозы откроются в следующем узле», уговаривал я себе. Но колесо продолжало катиться, а литературы не получалось. Солженицын-писатель необычайно силен, когда описывает то, что, выстрадал, пережил и прозрел. Тут почти нет ему равных. Но он мало способен к вживанию в далекую эпоху, к проникновению в души людей, с которыми может знакомиться только по письменным источникам. Тут ему не достает зоркости и тонкости слуха.
Взявшись за историческое повествование грандиозного масштаба, Солженицын допустил роковую ошибку. У меня возникает ощущение невозвратной потери, когда я думаю о том, сколько истинных шедевров недосчиталась наша литература из-за того, что добрую половину своей отнюдь не короткой творческой жизни крупнейший писатель нашего времени потратил на унылое перебирание различных — вовсе не малоизвестных — исторических материалов, тщетно пытаясь переплавить их в живые художественные образы. При создании этого унылого цикла романов температура в топке писательского таланта Солженицына никак не дотягивала до точки плавления. Не помогли и отчаянные усилия искусственно поднять температуру, что так странно проявилось при переработке первого «узла» эпопеи, куда втиснут трехсотстраничный довесок об убийстве премьера П. А. Столыпина.
Начав раскрутку красного колеса революции с августа 1914 года, Солженицын вроде бы определил свою точку зрения на истоки большевистского переворота (впрочем, не оригинальную): красное колесо запустила в движение Первая мировая война. Но если так, то причем здесь Столыпин, убитый за три года до начала войны? Позднейшая имплантация вставного романа в ткань повествования говорила только об одном: изначально эпопея не было продумана ни концептуально, ни композиционно. Писатель сам не знал, что именно собирается раскрутить! Ясного представления о том, что привело российскую империю к краху 1917 года, у него не оказалось, хотя именно об этом он захотел поведать миру. С одной стороны, в его эпопее явственно виден «патриотический» соблазн отвести историческую вину от России, возложив ее на евреев. С другой стороны, Солженицын понимает, что такое «объяснение» как раз менее всего патриотично: оно делает русский народ неполноценным, ибо не может полноценный народ позволить кучке зловредных иноплеменников распоряжаться своей судьбой. Автор блуждает в лабиринте, не имея в руках ариадновой нити. Так и не завершив эпопеи, он явно утратил к ней интерес — потому, видимо, и опубликовал конспективные наброски последних томов, дабы уже к ним не возвращаться. Да и как не утратить интереса к собственному замыслу, если где-то в середине работы его вдруг осенило, что корни Октября надо искать не в военных поражениях Первой мировой войны, не в Феврале и даже не в альянсе Ленина с германским генштабом, а в двух роковых пулях «Мордко» Богрова, разрядившего револьвер в Столыпина. Изменив на ходу курс, Солженицын сделал следование прежним курсом бессмысленным, но и новым курсом не пошел. Так и забуксовал в хляби несобранных мыслей.
Надо признать, что как раз столыпинские главы «Августа 1914» выгодно отличаются от всего остального «узла» и последующих «узлов» — и темпераментом, и идейной сфокусированностью. Беда в том, что концепция, на которой остановился Солженицын, псевдоисторична. Мне приходилось писать об этом в рецензии на английское издание обновленного «Августа»[3] и снова в рецензии на книгу американского политолога Даниэла Махони «Александр Солженицын: Идя от идеологии».[4] Повторять этого здесь не буду, но кратко скажу о возражениях автора и некоторых его комментаторов на критику столыпинского довеска. Они настаивают на том, что в романе ничего не придумано, автор опирался исключительно на исторические материалы, а, стало быть, с него и взятки гладки.
Не могу не поразиться наивности этих аргументов. Вспомним роман другого нобелевского лауреата, посвященный той же эпохе. В «Докторе Живаго» Б. Пастернака все главные персонажи и сюжетные перипетии — выдуманы, но исторически в нем все правдиво. С другой стороны, в скандальном творении В. Пикуля «У последней черты» действуют реальные исторические персонажи, включая Столыпина и Богрова; описаны они на основе исторических материалов при минимальном участии авторской фантазии. Однако это вопиющая профанация исторических событий! Вопрос, таким образом, не в том, в какой мере автор использует документы, а в какой дополняет их своей фантазией, а в том, с каких позиций ведется отбор документов, какими критериями определяется их достоверность и относительная важность, изучает ли их автор, чтобы разобраться в истинных пружинах исторических событий, или манипулирует ими для подкрепления некоей идеологической доктрины.
Я согласен: рассказывая об убийстве Столыпина, Солженицын сам ничего не выдумывает. Но события преподнесены с точки зрения апологетов Столыпина, которые, конечно, реально существовали, высказывались, писали, следовательно, оставили после себя исторические документы. Но какова им цена, если они заведомо предвзяты? Вот, к примеру, как характеризовал Столыпина ведущий публицист ведущей черносотенной газеты «Новое время» М. О. Меньшиков:
«Когда заявлены и любовь к народу, и уважение к нему, этого уже почти достаточно для плодотворной государственной работы. Но Столыпин кроме этого драгоценного качества принес в своем лице еще одно великое — государственный талант… Столыпин пришел в годы великого испытания. После двух столетий всевозможного покровительства (! — С.Р.) инородцам Россия оказалась покрытой могущественными сообществами поляков, финляндцев, евреев, армян, немцев и проч… Столыпин довершил борьбу с восстанием (революцией 1905 года — С.Р.) и провел ряд мер против финляндского, польского и еврейского натиска. Не погибни он от еврейской пули, возможно, что эти разрозненные меры сложились бы в строго национальную государственную систему…»[5] (И действительно: создать «строго национальную государственную систему» фашистского толка тогда так и не удалось).
Не трудно видеть, что солженицынский «роман в романе» — это беллетризованная иллюстрация к приведенному отрывку. Тот, кто читал «Август 1914» со столыпинскими главами, это знает и потому не может удивляться направленности последней книги Солженицына. Сейчас, когда в российской прессе появились комментарии, наполненные досадным недоумением (как это Солженицын мог такое написать!), я делаю единственно возможный вывод: у Солженицына в России куда больше почитателей, чем читателей.
Русский вопрос
В новой книге Солженицын не скупится на заверения в том, что он стремится к правде, к одной только правде и ничему кроме правды: «Никогда не признавал ни за кем права на сокрытие того, что было. Не могу звать и к такому согласию, которое основывалось бы на неправедном освещении прошлого». (стр. 6) О какой же правде он хочет поведать?
«Сквозь полвека работы над историей российской революции я множество раз соприкасался с вопросом русско-еврейских взаимоотношений. Они то и дело клином входили в события, в людскую психологию и вызывали накаленные страсти» (стр. 5).
Таков первый абзац книги, задающий тон всему повествованию. Я должен сказать о нем свою правду, ибо так же, как и Солженицын, я никогда не признавал ни за кем права на сокрытие того, что было, как и права выдавать за истину то, чего не было. Так вот, «вопроса русско-еврейских отношений» в проблемах, связанных с российской революцией, объективно не существовало, хотя он существовал в воспаленном мозгу некоторых идеологов крайне правого — черносотенного — лагеря. Они стремились внедрить его в общественное сознание страны, но успеха не имели. Зато теперь, спустя десятилетия, созданные ими мифы настолько затмили историческую правду, что воспринимаются многими как бесспорный факт.
Реальный же факт состоял в том, что при поддержке царской администрации и самого царя черносотенцы добивались сохранения режима неограниченного беззакония и произвола, всеми силами противодействуя даже самым назревшим преобразованиям для улучшения жизни народа, роста экономики, развития культуры, словом для общественного прогресса. И чтобы не допустить перемен, черносотенцы утверждали, что русскому народу никакие перемены не нужны, что добиваются их только инородцы, в особенности евреи, а потому и борьбу за власть должна вести в основном против евреев, а также поляков, кавказцев, финляндцев, ну и, конечно, против продавшихся евреям интеллигентов.
Но у народа России к тому времени накопилось достаточно опыта и здравого смысла, чтобы выставлять свои требования и добиваться их удовлетворения. Отказ признать само наличие этих требований, а тем более — их удовлетворить, и привел к революционному взрыву. «Все революции происходят оттого, что правительства вовремя не удовлетворяют назревшие народные потребности. Они происходят оттого, что правительства остаются глухими к народным нуждам».[6] Это слова не марксиста, не революционера, а одного из немногих государственно мысливших деятелей самой царской администрации, многократно вытаскивавшего Николая II и его режим из бездны, в которую царь старательно заталкивал самого себя и Россию.
Содержание того, что в дореволюционной России называлось «еврейским вопросом», не сводилось к отношениям между русскими и евреями, а часто вообще не имело никакого отношения к евреям. Как настойчиво указывал великий русский писатель, гуманист и страстный защитник всех униженных и оскорбленных В. Г. Короленко (и не он один), вопрос об отношении государства и общества к евреям был русским вопросом, то есть вопросом о том, какое будущее готовит себе Россия.
Я не открою Америки, если скажу, что парадокс, — а может быть, и трагическая закономерность — исторического пути России, который привел ее к пропасти 1917 года, состоял в следующем.
Первые двадцать лет после отмены крепостного права, — как и несколько предшествовавших лет — развитие российского общества и государства шло в цивилизаторском направлении. Железная узда деспотического режима медленно, но верно ослабевала. Либеральные реформы Александра II во многом были непоследовательными. Нередко за шагом вперед следовал шаг назад. Это вызывало резкое недовольство у наиболее радикального крыла общества, освобождавшегося от мертвящих оков николаевского деспотизма. Тем не менее, преобразования проводились по всему фронту (отмена крепостного права, смягчение цензуры, автономия университетов, всеобщая воинская повинность взамен рекрутчины, судебная реформа, либерализация национальной политики и т. д.). 1 марта 1881 года Александр II должен был подписать конституцию. Но именно в этот день он был убит.
Потрясенное общество какое-то время не могло разобраться, кто же стоял за убийцами — крайние революционеры, стремившиеся любой ценой подхлестнуть преобразования, или реакционеры-крепостники, желавшие их повернуть вспять. Оказалось, что убийство совершили революционеры во главе с А. Желябовым и С. Перовской, но последствием их акта стало именно то, чего добивалась радикальная реакция.
С воцарением Александра III исторический путь России как бы раздвоился. На это царствование приходится бурное экономическое развитие страны: быстрый рост промышленного производства, беспримерное по размаху строительство железных дорог, укрепление финансовой системы, привлечение иностранного капитала. И на этот же период ложится контрнаступление деспотического режима на цивилизаторские достижения предыдущей эпохи. Между обществом и властью произошел раскол, продолжавший углубляться и при Николае II.
Общество требовало расширения либеральных преобразований, а не свертывания их. Неотъемлемой частью этих требований стало уравнение всех граждан в правах — независимо от их сословной, религиозной, национальной принадлежности, ибо «не может быть свободен народ, угнетающий другие народы». Но управлять свободным народом куда труднее, чем порабощенным. А наиболее подходящим средством держать народ в узде было натравливание его на инородцев, особенно на евреев, ибо сильнейшим союзником власти были вековые предрассудки, питавшие религиозную и племенную нетерпимость. Если в этих условиях общество — в лице прессы, литературы, адвокатуры, академических кругов — стало все более активно выступать против антисемитизма, то произошло это отнюдь не потому, что россияне вдруг воспылали мазохистской любовью к «врагам России», а потому что этого требовала логика преобразований в направлении большей свободы, просвещения, терпимости, словом, в направлении «присоединения к человечеству», как выразился за полвека до того П. Я. Чаадаев.
Конечно, общество не было монолитно. В нем был представлен широкий спектр взглядов и настроений. В оппозиционном лагере были и крайние революционеры, готовые добиваться своего любыми средствами; были и умеренные круги, склонные к диалогу и компромиссу с властью. С другой стороны, на стороне власти тоже были относительно умеренные деятели и идеологи, выступавшие за сотрудничество с обществом, а были и такие, кто нападал на власть справа, считая ее мягкотелой и вялой.
На «еврейской улице» — при некоторых особенностях — происходили такие же процессы, что и в обществе в целом; здесь тоже присутствовал широкий круг настроений и интересов. Основная масса евреев жила своей жизнью, добывая пропитание для своих семей, скрупулезно выполняя религиозные правила и запреты, подчиняясь от века заведенному порядку вещей. О политике или о перемене общественного строя большинство евреев не помышляло. Однако отдельные евреи — из числа получивших образование в светских школах и университетах — входили в самые разные общероссийские организации, от радикальных и революционных («Народная воля»; позднее боевая организация эсеров, анархисты, большевики), до умеренно-либеральных (трудовики, кадеты) и консервативных (октябристы). Даже в числе юдофобствовавших ультра-патриотов были евреи (особенно выкресты), и в немалом числе. Так, целую галерею их выводит в своих «Воспоминаниях» С. Ю. Витте, заключавший, что «нет большего юдофоба, как еврей, принявший православие».[7] Глава московских «союзников» (Союза русского народа) крещеный еврей В. А. Грингаут с гордостью носил звание «черносотенца», считая его почетным.[8]«Патриоты» (они же националисты) силились изображать политическую борьбу в России как схватку русских с евреями, но они неизбежно опровергали самих себя, как только пытались подкрепить риторику чем-то конкретным. Тот же М. О. Меньшиков — один из самых влиятельных публицистов «патриотического» лагеря — после позорного проигрыша властями дела Бейлиса, писал:
«Разве не было и раньше нападок на ужасный для евреев и их политических приживалок „царизм“? Мне помнится, что задолго до процесса Бейлиса, задолго до еврейской революции 1905 года мне пришлось читать где-то за границей — не то в Швейцарии, не то в Германии — крайне безмозглую брошюру того же г-на Бурцева с апологией цареубийства… Не более убедительны и сравнительно сдержанные завывания доморощенных шабесгоев, пытающихся переложить черную вину убийства Ющинского на голову русского правительства. Читая иеремиады перекинувшихся в еврейский лагерь журналистов, в самом деле можно подумать, что, не возбуди русская юстиция преследования против Бейлиса, то ровно „ничего“ и не было бы».[9]
Я выделил курсивом те места, которые ясно показывают, с каким беспардонством черносотенный публицист «объевреивал» всех ему неугодных — от известного историка и публициста, близкого к эсерам, Владимира Бурцева до «сравнительно сдержанных» (то есть отнюдь не симпатизировавших революционерам) «шабесгоев»[10] и до иеремиад (!) русских журналистов, выступавших против позорного дела Бейлиса (по его логике, они «переметнулись» к евреям). Понятно, что при таком методе еврейской становится и революция 1905 года, и надвигавшаяся новая революция, и вообще все, что неугодно черной сотне.
В реальности водораздел проходил отнюдь не по национальной линии. Партийные симпатии и пристрастия объединяли (или, наоборот, разъединяли) людей куда сильнее, чем этническая принадлежность. Известный юрист и один из лидеров партии конституционных демократов М. М. Винавер по своим взглядам и личным симпатиям был куда ближе «шабесгоям» типа П. Н. Милюкова, В. Д. Набокова или Ф. И. Родичева, чем к эсеру-террористу П. М. Рутенбергу. А еврей Рутенберг, разоблачивший Григория Гапона как агента охранки и казнивший его, был куда ближе Владимиру Бурцеву, чем своему соплеменнику Евно Азефу, которого в связях с охранкой изобличил тот же Бурцев.
Даже в наиболее, казалось бы, монолитной группе умеренных евреев-интеллектуалов наблюдались глубокие расхождения по самым коренным вопросам. Так, С. Ю. Витте приводит эпизод, когда он, будучи главой правительства в самые напряженные дни октября 1905 года, принял еврейскую делегацию и стал ей внушать относительно участия евреев в революционных выступлениях:
«Это не ваше дело, предоставьте это русским по крови и по гражданскому положению, не ваше дело нас учить, заботьтесь о себе. Вот вы увидите, насколько от такого поведения вашего, которому вы теперь следуете, вы и ваши дети пострадают».[11]
И каков же был ответ? Витте продолжает:
«Барон Гинзбург заявил, что он совершенно разделяет мое мнение. Слиозберг и Кулишер также заявили, что и они разделяют мое мнение. Остальные же присутствовавшие евреи не соглашались с моими увещеваниями. В особенности возражал Винавер, заявивший, что теперь настал момент, когда Россия добудет все свободы и полное равноправие для всех подданных, и что потому евреи и должны всеми своими силами поддержать русских, которые этого добиваются и за это воюют с властью».[12]
У евреев, как у особой этнической и религиозной группы, конечно, была своя жизнь, свои интересы, а значит, и свои идеологи, которые эти интересы выражали. Во второй половине XIX — начале XX века происходил бурный расцвет еврейской литературы и прессы на идиш, иврите, да и на русском языке;[13] создавались общественные организации — от благотворительных до культурных, ставивших целью распространение просвещения между евреями, изучение еврейской истории, традиций, кладбищ и т. п. В конце XIX века стал складываться сионизм: на Западе как реакция на антисемитскую вакханалию, вызванную делом Дрейфуса, в России несколько раньше — как реакция на погромную волну начала 1880-х годов.
На протяжении поколений среди евреев господствовало представление, что юдофобия — это наследие средневековья с его религиозной нетерпимостью, фанатизмом и невежеством; что с прогрессом и просвещением предрассудки будут изживаться и гонения — ослабевать. Развитие событий в Европе на протяжении всего XIX века вроде бы это подтверждало. Но вот Дело Дрейфуса пробудило темные инстинкты даже в такой передовой стране, как Франция! На многих это подействовало как холодный душ. Венский журналист Теодор Герцль и его единомышленники стали доказывать, что евреи будут оставаться париями до тех пор, пока они живут в рассеянии среди других народов, и выход для них только один: создать собственное независимое государство и переселиться в него. Так сионисты — в их числе и российские — формулировали национальную задачу евреев. Они призывали соплеменников сосредоточить все силы на ее решении. По отношению к борьбе в русском обществе они — вполне логично — заняли позицию неучастия, что, — и это тоже вполне логично, — одобряли не только прагматичные государственные деятели типа С. Ю. Витте, но и такие идеологи, как Меньшиков, который призывал власти содействовать сионизму.
Если бы, говоря о русско-еврейских отношениях, Солженицын имел в виду эти стороны еврейской жизни, то предмет его исследования, по крайней мере, не был бы фикцией. Но тогда и вся направленность книги была бы иной. Ведь никаким «клином» в историю русской революции сионизм или, допустим, произведения Шолома Алейхема, не входили. Но то, что связано с еврейской культурой, в книге Солженицына, отсутствует, а сионизму отведена короткая глава — 15 страниц из более пятисот, а в самой этой главе собственно России отведен крохотный эпизод: встреча в 1903 году Теодора Герцля с тогдашним министром внутренних дел В. К. Плеве.
Все это подтверждает, что в книге Солженицына под русско-еврейскими отношениями разумеются в основном отношения царского режима и его сторонников, с одной стороны, и оппозиционной общественности — с другой. Первые для него олицетворяют русскость, вторая — еврейство. По этому параметру его позиция неотличима от позиции Меньшикова. Расхождения тоже имеются, но по другим параметрам. Черносотенный идеолог начала XX века не стеснялся в выражениях:
«Бродячие пришельцы, вроде евреев»;
«…всюду окружены атмосферой отвращения, которое они вызывают у всех народов»;
«Как все тяжко уголовные ссыльные, евреи не пользуются хорошей славой в местах изгнания»;
«Трагикомический оттенок имеет не только история евреев, но и самый тип их: столько в нем, с одной стороны, трусости и с другой — наглого самомнения!»;
«Можно поручиться, что и без всяких угроз евреи наносят России, как и всему христианству, всю сумму зла, на какое они способны. Для этого евреям даже не надо быть озлобленными, а только евреями. Разве саранча озлоблена на поле, на которое она садится?»;
«Евреи в личиночном состоянии — паразиты, в полном развитии — хищники и составляют одинаково грозную опасность для всей России».
Таковы несколько взятых почти на удачу фрагментов из недавно изданного тома избранных сочинений М. О. Меньшикова.[14]
У Солженицына подобных выражений нет. Он, напротив, очень аккуратен в формулировках. Он не скупится на реверансы. Тон его по большей части нейтральный, а иногда и доброжелательный. Во многих случаях он признает, что евреи подвергались несправедливостям, и сочувствует им. Иногда критически высказывается о действиях властей. Но гораздо чаще он с большим пониманием относится к репрессивным мерам против евреев, видя в этих мерах защиту коренного народа, якобы страдавшего от еврейской эксплуатации, спаивания, ростовщичества, подрыва государственных устоев… Можно привести почти весь набор расхожих антисемитских мифов — ошибки не будет. Иначе говоря, в книге Солженицына, в мягких выражениях, представлена идеология тех же «умеренно[!]-правых элементов образованного русского общества», которые представлял Меньшиков.[15] В этом и заключена Большая Ложь книги Солженицына (им самим, конечно, не сознаваемая), ибо — вынужден повторить — противостояние в дореволюционной России происходило между властью и обществом; евреи участвовали в нем лишь постольку, поскольку сами были частью российского общества.
Обращает на себя внимание поразительно точное название книги А. И. Солженицына. Да, последние двести лет русские и евреи в России прожили вместе — в самом прямом и простом смысле этого слова. Они вместе боролись, мечтали, заблуждались, страдали, гибли и убивали, заваривали кашу и расхлебывали ее. Остается лишь пожалеть, что содержание книги вопиет против ее названия.
Метод Солженицына
История евреев в России начинается с конца XVIII века, когда — в результате трех разделов Польши — к ней отошли обширные территории со значительным еврейским населением. До этого, если не считать сравнительно короткого периода Киевской Руси, евреи в Россию не допускались, а если все же появлялись где-то в пределах обширной малонаселенной страны, то это были единичные случаи, объяснявшиеся тем, что «суровость российских законов смягчается их плохим исполнением». Даже временные приезды евреев в пределы Московско-Петербургского царства находились под запретом — то более, то менее строгим.
Этот не уникальный, но достаточно интересный факт не мог не остановить на себе внимание Солженицына, справедливо указывающего на «религиозную основу той враждебности и отгораживания, с какою евреев не допускали в Московскую Русь» (стр. 17). Но это лишь вскользь брошенное замечание. Понять глубинные причины и важные последствия предрассудка Солженицын не пытается, да и самих слов «предрассудок», «предубеждение», «суеверие» не сыскать в его обширном труде!
В православной Руси малейшее упоминание «еврея», «жида» вызывало ужас и отвращение. И — в удобных случаях — использовалось как жупел в борьбе группировок. Наиболее известный пример — расправа с «ересью жидовствующих», к которой принадлежал (или был приписан врагами) ряд наиболее просвещенных церковных и светских деятелей конца XV века, в их числе выдающийся реформатор дьяк Федор Курицын. Федор Курицын и его сподвижники, пользуясь большим влиянием при дворе Великого князя Ивана III, пытались провести некоторые реформы, но натолкнулись на сопротивление клерикальной партии. Епископ Геннадий Новгородский (впоследствии причисленный к лику святых), дабы сильнее скомпрометировать своих противников, обвинил их в ереси «жидовствующих». Основания к тому были совершенно эфемерные.
«Еретики» ввели или пытались ввести в обиход текст Псалтыря и других духовных книг в прямом переводе с древнееврейского. (Видимо, они справедливо полагали, что прямые переводы чреваты меньшими отклонениями от оригинала, чем переводы с греческого перевода). В этом был один из поводов обвинить их в «жидовстве».
Реформаторы выступали против чрезмерного почитания икон, видя в этом пережитки идолопоклонства. Иконоборчество было давним течением в православном христианстве — оно восходило к Византии VIII века, — но епископ Геннадий и в этом увидел «жидовство» (иудаизм, как известно, запрещает изображать божество и поклоняться изображениям: «Не сотвори себе кумира» — одна из важнейших библейских заповедей).
Он еще «уличал» еретиков в том, что в Новгород когда-то приезжал в свите литовского князя некий еврей Схария; он-де «обольстил» двух новгородских священников Дионисия и Алексия, которые затем перенесли «жидовскую» заразу в Москву.
У Курицына и его группы, видимо, было немало возможностей расправиться с обличителями. Но они пренебрегали наветами, за что и поплатились. Пока реформаторов поддерживал Великий князь, обвинения выглядели смехотворными. Но Иван III старел, становился немощен; обострилась борьба за престолонаследие между его женой Софьей, желавшей посадить на трон своего сына Василия, и невесткой Великого князя Еленой (вдовой его старшего сына от первого брака), желавшей посадить на трон своего сына Дмитрия (внука Ивана III). Елена и Дмитрий поддерживали Федора Курицына и его начинания, что автоматически делало Софью и Василия врагами реформаторов. Поскольку Софья была в немилости, а Елена в фаворе и Дмитрий числился наследником престола, беспокоиться было не о чем. Но, в результате интриг, декорации переменились. Великий князь вновь приблизил жену, а наследником престола назначил Василия. Над «жидовствующими» разразилась гроза. Федор Курицын был брошен в темницу, где вскоре и умер (вероятно, не без помощи тюремщиков). Другие были сожжены на костре, третьи бежали в Литву, где, согласно Солженицыну, «формально приняли иудаизм» (стр. 22). (Стало быть, тайно исповедовали его еще в Москве!) Хотя Солженицын подкрепляет это утверждение ссылкой на Краткую Еврейскую Энциклопедию, оно весьма сомнительно: статья в справочном издании — это не исторический документ. В контексте всего, что известно о «жидовствующих» даже от их гонителей, они были православными христианами, хотя по-своему толковали некоторые догматы вероучения, что — не без натяжки — давало основания к выделению их в особую секту. По некоторым полулегендарным сведениям, православная секта «субботников» сформировалась из остатков разгромленных «жидовствующих», а, по авторитетному мнению Н. С. Лескова, «дух этой секты… указывает, что происхождение такого учения сродно известным местам Евангелия, а не Ветхого Завета и не Талмуда».[16]
В изложении Солженицыным этого «пред-исторического» для его темы эпизода ярко проявился подход к подбору и обработке материала, характерный для его книги в целом. На читателя вывалено множество цитат, содержащих кучу всяких подробностей — важных и второстепенных, достоверных и сомнительных, вплоть до апокрифических. Приводятся различные высказывания и оценки, которые во многом противоречат друг другу и даже исключают друг друга, но автор не пытается свести их к общему знаменателю. Непонятно, зачем вообще рассказ о секте, подвергшейся разгрому в начале XVI века за действительное или мнимое отклонение от ортодоксального православия, попал в книгу, посвященную совсем другому времени и другим проблемам. В нем был бы несомненный смысл, если бы автор привел его для характеристики духовного климата, в котором жупел «жидовства» оказывался эффективным способом политической борьбы — независимо от того, имели ли они какое-то отношение к «жидам» или нет. Например, легко увидеть прямую связь между наклеиванием ярлыка «жидовствующие» группе Курицына в XV–XVI веке и ярлыка «еврейская» — всей оппозиционной российской прессе в начале XX века. Но именно таких параллелей Солженицын стремится избежать! Так и остаются «жидовствующие» в его повествовании ненужным довеском.
Виноторговля
Проходили века; страна оставалась «свободной от евреев». Два-три крещеных еврея, появившихся при дворе Петра I, в счет не шли: общественное сознание не идентифицировало их с евреями, а сами они — тем более. Так что поколениями в России евреев не видели, не имели с ними никаких контактов. Это был фантом, представления о нем воспринимались с молоком матери и пополнялись слухами — примерно так же, как представления о леших, домовых и прочей чертовщине. Потепления климата по отношению к евреям не ощущалось. Екатерина II, взойдя на престол в 1762 году в результате государственного переворота, тотчас столкнулась с еврейским вопросом — в том виде, в каком он существовал в то время. Это был вопрос о допуске в страну иностранных купцов-евреев по торговым делам.
«Прорубив окно» в Европу еще в начале XVIII века, Россия остро нуждалась в расширении внешней торговли. Это сулило и лучшее знакомство с Западом, и материальную выгоду для всех: для знати, охочей до заморских товаров; для купечества, стремившегося к расширению оборотов; для казны, взимавшей пошлины. Евреи составляли значительную часть купечества во многих западных странах; по всей Европе они свободно передвигались, а на российской границе стоял заслон, причинявший много осложнений и евреям, и тем купцам-неевреям, которые вели общие дела с евреями, и России, недополучавшей из-за этого значительные барыши.
На эту губительную для внешней торговли помеху указывали еще Петру I, но он отделывался шутками, говоря, что евреям торговать в России нет никакой пользы, так как они промышляют плутовством и обманом, а русский народ сметлив и объегорить себя не даст. (Государь не был лишен остроумия!) Его венценосная дочь Елизавета Петровна выражалась проще. На представлении о выгодах, какие сулило казне допущение евреев-купцов в Россию, она начертала известную резолюцию: «От врагов Христовых интересной прибыли не желаю».
И вот настал черед Екатерины.
Признать свободный въезд евреев вредным для России европейски образованная государыня не могла. Но, зная, какие настроения царят в обществе, начинать с такого дозволения свое кровавым путем добытое царствование боялась, а потому положила за благо отложить решение этого вопроса на неопределенное время. И впоследствии, «все еще опасаясь за свою православную репутацию», как выражается Солженицын (стр. 31), она прибегала «к конспирации»: в обход собственных законов стала поощрять торговлю и даже поселение евреев в только что присоединенной и почти не заселенной Малороссии, но — по-тихому, без огласки. Трудно привести более красноречивый пример того, насколько глубоко в общественном сознании России было укоренено предубеждение против евреев: ведь сама императрица решалась лишь тайно делать им какие-то послабления! И это в канун разделов Польши, когда вопрос об отношении к «врагам Христовым» из второстепенного вопроса внешней торговли переместился в центр внутренней политики.[17]
Поскольку злокозненность «иудина племени» обсуждению не подлежала, обсуждаться могла только мера этого зла и способы его ограничения. Первые же шаги правительства — и Екатерина должна была их одобрить — свелись к учреждению того, что позднее получило название «черты оседлости»: евреям запретили переселяться из бывших польских губерний в иные, внутренние, исконно русские. Ссылаясь на дореволюционную Еврейскую энциклопедию, Солженицын подчеркивает, что эта мера не была направлена исключительно против евреев. Таков-де был общий строй сословного государства: каждый сверчок знал свой шесток, каждый был приписан к какому-то сословию и к какому-то месту — к деревне или городу. Евреи — в зависимости от имущественного ценза — были причислены к сословиям купцов или мещан, и на них были распространены общие положения для этих сословий (стр. 42–43).
Известная часть правды в этих утверждениях, безусловно, имеется, но только часть. Картину они не проясняют, а делают однобокой, то есть уродливой. Ибо, если верить таким рассуждениям, то в славный век Екатерины новгородским купцам невозможно было вести торговлю в Москве или Петербурге, а Петербургским жителям покупать имения где-нибудь на черниговщине. Ничего подобного, конечно, не было. Да и евреям не возбранялось переселяться из одного города или местечка в другие — при условии, что в этих местах им вообще дозволялось жить! Приписанные к сословиям купцов и мещан, евреи были подчинены всем законам и правилам, существовавшим для этих сословий. Но сверх того, они подчинялись ограничениям, предназначенным исключительно для них. Чем руководствовался автор статьи в дореволюционной Еврейской Энциклопедии, вольно или невольно затушевывая эти факты? Об этом нетрудно догадаться, если вспомнить, что Энциклопедия создавалась в годы наиболее острой борьбы за отмену черты оседлости. На подход автора энциклопедической статьи к предмету должна была повлиять эта «злоба дня». Отсюда видно, насколько опрометчиво поступает Солженицын, цитируя вторичные источники «как последние доказательства»![18]
Принимая желаемое за действительное, Солженицын даже утверждает, что евреи получили преимущества перед христианами в виде особой льготы: права переселяться в губернии Новороссии, куда «купцы и мещане из христиан, согласно общему правилу, переселяться из внутренних губерний никак не могли» (стр. 42). В реальности Новороссия, недавно присоединенная к России, была почти не заселена, и Екатерина прилагала огромные усилия для привлечения колонистов отовсюду. Огромные имения в Новороссии отписывались крупным помещикам, в надежде, что они переселят на пустующие земли своих крепостных (некоторые это и делали, как увидим из дальнейшего). Екатерина привлекала в Новороссию людей отовсюду: и из внутренних губерний, и из-за границы. Никакого преимущества евреям, естественно, дано не было.
Следующей мерой стала попытка выселить евреев из деревень, так как наибольшим злом считалось то, что евреи занималась виноторговлей и «спаивала» крестьян. Мера, однако, исполнена не была, так как переселять евреев в города и местечки было невозможно: при экономической неразвитости края в городах со значительным еврейским населением и без того было слишком много избыточных рабочих рук, что обрекало большинство семей на нищенское существование. Упомянув о бедственном положении еврейских масс из-за перенаселенности в городах и местечках их постоянной оседлости, Солженицын недоумевает: «Казалось: евреям естественно теперь переселяться в обширную и малонаселенную Новороссию, которую Екатерина вот открыла им?» (Стр. 43). Но массы не пользовались этой возможностью — не соблазнили их льготы, предоставлявшиеся переселенцам, не принудили и противоположные меры, выразившиеся в удвоении подати для тех, кто не переселялся.
Чем же было вызвано такое упорство? Верный своему методу, Солженицын не отвечает на этот вопрос и даже не ставит его, создавая впечатление, что положение евреев было не таким уж тяжелым, как его расписывали, если переселяться они не торопились!
При Павле I известный поэт и крупный вельможа Гаврила Романович Державин был дважды командирован в Белоруссию — сперва по жалобе евреев города Шклова на помещика С. Г. Зорича (об этой поездке Солженицын не упоминает), а через год — в виду разразившегося там голода. Составленное на основе этих двух поездок «Мнение» Державина позволило ему приобрести репутацию крупнейшего в царской администрации знатока еврейства. Столкнувшись в первый приезд с обвинениями евреев в ритуальных убийствах, Державин не усмотрел в этом навете тяжелого предрассудка, а отметил, что «христианские кровопролития» «в сих кагалах исполняются или, по крайности, теперь только защищаемы бывают».[19]
Но главное зло евреев, согласно Державину, состояло в том, что они не заняты производительным трудом, а живут за счет окружающего православного населения, добывая себе пропитание всякими поборами, обманами и «спаиванием». (В отличие от Петра Великого, Державин считал простой народ неспособным противостоять «обманам» евреев). На самом деле, виноделие и виноторговля находились в руках помещиков, которые имели на это монополию (наряду с государством). Евреи занимались этим промыслом лишь постольку, поскольку помещики сами им заниматься не хотели, отдавая его в аренду или на откуп. И если эти откупа и аренды доставались преимущественно евреям, то не в силу какого-то предпочтения, а потому, что христиане либо не умели, либо чурались этого занятия. Державин, конечно, все это знал, но, сделав козлами отпущения евреев, тут же, на месте, с такой горячностью стал искоренять еврейское «спаивание», что в Петербург была направлена жалоба о том, что на одном винокуренном заводе он палкой избил беременную женщину, и у нее вследствие побоев произошел выкидыш. Когда же в Петербурге попытались дать жалобе ход, Державин учинил невероятный скандал, обратился за заступничеством к государю и расследования не допустил. Конечно, он отрицал, что вообще видел эту женщину, а поступление жалобы объяснил происками евреев, пытавшихся его скомпрометировать и даже планировавших убить, так как почуяли в нем врага.[20]
Сам он себя врагом евреев не считал; он только был убежден, что от них в Белоруссии происходит все зло и что чем больше их в округе, тем сильнее поборы и тем хуже живется простолюдину, доведенному вот уже и до голода!
Как же совладать с этим злом? Самое простое — уничтожить его носителей. Но Державин как милосердный христианин был «к врагам Христовым» очень даже великодушен. Солженицын приводит его слова о том, что «ежели Высочайший Промысел, для исполнения каких-то своих недоведомых намерений, сей по нравам своим опасный народ оставляет на поверхности земной и его не истребляет, то должны его терпеть и правительства, под скипетр коих он прибегнул» (стр. 52).[21] А потому он считал нужным истребить не евреев, а только «истребить в них ненависть к иноверным народам, уничтожить коварные вымыслы к похищению чужого добра» (Стр. 53).[22]
То, что каждый еврей носит в сердце лютую ненависть к неевреям и думает только о том, как бы поковарнее исхитриться и обобрать всех и вся, для Державина было аксиомой. Понятно, что если человек с такими взглядами имел возможность влиять на решение судьбы целого народа, то горе этому народу! Однако Солженицын в связи с приведенными им же высказываниями Державина горюет совсем о другом. Ему обидно за русского поэта, которому «припечатано имя фанатичного юдофоба и тяжелого антисемита» (Стр. 53).[23]
Державин входил в первый Еврейский комитет, учрежденный при Павле I, но заканчивавший свою работу уже при Александре. В обстоятельном «Мнении сенатора Державина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о проч.»[24] излагается радикальная программа перековки «евреев рода строптивого и изуверного»,[25] — совершенно утопическая и ханжеская, задуманная якобы ко благу самих евреев. Ее претворение в жизнь, по мнению автора, должно принести «незабвенную славу» царю за то, что он «первый из монархов российских исполнил сию великую заповедь: „Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас“».[26]
Однако большинство членов Еврейского комитета отклонило часть предложений Державина, сочтя их слишком жестокими и лишенными практического смысла. Уязвленный поэт ответил обвинением своих коллег по комитету (в особенности М. М. Сперанского) в том, что их либерализм — это следствие еврейского подкупа. Ему якобы за смягчение своей позиции евреи пытались всучить сто тысяч, а если мало, то двести тысяч рублей, которых он не взял, а сколько взяли коллеги за то, чтобы ворожить евреям, ему неведомо.[27]
Между тем, «либеральное» законодательство 1804 года узаконило черту оседлости и ряд еще более драконовских мер. Самым страшным было решение о выселении в трехлетний срок всех евреев из деревень для пресечения их виноторговли. Выполнить его на практике означало бы — обречь тысячи семей на голодную смерть.[28] Однако Комитет считал это решение благом не только для «спаиваемых» христиан, но и для «спаивающих» евреев, ибо виноторговля «подвергает их самих нареканию, презрению и даже ненависти обывателей» (стр. 62). Солженицын считает аргументы Комитета «весомыми» и неодобрительно сообщает о том, что «с еврейской стороны оценили намеченную высылку из деревень и запрет корчемного промысла… как ужасное и жестокое решение. (И таким же — осуждала его и полвека и век спустя еврейская историография)» (стр. 63).
Ну, а как относилась к еврейскому шинкарству и всевозможным решениям о его пресечении русская историография? Для ответа обратимся к записке Н. С. Лескова «Еврей в России: Несколько замечаний по еврейскому вопросу», составленной в 1883 году для очередного (Панинского) Еврейского комитета (десятого по счету, как указывает Солженицын).[29] Аргументация Лескова столь глубока и основательна, настолько насыщена историческими и современными автору реалиями, что хотелось бы полностью привести соответствующий отрывок. К сожалению, это заняло бы слишком много места. Приходится ограничиться сжатым — и по неволе обедненным — изложением с вкраплением только небольших цитат.
Лесков пытается осветить истоки пристрастия россиян к зеленому змию и констатирует: «Страсть к питьве на Руси была словно прирожденная: пьют крепко уже при Святославе и Ольге» и само принятие христианства (а не магометанства) князем Владимиром было отчасти вызвано его убеждением, что «веселие Руси есть пити».[30]
В отличие от Солженицына, Лесков пользуется преимущественно первоисточниками или опирается на собственные живые наблюдения, что придает его повествованию неотразимую убедительность. Он прослеживает распространение пьянства через века — вопреки тщетным усилиям наиболее праведных деятелей церкви противостоять губительной привычке. «Напротив, — пишет он, — случались еще и такие беды, что сами гасильники загорались… Пьяницы духовного чина прибывали в монастыри в столь большом количестве, что северные обитатели протестовали наконец против такого насыла и молили начальство избавить их от распойных попов и иноков, которые служат вредным примером для монахов, из числа коих им являлись усердные последователи и с ними вместе убегали. Явление — ужасное, но, к несчастью, слишком достоверно засвидетельствованное для того, чтобы в нем можно было сомневаться. Во все это время жидов тут не было».[31]
Со времен Ивана Грозного, повествует Лесков, «словно прирожденная» болезнь стала активно прогрессировать, насаждаемая властью: виноторговля стала основным источником доходов казны. После взятия Казани Грозный царь обнаружил в ней «ханский кабак» и загорелся идеей. Он ввел государственную монополию на продажу питий, а «вольных винщиков» стали преследовать и казнить. Для торговли в царевых кабаках была создана особая профессия крестных целовальников — кабатчиков, которые «целовали крест» продавать водки «довольно», т. е. «они обязаны были выпродавать вина как можно больше».[32] За невыполнение плана целовальников жестоко карали, и там, где торговля зельем шла недостаточно бойко, целовальники силой — при содействии местной власти — принуждали народ пить. «Плохих питухов» били, доходило и «до смертного убийства».
«Перенесение обвинения в народном распойстве на евреев принадлежит самому последнему времени, — констатировал Лесков, — когда русские, как бы в каком-то отчаянии, стали искать возможности возложить на кого-нибудь вину своей долгой исторической ошибки. Евреи оказались в этом случае удобными; на них уже возложено много обвинений; почему бы не возложить еще одного, нового? Это и сделали. Почин в сочинительстве такого обвинения на евреев принадлежит русским кабатчикам — „целовальникам“, а продолжение — тенденциозным газетчикам».[33]
Подтверждая, что в черте оседлости «евреи… во множестве промышляют шинкарством», Лесков обращал внимание на то, что число шинкарей составляло в еврейском населении ничтожный процент. «Евреи столярничают, кладут печи, штукатурят, малярят, портняжничают, сапожничают, держат мельницы, пекут булки, куют лошадей, ловят рыбу. О торговле нечего и говорить; враги еврейства утверждают, что „здесь вся торговля в их руках“. И это тоже почти правда».[34] Ко всему этому разнообразному трудовому люду шинкари имели такое же отношение, как «христиане-кабатчики города Мещевска или Черни к числу прочих обывателей этих городов».[35] Разница была в том, что, как правило, евреи вынужденно занимались виноторговлей, так как в местности, где им дозволялось жить, был «только один постоянный запрос — на водку».[36]
К этому нелишне добавить, в деревенских шинках продавалась не только водка. Это фактически было сельпо, где крестьяне могли купить и соль, и гвозди, и нитки с иголками, и множество бытовых мелочей, что избавляло от необходимости ехать в город (порой за десятки верст).
«Еврей и пьянство между собой не ладят, — писал Лесков. — Известно всем, что между евреями нет пьяниц, как между штундистами, молоканами и некоторыми другими из русских сектантов евангелического духа. Пьяный еврей несравненно реже даже чем пьяный магометанин. Человеку трезвому противен самый вид пьяного, а докучная, бестолковая и часто безнравственная беседа пьяницы — омерзительна. Сносить целые дни на своих глазах такое безобразие за грошовую пользу может заставить только самая тяжелая нужда. При том хмельной человек дерзок и буен, и от слов легко переходит к драке, для которой поводом может служить самое ничтожное обстоятельство. Среди нескольких таких, вкупе собравшихся, пьяниц еврей нередко остается один… Положение его постоянно рискованно…».[37] Какая разница между таким шинкарем поневоле и русским кабатчиком, который «живет, где хочет, и может легко избрать другое дело, но, однако, и он тоже кабачествует, и в этом промысле являет ожесточенную алчность и бессердечие… Русский кабатчик, „как паук“, путает единоверного с ним православного христианина и опутывает его до того, что берет у него в залог свитку с плеч и сапоги с ног; топор из-за пояса и долото с рубанком; гуся в пере и барана в шкуре; сжатый сноп с воза и несжатый урожай на корню».[38]
Лесков заключает, что еврейское шинкарство — «это, разумеется, не рыцарственно, но и не так возмутительно низко, как то стараются представить враги еврейства, которые забывают или не хотят знать, что услуги евреев в распродаже питей в черте еврейской оседлости признаются нужными и самим правительством».[39]
И далее Лесков приводит убийственный по наглядности пример: за несколько лет до составления его «Записки» власти проводили эксперимент: евреям было запрещено заниматься шинкарством. И что же? Оказалось, что местные крестьяне вовсе не спешили их заменить. «Беспокойный и грязный шинкарский промысел» крестьян не прельщал. Потребление зелья заметно снизилось, — казалось бы, что могло быть лучше! Но тут забило в набат акцизное ведомство, обнаружившее, что поступления в казну иссякают. Запрет тотчас был снят. «Следовательно, — заключает Лесков, — пока акциз с вина составляет важнейшую статью государственных доходов, еврей даже необходим в шинке во всей той местности, где нет других предприимчивых людей, сродных терпеть этот грязный род торговли. А в таком случае и порицать евреев за то, что они занимаются непочтенным, но в силу условий существующего положения необходимым промыслом, — совершенно напрасно, да и не предусмотрительно».[40]
Мысль Лескова ясна, хотя — по понятным причинам — осторожно выражена: народ издревле спаивала и продолжает спаивать власть. Именно она, ради извлечения доходов, превратила прирожденную предрасположенность к пьянству в социальную болезнь нации. Шинкарь-еврей, с которым она якобы борется, служит козлом отпущения. Афишируя борьбу с еврейским шинкарством, власть сама его насаждает.
Этот блестящий историко-аналитический очерк принадлежит перу не еврея и даже не «шабесгоя», готового — по теории «патриотов» — оболгать Россию в угоду евреям. «Записку» составил глубочайший знаток народной жизни, неутомимый исследователь народного быта, классик русской литературы, лютый противник нигилизма, консерватор и патриот, автор знаменитого «Левши», а также многих других произведений, в которых, между прочим, выводил и евреев, да порой в таком виде, что его — может быть, и без достаточных оснований — упрекали в юдофобстве, но никак уж не в юдофильстве!
Впрочем, попреки посыпались, как только Лесков стал высказываться публично. Тотчас «явились сомнения и намеки насчет его способности знать дела и излагать свои мнения. Автор очень благодарен этим господам за снисхождение, с которым они не бросают, по крайней мере, теней на его денежную честность и политическую благонадежность»,[41] с сарказмом отмечал писатель. И действительно, чего бы не пустить слух, что за свою «Записку» он слупил с евреев пресловутые двести тысяч, или что держит в подполе динамитную мастерскую!
«Записка» Лескова Солженицыну известна. Уважительно назвав автора «знатоком русской народной жизни», Солженицын приводит из нее короткую цитату (стр. 105). Но только для того, чтобы тут же побить ее ссылкой на «влиятельную в те годы газету „Голос“, [которая] назвала еврейское шинкарство „язвой края“, именно Западного, „и притом язвой неисцелимой“» (стр. 105). (Попробуй, исцели, если запрет на питейную торговлю евреям тотчас бьет по государевой казне!)
Насколько ясна, обоснована и подкреплена фактами аргументация Лескова, настолько все запутано и затуманено у Солженицына. На читателя снова обрушена уйма цитат, большое число выписок из каких-то законодательных актов, постановлений и разъяснений, которые никогда не выполнялись.[42] По какой причине не выполнялись — из солженицынского текста не узнать, зато узнаем, что «борьба с винными промыслами путем выселения евреев из деревень — по сути за все четвертьвековое царствование Александра I не сдвинулась» (стр.66), причем беда состояла в «либеральных взглядах Александра I», в «его доброжелательном отношении к евреям, его изломчивом характере, его ненастойчивой воле» (стр. 63).
Почему же дело не сдвинулось с мертвой точки и в следующие тридцать лет, когда шапка Мономаха украшала чело твердокаменного командора, который, по выражению Солженицына, «был по отношению к российским евреям весьма энергичен»? (Стр. 97) Среди других «энергичных» мер Николая I был и «новый трехгодичный срок выселения евреев из деревень западных губерний, дабы пресечь их винный промысел, — но мера тормозилась, останавливалась, затем отменялась, как и у его предшественника» (Стр. 104). Более того, Солженицын вдруг сообщает, что при «энергичном» государе еврейским купцам первой гильдии разрешено было «содержать питейные откупа также и в местах, где евреям не дозволено постоянное жительство» (Стр. 104–105). Вот тебе, бабушка, и энергичен! И никак не либерален! И с очень даже настойчивой волей! А возможности еврейской виноторговли взял, да расширил!
И после Николая Павловича воз не сдвигался с места, что и заставило Лескова — уже в 1880-е годы — столь подробно остановиться на еврейском шинкарстве. Ошибается Александр Исаевич: не к евреям был доброжелателен Александр I, а радел о государевой казне! И в этом не отличался ни от своих предшественников, ни от преемников.
Чтобы завершить тему мнимого спаивания христианского населения евреями, не лишне обратиться к «Воспоминаниям» С. Ю. Витте. Как министр финансов при Александре III и затем при Николае II, он в 1890-х годах вводил государственную винную монополию по всей империи. Как мы знаем, государственная монополия (и отчасти помещиков) существовала в России всегда, но осуществлялась в разные времена по-разному, чаще через откупа и аренду, дабы снять с чиновников заботы об этом хлопотном деле, то есть получать доход, ни о чем не заботясь. Витте же снова вводил «государев кабак», а кабатчиков превращал в государственных служащих. «Вольных винщиков» теперь уже не обкладывали налогом или арендной платой, а ликвидировали как класс.
Согласно Солженицыну, введение винной монополии встретило сопротивление со стороны евреев, так как они на этом много теряли, но Витте ни о каком сопротивлении в губерниях черты оседлости не упоминает. Напротив, он пишет о сопротивлении в Петербургской губернии, где «ватага заинтересованных лиц нашла себе пути к великому князю… Владимиру Александровичу, дяде императора [, которого] уверили, что в тот день, когда я введу монополию в Петербурге, произойдут в городе волнения, которые могут иметь кровавые последствия». Правда, это сопротивление «удалось легко побороть», «никаких волнений не было, все обошлось совершенно спокойно».[43]
Витте рассказывает, что в поездке в связи с введением винной монополии в Смоленской и Могилевской губерниях его сопровождал представитель французского президента Фора, который нашел, «что эта реформа с точки зрения государственной превосходна и что она должна дать самые благие результаты. Реформа эта могла бы дать столь же благие результаты и во Франции, но для того, чтобы такую реформу ввести, необходимо прежде всего одно условие, чтобы та страна, в которой она вводится, имела монарха неограниченного, и мало того, что неограниченного, но и с большим характером. Действительно, — подытоживает Витте, — если бы император Александр III не обладал этим свойством, то реформу я никогда бы не был в состоянии ввести».[44] Иначе говоря, при самодержавном строе (в отличие от демократического) вся политика в области виноделия и виноторговли, то есть приобщения масс народа к пьянству или отваживания от пьянства находится в руках власти!
Витте уверяет, что он внушал акцизным чиновникам: «реформа эта вводится не с целью увеличения дохода, а с целью уменьшения народного пьянства, и что действия чинов акцизного ведомства будут цениться совсем не в зависимости от того, какой доход от этой реформы получается, а исключительно с точки зрения благоустройства, порядка и уменьшения народного пьянства».[45]
Витте мог себе позволить такую роскошь, так как, проводя грамотную финансовую политику в условиях мира и быстрого экономического роста, добился отличного состояния государственных финансов. Но ситуация изменилось из-за дальневосточных авантюр, приведших к войне с Японией. И тогда уже другой министр финансов, В. Н. Коковцов, «обратил внимание на [винную] монополию главным образом с точки зрения фиска, дабы извлечь из этой реформы наибольший доход, а потому не уменьшение пьянства ставилось и ставится акцизным чиновникам в особую заслугу, а увеличение питейного дохода».[46] С этой целью число питейных заведений в стране удвоилось и неоднократно повышалась цена на спиртные напитки, причем делалось это таким образом, что пьянство не уменьшалось, так как цена оставалась «доступна почти всему населению, но… разорительна для него».[47]
Таков был итог борьбы самодержавной власти с «еврейским шинкарством», о чем невозможно узнать из книги Солженицына.
Воинская повинность
В 1827 году император Николай I издал Указ, обязавший евреев отбывать рекрутскую повинность «натурой» — взамен двойной подати, которая взималась ранее. Указ гласил, что евреи «уравниваются» с христианами в отбывании рекрутской повинности, однако равенство прямолинейный, по характеристике Солженицына, царь понимал несколько криволинейно. Он обязал еврейские общины ежегодно поставлять по десяти рекрутов с каждой тысячи душ населения, тогда как православные поставляли семь солдат с каждых двух тысяч душ, почти в три раза меньше. Христианам полагалось сдавать в рекруты мужчин от 18 до 25 лет, но еврейским общинам «позволялось» заменять взрослых мужчин мальчиками от 12 лет. А при отсутствии строгого учета возраста на практике очень быстро стали забривать и семи-восьмилетних детишек.
Детей отправляли в школы «кантонистов», учрежденные еще в начале века для солдатских детей. (Поскольку солдаты были приписаны к военному ведомству, то их дети становились собственностью военного ведомства; из них растили будущий технический персонал для армии. В таких школах и должны были по шесть-восемь лет, до совершеннолетия, содержаться малолетние рекруты-евреи, после чего только начинался отсчет их 25-летней солдатской службы).
Еврейские рекруты нужны были Николаю Павловичу вовсе не для усиления войска: для этого евреи считались слишком хилыми, трусливыми, да и способными к измене в критическую минуту. В солдатчине Николай Павлович видел средство отрывать еврейских детей от еврейской среды, приобщать к русским порядкам, побуждать к принятию православия, словом, ассимилировать их. Цель эта не афишировалась, но и особенно не скрывалась. Забритых детей отправляли подальше от дома — многомесячными пешими переходами. Одну такую партию в 1835 году встретил на постоялом дворе направлявшийся в ссылку А. И. Герцен. Сопровождавший партию офицер рассказал ему, что «проклятых жиденят» сначала «велели гнать в Пермь, да вышла перемена — гоним в Казань». Треть их «осталась на дороге… половина не дойдет до назначения», сокрушался офицер, тяготившийся своей миссией. «Жиденок, знаете, эдакий чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари… Опять — чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет — да и в Могилев».
Но вот рекрутов построили «в правильный фронт».
«Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал, — бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще держались, но малютки восьми, десяти лет… Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст. Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку и озноб. И эти больные дети без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И при том заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей».[48] О том ужасе и тех гнусностях, которыми сопровождались рекрутские наборы в еврейских городках и местечках, написано много томов. В моей личной библиотеке имеются две книги на эту тему: Michael Stanislawski. Tsar Nicholas I and the Jews, Philadelphia, The Jewish Publication Society, 1983; и Эммануил Флисфиш. Кантонисты, Effect Publishing, Tel-Aviv, [без даты]. В обеих приводится обширная библиография, причем в книге М. Станиславского она занимает 18 страниц. Весь этот богатейший материал не использован Солженицыным.
Ответственность за поставку рекрутов несли сами еврейские общины, причем невыполнение плана жестоко каралось. Нужное число рекрутов следовало сдать любой ценой; то, что большинство из них никогда не овладеет ни ружейными приемами, ни русской грамотой, ни Законом Божиим, ибо, еще не дойдя до школы, отправится «в Могилев», не имело значения. Власть требовала от евреев не что иное, как человеческих жертвоприношений, и евреи расплачивались по самой высокой ставке: своими детьми, своей совестью, своими религиозными традициями и моральными устоями, вплоть до полной потери человеческого облика.
Стремясь спасти своих детей от гибели на чужбине или от насильственного крещения, что для религиозных евреев было хуже смерти, люди, мало-мальски состоятельные, разорялись дотла, чтобы заплатить «охотнику», готовому добровольно пойти в солдатчину взамен спасаемого ребенка. В «охотники» гнала бедняков беспросветная нужда: семьи вынужденно жертвовали одним сыном, чтобы как-то кормить остальных детей. Но часто в «охотники» шли мошенники и проходимцы; получив плату, они скрывались или бежали в ближайшую церковь, где срочно принимали крещение, что тут же освобождало от рекрутчины: крещеный еврей уже не считался евреем, а заменять рекрута-очередника дозволялось только единоверцем. Деньги обманутому вернуть обычно не удавалось, а сына приходилось отдать. Проходимец же нередко отправлялся в другое место, где повторял такую же аферу.
Для выполнения плана любой ценой кагалы завели особых ловцов («хаперов»), которые должны были поставлять «товар» взамен тех, кто бежал либо откупился (сообразив, что заплатить лучше кагалу, чем проходимцу-«охотнику»), а то и взамен «мертвых душ», то есть покойников, которые подлежали набору, так как числились в ревизских сказках. Хаперы хватали на улице любого ребенка, и чем он был меньше, тем легче было его изловить. Если заранее проносился слух о прибытии хаперов и родители не выпускали детей, то хаперы могли ворваться в любой дом и силой вырвать мальчика из рук стенающей матери. А после того, как ребенок был схвачен, никакие доказательства, что он не подлежит набору по возрасту, состоянию здоровья или из-за того, что его семья уже поставила рекрута, не помогали.
Э. Флисфиш приводит потрясающий случай, когда отец, по секрету предупрежденный о предстоящем ночном налете хаперов за его единственным (а, значит, не подлежащим набору) тринадцатилетним сыном, велел мальчику притвориться мертвым. Его накрыли черным покрывалом, поставили в головах горящие свечи и стали оплакивать всей семьей. Когда ворвавшиеся хаперы, неловко потоптавшись у дверей, удались, мальчику сказали, что он может встать. Но он не отозвался. Маленькое сердце не вынесло. Он был мертв.[49]
Из многих документов, которые публикует М. Станиславский, приведу цитату из воспоминаний еврейского писателя Баки бен Ягли (И. Л. Катценельсона), записавшего рассказ своей бабушки:
«Нет, дитя мое, к нашему ужасу, все хаперы были евреями — с бородами и пейсами. И это самое страшное. Мы, евреи, привыкли к нападкам, наветам и страшным указам, исходившим от неевреев. Такое происходило с незапамятных времен, такова наша доля в изгнании. В прошлом существовали неевреи, которые в одной руке держали крест, а в другой нож и говорили: „Еврей, целуй крест или умри“, и евреи предпочитали смерть вероотступничеству. Но теперь появились евреи, религиозные евреи, которые хватают детей и посылают их на вероотступничество. О такой каре не упоминается даже в библейском перечне самых страшных казней. Евреи проливают кровь своих братьев, и Бог молчит, раввины молчат…»[50]
Евгений Шибанов. Солженицын
В повествовании Солженицына ничего подобного не отыщешь. Зато из его книги можно узнать, как с годами видоизменялось положение о рекрутской повинности, какие меры принимало начальство против роста недоимок по рекрутам и т. п. Как это ни странно, но бюрократические подробности писателя занимают куда больше, чем человеческие трагедии.
Указ Николая Павловича от 1827 года Солженицын не одобряет, считая царя слишком «прямолинейным» (вот и железную дорогу Петербург — Москва «царь провел по линейке»). Однако с оценкой Краткой Еврейской Энциклопедии, которая назвала распространение рекрутской повинности на детей «самым тяжким ударом», автор решительно не согласен: «Но разрешено — вовсе не значило обязательного призыва с 12-летнего возраста, — пишет Солженицын, — это именно не было „введением рекрутской повинности для еврейских мальчиков“, как неверно пишет энциклопедия и как утвердилось в литературе о евреях в России, затем и в общественной памяти. Кагалы нашли такую замену удобной для себя и пользовались ею, широко сдавая — „сирот, детей вдов (порой в обход закона — единственных сыновей), бедняков“ — часто „в счет семьи богача“» (Стр. 102).
Закавычены цитаты из Краткой Еврейской Энциклопедии, которыми Солженицын «побивает» ее же утверждение. Попросту говоря, он прибегает к приему, которым пользуются идеологически ангажированные пропагандисты, манипулирующие цитатами, чтобы правдоподобно извратить смысл документа, на который они якобы опираются. Таким приемом Солженицын пытается перечеркнуть обширнейшую литературу и «общественную память» об одном из самых диких проявлений религиозной и племенной ненависти в России, причем прямо организованном властью. Такой подход только логичен при той изначальной позиции, какую занял автор книги. С его точки зрения, существуем «мы» и существуют «они». «Наш» царь вовсе не приказал забривать 12-летних еврейчиков, а только «разрешил»; как пользовался этим разрешением «их» кагал, это «их» еврейское дело, и нечего сваливать с больной еврейской головы на здоровую головушку «нашего» государя!
А то, что кагал был инструментом той же царской власти; что кагал служил этой власти вопреки интересам основной массы еврейского населения; что многие кагальные старшины и другие заправилы еврейских общин были коррумпированы, а власть не только не боролась с коррупцией, но поощряла ее, — этого Солженицын знать не хочет. Не замечает он и того, что кагал и шагу не мог шагнуть без одобрения станового пристава, в чьих руках и была сосредоточена верховная власть в местечке. Не замечает он и еще одного существенного момента. Кагал только поставлял рекрутов, а принимало их рекрутское присутствие. Именно оно признавало годными к службе малышей, не дотягивавших по много лет до «призывного» 12-летнего возраста; оно признавало здоровыми больных и увечных. Оно же закрывало глаза на такую практику. В преддверии очередного набора хаперы устраивали облавы на постоялых дворах, хватали приезжих евреев, у которых вскоре истекал срок действия паспорта, сажали их в кутузку, держали до того дня, когда их паспорт становился недействительным, и затем сдавали в рекруты как бродяг.
«В обязанность сдатчика входил и подкуп членов рекрутского присутствия для признания годными всех сдаваемых. При наборах расходовались на эту цель большие суммы денег. Рекрут мог быть безнадежно больной, страдать опасной, неизлечимой болезнью, тихим помешательством, но если он в состоянии продержаться часа два на ногах, его признавали годным. Подмазка делала чудеса, и рекрутские присутствия работали быстро и „плодотворно“… Сдатчики учили малолетних называть свой возраст старше на 3, 4 или даже на 5 лет. За щеки мальчиков они вкладывали золотые монеты и советовали пошире раскрывать рот, когда доктор будет их осматривать. „Доктор возьмет изо рта золотые, утешали они наивных детей, — и отпустит затем домой“. Осматривавший врач докладывал комиссии, что мальчик вполне здоров и поэтому годен. Председатель произносил страшное слово „лоб“. Солдат подхватывал жертву и тут же ставил метку, со лба выстригал назад полголовы: мальчик стал кантонистом».[51]
Это живое, запоминающиеся описание взято из книги Э. Флисфиша — отнюдь не профессионального писателя. Ничего подобного в пятисотстраничной книге Солженицына не найти — куда только девалось литературное мастерство автора «Ивана Денисовича» и «Гулага». Нобелевский лауреат по литературе кормит читателя бюрократической сухомятиной. Конечно, он негативно высказывается о мерах, которыми кантонистов обращали в христианство, называя их (меры) «не христианскими». Но тотчас вклинивает для «баланса»: «Однако и рассказы о жестоко насильственных обращениях в православие, с угрозами смерти кантонисту, и даже с массовым потоплением в реке отказавшихся креститься, рассказы, получившие хождение в публичности последующих десятилетий, — принадлежат к числу выдумок. Как пишет старая Еврейская энциклопедия, эта „народная легенда“ о якобы потоплении нескольких сотен евреев-кантонистов родилась из сообщения немецкой газеты, „что когда однажды 800 кантонистов были погнаны в воду для крещения, двое из них утопились“». (Стр. 103).
Забудем на минуту о смысле сказанного, обратимся к слогу. Чего стоят хотя бы рассказы, «получившие хождения в публичности». Погружаясь в эту вязкую, крючкотворную «прозу», трудно отделаться от ощущения, что самому автору было стыдно такое писать. Ведь (возвращаясь к смыслу) что собственно он хочет сказать, выудив из тысяч и тысяч фактов, относящихся к еврейской рекрутчине, только один, и только потому, что этот единственный факт — недостоверен! Оказывается, не 800 детей утопилось, а только двое. Остальные 798, что «были погнаны в воду», благополучно доплыли до благословенного православного берега! А все остальное — от лукавого. «Очевидно, был расчет и самим крестившимся, позже, в оправдание перед соплеменниками, преувеличивать степень испытанного ими насилия при обращении в христианство, тем более, что после перехода они получали некоторые льготы по службе» (стр. 103).
Вот как оно получается в «сбалансированном-то» изложении! Не издевательства, не избиения, не бесконечное надраивание до блеска отмытых казарменных полов (да чтоб на голых коленках, обдираемых до самой кости, с последующим нагноением ран, не заживавших неделями), не выматывание последних силенок расчетливым лишением сна побуждали отроков изменять вере отцов — их, оказывается, соблазняли «некоторые льготы по службе»! (Да, были и льготы. Еврею, принявшему православие, кроме привилегии не подвергаться дальнейшим мучениям, выдавалось наличными тридцать целковых, о чем с возмущением писал Лесков, указывая на прямую аналогию с тридцатью серебренниками, полученными Иудой за предательство Иисуса.[52])
Невольно задаешься вопросом — верит ли сам Александр Исаевич своей «сбалансированности»? Если бы верил, то откуда бы проистекал этот слог, похожий на бубнение пойманного на каком-то малоприличном занятии школяра. Это же СОЛЖЕНИЦЫН, умеющий жечь глаголом сердца читателей не хуже Герцена или Лескова. Непреклонная вера в свою правоту, в высоту своей моральной позиции, оттачивала его перо, поистине приравнивая к штыку. В этой книге такой веры нет, написана она затупившимся, погнутым пером, вялой, нетвердой рукой. Потому так тягостно и неловко ее читать.
Но и опустив глаза долу, автор продолжает гнуть все ту же якобы среднюю линию (среднюю между волком и ягненком, между козой и капустой, между невинным зэком и пытающими его гебистами). «По статистическим данным военно-учетного архива, в 1847–1854, годах наибольшего набора евреев-кантонистов, они составляли в среднем 2,4 % ото всех кантонистов России, то есть доля их не превышала пропорциональной доли еврейского населения в стране, даже по заниженным кагалами данным для тогдашних переписей», читаем в книге (стр. 103).
Ну, а тысячи забритых детишек, что по пути в кантонистские школы попадали «в Могилев» — они учтены ли той статистикой? А тысячи тех, что до школ кое-как доплетались, да в самих школах, замордованные и заплеванные из-за «упорства еврейского характера и природной верности своей религии с малолетства»[53] (стр. 102), угасали, не протянув двух-трех лет вместо положенных шести, — какая их доля учтена той статистикой? Ведь, согласно литературе, которую Солженицын отверг вкупе с «общественной памятью», едва ли один из десяти забритых мальцов дотягивал до конца учения и перехода в настоящие солдаты.
Однако и дальше тему «евреи и военная служба» Солженицын рассматривает в том же духе. С воцарением Александра II рекрутам пошли послабления, а там и вовсе на смену рекрутчины пришла обычная воинская повинность. Детей забривать перестали, срок службы снизили до шести лет. Казалось бы, служи, солдат, и радуйся! Ан нет, евреи и тут стали уклоняться от воинской повинности в огромных количествах. Дабы это подтвердить, Солженицын даже ссылается на А. Шмакова, которого для «баланса» называет «недоброжелательным к евреям… известным адвокатом» (стр. 151–152).
Если это шутка, то неудачная. Алексей Семенович Шмаков снискал себе известность отнюдь не на адвокатском поприще. Он выпускал объемистые «труды», в которых, фальсифицируя или злостно перетолковывая все, что касается евреев, запугивал читателей еврейской эксплуатацией, убийствами христианских младенцев, тайным еврейским правительством и многим другим, что в глазах суеверных обывателей делало горстку бесправных, задавленных нуждой и надругательствами инородцев могущественным, спаянным, коллективным врагом «тронов и алтарей». Этими трудами Шмаков выдвинулся в число ведущих идеологов черной сотни, ими и был славен. Как адвокат он показал себя с полным блеском уже в старости, когда в качестве гражданского истца на процессе Бейлиса, хорошо зная о том, кто были истинные убийцы Андрюши Ющинского, пламенно и страстно их выгораживал, чтобы добиться осуждения невинного еврея и вместе с ним — всего еврейского народа. Сказать об этом человеконенавистнике, что он был всего лишь «недоброжелателен» к евреям, почти равносильно тому, чтобы назвать «недоброжелательным» Гитлера!
В той литературе, которую игнорирует Солженицын, теме воинской повинности евреев после отмены рекрутчины, посвящено немало страниц; они дают противоречивую картину. С одной стороны, они показывают, что процент евреев, не являвшихся по призыву, заметно превышал средний процент по стране (уклонялись!). С другой же стороны, в пересчете на численность населения, евреев в армии служило больше, чем неевреев. Последнее подтверждает и Солженицын. Он даже сокрушается, что «евреи [были] поставлены в невыгодное положение и сравнительно с магометанами [которые вообще были освобождены от воинской повинности], и с общей массой населения» (стр. 152). Но того, что в приводимых им данных заключено явное противоречие, он не видит. Между тем, в неуважаемой им литературе это противоречие не только отмечено, но и объяснено. Реальный процент служивших в армии представителей разных религиозно-этнических групп населения определялся прямым путем: по отношению служивших к общей численности населения данной группы, согласно переписям. А «уклонявшимися» считались те, кто по повестке не явился на призывные пункты. Однако с начала 1880-х годов — в ответ на погромы — началась массовая эмиграция евреев из России, и выехавшие заграницу продолжали числиться в списках подлежащих призыву; по повесткам они, естественно, явиться не могли, обогащая статистику «уклонявшихся». Еще большую несуразицу вызывало то, что евреи, опутанные многочисленными специальными законами и постановлениями о правожительстве (именно так — одним словом — употреблялось это страшное понятие в еврейской среде), во многих случаях постоянно были «приписаны» к одной общине, временно — к другой, а реально жили в третьей. И нередко призывались на службу во всех трех местах. Явившись на призывный пункт в одном месте, такой еврей числился «уклонившимся» в двух других, радуя сердца «статистиков» типа А. С. Шмакова.
Вот, о чем говорит литература. Ну, а что было в жизни? Уклонялись ли некоторые евреи от воинской повинности в конце XIX — начале XX века? Вероятно, да. Превышал ли процент уклонявшихся евреев средний процент по стране? Скорее всего, превышал, — особенно если учитывать, что воинская служба по-прежнему была несовместима с соблюдением религиозных еврейских традиций, а для большинства евреев невозможность соблюдать эти традиции в полном объеме была равносильна самой тяжелой нравственной пытке. Служили ли они в войсках с таким же рвением, как их православные сослуживцы? По-видимому, не всегда. Но почему?
Ответа на этот вопрос у Солженицына не найти, несмотря на множество выписок из Еврейских Энциклопедий. Автору известен ответ Лескова, но он его не устраивает, и в книге о нем не упомянуто. Между тем, Лесков, приведя примеры того, как доблестно евреи сражались в армиях многих стран, писал: «Мы думаем, что не иным чем оказался бы еврей и в России на стороне патриотизма русского, если бы последний в своих крайних проявлениях не страдал иногда тою обидною нетерпимостью, которая, с одной стороны, оскорбительна для всякого иноплеменного подданного, а с другой — совершенно бесполезна и даже вредна в государстве.
До чего доходит подобная бестактность, видно из того, что когда недавно один из еврейских органов, выходящих в России, попробовал было представить ряд очерков, свидетельствующих о мужестве и верности долгу воинской чести русских солдат из евреев в русских войнах, то это встречено было насмешками…
Трудно и служить такой стране, которая, призывая евреев к служению, уже вперед предрешает, что их служение бесполезно, а заслуги и самая смерть еврея на военном поле не стоят даже доброго слова. Не обидно ли, что когда русскому солдату напоминают пословицу, что „только плохой солдат не надеется быть генералом“, то рядом с ним стоящему в строю солдату-еврею прибавляют: „а ты, брат, жид, — до тебя это не касается“.[54] И затем, после такого военного красноречия, ведут рядом в огонь битвы обнадеженного русского и обезнадеженного еврея…
Не знаешь, чему больше удивляться: этой бестактности или этой несправедливости, каких не позволят себе люди негде, кроме как в России».[55]
Вот об этом и следовало бы подумать Александру Солженицыну при обработке темы воинской повинности евреев в царской России. Книга его много бы выиграла, если бы он цитировал Н. С. Лескова, а не А. С. Шмакова.
Еврейское земледелие
Среди многих ограничений, которыми подвергались евреи в России, одним из самых тяжелых был запрет приобретать и обрабатывать землю. Непомерная скученность в черте оседлости, о которой столько написано во всех работах по истории евреев в России, была вызвана именно этим. В сельскохозяйственной стране земля составляла основное богатство, основную ценность, она была кормилицей. Крестьянское хозяйство не было товарным, оно оставалось почти натуральным. Крестьянин производил продукты питания для своей семьи, и в урожайные годы семья его жила сытно, даже если у нее месяцами не было ни копейки денег. Свои обязанности перед помещиком (до отмены крепостного права) крестьянин отрабатывал на его земле (барщина) или платил ему дань натурой (оброк). Так что помещики, жившие в своих имениях, большой нужды в деньгах тоже не испытывали. (Исключение составляли правительственные чиновники и столичная и местная знать, строившая роскошные особняки в городах, державшая дорогие выезды, выписывавшая модные наряды и изысканные вина из-за границы. Но эта аристократическая верхушка составляла ничтожный по численности слой населения.)
Евреи же пищу должны были покупать, а, значит, зарабатывать деньги. Государственная служба была им заказана, работы по найму в черте еврейской оседлости было очень мало. Евреи были по преимуществу ремесленниками, мелкими торговцами, осуществляли различные посреднические услуги, то есть занимались тем, что в Америке называется self-employed: на свой страх и риск занимались производством товаров и услуг — в надежде, что сумеют найти потребителя. При высоком уровне экономического развития товарно-денежные отношения господствуют в обществе. Но при натуральном хозяйстве нужда в товаропроизводителях минимальна, вернее, у основной массы населения нет денег, чтобы пользоваться их услугами. Предложение намного превышает спрос, и большинство товаропроизводителей и посредников нищенствует. Однако, согласно предрассудку, разделявшемуся в России властями и массой простого народа, занятия торговлей и ремеслами не считались производительным трудом. Отсюда убеждение, что евреи якобы не трудились, а добывали хлеб исключительно обманом.
«Исправить» евреев, приучив их к земледелию, — такова была идея многих «Записок», «Проектов», «Постановлений» различных правительственных комитетов со времен Державина, но она парадоксальным образом уживалась с запретом на приобретение или аренду евреями земли в местах их постоянной оседлости. Считалось, что дай им только такую возможность, они приберут к рукам всю землю, а крестьяне, работающие на своих куцых наделах и на земле помещика, окажутся в кабале у евреев.
«Энергичный» император Николай I решил одним махом разрубить этот гордиев узел. Он не только разрешил, но предложил некоторые льготы евреям, желавшим заняться крестьянским трудом, но не в местах их постоянного жительства, а при переселении в южные степи Новороссии.
Как мы помним, еще Екатерина II прилагала усилия, чтобы привлечь на эти пустовавшие земли колонистов, но успех был минимальным, огромные массивы целинной земли продолжали пустовать.
Начав переселенческую кампанию среди евреев, Николай Павлович пытался убить двух зайцев — заселить пустующие земли и преобразовать быт «бездельников» и «тунеядцев», превратив их в трудовое крестьянство. Дабы привлечь еврейские массы к переселению, государство выдавало им бесплатные земельные наделы и пособия на переезд и первоначальное обзаведение; освобождало от податей и, что, возможно, было особенно привлекательно — от рекрутской повинности. Многие еврейские семьи с энтузиазмом откликнулись на эту наживку, особенно беднейшие, хотя детально разработанные правила для переселенцев фактически превращали их из свободных людей в государственных (крепостных) крестьян. Правила регламентировали жизнь поселенцев до мелочей, указывая, когда им можно, а когда нельзя отлучаться из деревни, и на какие сроки, и по какой надобности. Предусматривались наказания за самовольные отлучки, награды «отличившимся» хозяевам.
Сообщая обо всем этом, Солженицын не забывает отметить: «при сопоставлении строгих обязанностей, налагаемых на евреев-земледельцев, „с правами и преимуществами, данными исключительно евреям, [и] с теми, какими пользовались прочие податные сословия, — нельзя не признать, что правительство очень благоволило к ним [евреям]“» (стр. 107).
Закавычены им выписки из труда В. Н. Никитина — крещеного еврея, бывшего кантониста и николаевского солдата, который, отслужив солдатский срок, занялся историей еврейского земледелия и опубликовал объемистую книгу, основанную в основном на правительственных документах.[56] Был ли он обижен на своих бывших единоверцев, которые, переселясь на землю, избавлялись от рекрутчины, выпавшей на его долю, или просто смотрел на предмет своего исследования глазами тех документов, которыми располагал, сказать трудно. Ясно лишь то, что его труд дышит недоброжелательством к соплеменникам и бывшим единоверцам. Поневоле снова вспомнишь саркастическое замечание Витте, что «нет большего юдофоба, как еврей, принявший православие». Не во всех случаях оно справедливо, но к данному — безусловно подходит.
Никитин проникнут уверенностью в том, что во всех неудачах эксперимента по превращению евреев в земледельцев, повинны они сами. В том же свете этот эксперимент представлен и у Солженицына. Оказывается, что «с 1829 по 1833 год евреи усердствовали в качестве землепашцев, судьба награждала их урожаями, они были довольны начальством, оно — ими» (стр. 107), но эта идиллия длилась только до тех пор, пока неурожай 1833 года заставил многих бежать из сельскохозяйственных колоний. В описании Никитина и Солженицына, цитирующих «Донесение» некоего Попечительского комитета, это выглядит как «средство не сеять ничего, или весьма мало, сбывать скот, бродяжничать, домогаться пособия и не платить податей» (стр. 107). «В 1834 году, — продолжает Солженицын полуцитировать, полупересказывать Никитина, — „выданный им хлеб — продавали, а скот — резали, и так поступали даже и те, которые не имели в том существенной необходимости“, а местное начальство, по затруднениям в надзоре, не в состоянии было предупредить „множество пронырливых изворотов со стороны переселенцев“» (стр. 107).
При этом оказывается, что «неурожаи у евреев „случались чаще, нежели у прочих поселян, потому что, кроме незначительных посевов, они обрабатывали землю беспорядочно и несвоевременно“, действовал „переходящий от одного поколения к другому навык… евреев к легким промыслам, беззаботности и небрежности в надзоре за скотом“» (стр. 107).
Кажется, ясно, что цитируемое «Донесение» характеризует не столько евреев-колонистов, сколько самого доносителя, от которого разит узколобой юдофобией. Но Солженицын видит в этом документе подтверждение «30-летнего злосчастного опыта с еврейским хлебопашеством (еще на фоне опыта мирового)» (стр.107–108) и недоумевает, почему правительство Николая I не откинуло «эти пустые попытки и траты», а, напротив, в 1835 году предоставило еврейским хлебопашцам дополнительные льготы «к снисканию безбедного содержания упражнением в земледелии и промышленности?» (стр. 108).
Конечно, и дополнительные льготы не дали результата. Из эксперимента ничего не вышло, как и из многих последующих. Однако Солженицын описывает их с дотошными подробностями, обставляясь частоколом цитат, клонящихся к одному: продемонстрировать, как царское правительство из кожи вон лезло, чтобы окрестьянить евреев, да как те упорствовали в своем отлынивании от земледельческого труда и снова и снова объегоривали власти, прикарманивая пособия.
Стремясь сделать свою версию убедительной, Солженицын даже опирается на известную ему «Записку» Николая Лескова, приводя из нее то место, где Лесков «указывал, что еврейская „отвычка от полевого хозяйства образована не одним поколением“, а эта отвычка „так сильна, что она равняется утрате способностей к земледелию“, и еврей не станет снова пахарем, разве что постепенно» (стр. 157).
Александр Исаевич выкроил из обширного текста Лескова две полуфразы, придав им смысл, противоположный мысли автора. Вот что в действительности писал Лесков:
«Удивительно, что никто из трактовавших об этом деле не обратил внимания на самую существенную его сторону, — на то, что земледелие, особенно в девственном степном крае, требует не одной доброй воли и усердия, но и знаний и навыка, без которых при самом большом желании невозможно ожидать от земледелия ближайших полезных результатов.
…Если кому доводилось отваживаться на такое дело, то он по доброй воле приступал к нему не иначе, как с запасным капиталом на полный севооборот по трехпольной системе (т. е. на четыре года). Без такого запаса первый случайный неурожай, градобой или другой неблагоприятный случай в течение четырехлетнего периода угрожает остановить весь почин дела, погубить даром все положенные труды и привести молодое неустоявшееся хозяйство к разорению.
…Наши помещики Нарышкин и гр. Перовский, делавшие большие заселения степных земель своими крепостными крестьянами из средних губерний, поддерживали переселенцев на новых местах по пяти и по семи лет.
Евреи наши, из которых мог бы быть образован класс степных земледельцев, все были бедняки. Это были люди, пришедшие „в черте“ в полное захудание, и еле влачившие полунищенское существование на счет кое-какой общественной благотворительности. О собственном обеспечении на четыре года хозяйства первого севооборота у них не могло быть и речи… Весь капитал, с которым русскому еврею предстояло двинуться с своей убогой мещанской оседлости (где его, однако, кое-кто знал и кое-кто поддерживал) и идти в безлюдную степь на совершенно незнакомое дело, действительно заключался в том вспоможении, которое назначало правительство на первое обзаведение… Если этого вспоможения даже и достало бы опытному в полевом хозяйстве крестьянину, то неопытный человек, с ним ничего не мог сделать. При первом неурожае, в первую тяжелую зимовку ему с семьею в голой безлесной степи приходила верная и неотразимая холодная и голодная смерть… Такая смерть страшна всякому, как эллину, так же и иудею».[57]
Николай I. С портрета Дж. Лонсдейла
А вот и то место, из которого урезанно цитирует Солженицын: «Вывод из всего этого очевиден и прост: евреи утратили склонность к земледелию вследствие исторических причин, долго не благоприятствовавших их занятию сельским хозяйством. Отвычка от этого дела у них так сильна, что она почти равняется утрате способностей к земледелию… Обратить к земледелию евреев, не знающих ремесла и не обладающих капиталами для достойных занятия торговых дел, не есть цель напрасная или недостижимая. Напротив, это и важно, и нужно, и человеколюбиво, и при том это вполне достижимо, только не вдруг, по одному мановению, как желали сделать при императоре Николае. Вековая отвычка может быть исправлена только тем же самым историческим путем. Это путь медленный, но единственно верный: он состоит в том, чтобы поставить экономически бедствующую часть евреев в такое благоприятное положение, при котором в ней прежде всего исчез страх за свою обеспеченность от произвола и страстей окружающего их христианского населения. Надо, чтобы погромы были невозможны. Затем необходимо уничтожить все „особенные“ положения о землевладении для евреев и неевреев, и дозволить еврею, как и не еврею, приобретать себе в собственность для возделывания мелкие участки. Лучший земледелец тот, кто возделывает свой любимый клок земли. Не в одних отдаленных степных местах, где хозяйство особенно трудно, надо дозволить сельское занятие еврею, а там, где ему нравится… Словом, необходимо дозволить еврею приобретение поземельных участков везде, где это дозволено нееврею, и тогда в России будут евреи земледельцы, как желал император Николай I».[58]
Солженицын подобных суждений не приводит; ему приятнее «донесения самых разных инспекторов, из разных мест», гласившие нечто противоположное: «повинуясь крайности, — [евреи] могли сделаться земледельцами, и даже хорошими, но первою благоприятною переменою обстоятельств — они всегда бросали плуг, жертвовали хозяйством, чтобы вновь обратиться к барышничеству и другим любимым своим занятиям» — и дальше идут аналогичные выписки — в основном из труда Никитина (стр. 111–115, 152–156). Солженицын откапывает у него и свидетельство «чиновника с 40-летним опытом по земледелию» о том, что «не было ни одного крестьянского общества, на которое столь щедро лились бы пособия — пособия эти не могли оставаться тайною для крестьян и не могли не вызывать в них недоброго чувства» (стр. 155). И дальше: «Этим именно обстоятельством объяснялось… „отчасти и то ожесточение крестьян против евреев-земледельцев, которое выразилось разорением нескольких еврейских селений“ (1881–1882)» (Стр. 155).
Н. С. Лесков
Видимо, и Лескову были известны факты «разорения еврейских селений» их соседями, почему он и предупреждал: погромов не должно быть. Нельзя заниматься земледелием, если над головой висит страх, что в любой момент твое имущество будет разграблено из ненависти или зависти. Солженицыну важно другое. Абсурдное «свидетельство» о якобы особой щедрости, изливавшейся на переселенцев-евреев в ущерб переселенцев-христиан, ему нужно для того, чтобы отбрить «советского автора 20-х годов» Ю. Ларина, писавшего: «Царизм почти совершенно запрещал евреям заниматься земледелием» (стр. 156). Заодно отбривает он и Л. Н. Толстого, возмущавшегося тем, что власти «удерживают целый народ в тисках городской жизни и не дают ему возможности поселиться на земле и начать работать единственную, свойственную человеку работу» (стр.157).[59]
«На каких облаках он жил? Что он знал о 80-летней практике этой земельной колонизации?» — возмущается Солженицын в адрес Толстого. Однако на облаках поселился он сам, ибо Ларин и Толстой были правы: царизм запрещал евреям землепашествовать там, где они могли и хотели это делать, разрешая там, где они не могли и не хотели.
Кровавый навет
Среди абсурдных обвинений, изливавшихся на евреев, ни одно не было столь зловещим и чреватым столь страшными последствиями, как обвинения в ритуальных убийствах. Эта самая яркая манифестация религиозной и племенной нетерпимости пунктиром проходит через всю историю евреев, и вполне понятно, что она угнездилась в России. Более того, именно здесь она нашла благоприятную почву уже в то время, когда в Западной Европе на кровавый навет стали смотреть как на глупый средневековый предрассудок.
Как мы помним, первый российский интеллектуал и государственный деятель, слывший специалистом по еврейскому вопросу, Гаврила Романович Державин, уже в конце XVIII века поддержал это обвинение. А затем дела о ритуальных убийствах евреями христианских детей возникали так часто, что император Александр I, в 1817 году, должен был издать рескрипт, разосланный всем губернаторам черты еврейской оседлости, в котором такие обвинения квалифицировались как предрассудок, а возбуждение уголовных дел «по одному предрассудку, будто они [евреи] имеют нужду в христианской крови», запрещалось.[60]
Александр I только присоединился ко многим европейским государям и Римским Папам, которые на протяжении веков издавали аналогичные указы и буллы, что, однако, действовало лишь очень недолгое время. Указы забывались, и евреев вновь вздымали на дыбу, жгли каленым железом, бичевали кнутом, добиваясь признаний в умерщвлении очередного младенца, после чего торжественно четвертовали, сажали на кол или сжигали на костре, а все еврейское население громили, накладывали на него «контрибуцию» или вовсе изгоняли из страны — до следующего высочайшего повеления.
Рескрипт Александра I ждала аналогичная участь. Он был забыт… самим государем, незадолго до его смерти, когда при его проезде в Таганрог через белорусский городок Велиж в Витебской губернии в ноги к нему повалилась женщина и с рыданиями сообщила, что она — вдова солдата Марья Терентьева, и что два года назад евреи замучили ее трехлетнего ребенка, а потом подкупили полицию, которая замяла дело, оставив несчастную мать без удовлетворения.
Благосклонно выслушав стенавшую женщину, царь велел дать ход ее жалобе, и Велижское дело, ранее преданное «воле Божией» за отсутствием улик против обвинявшихся евреев, было возобновлено. Затем, указывает А. И. Солженицын, оно тянулось еще десять лет. Чего он не указывает, так это того, что на первом же допросе после возобновления следствия открылось, что Марья Терентьева вовсе не та, за кого себя выдает. Она не солдатская вдова, а уличная проститутка; она никогда не была замужем и зарабатывала себе на пропитание «сексуальными услугами», как сказали бы сегодня; детей у нее никогда не было, а убитый мальчик Федор Иванов был сыном солдата Емельяна Иванова и его жены Агафьи, которые с тех пор из Велижа выехали; именно Марья Терентьева при первоначальном расследовании этого дела громче всех обвиняла евреев, но ее наветы не подтвердились.
Оставался бы жив Александр Павлович, дело против евреев, видимо, тотчас бы вновь закрыли, а Марью Терентьеву — за ложный донос и ложные показания — присудили бы к битью кнутом на базарной площади и ссылке в Сибирь на поселение (что и было сделано через десять лет!).
Но Александр I почил в бозе; в Петербурге воцарился «весьма энергичный» Николай, и возобновленное следствие потекло по иному руслу. Взятая в оборот Марья Терентьева «призналась» в том, что «прошла через жидовский огонь» (тайно обращена в иудейство) и — в качестве иудейки — сама участвовала в убийстве мальчика. Она подробно описала процедуру умерщвления и назвала несколько десятков евреев, которые будто бы вместе с ней качали мальчика в бочке, утыканной изнутри гвоздями, сбирали кровь в серебряную чашу, а затем вывезли бездыханное тельце в лес.
По наводке Марьи Терентьевой следователи арестовали еще двух христианок и, обработав их должным образом, получили аналогичные показания. Затем было арестовано более сорока евреев, подвергавшихся много лет физическим и моральным истязаниям с целью исторгнуть из них признания. Проявив редкое мужество, все арестованные выстояли, но, несмотря на это, им был вынесен обвинительный приговор, и его с энтузиазмом утвердил генерал-губернатор Витебской губернии князь Хованский.
Открытого судопроизводства в России тогда не было. По заведенному порядку, дело поступило на окончательное решение в Сенат, а затем в Государственный Совет, где оно попало на рассмотрение к графу Николаю Семеновичу Мордвинову, одному из наиболее просвещенных и независимых государственных деятелей того времени. В блестяще написанной записке, он проанализировал многотомное дело и не оставил от всех обвинений камня на камне.[61] Доводы Мордвинова оказались столь убедительными, что члены Государственного Совета единогласно присоединились к нему. Единогласное решение Государственного Совета считалось окончательным (таково, по закону, было единственное ограничение абсолютной власти самодержца), поэтому императору Николаю его пришлось утвердить.
Граф Н. С. Мордвинов
Однако он был разочарован и не скрывал своего раздражения. Утверждая решение Государственного Совета, он написал, что «внутреннего убеждения, что убийство евреями произведено не было, не имеет и иметь не может», ибо среди евреев может существовать изуверская секта, которая все-таки практикует ритуальные убийства, так как «к несчастью и среди нас, христиан, существуют иногда такие секты, которые не менее ужасны и непонятны» (стр. 97–98).
Между тем, в записке Мордвинова вопросу о «сектах» уделено важное место. Оно, вероятно, способствовало тому, что все члены Государственного Совета присоединились к нему, хотя знали, что царь ждет от них противоположного решения. Приведя сжатый исторический очерк кровавого навета и показав его полную абсурдность, Мордвинов писал:
«Но разрушенное в главных основаниях мнение сие получило другое направление. Евреев начали в позднейшее уже время обвинять как сектаторов [сектантов]. Кроме того, что существование таковой ужасной секты ни одним фактом не обнаруживается, нельзя предполагать, чтобы талмудисты, уклоняясь от закона Моисеева, запрещавшего употребление даже крови животных, могли произвести секту, совершенно основанию оного противную, и чтобы евреи, в течение веков претерпевавшие бедствия от ужасных правил ее, не открыли существования оной, особенно при той ненависти, какую евреи-сектаторы взаимно между собой питают. (Известна ненависть евреев к секте хассидов [хасидов], кои предаваемы были проклятию, а сочинения их публично сожигаемы)».[62]
Как видим, согласившись освободить велижских евреев за отсутствием улик, Николай I оставил в подозрении еврейский народ, полагая, что если не все евреи практикуют ритуальные убийства, то все они покрывают тайную изуверскую секту, которая это делает.
Последствия несогласия государя с Мордвиновым были весьма серьезными и далеко идущими. Дабы раскопать вопрос о ритуальных убийствах «до корня», Николай поручил Министерству внутренних дел провести расследование, результатом чего явилась изданная через девять лет книга «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». Составленная директором Департамента иностранных исповеданий В. В. Скрипицыным, она позднее была приписана В. И. Далю (под названием «Записка о ритуальных убийствах»). В последние годы она широко переиздается в России под именем Даля, служа одним из самых «убедительных» инструментов нагнетания ненависти к евреям.[63]
Из книги Солженицына всего этого узнать нельзя. Велижское дело упоминается им лишь для того, чтобы оспорить «устойчиво утвердившееся» мнение «еврейской историографии», что политика Николая I по отношению к евреям «была исключительно жестокой и мрачной» (стр. 97). В доказательство того, что это не так, А. И. Солженицын сообщает: «пишет Еврейская энциклопедия, „несомненно, что оправдательным приговором… евреи были обязаны в значительной степени Государю, добивавшемуся правды, несмотря на противодействие со стороны лиц, которым он доверял“» (стр. 97).
Приведенная выписка еще раз показывает, насколько опрометчиво доверять вторичным источникам, не перепроверяя их по оригинальным материалам. Статья для Еврейской энциклопедии писалась в контексте очередной «ритуальной» вакханалии — в связи с предстоявшим процессом Бейлиса в Киеве. Автор статьи, говоря о Николае I, адресовался к Николаю II. В этом контексте подчеркивать заслуги истинного спасителя велижских евреев — графа Мордвинова — было неуместно; куда политичнее было приписать его заслуги тогдашнему императору — в назидание и пример нынешнему. Используя без критики эту цитату, Солженицын вообще не упоминает ни имени Мордвинова, ни единогласного решения Государственного Совета. Спасителем обвиняемых по Велижскому делу становится «энергичный» государь.
Подстать этому и все остальное, что пишет Солженицын о кровавом навете. Большинства ритуальных дел он вообще не касается, ограничиваясь перечислением некоторых из них в скобках, при том с очевидной целью — «патриотически» отмежевать от них православную Россию. Читаем: «Предыдущие [предшествовавшие делу Бейлиса] ритуальные процессы в России возникали чаще на католической почве: Гродно — 1816, Велиж — 1825, Вильна, дело Блондеса — 1900; кутаисское, 1878, было в Грузии; дубоссарское, 1903, - в Молдавии, а собственно в Великороссии — одно саратовское, 1856. Слиозберг, однако, не упускает указать, что и саратовское дело также имело католическое происхождение, а в деле Бейлиса: группа подозреваемых воров — поляки, экспертом по ритуальным обвинениям взят католик, и прокурор Чаплинский — тоже поляк» (стр. 446–447). (Следует ссылка на мемуары известного юриста и общественного деятеля Г. Б. Слиозберга, хотя в некоторых других местах Солженицын решительно оспаривает этого мемуариста, попрекая его не больше не меньше как старческим слабоумием). Вопрос о том, как обвинения целого народа в людоедстве влияли на русско-еврейские отношения, которым собственно посвящена книга, автора вообще не беспокоит.
Единственный ритуальный процесс, которому Солженицын все-таки уделяет внимание — это дело Бейлиса, но тут бросается в глаза его недостаточная осведомленность. Он ее и не скрывает: «Кто хотел бы теперь вникнуть подробно во все извивы следствия, общественной кампании и суда — должен был бы без преувеличения, потратить не один год. Это — за пределами нашей книги» (стр. 445).
Ну что ж, оставим за пределами то, что не входит в пределы; посмотрим на то, что в них входит.
Об убитом мальчике Андрее Ющинском Солженицын сообщает: «Убит зверским и необычным способом: ему было нанесено 47 колотых ран, притом с очевидным знанием анатомии — в мозговую вену, в шейные вены и артерии, в печень, в почки, легкие, в сердце, нанесены с видимой целью обескровить его живого» (стр. 445). Ран действительно насчитали 47, но все остальное очень далеко от истины. Как показали на суде медицинские эксперты самого высокого класса, убийцы плохо знали анатомию; большинство ран были нанесено после смерти мальчика; крови из ран вытекло мало, причем основная часть излилась во внутренние полости тела.
Солженицын сообщает, что тело убитого было найдено «в пещере, на территории [кирпичного] завода [еврея] Зайцева» (стр. 445), где служил Мендель Бейлис. Это неверно: никаких пещер на заводе не было, тело Андрюши было найдено вне территории завода, на Лукьяновке — в районе Киева, где евреи не имели права жительства.[64]
Объясняя, как и почему Бейлис был арестован «без убедительного подозрения», Солженицын с уничижением пишет о двух первых следователях по делу об убийстве Ющинского — Е. Ф. Мищуке и Н. А. Красовском. Это якобы были два «служебных и деловых ничтожества», они соперничали друг с другом, «проваливали действия» друг друга, «запугивали свидетелей, даже арестовывали агентов друг друга… вели „следствие“ как рядовое и отдаленно осмыслить не могли масштаба события, в которое ввязались» (стр. 446). А в результате «следствие почти два года кидалось по ложным версиям, долго обвинение висело над родственниками убитого, затем доказана их полная непричастность. Становилось все ясней, что прокуратура решится формально обвинить и судить Бейлиса» (стр. 446).
Итак, получается, что Бейлис был арестован по вине Мищука и Красовского, которые ввязались в непосильное для них дело и по своей профнепригодности направили следствие по ложному следу.
Истинная картина снова разительно отличается от той, что рисует Солженицын. И Мищук, и Красовский (особенно второй) были профессионалами высокого класса. Мищук вел гласное расследование убийства Ющинского, а Красовскому поручили негласное, что делало их соперниками, но не они сами поставили себя в такое положение. На первых порах, введенные в заблуждение некоторыми показаниями свидетелей, оба допустили одинаковые ошибки и привлекли в качестве обвиняемых мать и отчима Андрюши Ющинского. Но в обоих случаях эта версия быстро отпала, и они стали докапываться до истины, не поддаваясь политическому и идеологическому нажиму со стороны черносотенных организаций, правой прессы и своего собственного начальства, настаивавших на ритуальности этого убийства. Именно поэтому оба были отстранены от следствия.
«Красовский, потеряв пост, сменил позицию и стал помощником адвокатов Бейлиса», пишет Солженицын (стр. 446) и снова попадает впросак, ибо Красовский потерял пост как раз потому, что не хотел менять своей позиции. Уволенный, как якобы не справившийся с заданием, он не стал ничьим помощником, а, наняв себе двух помощников, повел на свои собственные средства частное расследование. Его цель была — восстановить свою профессиональную репутацию. Именно он — вместе с журналистом С. И. Бразуль-Брушковским и двумя бывшими студентами Сергеем Махалиным и Амзором Караевым — раскрыл убийство и изобличил истинных убийц: шайку воров во главе с Верой Чеберяк. Это удалось вопреки тому, что нанятые Красовским сыщики были перекуплены тайной полицией и делали все, чтобы запутать дело.
«Бейлиса обвинили, при сомнительных уликах, потому, что он был еврей», пишет Солженицын (стр. 446), тогда как на самом деле даже сомнительных улик против него фактически не было. Именно поэтому уголовная полиция — вопреки давлению со стороны прокурора Г. Г. Чаплинского и куда более высокопоставленных лиц, включая министра юстиции И. Г. Щегловитова, — не давала согласия на его арест. Брать Бейлиса явился с отрядом жандармов полковник Н. Н. Кулябко, начальник Охранного отделения. Вмешательство политической полиции обнаружило истинный характер дела об убийстве Ющинского как политической акции властей, решивших использовать это убийство для многократного усиления травли евреев.
Именно политическая полиция стряпала дело против Бейлиса, хотя она прекрасно знала истинных убийц Ющинского — от самой Веры Чеберяк, служившей по совместительству осведомительницей, и от ее сообщника Бориса Рудзинского. На допросе у жандармского подполковника Павла Иванова он сперва запирался, но на очной ставке с Верой Чеберяк признался во всем. Уличив Рудзинского, Вера одновременно дала ему понять, что опасаться им нечего, ибо охранка выясняла истину не для того, чтобы раскрыть убийство, а чтобы его поглубже закопать. Таким образом, в деле Бейлиса произошла редкая по цинизму смычка государственной власти, идеологов черной сотни и шайки уголовных преступников.
Таков ответ на риторический вопрос, задаваемый Солженицыным, но им самим оставленный без ответа: «Да как возможно было в XX веке, не имея фактически обоснованного обвинения, вздувать такой процесс в угрозу целому народу?» (стр. 446).
Невозможно не поразиться логике Солженицына. Он вроде бы не одобряет тех, кто затеял дело Бейлиса, но всячески старается их выгородить, для чего затуманивает ясную картину, топя ее в пучине тенденциозно подобранных ненужностей.
«В растянувшиеся месяцы расследования, — читаем в книге, — таинственно умерли оба сына Чеберяк (что не верно: у Чеберяк был один сын и две дочери, умерли сын Женя и дочь Валя. — С.Р.), она обвиняла в отравлении их Красовского, а Бразуль и Красовский — ее саму в отравлении своих сыновей. Версия их была, что убийство Ющинского совершено самой Чеберяк со специальной целью симулировать ритуальное убийство. (Опять неверно: версия частных расследователей состояла в том, что Чеберяк и ее компания убили Андрюшу, так как считали его доносчиком, завалившим их малину; а исколоть его тело „под евреев“ они решили уже после убийства, чтобы отвлечь от себя подозрение; этим и объяснялось большое число колотых ран, нанесенных уже после смерти мальчика. — С.Р.). А Чеберяк утверждала, что адвокат Марголин предлагал ей 40 тысяч рублей, чтобы она приняла убийство на себя, Марголин же отрицал это потом на суде, но понес административное наказание за некорректность поведения». (Стр. 448).
Последняя фраза требует более обширного комментария, нежели выше приведенные ремарки. Фактически она точна, но по форме крайне тенденциозна, ибо написана таким образом, чтобы придать возможно больше веса показаниям Чеберяк о якобы предложенных ей сорока тысячах, а к показаниям «некорректного» Марголина посеять максимальное недоверие. Но Вера Владимировна Чеберяк — матерая преступница, воровка и держательница воровского притона, шантажистка, уличенная в убийстве Андрюши Ющинского, и вероятная убийца двух своих собственных детей. А Лев Давыдович Марголин — один из самых видных и уважаемых киевских юристов. Да, он совершил некорректный поступок: будучи зарегистрирован как официальный защитник Менделя Бейлиса, он не имел права неофициально встречаться с потенциальными свидетелями по делу о его подзащитном, но он встретился с Верой Чеберяк, уступив просьбам Бразуль-Брушковского. Матерая преступница долго водила журналиста за нос, уверяя его, что сама она непричастна к убийству Андрюши, но намекая, что многое об этом деле ей известно. И вот после того, как она — в хорошо разыгранном порыве откровенности — «призналась» ему, что Андрюшу убили его мать и отчим при содействии ее бывшего любовника Поля Миффле, с которым она порвала отношения и была в лютой вражде, Бразуль упросил Марголина, как опытного юриста, прощупать Чеберяк и затем высказать свое мнение — можно ли верить этой болтунье, или нет. Когда о встрече Марголина с Чеберяк стало известно, Марголин — вполне справедливо — был дисквалифицирован как официальный защитник Бейлиса; на суде он выступал в роли свидетеля. Иначе говоря, упомянутое Солженицыным «административное наказание» Марголин понес как бывший защитник Бейлиса, а отнюдь не как свидетель. Стремясь опорочить его «некорректные» показания — в противоположность «корректным» показаниям матерой преступницы, Солженицын допускает явную передержку.
Настаивая на том, что истинные убийцы Ющинского так и остались невыявленными, Солженицын пишет: «На том [оправдании Бейлиса] и кончилось. Новых розысков преступников и не начинали, и странное, трагическое убийство мальчика осталось неразысканным и необъясненным». (стр. 450). Правда тут только в том, что нового расследования власти не проводили, и по вполне понятной причине. Самое последнее, что им было нужно, это признать и покарать убийц Ющинского, давно им известных. На процессе Бейлиса тайное стало явным. Все убийцы были названы: это Вера Чеберяк, ее брат Петр Сингаевский, Борис Рудзинский и Иван Латышев. Иван Латышев («Ванька Рыжий») покончил с собой еще до суда, а остальные трое проходили как свидетели, но фактически были обвиняемыми, многократно и бесспорно уличенными показаниями свидетелей. Все это, как и то, что прокурор, гражданские истцы и куда более высокие власти старались их выгородить, чем запятнали себя как соучастники преступления, запечатлено на десятках страниц трехтомной стенограммы процесса.[65] Солженицын этот основной документ игнорирует, что и позволяет ему делать вид, будто убийство осталось нераскрытым, а Вера Чеберяк у него оказывается такой же жертвой клеветы, как и Мендель Бейлис. В финале его повествования о деле Бейлиса Чеберяк приобретает уже и вовсе героические черты: арестованная Киевской ЧК, она подвергается издевательствам со стороны «всех евреев-чекистов» и гибнет от чекистской пули с высоко поднятой головой, не отрекясь от своих показаний (стр. 451). Итак, по Солженицыну, адвокат Марголин подвергся административному взысканию за попытку всучить взятку Чеберяк, а она не только отклонила взятку, но и получила еврейскую пулю в затылок за верность своим убеждениям!
После этого можно не удивляться, что знаменитый черносотенный ястреб В. М. Пуришкевич у Солженицына воркует по голубиному: «„Мы не обвиняем всего еврейства, мы мучительно хотим истины“ об этом загадочном, странном убийстве. „Существует ли среди еврейства секта, пропагандирующая совершение ритуальных убийств… Если есть такие изуверы, заклеймите этих изуверов“, а „мы боремся в России с целым рядом сект“ своих» (стр. 447).
Истинный смысл ссылок на воображаемые еврейские секты, покрываемые всеми остальными евреями, объяснил граф Мордвинов, а после него еще более четко и ясно — замечательный ученый-гебраист Д. А. Хвольсон.[66] Однако иные рецензенты, ослепленные громким именем Солженицына, с готовностью солидаризируются уже не с ним, а с самим Пуришкевичем — его «мучительным хотением истины».[67]
Солженицын осмотрительнее своих рецензентов. Он держится «средней линии»: «А с другой стороны поднялась и кампания либерально-радикальных кругов, и прессы, не только российской, но вот уже и всемирной. Уже создался неотклонный накал. Питаемый самой предвзятостью обвинения подсудимого, он не иссякал и каждый день клеймил уже и свидетелей» (стр. 447).
Что здесь разумеется? Не сразу и разберешь — кто кого «клеймил»?
Но ничего мудреного за этим пассажем нет. Каждая из сторон на суде пыталась подорвать доверие к свидетелям другой стороны, укрепляя доверие к своим, что само по себе нормально и естественно для состязательного процесса. Вопрос в том, кто были эти свидетели и какие средства пускались в ход для их выгораживания или компрометации.
Обвинители, обязанные найти и затем добиться осуждения преступников, из кожи вон лезли, чтобы выгородить истинных убийц Андрюши Ющинского, то есть Веру Чеберяк и ее сообщников. Они пытались скомпрометировать частных расследователей — Красовского и Бразуль-Брушковского, которые бескорыстно и честно выполнили их работу. Они же сделали все, чтобы не допустить к присутствию на суде ключевого свидетеля Амзора Караева (заблаговременно сосланного в Сибирь и там еще для верности арестованного по тайному приказу из Петербурга, чтобы не сбежал и не объявился в Киеве). Другой ключевой свидетель, Сергей Махалин, дал на суде убийственные показания о том, как брат Веры Чеберяк Петр Сингаевский посвятил его и Караева во все детали совершенного преступления. Но, чтобы посеять у присяжных сомнения в правдивости показаний Махалина, его пытались скомпрометировать мнимыми связями с охранкой. Через несколько лет, уже после революции, ему это стоило жизни.
Мендель Бейлис с семьёй
А защита, в противовес этим маневрам, опираясь на показания свидетелей, доказывала, что Чеберяк, Сингаевскому и Рудзинскому место на скамье подсудимых, что лжесвидетель Казимир Шаховской, фонарщик, показывавший, что он сам видел, нет, не видел, а слышал от мальчиков, нет не сам слышал от мальчиков, а жена его слышала, и т. д., что «еврей с черной бородой» тащил Андрюшу, — так вот этот свидетель не просыхает от пьянства, и мальчики, игравшие с Андрюшей незадолго до его исчезновения, этих сказок не подтверждают. (Путаные показания Шаховского и его жены — это практически все так называемые улики против Бейлиса, которые за два с половиной года сумело наскрести и намести по сусекам официальное следствие!)
Вот таким был «неотклонный накал» этого процесса, который Солженицын не стесняется прокомментировать словами В. В. Розанова из его пасквильной, откровенно расистской книжицы под названием «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови»: «Железная рука еврея… сегодня уже размахивается в Петербурге и бьет по щекам старых заслуженных профессоров, членов Государственной Думы, писателей» (стр. 447)
О чем и о ком тут идет речь, из солженицынского текста понять невозможно, но если обратиться к первоисточнику, то, несмотря на вычурность розановского стиля, все становится ясно. «Еврейская» рука, хлещущая по щекам, — это лучшая часть русской прессы (газета «Речь»), не дававшая спуска мракобесам и человеконенавистникам, затеявшим средневековое судилище. А отхлестанные профессора, члены Государственной думы, писатели — это в первую голову черносотенный профессор Киевского университета по кафедре психиатрии И. А. Сикорский, который был приглашен в суд (в противовес профессору В. М. Бехтереву) для научной психиатрической экспертизы, но вместо этого произнес зажигательную антисемитскую речь, за которую тайно получил четыре с половиной тысячи рублей из секретного фонда Департамента полиции; это черносотенный депутат Государственной Думы Г. Г. Замысловский, игравший на процессе роль одного из гражданских истцов (то есть представителей матери погибшего мальчика), но вместо того, чтобы добиваться привлечения к ответу реальных убийц, с большим темпераментом убеждал присяжных в реальности ритуального мифа и вины Бейлиса; это сам автор пасквильных сочинений — писатель и религиозный философ (отнюдь не католик!) В. В. Розанов, со страниц своей книги бесстыдно протянувший руку Вере Чеберяк[68] — вероятно потому, что порядочные люди перестали подавать руку ему самому.
Солженицын именно словами Розанова объясняет причину того, почему «сбивались последние попытки вести нормальное следствие» (стр. 447). Кто же делал эти попытки — отстраненные от дела следователи? Или охранка, давно все установившая, да намеренно скрывшая известную ей правду? Или высшая власть во главе с царем, мобилизовавшая все силы империи на сокрытие истины — вплоть до губернаторов отдаленных сибирских губерний, всего корпуса министерства внутренних дел вместе с министерством юстиции и даже — министерство иностранных дел с когортой ведущих дипломатов?
Не тем «сбивались попытки», что «железная рука еврея била по щекам» тех, кто этого вполне заслуживал, а тем, что «те самые люди, которые стояли за бесправие собственного [русского] народа, всего настойчивее будили в нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав, готовые подавить их самыми суровыми мерами, — они льстили народным предрассудкам, раздували суеверие и упорно звали к насилиям над иноплеменными соотечественниками».[69]
Так говорилось в обращении «К русскому обществу», составленном В. Г. Короленко и подписанном двумястами ведущих деятелей русской культуры. А после его публикации тысячи русских людей со всей страны слали письма в газеты с просьбой присоединить и их подписи! Таково было мнение России об истинной подоплеке процесса Бейлиса, когда он только затевался, — мнение, о котором Солженицын даже не упоминает. Сегодня, через 90 лет после процесса, когда вдоль и поперек изучены все подробности по открытым и закрытым архивным документам, в этой оценке нельзя ни прибавить, ни убавить ни одного слова. Перечитывая «Обращение», я испытываю гордость за русскую культуру, за Россию, чью честь тогда спасла русская интеллигенция.
Солженицын силится спасти честь другой России. Той самой, которая, проиграв процесс, пыталась возвести часовню в честь убиенного от жидов младенца Ющинского, да встретила такой отпор со стороны подлинной России, что царь — по совету Распутина — велел эту затею оставить (Стр. 450). Солженицын, конечно, не одобряет ритуальную оргию. Но его тревожит не столько то, что власть захотела опорочить целый народ и засудить невинного человека ради своих политических целей, сколько то, что эта попытка провалилась и позор пал на голову самой власти. «Еврейская страстность — этой обиды уже никогда русской монархии не простила. Что в суде восторжествовал неуклонный закон — не смягчило этой обиды». (Стр. 450)
И снова нельзя не изумиться логике Солженицына. Из того, что суд присяжных оправдал ни в чем не повинного Бейлиса, следует вовсе не то, что закон «восторжествовал», а то, что нарушители закона, жадно толпившиеся у трона и затеявшие этот постыдный спектакль, действовали не только против евреев, но и против русского народа. Его очередной раз пытались отравить ядом племенной ненависти, дабы потуже затянуть на нем ошейник. Но русский народ — в лице двенадцати присяжных заседателей — не принял чашу с отравой, а содержимое ее выплеснул в лицо самим отравителям. Им только и осталось утереться. Бесстыдной подлости и вероломства русскому деспотическому режиму не простила — не столько еврейская страстность, сколько русская совесть. Совесть, которую сегодня очень стараются усыпить новоявленные российские «патриоты», в последние годы снова ставшие толковать о Деле Бейлиса с позиций тех, кто его фабриковал.[70]
Грустно и достойно сожаления, что к их голосам присоединил свой голос и А. И. Солженицын.
Образование
Пожалуй, ни в одной сфере политика российских властей по отношению к евреям не сводилась с такой наглядностью к формуле «держать и не пущать», как в сфере образования. В течение нескольких поколений власти старались навязать еврейским массам российское образование, тогда как массы приобщаться к нему не желали. А как только они уразумели выгоды такого образования и ринулись в него, их стали ограничивать, отваживать, отгораживать железным занавесом процентных норм и всякими другими стеснениями.
Казалось бы, автору книги о русско-еврейских отношениях следовало разобраться в этом парадоксе, но в труде Солженицына ответов на неизбежно возникающие вопросы мы не находим.
Проекты приобщения евреев к общероссийскому образованию строил еще Державин, а наиболее активные попытки в этом направлении приходятся, естественно, на эпоху «энергичного» государя Николая I, о чем у Солженицына повествуется с большими подробностями. Зная, что все усилия оказались тщетными, автор сетует на то, что государь «превышающе представлял себе и всесилие российской императорской власти, и успешность военно-административных методов» (стр. 122). Что верно — то верно, по части военно-административной Николай Павлович сильно перебирал! Но зато намерения его Солженицын считает самыми возвышенными, ибо царь «настойчиво желал успехов в образовании евреев — для преодоления еврейской отчужденности от основного населения, в которой и видел главную опасность» (стр. 122, курсив мой — С.Р.).
Почему же эти стремления оказались тщетными? Да по той самой причине, которая просматривается в выделенной курсивом части солженицынской фразы! Царь вознамерился просвещать евреев не ради их просвещения как такового. Были бы у него такие стремления, он направил бы свою энергию на основное население, остававшееся почти поголовно безграмотным. Но об этом Николай Павлович нисколько не беспокоился. Даже его либеральный сын Александр II, при котором проводились смелые реформы, в том числе и в области образования, практически ничего не сделал, чтобы хотя бы самые элементарные школьные знания проникли в народную массу, а при Александре III министр народного просвещения граф И. И. Толстой особо озаботился о том, чтобы «кухаркиным» детям путь к знаниям был заказан. Правда, при том же царе, усилиями обер-прокурора Святейшего синода П. К. Победоносцева сельская Русь стала покрываться негустой сетью церковно-приходских школ. Подсчитано, что за годы царствования Александра III их число увеличилось в восемь раз, а число учащихся — в десять раз.[71] Но это было ничтожно мало для огромной страны; да и выучивались детишки в этих двухгодичных школах больше церковному пению, чем письму и счету. С. Ю. Витте констатировал:
«Главный недостаток России, по моему глубокому убеждению, заключается в отсутствии народного образования, — в таком отсутствии, какое не существует ни в одной стране, имеющей хоть какое-нибудь притязание быть цивилизованным государством. Нигде в цивилизованных странах нет такого количества безграмотных, как у нас в России. Можно сказать, что русский народ, если бы не был народом христианским и православным, был бы совершенно зверем; единственно, что отличает его от зверя — это те основы религии, которые переданы ему механически или внедрены в него посредством крови. Если бы этого не было, то русский народ при своей безграмотности и отсутствии всякого, самого элементарного образования[72] был бы совершенно диким. Поэтому, не касаясь вопроса о том, что лучше: светское образование народа, или же образование посредством духовенства, так как вопрос этот вообще при нынешнем положении дела и еще долго будет совершенно неуместным, я считаю, что всякое образование народа полезно, и всякий искренний человек, не преследующий каких-либо побочных политических идей, должен сочувствовать всякому образованию».[73]
С. Ю. Витте
При Николае Павловиче положение с образованием основной массы народа, было, конечно, еще хуже, тогда как у «отчужденных» евреев как раз образование было поставлено по тем временам очень даже недурно. Почти все дети мужского пола учились в хедерах (религиозных школах) по семь-восемь лет (с пяти до 12–13 лет) и многие потом продолжали учиться в ешивах. Конечно, в этих школах их не учили русской грамоте, географии и бальным танцам. Во многих хедерах процветали зубрежка, зуботычины и «ципилинки» (маленькие плетки, которыми непоседливых мальчиков били по рукам, а то и по головам), сами учителя — меламеды — часто были невежественны. В целом образование, которое получали еврейские дети, было довольно убогим, однобоким, поэтому в «еврейских источниках», которые цитирует и не цитирует Солженицын, можно найти массу сетований на косность и ретроградство заправил кагалов, противившихся реформированию еврейского образования, как и всего законсервированного уклада жизни. Эти сетования были справедливы постольку, поскольку проводилось сравнение с постановкой еврейского образования в западных странах, но отнюдь не в сравнении с образованием основной массы населения России. Ибо все-таки в хедерах еврейские дети выучивались писать и читать, знакомились с библейской историей и историей еврейского народа (а, значит, получали некоторое представление об истории и географии других народов), учились различать добро и зло, изучали Библию и Талмуд — этот кладезь народной мудрости, поэзии, философии, нравоучений; учились логически мыслить, рассуждать, строить умозаключения, выходили из школ преисполненными трепетного уважения к книге, к учености, издревле пользовавшихся в еврейской среде огромным престижем.
По общему уровню образования еврейские дети уступали своим сверстникам из высшего дворянства, посещавшим элитные школы, но намного превосходили детей из крестьян и других низших сословий, которые вообще не знали грамоты. Однако Николая Павловича не беспокоило дело народного образования, хотя, по аттестации Витте, этому должен сочувствовать «всякий искренний человек, не преследующий каких-нибудь побочных политических целей». Но в том-то и дело, что «энергичный» император преследовал побочные политические цели — потому и сфокусировал свои усилия на еврейском меньшинстве вместо русского большинства. Власти хотели, поясняет Солженицын, «действовать на нравственное образование нового поколения евреев учреждением еврейских училищ в духе, противном нынешнему талмудическому учению» (стр. 122, курсив мой — С.Р.). То есть цель состояла в том, чтобы с помощью школы ставить еврейских детей в антагонистические отношения к их родителям и вообще к еврейству.
Солженицын не видит в этом ничего ненормального, напротив, подчеркивает, что правительство в этом своем стремлении сходилось со «всеми тогдашними еврейскими прогрессистами». Но о том, что представляли собой эти прогрессисты, наглядно говорит приводимый им пример Макса Лилиенталя, выпускника Мюнхенского университета, который создал в Риге первую «еврейскую школу с общеобразовательной программой» (стр. 122).
Деятельность Макса Лилиенталя была бурной, но недолгой. Читаем у Солженицына: «Когда сама школьная реформа началась-таки, Лилиенталь отказался от своей миссии. В 1844 он внезапно уехал в Соединенные Штаты, и навсегда. „Его отъезд из России… — если не бегство — окутан тайной“». (Стр. 123; следует ссылка на труд еврейского историка Ю. Гессена.)
То, что было тайной для Гессена в начале XX века и остается тайной для Солженицына сегодня, давно уже не содержит в себе ничего загадочного. Архив Макса Лилиенталя изучен уже известным нам (но не Солженицыну) Майклом Станиславским. Из его книги, цитированной выше, можно узнать, что Лилиенталь был исполнен благих намерений, но не понимал ни обстоятельств российской жизни, ни истинных нужд, ни психологии той еврейской массы, которую он вознамерился облагодетельствовать. Молодой просветитель был воспитан на идеях известного германо-еврейского философа Моисея Мендельсона (1729–1786), зачинателя движения «гаскалы» (просвещения); это движение Лилиенталь и вознамерился пересадить на совершенно не подготовленную для него российскую почву.
Моисей Мендельсон
В основе идей Моисея Мендельсона лежали представления о том, что евреев третировали в значительной мере из-за той «обособленности», какою их постоянно корили. Мендельсон призывал своих единоверцев не давать повода к таким упрекам. Чтобы сохранять веру отцов, не обязательно отличаться от остального населения своими обычаями, образом жизни, языком, одеждой. Евреям следует активно приобщаться к господствующей культуре, становиться «немцами иудейского исповедания», каким стал сам Мендельсон. В этом он видел путь к искоренению предрассудков и предубеждений против евреев.[74]
В Германии, а затем и в других странах Европы движение гаскалы охватило широкие слои еврейского населения. Уже во втором поколении многие евреи зашли так далеко по пути ассимиляции, что сам Моисей Мендельсон ужаснулся бы, если бы дожил до того времени, когда его внук, композитор Феликс Мендельсон, порвал не только с еврейскими обычаями, но и с самой иудейской верой.[75] Причем Феликс Мендельсон не составлял исключения: выкрестами становились многие евреи его поколения, в их числе такие выдающиеся личности, как Карл Маркс, Генрих Гейне и многие другие.
Но насколько подходящей была почва для гаскалы в Германии, Франции, Англии и других странах, настолько она была неподходящей в России, где оторванное от Запада еврейство прозябало в нищете и бесправии и давно уже не развивалось духовно. Все усилия религиозных лидеров были направлены на сохранение стародавних обычаев и устоев, а отнюдь не на их критическое переосмысление и развитие. Малейшие поползновения в этом направлении воспринимались как страшная ересь. Против «еретиков» велась отчаянная борьба, причем, если лидеры кагалов и наиболее авторитетные раввины не могли их одолеть такими грозными мерами, как публичное проклятье и отлучение от религиозной общины (херем), то в ход пускались доносы царским властям.
Почти единственной общиной, более или менее терпимо относившейся к новшествам, была рижская: как сам город Рига, так и рижские евреи, исторически были связаны с Германией, и идеи гаскалы им не были чужды. Поэтому когда приехавший из Мюнхена Макс Лилиенталь решил устроить в Риге нерелигиозную еврейскую школу, то он нашел понимание и поддержку. Окрыленный первым успехом, Лилиенталь отправился в Вильно, один из основных центров еврейской жизни Восточной Европы, но здесь он услышал твердое «нет». Еще более решительный отпор он получил в Минске.
Майкл Станиславский приводит ироничное описание встречи минской общины с Лилиенталем, оставленное каким-то шутником.
«Большая толпа заполнила зал и вылилась в прилегающий двор: старые и молодые, ремесленники, учителя, даже слепые и хромые. Скоро они стали высказываться об этом безбожнике, который явился забрать их сыновей в нечестивые школы и отвадить от веры. Портной сказал: ему надо выколоть глаза иглой; сапожник предложил проколоть его уши шилом; мясник — связать его как овцу, приготовленную к закланию; слесарь: замкнуть его уста на замок, чтобы он не мог их открыть; а учителя — передовой отряд бойцов — восклицали: Держитесь, братья! Держитесь ради нашего народа и наших детей! Укрепим обычаи наших отцов! Не хотим иметь ничего общего с Лилиенталем и его последователями. Толпа скандировала: не хо-тим, не хо-тим!».[76]
Впрочем, сам Лилиенталь, сообщая о неудачах своему наставнику Людвигу Филиппсону, указывал, что против его проекта были выдвинуты «серьезные и трезвые аргументы: пока евреи лишены гражданских прав, светское образование может принести им только несчастья, так как у молодежи разовьются потребности, которые в условиях бесправия невозможно будет удовлетворить».[77]
Убедившись, что своими силами ему с поставленной задачей не справиться, Лилиенталь решил искать покровительства у властей. Он поехал в Петербург и сразу попал в теплые объятия министра просвещения графа С. С. Уварова.
Граф С. С. Уваров
Граф Уваров, по отзывам современников, был человеком даровитым, блестяще образованным и придерживался либеральных взглядов, но по характеру он был лакеем. Перед своим «барином», Николаем I, он благоговел, постоянно ему льстил и угодничал. Зная взгляды государя, «он внушил ему мысль, что он, Николай, — творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, самодержавие — будучи либералом, народность — не прочитав за свою жизнь ни одной русской книги».[78] Понятно, с каким энтузиазмом Уваров бросился осуществлять мысль «энергичного» государя о приобщении евреев к светскому образованию. Он разрабатывал далеко идущие планы по учреждению светских еврейских школ, подготовке для них учителей, составлению программ обучения. Проектов было хоть отбавляй, но с какого конца приступить к их осуществлению, министр не имел ни малейшего понятия. Тут-то и подвернулся ему просвещенный и полный энтузиазма мюнхенец.
Граф Уваров присвоил Лилиенталю официальный чин, наделил широчайшими полномочиями и снабдил грозными бумагами, в которых местным властям предписывалось оказывать подателю всяческое содействие и обеспечивать полицейскую защиту на случай нежелательных эксцессов. Лилиенталь отправился в объезд еврейских общин черты оседлости, не подозревая, что именно официальный статус и сопровождающие жандармы обрекают его миссию на окончательный провал.
Если раньше в еврейских общинах к нему относились как к несущему околесицу собрату-еврею, то есть с ним спорили, горячились, иногда даже грозили рукоприкладством, но все-таки принимали за своего, то теперь он стал посланцем «начальства», от которого ничего, кроме неприятностей исходить не могло. Спорить с ним, возражать ему стало опасно. С ним соглашались, кивали головами, поддакивали, но только для того, чтобы, выпроводив с почетом, молить Бога, чтобы он никогда больше не появлялся со своими бесовскими проектами. Оказавшись совершенно чужим среди евреев, а потому ненужным и правительству, убедившись в бесплодности своих усилий и глубоко разочарованный, Лилиенталь, наконец, осознал, что ничего путного из его затеи выйти не может. Этим и объяснялось его «бегство» в Америку.
В намерении правительства насаждать светское образование среди евреев просматривалась оборотная сторона той же рекрутчины. Российская власть и значительная часть общества усвоили предрассудки и предубеждения предшествовавших поколений (вспомним Державина). Они были убеждены во вредоносности евреев, а причину этой вредоносности видели в их религии. То была нетерпимость, унаследованная от предыдущих поколений и восходящая к фанатизму христианской церкви раннего средневековья. По инерции она продолжала культивироваться, не подвергаясь критике или пересмотру.
Не имея ни малейшего представления об иудаизме, власти, тем не менее, не сомневались в том, что религия воспитывает в евреях враждебность к христианскому миру; что она внушает им отвращение к производительному труду; позволяет и даже поощряет любые аморальные действия по отношению к христианам; что основные заповеди иудаизма, известные из Библии, — не убий, не укради, не лжесвидетельствуй и т. д. — обязательны для евреев якобы лишь в отношениях между собой; что будто бы в Талмуде (которого никто, конечно, не знал) имеются секретные предписания, гласящие, что неевреев можно и даже богоугодно и убивать, и обкрадывать, и эксплуатировать, выцеживать кровь из христианских младенцев, лишь бы — не попадаться.
Предубежденному юдофобскому сознанию еврейство представлялось чем-то вроде сплоченной мафии или секретной организации, спаянной общей враждой ко всему остальному миру. Свою собственную иррациональную вражду к евреям юдофобы «рационализировали», приписывая свои постыдные чувства тем, кого они ненавидели. В России такие представления о евреях были характерны не только для отдельных групп населения, но они лежали в основе государственной политики. Потому и для «перевоспитания» евреев государство видело только одну возможность: вырвать подрастающее поколение из-под влияния старшего, побудить его к переходу в христианство или хотя бы максимально ослабить на него влияние «религиозного фанатизма» еврейской среды. Если забривание в солдаты детей было одним из средств достижения этой цели, то светское образование мыслилось как другое такое средство.
Однако до того, чтобы насильственно загонять еврейских детей в светские школы (как их сгоняли в школы кантонистов), правительство не дошло — на это не хватило «энергичности» даже у Николая Павловича. А добровольно еврейские массы на это не соглашались. Как констатирует Солженицын, «если к 1855 только в „зарегистрированных“[79] хедерах училось 70 тысяч еврейских детей — то в казенных училищах обоих разрядов всего 3 тысячи 200» (стр. 124). Это через одиннадцать лет после «бегства» Лилиенталя.
Бесплодные усилия были прекращены с воцарением Александра II, и именно к этому времени относится перелом в отношении к светскому образованию в еврейской среде. Поучительный урок: как только «начальство» перестало толкать евреев в светские школы, так они сами стали тянуться в эти школы. В чем тут дело? А в том, что в воздухе повеяло свежим ветром. Либеральные реформы, начатые молодым царем, коснулись и еврейского бесправия. Хотя до уравнения в правах не дошло, но появились более широкие возможности в разных областях жизни и профессиональной деятельности. И тотчас же началось приобщение евреев к светскому образованию. Особых еврейских школ для этого вообще не понадобилось: еврейские дети стали охотно — и во все большем числе — поступать в обычные гимназии, а по окончании — в университеты. Тут и «власть кагала», которой российские юдофобы еще не одно десятилетие будут пугать слабонервных,[80] тоже оказалась совершенно бессильной. Н. С. Лесков писал об этом так:
«Как только при императоре Александре II было дозволено евреям получать не одно медицинское образование в высших школах, а поступать и на другие факультеты университетов и в высшие специальные заведения, — все евреи среднего достатка повели детей в русские гимназии. По выражению еврейских недоброжелателей, евреи даже „переполнили русские школы“. Никакие примеры и капризы других на евреев не действовали: не только в чисто русских городах, но и в Риге, и в Варшаве, и в Калише евреи без малейших колебаний пошли учиться по-русски и, мало того, получали по русскому языку наивысшие отметки… Евреи проходили факультеты юридический, математический и историко-филологический, и везде они оказывали успехи, иногда весьма выдающиеся. До сих пор можно видеть несколько евреев на государственной службе в высших учреждениях[81] и достаточное число очень способных адвокатов и учителей. Никто из них себя и своего племени ничем из ряда вон унизительным не обесславил. Напротив, в числе судимых или достойных суда за хищение, составляющее, по выражению Св. Синода, болезнь нашего века, не находится ни одного служащего еврея. Есть у нас евреи и профессора, из коих иные крестились в христианство в довольно позднем возрасте, но всем своим духом и симпатиями принадлежавшие родному им и воспитавшему их еврейству,[82] и эти тоже стоят нравственно не ниже людей христианской культуры».[83]
Н. С. Лесков. Портрет Серова
Напомню, что Солженицыну работа Лескова известна, но он игнорирует его авторитетное свидетельство. Поворот евреев к светскому образованию он рассматривает в контексте их… «уклонения» от воинской повинности, о которой речь шла выше. Переломным он называет 1874 год, когда появление нового «воинского устава и образовательных льгот от него» (стр. 181) якобы и заставило евреев ринуться в университеты. Как будто в них можно было поступить, не пройдя гимназического курса! Если и стало заметно повышаться число евреев-студентов с середины 1870-х годов, то это могло произойти только потому, что в средние школы они стали поступать десятилетием (на самом деле двумя десятилетиями) раньше. Впрочем, сам Солженицын, противореча себе, приводит немало примеров, указывающих на активное приобщение евреев к русскому образованию и вообще к русской культуре с самого начала царствования Александра II, на что и указывал Лесков.
Горькая ирония состояла в том, что чем больше евреев приобщалось к русской культуре, к светскому образованию, чем активнее стали они принимать участие в общественной жизни России, то есть чем меньшей становилась еврейская «замкнутость» и «изолированность», чего, казалось бы, так жаждали российские власти, тем чаще всему этому они стали чинить препятствия! «Опасность», ранее якобы исходившая от еврейской изолированности, стала превращаться в «опасность», якобы вызванную еврейской приобщенностью. И уже в 1875 году, констатирует Солженицын со ссылкой на Еврейскую Энциклопедию, «министерство народного просвещения указало правительству на „невозможность поместить всех евреев, стремящихся в общие учебные заведения, без стеснения христианского населения“» (стр. 181).
В документе, который Солженицын приводит без всякой критики, содержалась прямая неправда. В российских вузах того времени, особенно провинциальных, были постоянные недоборы. Кроме того, в вузах были большие отсевы, так как не все студенты стремились окончить курс и получить диплом. Существовала особая категория «вечных студентов», которые околачивались в университетах без дела по десять, двенадцать и более лет, не торопясь сдавать экзамены и переходить с курса на курс.[84] Так что поступление и обучение в университетах большего числа евреев ни в коем мере не препятствовало получению высшего образования христианами. Но если бы число желающих учиться действительно превышало возможности университетов, то разве российским властям была незнакома конкурсная система, позволяющая отбирать лучших и тем поддерживать высокие стандарты образования?[85]
Но не тем путем пошла Россия. Она стала бороться с «переполнением русской школы евреями» с помощью процентных норм, окончательно узаконенных в 1887 году в так называемых Временных правилах, которые остались постоянными до самой революции. Более дикую, более откровенную и циничную дискриминацию трудно себе представить. Не случайно правительство постеснялось опубликовать эти меры, объясняя тем, что якобы «опубликование общих ограничительных для евреев постановлений могло бы быть неправильно истолковано» (стр. 271). Приводя это высказывание — снова без всякой критики, — Солженицын, видимо, не замечает, сколько в нем лицемерия. Правительство боялось правильного истолкования своих постановлений, потому и пыталось их скрыть!
Солженицын понимает, что «динамичной, несомненно талантливой к учению еврейской молодежи — этот внезапно возникший барьер был более чем досадителен, — он вызывал озлобление грубостью примененной административной силы» (стр. 273). Но отношение самого Солженицына к этой силе если не вполне одобрительное, то снова сочувственное. Оказывается, «на взгляд „коренного населения“ — в процентной норме не было преступления против принципа равноправия — даже наоборот», и «процентная норма была несомненно обоснована ограждением интересов и русских и национальных меньшинств (! — С.Р.), а не стремлением к порабощению евреев» (стр. 273). А чтобы совсем «успокоить» читателей, автор посвящает несколько страниц рассуждениям о том, что «реально — осуществление процентной нормы в России имело много исключений» (стр. 274). Не так-де была страшна эта процентная норма, как ее малюют! Вот, например, в Одессе, «где евреи составляли треть населения, в 1894 году в наиболее престижной ришельевской гимназии состояло 14 % евреев, во 2-й гимназии — больше 20 %, в 3-ей — 37 %, во всех женских гимназиях — 40 %, в коммерческом училище — 72 %, в университете — 19 %» (стр. 275).
Перепроверять и анализировать эти и подобные цифры неинтересно, ибо они говорят о прямо противоположном тому, что видит в них Солженицын. Меры властей по ограничению доступа евреев к образованию в конце XIX — начале XX веков были столь же нелепы и неэффективны, как и меры по насаждению такого образования в начале XIX века. Те и другие были вызваны одними и теми же предрассудками и наносили колоссальный вред не столько евреям, сколько самой России: ее культуре, экономике и больше всего — нравственному здоровью общества. Ну а евреи, — те из них, кто всерьез хотел учиться, в конце концов своего добивались: либо преодолевали барьер процентной нормы, либо поступали в заграничные университеты, либо занимались приватно и сдавали экзамены экстерном, а некоторое — не самые нравственно чистоплотные — шли на то, чтобы смыть с себя клеймо еврейства в церковной купели.
Погромы
Погром. Страшное слово — одно из первых, каким русский язык обогатил другие ведущие языки мира. Погром — это не только ломы и колья, разбитые дома и разграбленные магазины, вспоротые перины и животы беременных женщин, проломленные черепа и горящие синагоги, разодранные и втоптанные в грязь священные свитки. Погром — это вопли страха и отчаяния, тонущие в глумлении и хохоте пьяного разгула. Погром — это пиршество вседозволенности, циничное и наглое торжество грубой силы, попрание всех табу, какие наложили на человечество тысячелетия развития культуры и цивилизации. Это возврат к пещерности, к косматости и клыкастости внезапно проснувшихся атавизмов, отбрасывающих обывателей к животному состоянию недочеловеков. Жертвы погрома — не только те, кого громят, но и еще в большей мере те, кто громит, ибо первые теряют имущество, близких, иногда жизнь, а вторые теряют человеческий облик.
В книге Солженицына десятки страниц посвящены погромам, но в ней не найти и намека на то устрашающее, леденящее кровь явление, определением которому служит это короткое, оглушительное слово. Нет в ней и попытки понять, как погромы влияли на русско-еврейские отношения в царской России, хотя именно этим отношениям, по замыслу автора, посвящено его произведение. За приводимыми им цифрами, выписками, за его собственными рассуждениями и полемическими выпадами не ощущается того ужаса и позора, той роковой грани между жизнью и смертью, того пробуждения зверя, изгоняющего человека из его телесной оболочки, которые ассоциируются со словом погром.[86]
Организовывала ли царская власть еврейские погромы, или они возникали стихийно — вопреки желанию власти? Это единственный вопрос, который интересует Солженицына. Впрочем, и на этот вопрос он не ищет ответа, так как знает его заранее. Он убежден, что власть погромов никогда и ни при каких обстоятельствах не организовывала, а все, кто утверждал иное, злостно клеветали на безвинное русское самодержавие, пользуясь тем, что «Россия — в публичности рубежа веков — была неопытна; неспособна внятно оправдываться; не знали еще и приемов таких» (стр. 332).
Александр Исаевич приемы знает и оправдывает царское самодержавие довольно-таки искусно. Для тех, кто не знаком с первоисточниками, его доводы и суждения звучат основательно.
Говоря о погромах начала 1880-х годов, Солженицын сообщает: «Известный еврей-современник писал: в погромах 80-х годов „грабили несчастных евреев, их били, но не убивали“. Тогда, в 80-90-е годы, никто не упоминал массовых убийств и изнасилований. Однако прошло более полувека — и многие публицисты, не имеющие нужды слишком копаться в давних российских фактах, зато имеющие обширную доверчивую аудиторию, стали писать уже о массовых убийствах и изнасилованиях» (стр. 191). И дальше — несколько абзацев о том, как те или иные авторы преувеличивали масштаб зверств в этих погромах. Особенно разителен, согласно Солженицыну, пример погрома в Балте в 1882 году, где, по данным дореволюционной Еврейской энциклопедии, был убит один человек, тогда как более поздние, в том числе современные авторы, не располагая никакими новыми материалами, пишут о том, что в Балте было убито и тяжело ранено 40 человек, а легко ранено — 170. Такие же преувеличения Солженицын находит в описаниях Киевского погрома, где поначалу не было зафиксировано случаев изнасилования, а теперь пишут, будто было изнасиловано около 20 женщин. «Погромы — слишком дикая и страшная форма расправы, чтобы еще манипулировать цифрами жертв» (стр. 192).
Кто же манипулирует? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо знать первоисточники. К счастью, есть люди, которые их знают. В статье Леонида Кациса «Еврейская энциклопедия — орган антисемитской мысли?!»[87] о погроме в Балте можно прочитать следующее:
«Материалы, конечно, есть. Старые, то есть новоопубликованные. В результате погрома [в Балте] „…211 человек было ранено, в т. ч. 39 тяжело; 12 человек было убито и умерло от последствий погрома; отмечено более 20 случаев изнасилований. Началось следствие. Более 50 человек было арестовано… Они были осуждены на различные сроки, причем двое были приговорены к смертной казни через повешение и трое — к каторжным работам на 15 лет“ (А. Зельцер. Погром в Балте. В[естник] Е[врейского] У[ниверситета]. М., 1996. с. 45). Автор статьи, — продолжает рецензент, — ссылается на современную еврейскую прессу „Недельные хроники Восхода“ и „Русский еврей“ за 1882 г. Однако куда интереснее, что проблема изнасилований обсуждается в письме начальника подольского губернского жандармского управления в Департамент государственной полиции (опубликовано в статье Зельцера): „Возбуждено дел за изнасилование всего пять (…), что касается до изнасилования матери с дочерью, то дело разъяснилось следующим образом: в то время как один из толпы насиловал дочь, то на крики ее и ее матери явился пьяный городовой, который посягал, стоя, изнасиловать мать, но будучи пьян, не был в состоянии этого сделать“. Это ответ на запрос [министра внутренних дел] графа Игнатьева и [начальника Департамента полиции] Плеве! — продолжает Л. Кацис. — Написано 7 мая 1882 г., получено в Департаменте государственной полиции 19 мая 1882 г. Так что нет никаких оснований обвинять авторов 1882-1923-1944-1986 гг. Ошибся один только автор микроскопической статьи „Балта“ — единственный раз в издании 1909 года».[88]
Картина впечатляющая. Под улюлюканье озверевшей толпы подонок насилует беззащитную девушку. Со стенаниями и воплями к ней на помощь бросается мать, пытается оторвать насильника от жертвы, а являющийся на шум осоловелый полицейский (нализавшийся, видимо, при разграблении винной лавки, которую он обязан был защищать от погромщиков), вместо того, чтобы пресечь отвратительную сцену, отправить насильника в кутузку, а его жертву — в больницу для оказания ей медицинской помощи, пытается надругаться над матерью терзаемой девушки, и только из-за опьянения терпит фиаско…
Солженицын этих подробностей не знает, они ему неинтересны. Он озабочен одним: защитить напрасно обижаемую власть (то есть того же осоловевшего городового). Для этого он снова берет в союзники часто его выручающего еврейского историки Ю. Гессена, у которого находит, что «возникновение в короткий срок на огромной территории множества погромных дружин и самое свойство выступлений устраняют мысль о наличии единого организационного центра». (Стр., 190). Однако Гессен здесь говорит вовсе не то, что видится Солженицыну, ибо отсутствие единого центра не означает, что не могло быть многих центров.
Факт состоит в том, что были погромные дружины, что они организованно передвигались — преимущественно по железным дорогам, а потому погром обычно начинался именно от вокзала, после чего к приезжим примыкала и местная шпана. Полиция в большинстве мест не пресекала погромных акций, а направляла их и порой сама в них участвовала. Только когда размах бесчинств принимал угрожающий для власти масштаб, полиция получала указание усмирить погромщиков и арестовывала тех, которые не унимались. Да, в этом бесшабашном разгуле было немало и самодеятельности; и когда на местах перегибали палку, царь Александр III хмурился.
В. К. Плеве
Читаем у Солженицына: «Официальное заявление гласило, что в Киевском погроме „меры к обузданию толпы не были приняты достаточно своевременно и энергично“. В июне 1881 года директор департамента полиции В. К. Плеве в докладе Государю о положении в Киевской губернии назвал „одной из причин „развития беспорядков и не вполне быстрого их подавления““ — то, что военный суд „отнесся к обвиняемым крайне снисходительно, а к делу — весьма поверхностно“. Александр III сделал на докладе пометку „это недопустительно“. Но и по горячим следам и позже не обошлось без обвинений, что погромы были подстроены самим правительством». (Стр. 189).
Но ведь «обвинения [без которых] не обошлось», как раз и подтверждаются тем самым документом, которым Солженицын хочет их опровергнуть! Нисколько не убедительна попытка Плеве переложить ответственность со своего ведомства (полиции) на чужое (военные суды). Суд ведь вершится уже после совершения преступления; для недопущения или быстрого подавления бесчинств толпы существует полиция. Снисходительность судов к погромщикам свидетельствует лишь о том, насколько общественная атмосфера, насыщенная смрадом племенной ненависти, предрасполагала к погромам. А напрямую попустительствовала им и поощряла их полиция под руководством Плеве, причем его карьере это нисколько не повредило. Стало быть, государь, хоть и писал резолюции «недопустительно», но на тех, кто «допустительствовал», не шибко гневался.
Солженицын убежден, что приписываемые Александру III слова: «А я, признаться, сам рад, когда бьют евреев», — это «ядовитая клевета» (стр. 189). Были сказаны царем эти слова, или кем-то ему приписаны, сказать трудно, но то, что государь был злобным антисемитом, хорошо известно. Напомню эпизод из «Воспоминаний» С. Ю. Витте, ярко характеризующий юдофобство государя императора.
Насколько Витте презирал Николая II, настолько он превозносил его отца, чья ограниченность и недостаточная образованность, по его мнению, искупались твердостью и прямотой характера, умением выслушивать не всегда приятную правду, не отпираться от данного слова и не перекладывать на других ответственность за одобренные им решения и действия. Тем более выразителен рассказ Витте о его первой встрече с императором лицом к лицу, когда он, будучи начальником эксплуатации Юго-Западных железных дорог, воспротивился тому, чтобы тяжелый царский поезд гнали с курьерской скоростью. Он представил в Министерство путей сообщения расчеты, показывавшие, что при тогдашнем состоянии железнодорожных путей слишком быстрой ездой можно «угробить государя». Дозволяемая скорость была уменьшена, но государю это не понравилось, и он сердито сказал Витте: «Я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость, а на вашей дороге нельзя ехать просто потому, что она жидовская».[89]
Юго-Западные железные дороги принадлежали акционерному обществу, но председателем правления был И. С. Блиох — еврей, правда, давно принявший христианство, так что по российским законам и он не был евреем. Но государю его собственные законы были не указ; он твердо верил, что только строптивые «жиды» не позволяют русскому царю наслаждаться быстрой ездой.[90] Так что стремление Солженицына оспорить юдофобство Александра III не убедительно.
Нельзя не удивляться двойной бухгалтерии солженицынского повествования. Например, в иных случаях можно подумать, что Еврейская энциклопедия служит для него высшим авторитетом, но когда в той же энциклопедии он находит фразу: «Власти действовали в тесном контакте с приехавшими [погромщиками]», — он решительно протестует (стр. 189). Крайне недоволен он мнением Льва Толстого, которому-де «в Ясной Поляне было „очевидно“: все дело у властей в руках. „Захотят — накликают погром, не захотят — и погрома не будет“» (стр. 190), а вот мнение Глеба Успенского его вполне устраивает: «Евреи были избиты именно потому, что наживались чужою нуждой, чужим трудом, а не вырабатывая хлеб своими руками»; «под палками и кнутами … ведь вот все вытерпел народ — и татарщину, и неметчину, а стал его жид донимать рублем — не вытерпел!» (стр. 193).[91]
Ну а как насчет свидетельства такого осведомленного человека, как С. Ю. Витте: «Еврейский вопрос сопровождался погромами. Они были особенно сильны при графе Игнатьеве. Граф […] [И. И.] Толстой, вступивший вместо Игнатьева, сразу их прекратил».[92]
Поскольку это и подобные свидетельства в книге Солженицына не приводятся, то и выходит у него, что в погромах 1880-х годов были повинны сами евреи, донимавшие народ рублем хуже, чем в прежние времена татары огнем и мечом!
Синагога в местечке Демиевка после погрома
А еще, по Солженицыну, «общее возбужденное состояние населения обязано пропагандистам» (стр. 193), причем имеются в виду прокламации революционеров, которые пытались делать ставку на то, что погром евреев перерастет в бунт против власти. Такая пропаганда действительно велась. Кое-где разбрасывались погромные прокламации «Народной воли», «объяснявшие» народу, что евреям-де покровительствуют власти, якобы помогающие им «эксплуатировать» народ. В том, что такие прокламации были, удивляться не приходится; достаточно вспомнить, что и Маркс с Энгельсом, и их главный соперник в руководстве рабочим движением Михаил Бакунин, и многие другие виднейшие идеологи революции на Западе и в России с ненавистью относились к евреям. Маркс, Энгельс и другие «вожди пролетариата» видели в евреях олицетворение ненавистной им «буржуазности», другие юдофобствовали на бытовом уровне, а в иных (особенно в Марксе) идеологический и бытовой антисемитизм совмещались, усиливая друг друга. Неудивительно, что подобные настроения не были чужды части русской революционной молодежи, находившейся под идейным влиянием западных социалистов и, конечно, Бакунина. Однако в период погромов 1880-х годов антисемитские прокламации революционных организаций не могли иметь сколько-нибудь широкого хождения, потому что организации эти были разгромлены, от них тогда мало что оставалось. Если эти прокламации представляют интерес, то для понимания идеологии «Народной воли», а не для истории самих еврейских погромов. Для этой истории куда большее значение имела ничем не ограниченная пропаганда в официозной печати, переполненной злостными антисемитскими инсинуациями. О том, как эта печать в ту эпоху отравляла умы и сердца россиян, можно судить хотя бы по печально знаменитой статье Ф. М. Достоевского «Еврейский вопрос» (1877), в которой великий писатель с полным доверием цитировал целый ряд таких публикаций.[93] Можно представить себе, как они действовали на более примитивных читателей, а через них — и на безграмотную массу. Но эту пропаганду Солженицын не примечает. Она — не в счет.
Итак, все кругом виноваты — и сами жертвы погрома; и не выдержавшие гнета рублем погромщики, которые «были вполне убеждены в законности своих действий, твердо веруя в существование Царского указа, разрешающего и даже предписывающего истребление еврейского имущества» (стр. 195); и народовольцы в купе с чернопередельцами; но только не власти, которые были обязаны не допускать погромов или подавлять их в зародыше, а в случае неподавления — выявлять и карать виновных в попустительстве.
Все, что сделало правительство по следам погромов, — это «вновь усилило ограничительные меры против евреев» (стр. 199). «Эту обиду [евреев] нужно отметить и понять, — сочувствует пострадавшим Солженицын, — однако тут же спешит добавить. — Но и в позиции правительства следует разобраться объемно» (стр. 199). Как он понимает эту объемность, мы уже показали.
Еще менее адекватно Солженицын освещает Кишиневский погром 1903 года. Он опирается на «единственный документ, основанный на тщательном расследовании и по прямым следам событий, — Обвинительный акт, составленный прокурором местного суда В. Н. Горемыкиным, „который не привлек к делу ни одного еврея в качестве обвиняемого, что вызвало резкие выпады против него в реакционной печати“» (стр. 321).
Закавыченные автором слова из Еврейской энциклопедии призваны показать, что Обвинительный акт В. Н. Горемыкина был вполне нейтральным или даже проеврейским документом. Между тем, Солженицыну должно быть известно, насколько необъективно велось следствие, которое легло в основу этого Акта, как запугивали свидетелей, как делались откровенные подчистки и искажения при записи показаний тех, кого не удавалось запугать. Об этом писал в своих дневниках В. Г. Короленко, чью объективность Солженицын вроде бы не оспаривает. Об этом адвокаты подавали официальные прошения в судебные органы и тому же прокурору Горемыкину, но без результата. Что касается истинных симпатий и антипатий прокурора, то они видны хотя бы из его — не приводимого Солженицыным — «Секретного представления» в Министерство юстиции от 1 августа 1903 года «о деятельности приехавших в Кишинев адвокатов, подготавливающих материалы для защиты интересов потерпевших во время погрома евреев на предстоящем судебном процессе».[94]
Казалось бы, прокурора, готовящего обвинительное заключение против погромщиков, должно радовать, что ему подвалила такая мощная подмога в лице адвокатов потерпевших: его задача — вскрыть все пружины погрома, найти виновников и добиться их примерного наказания, а цель адвокатов — такая же! Почему же не объединить усилия? Но Горемыкин воспринимает адвокатов как противников. Он пытается дискредитировать их, приписывая им корыстные и вообще самые гнусные побуждения. Конечно, изобличает он этим только себя самого.
Так, «крамолу» адвокатов Горемыкин усматривал в том, что они, по-видимому, намерены «ходатайствовать о возбуждении по сему делу уголовного преследования против губернатора и др[угих] лиц администрации».[95] Не говорит ли это о том, что сам прокурор готов лечь костьми, но разбирательства действий власти (те есть самого главного!) не допустить?
Он также уличал адвокатов в том, что они хотят «обратить внимание правительства вообще на еврейский вопрос и положение евреев», что опять же обнаруживает его собственное стремление не допустить постановки общего вопроса о еврейском бесправии. Но особенно Горемыкин нервничал по поводу того, что адвокаты «усиленно, но бесплодно (? — С.Р.) стараются доказать существование будто бы „организации“ погрома».[96] Сам Горемыкин весьма плодно организацию погрома скрывал. Потому и сказано в его Акте, что «предварительным следствием не добыто данных, которые указывали бы, что упомянутые беспорядки были заранее подготовлены» (стр. 327). Между тем, данных таких было предостаточно. Даже к самому Горемыкину поступило, как минимум, одно заявление от человека, завербованного начальником Охранного отделения Кишинева бароном Левендалем и участвовавшего под его руководством в организации погрома, но прокурор отказался расследовать это заявление.
Когда решался вопрос о том, проводить ли открытый суд над погромщиками или слушать дело при закрытых дверях, прокурор Одесской судебной палаты А. Поллан (которому подчинялся Горемыкин) предупреждал то же Министерство юстиции, что на суде не удастся опровергнуть «слухи, будто беспорядки были подготовлены известною частью интеллигенции с ведома и согласия правительства и были правильно организованы» (курсив А. Поллана. — С.Р).[97] И — вместо того, чтобы настаивать на возбуждении уголовных дел против высокопоставленных соучастников преступления, он ходатайствовал о том, чтобы… дело слушалось при закрытых дверях. Ходатайство, конечно, было удовлетворено.
Итак, Обвинительный акт прокурора Горемыкина был составлен на основе сфальсифицированных материалов следствия, причем, для закрытого суда, так что можно было не беспокоиться о реакции общественности. Думаю, теперь ясно, по какому «документу», как якобы наиболее надежному и достоверному, Солженицын воспроизводит динамику «кровавой кишиневской пасхи» (Короленко) 6–8 апреля 1903 года. Понятно, что основной упор в этом Акте делается на «обычные столкновения между евреями и христианами, всегда происходившие за последние годы на Пасху», да на всякие тревожные слухи, «которым полиция по беспечности (? — С.Р.) не придала значения, а всего лишь „усилила на праздники наряды в местах предполагавшегося наибольшего скопления“ за счет добавки и военных патрулей из местного гарнизона» (стр. 322).
Но если власти беспечно не ожидали беспорядков, то зачем бы им усиливать наряды полиции военными патрулями? А если беспорядки вспыхнули — хотя бы и неожиданно, — то тут усиленной полиции и карты в руки! В Обвинительном акте концы с концами не сходятся. Но Солженицын сводит концы, поясняя: «полицмейстер не дал энергичных ясных инструкций полицейским чинам» (стр. 322).
Опять все списывается на чью-то нерасторопность, беспечность и недогляд! Но разве не известно любому полицейскому, что ему надлежит делать, когда во вверенном ему участке возникает беспорядок?! Не каждый же день начальство должно напоминать подчиненным об их элементарных обязанностях, да еще «энергично» и «ясно». Никаких инструкций тут не нужно.
Вот для того, чтобы не выполнять обычных обязанностей, чтобы не вмешиваться, когда на твоих глазах идет побоище, — для этого полицейские должны были получить инструкции!
Ну, а когда идет погром, а полицейский наряд, усиленный военным патрулем, стоит на углу улицы да посмеивается, — не похоже ли это на то, что полиция поощряет громил вместо того, чтобы защищать громимых? Очень даже похоже! И когда об этом писали потом в российской и зарубежной прессе, то писали правду, а не коварную неправду, от которой Солженицын пытается защитить незаслуженно обижаемое российское правительство (стр. 326–327).
П. А. Крушеван
Он негодует на тех общественных деятелей, которые, будучи убеждены в том, что «кишиневская бойня организована сверху, с ведома, а, может быть, даже по инициативе [министра внутренних дел] Плеве», и, опасаясь, что власти попытаются это скрыть, направили в Кишинев для проведения независимого расследования видного юриста А. С. Зарудного (а затем и целую бригаду менее именитых адвокатов, о которых доносил по начальству Горемыкин, но Солженицын о них не упоминает).
Почему параллельное следствие было необходимо и почему оно напугало Горемыкина, объясняет Прошение присяжного поверенного А. Н. Турчанинова на имя министра юстиции. Адвокат — в самой деликатной форме — указывал на то, что доверять такое общественно важное дело местным кишиневским следователям нельзя, ибо, «если производимое ими исследование коснется того небольшого в губернском городе круга лиц, члены которого находятся между собой в постоянном и, может быть, необходимом общении, то доверие местного общества к действиям таких представителей колеблется, и исследование не может обнимать собою всего предмета со всей полностью».[98]
Иначе говоря, чиновная и иная элита в небольшом провинциальном городе — это один тесный круг, где все повязаны давними, часто родственными отношениями. Тут рука руку моет. Поэтому ожидать беспристрастного расследования дела местными следователями не приходится, доверия к ним нет. В подобных случаях закон предусматривал передачу дела в руки «совершенно постороннего местной жизни следователя». Этого требовал Устав Уголовного Судопроизводства, статья 288-1. О назначении такого независимого следователя и ходатайствовал Турчанинов.[99] Как видим, просьба была основана на действующем законе и она диктовалась не только юридическими, но и государственными соображениями. Правительство подозревалось в причастности к погрому, о его виновности трубила мировая пресса, что вызывало международные осложнения. Если правительство не было причастно, то ему ли не стремиться поскорее эти подозрения развеять! Назначение авторитетного и независимого следователя со стороны, способного установить истину, в которую поверит общество, было в прямых интересах власти.
Но это при условии, что правительство действительно не было причастно! Ну, а если было? Тогда все меняется с точностью до наоборот: несравненно лучше остаться под подозрением, нежели расписаться в своей виновности. Если так, то правительству было выгодно истину прятать, а не подтверждать ее юридически! Отказывая Турчанинову, министр юстиции Н. В. Муравьев действовал вполне логично, хотя и противозаконно. Единственным основанием для отказа он нашелся выставить то, что судебные следователи по особо важным делам Санкт-Петербургского и Московского окружных судов заняты другими неотложными делами, хотя не было в то время в России более важного и срочного дела! Да и кроме Санкт-Петербургского и Московского, были Киевский, Харьковский, Полтавский и многие другие окружные суды. При желании найти квалифицированного следователя было нетрудно. Н. В. Муравьев только подтвердил то, что правительству было, что скрывать. Вот адвокатам и пришлось самим взяться за выяснение истины. В этом они видели свой профессиональный и общественный долг.
Как видим, Горемыкину было, отчего нервничать!
Приводя его слова о том, что «предварительным следствием не добыто данных, которые указывали бы, что упомянутые беспорядки были заранее подготовлены», Солженицын добавляет от себя: «И никаким дальнейшим следствием — тоже не добыто» (стр. 327).
Добыто, очень даже добыто!
Давайте вкратце восстановим события по документам.
За два месяца до погрома в небольшом городке Дубоссары исчез, а потом был найден убитым четырнадцатилетний подросток Михаил Рыбаченко, и единственная кишиневская газета «Бессарабец» тот час стала подавать это убийство как ритуальное. Страшные зверства евреев, мучающих в подполе несчастного мальчика, муссировались в газете изо дня в день. Об этом упоминается и в книге Солженицына, но не упоминается о том, что ответственным за эту злостную клевету был не только издатель и редактор «Бессарабца» П. А. Крушеван. При наличии цензуры пропаганда ненависти велась вопреки двум государственным законам: один из них запрещал «натравливать одну часть населения на другую»,[100] а второй — освещать в печати незавершенные следственные дела. Если же Крушеван, а по его следу «Новое время», «Свет» и другие черносотенные газеты, все-таки публиковали материалы об убийстве Миши Рыбаченко и подавали его как ритуальное, то потому, что для этого дела власть, а конкретно — министр внутренних дел В. К. фон Плеве — в нарушение закона сделали исключение. Но как только следствие вышло на истинных убийц (мальчика убил его двоюродный брат из-за наследства, отписанного Мише их общим дедом), Плеве тотчас вспомнил о законе и разослал циркуляр, запрещавший что-либо публиковать о деле Рыбаченко, из-за чего распространенная Крушеваном клевета не могла быть публично опровергнута. Кажется, одного этого достаточно, чтобы заключить, что власть и лично Плеве были причастны к погрому вместе с П. А. Крушеваном.
Такова одна грань алмаза исторической правды, ни разу не сверкнувшего в книге Солженицына. А вот другая грань. Параллельно с ритуальной агитацией в Кишиневе было скоропалительно создано Охранное отделение, которое возглавил специально для этого присланный ротмистр барон Левендаль. Приехав в Кишинев, он стал спешно создавать сеть агентов, что вызвало недоуменные пересуды в местном обществе, так как революционным гнездом тихий Кишинев не был, и охранке выслеживать в нем было некого. А когда погром разразился, то во главе уличных банд оказались как раз те местные «интеллигенты», которых навербовал Левендаль.
А вот еще одна грань. Перед самым погромом в городе стали распускать слухи, что «царь разрешил бить евреев три дня».[101] Власти об этом знали, но ничего не сделали, чтобы эти слухи пресечь и виновных в их распространении наказать. Так что, даже несмотря на нагнетание племенной ненависти Крушеваном и его газетой, «преобладающим мотивом в действиях погромщиков были не ненависть, не месть, а выполнение таких действий, которые, по мнению одних, содействовали целям и видам правительства, по мнению других — были даже разрешены и, наконец, по объяснению мудрости народной — являлись выполнением царского приказа», свидетельствовал князь С. Д. Урусов, назначенный Кишиневским губернатором вскоре после погрома.[102]
Четвертая грань. У главарей уличных банд имелись заблаговременно составленные списки еврейских домов и улиц; у каждого — свой список. И если какая-то группа по ошибке вторгалась на «чужую» территорию, то руководители быстро сверяли списки, выясняли недоразумение, и чужаки удалялись.
Пятая. Уже после того, как в город были вызваны войска (не усиленные полицейские патрули, а войска, занявшие город!), они бездействовали целый день. По закону, приказ войскам действовать должен был исходить от гражданской власти, а она молчала. Таким образом, побоище беззащитных людей продолжалось на глазах солдат и офицеров гарнизона, но они не имели приказа вмешаться и прекратить насилие. «Граф Мусин-Пушкин, генерал-адъютант закала Николая I, бывший тогда командующим войсками Одесского округа, рассказал, что немедленно после погрома он приехал в Кишинев, чтобы расследовать действия войск… Он возмущался всей этой ужасной историей и говорил, что этим путем развращают войска. [Мусин]-Пушкин не любил евреев, но он был честный человек. Еврейский погром в Кишиневе, устроенный попустительством Плеве, свел евреев с ума и толкнул их окончательно в революцию. Ужасная, но еще более идиотская политика!..»[103]
После погрома. Кишинёв. 1903 г.
Итак, «стихия» погрома была весьма упорядочена, благодаря предварительной работе, проведенной Охранным отделением. Что же касается самого Левендаля, то в дни погрома он держал под контролем губернатора фон-Раабена, парализуя его — правда, очень слабые — попытки покинуть свой губернаторский дом, чтобы остановить бесчинства толпы. Об этом были получены четкие показания от многих лиц, в особенности от председателя еврейской общины доктора Мучника, который лично несколько раз приходил к губернатору, убеждал его начать действовать, и тот даже велел запрягать лошадей. Но затем лошадей, уже поданных к крыльцу, распрягали и отправляли опять на конюшню. Сидя в своем особняке, губернатор слал шифрованные телеграммы министру внутренних дел Плеве, сообщая, что евреев бьют во всю, что он ничего с этим не может поделать, так как силы полиции малочисленны; и тут же о том, что поступили сведения о готовящейся противоправительственной демонстрации, и если она начнется, то будет решительно подавлена. Итак, для разгона погромщиков, убивающих беззащитных евреев, сил не было, а для предполагаемой демонстрации (конечно, это была туфта; никакой демонстрации никто не затевал) против правительства — были!
Видя, что ситуация вышла из-под контроля, и бесчинства приобрели куда больший размах, чем он предполагал, Раабен вызвал войска, но снова последовал на него нажим, и приказ войскам действовать был отдан с опозданием на целый день.
В официальный горемыкинский Акт эти данные, конечно, не попали, а потому их нет и в книге Солженицына. Он их не признает, отбрасывает, ссылаясь на то, что «в России даже и полиция никак не была подчинена охранному отделению, а тем более — войска» (стр. 328).
Да, по закону такого подчинения не было. Более того, по закону губернаторы не подчинялись напрямую министру внутренних дел (не то, что жандармскому ротмистру), а только самому царю. Ну, а на практике, когда министр фактически наделен диктаторскими полномочиями, а явившийся из центра жандарм — око и ухо этого самого министра, то будет его слушать губернатор или не будет? В общем-то, плевать против ветра губернатору не к чему. Но и быть бездумной овечкой тоже не престало, особенно в столь необычной для него ситуации. Поэтому недостаточно было простого указания (по форме пожелания) губернатору со стороны министра. Чтобы это пожелание было выполнено, с губернатора следовало не спускать глаз. Это и делал Левендаль.
«Этот „исключительно важный материал“ [изобличающий Левендаля — С.Р.] … никогда, однако, не был опубликован, ни тогда, ни хотя бы позже, — читаем у Солженицына. — Почему же? Как бы мог тогда Левендаль и иже с ним избежать наказания и позора?» (стр. 328).
Взяв на себя мало почтенную роль выгораживания организаторов Кишиневского погрома, Солженицын ставит наказание и позор в один ряд, что не очень корректно. Материал, о котором он пишет, был опубликован, но это, конечно, никак не могло привести к наказанию Левендаля. С поставленной перед ним задачей он справился великолепно, а потому вскоре после погрома был переведен из Кишинева в Киев с повышением. В Кишиневе же Охранное отделение было ликвидировано за дальнейшей ненадобностью. А вот позора Левендаль не избежал. Вошел в историю как один из организаторов кровавой оргии. Запоздалая попытка отмыть его от погромной крови ничего изменить не может.
То же самое касается птицы более крупной: самого диктатора В.К. фон Плеве. Это он, как уже было сказано, поощрял противозаконную агитацию Крушевана, а затем не позволил ее дезавуировать. Это он прислал в Кишинев Левендаля с его дьявольской миссией; это его многократно называли главным организатором побоища.
Солженицын со всем этим «не согласен»; по его мнению, на Плеве возвели напраслину, а чтобы это показать, он сосредоточивает внимание только на одном моменте — действительно, спорном: секретном письме Плеве кишиневскому губернатору фон Раабену, «где министр в ловких уклончивых выражениях советовал, что если в Бессарабской губернии произойдут обширные беспорядки против евреев — так он, Плеве, просит: ни в коем случае не подавлять их оружием, а только увещевать» (стр. 333).
Оспаривая существование этого письма, Солженицын рассказывает, что опубликовано оно было корреспондентом лондонской газеты «Таймс» Д. Д. Брэмом, «а ненаходчивое царское правительство, да еще и не понимающее всего размера своего проигрыша, только и нашлось что отмахнуться лаконичным небрежным опровержением, подписанным главой Департамента полиции А. А. Лопухиным, и лишь на девятый день после сенсационной публикации в „Таймсе“, а вместо следствия о фальшивке выслало Брэма за границу» (стр. ЗЗЗ).
Ох уж эта ненаходчивость, то и дело выручающая царизм в глазах Солженицына! Не логичнее ли допустить обратное: власти выслали британского журналиста, потому что были находчивы и знали, что следствия о фальшивке лучше не затевать, а то она может оказаться вовсе и не фальшивой? Не потому ли и опровержение А. А. Лопухина было запоздалым и невнятным? Начальник Департамента полиции, видимо, вовсе не был уверен в непричастности его босса к скандальному письму, и необходимость ставить свою подпись под лживым опровержением тяготила его. (Сложный человек был Лопухин: ухитрялся уживаться с крутым начальством в лице Плеве, с подчиненным ему тайным агентом Е. Азефом, с провокаторами куда более крупного калибра, такими, как Зубатов, Рачковский; позднее, под влиянием бурных событий надвигавшегося 1905 года Лопухин многое пересмотрел, примкнул к оппозиции, и кончил тем, что угодил под суд и в ссылку за то, что вступил в связь с революционером Бурцевым и помог ему разоблачить двойную игру Азефа!)
Портрет В. К. Плеве. 1902 г. И. Е. Репин
Солженицыну все ясно: письма Плеве не оказалось в секретных архивах, опубликованных после революции, стало быть, он вне подозрений, как жена цезаря, ибо «государственные архивы России — это не мухлеванные советские архивы, где, по надобности, изготовляется любой документ, или, напротив, тайно сжигается; там — хранилось все неприкосновенно и вечно». (Стр. 334).
Можно лишь удивляться этому категоричному, но, увы, неверному утверждению. В мемуарах многих сановников последнего российского императора можно найти множество указаний на исчезновение или подделку важнейших документов, причем этого малопочтенного занятия не гнушались чиновники самых высоких рангов, вплоть до государя императора. В связи с одним из таких эпизодов, рассказанных в воспоминаниях С. Ю. Витте, комментаторы отмечают:
«С. Ю. Витте сообщает, что дневники Д. С. Сипягина [после его гибели] были взяты для прочтения Николаем II, который нашел, что они „очень интересны“ и оставил у себя ту часть переданных ему дневников Д. С. Сипягина, которая касалась пребывания последнего на посту министра внутренних дел. Отмеченный здесь С. Ю. Витте факт действительно характерен для Николая II. В „Воспоминаниях“ С. Ю. Витте сообщается о том, что после смерти преемника Д. С. Сипягина на посту министра иностранных дел В. К. Плеве по приказу царя в его кабинете были изъяты документы, касающиеся политики России на Дальнем Востоке.[104] После смерти министра иностранных дел Ланздорфа из его архива были изъяты документы, связанные с Бьеркским договором 1905 г. Сам С. Ю. Витте, покидая пост председателя Совета министров, должен был вернуть письма царя. После смерти С. Ю. Витте Николай II проявил интерес к его архиву и воспоминаниям: кабинет покойного был опечатан, часть находившихся там документов изъята, на вилле в Биарице в отсутствии хозяев был проведен тщательный обыск.[105] Для всех перечисленных событий характерно стремление императора Николая II изъять и уничтожить документы, которые могли бы его компрометировать или представить в невыгодном свете его государственную деятельность». (Курсив мой — С.Р.)[106]
Итак, в разгар мировой войны, при тяжелейшем положении на фронтах, где ежедневно гибли сотни и тысячи его подданных, в нарушение юридических законов и дипломатического протокола, рискуя серьезно осложнить отношения со своим главным союзником, Николай II посылает тайных агентов для проведения несанкционированного обыска в доме частного лица, пользующегося покровительством Французской республики! И все это только для того, чтобы изъять какие-то бумаги! Зная о повышенном, и отнюдь не праздном, интересе Николая II к архивам и воспоминаниям своих приближенных, Витте не только хранил свои мемуары заграницей, но и писал их в двух вариантах, чтобы после его смерти, в случае соответствующей «просьбы» государя, его вдова могла бы отдать его величеству приглаженный вариант мемуаров, сохранив в тайнике основной. Предусмотрительность Витте была продиктована тем, что он слишком хорошо знал, с кем придется иметь дело его супруге!
Таково было в реальности общее положение с «немухлеванными государственными архивами России». А вот что известно непосредственно о документах, касающихся Кишиневского погрома, и конкретно — о таинственном письме Плеве Раабену. Комиссия по исследованию истории антиеврейских погромов в России, созданная сразу же после революции, получила доступ к царским архивам и опубликовала объемистый том материалов о Кишиневском погроме. В предисловии к этому тому объясняется, что публикуемые материалы взяты в основном из фонда министерства юстиции, а не Министерства внутренних дел, потому что «в архиве департамента полиции из 4-х томов, посвященных этому делу, уцелел только один, да и то — последний, 4-й; первые же три исчезли, унеся с собой много тайн и ряд важных разъяснений, как, например, тайну происхождения знаменитого циркуляра Плеве на имя Бессарабского губернатора».[107]
Стремление Солженицына выгородить самых одиозных столпов царского режима, которым история давно вынесла свой приговор, мягко говоря, удивляет. Достаточно вспомнить, что именно Плеве был в числе наиболее активных поборников той дальневосточной политики, которая привела Россию к войне с Японией — и, вследствие поражения в ней, — к революции 1905 года. Причем, если недалекий Николай II, побуждаемый столь же недалеким авантюристом Безобразовым, проводил провокационную политику по отношению к «макакам», будучи убежденным, что те не посмеют начать войну против могучей России, то Плеве «эту войну желал и [потому] примкнул к банде политических аферистов».[108] Собственно, на дальневосточные дела Плеве было наплевать. Тогдашнему министру обороны, а затем командующему дальневосточной армией генералу А. Н. Куропаткину Плеве прямо объяснил свою цель: «Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».[109]
Николай II
«Вот вам государственный ум и проницательность…», замечает по этому поводу Витте, имея в виду то, что война оказалась не маленькой и не победоносной (о чем нам предстоит говорить подробнее). Но сейчас для нашей темы важнее не отсутствие государственного ума у Плеве, а его преступный цинизм, позволявший ради «удержания» революции пускаться на кровавые авантюры. Маленькая победоносная война понадобилась ему после того, как не помог большой победоносный кишиневский погром!
Те несколько страниц солженицынской книги, где автор пытается снять ответственность за кишиневское кровопускание с царской власти и лично с Плеве, читаются «без булавки».[110] Здесь прорывается былой публицистический напор автора, некоторые абзацы обжигают огнем подстать тому, что пылает на страницах «Архипелага». Но эффект они производят обратный, потому что нет в них правды. Отсутствие подлинного письма Плеве Раабену среди архивных материалов отнюдь не доказывает того, что такого письма вообще никогда не было. Вопрос этот, видимо, навсегда останется спорным. Так к нему и должны относиться исследователи, стремящиеся к истине (как это продемонстрировала Комиссия, опубликовавшая Материалы Кишиневского погрома в 1919 году).
Лично мне представляется с большой вероятностью, что письмо все-таки существовало, и вот почему. Публикация фальшивок — дело весьма распространенное, но разоблачение их обычно большого труда не составляет, ибо фальшивки, особенно сработанные наспех, в сиюминутных политических целях, как правило, содержат в себе бросающиеся в глаза нелепости. Возьмем, к примеру, знаменитые «Протоколы сионских мудрецов», впервые опубликованные тем же Крушеваном при содействии того же фон Плеве, давшего личное разрешение на публикацию — вопреки законам о печати и через голову Цензурного комитета.[111] Среди многого другого, в «Протоколах» разъясняется, что для захвата власти над миром евреи должны в качестве своего орудия использовать слепо им доверяющих масонов, а после достижения цели их ликвидировать. Понятно, что такой коварный план должен держаться в глубокой тайне от масонов, иначе вся затея провалится. Однако в предисловии к первой публикации фальшивки П. А. Крушеван подает ее как часть Протоколов заседаний «Всемирного союза франкмасонов и сионских мудрецов»,[112] то есть коварные замыслы против масонов раскрываются на секретном совместном заседании с самими масонами. Недоглядел фальсификатор!
Случай этот типичен. Как тщательно, казалось бы, готовились показательные сталинские процессы, как отрабатывались все подробности показаний подсудимых, свидетелей! Ан нет, в показаниях подсудимых, «признававшихся» после соответствующей обработки в страшных преступлениях, то и дело проскальзывали подробности, изобличавшие ложность их самооговоров, что тотчас отмечала западная печать. Врать складно на самом деле очень трудно, непременно попадешься на каких-то деталях. Это, как правило, и происходит при фабрикации фальшивок.
А в предполагаемом письме Плеве Раабену никаких нелепостей не обнаружено. Оно написано с учетом не только ситуации, не только стиля деловой бюрократической переписки того времени, но и со всеми тонкостями внутренних взаимоотношений между чинами царской администрации. Плеве в своем письме не приказывает, не инструктирует губернатора, а лишь предуведомляет о возможных беспорядках, давая понять, что если они произойдут, то подавлять их силой нежелательно, так как бунт направлен не против правительства, а против евреев. Потому усмирять погромщиков следует деликатно, увещеванием, а не полицейскими мерами.
Один из аргументов Солженицына против существования этого письма состоит в том, что «смещенный Раабен, пострадавший разорением жизни, в слезных попытках исправить ее, — никогда не пожаловался, что была ему директива сверху, а ведь сразу бы исправил себе служебную карьеру да еще стал бы кумиром либерального общества» (стр. 334). Однако этот аргумент говорит лишь о том, что в реалиях описываемой эпохи Солженицын разбирается много хуже автора письма, которое Солженицын считает фальшивкой. Формальная ответственность за бездействие властей в Кишиневе в любом случае лежала на Раабене. Полученное им от Плеве уведомление может означать только то, что бездействие губернатора и подчиненной ему администрации было равносильно преступному поощрению и соучастию в погроме; если же губернатор заранее предупрежден не был, то бездействие местных властей можно хотя бы с натяжкой объяснить растерянностью ввиду внезапности происшедшего. Такое бездействие — тоже преступление, но при известной снисходительности его можно квалифицировать не как уголовное, а как должностное.
Иначе говоря, Раабен в такой же степени, как Плеве, был лично заинтересован в том, чтобы подлинник письма не был найден. Когда место губернатора занял князь С. Д. Урусов, которого Солженицын называет «благорасположенным к евреям»,[113] то ему и в голову не могло придти поискать следы этого письма в губернском архиве: он априорно считал его поддельным, полагая, что «Плеве не был способен на столь неосторожный поступок и ни в коем случае не рискнул бы оставить доказательства своих провокаторских планов».[114] Главное же — Урусов не допускал мысли, что центральная власть способна на такие провокации. Впоследствии он это мнение изменил, так как прямое участие центральной власти в организации погромов или подстрекательстве к ним было многократно доказано.
Что же касается отсутствия письма Плеве в Кишиневском архиве, то это ничего не доказывает, так как после погрома Раабен имел время почистить архивы, а еще больше времени на это было у вице-губернатора Устругова, который после Раабена и перед назначением Урусова несколько месяцев управлял губернией. (Письмо Плеве его компрометировало бы так же, как и Раабена).
В любом случае, вопросу о подлинности или подложности письма Плеве Солженицын придает несоразмерно большое значение. Это особенно ярко вырисовывается на фоне его небрежения к другим фальшивкам, куда активнее влиявшим на атмосферу русско-еврейских отношений, чему и посвящена его книга. Фальшивки широко использовались для нагнетания племенной и религиозной ненависти к евреям и для обоснования репрессивного анти-еврейского законодательства. О ряде таких фальшивок Солженицын вообще не упоминает, другие если и упомянуты, то преимущественно по совершенно посторонним поводам. Даже о «Протоколах сионских мудрецов», стоивших евреям моря крови, он говорит в рамках совершенного иного сюжета:
«Известен случай, — читаем в книге. — Просматривая архив Департамента полиции, Столыпин наткнулся на записку „Тайна еврейства“ (предшественница „Протоколов“), о мировом еврейском заговоре. И поставил резолюцию: „Быть может и логично, но предвзято… Способ противодействия для правительства совершенно недопустимый“. В результате „Протоколы“ „никогда не были признаны царским правительством в качестве основы официальной идеологии“» (стр. 445).
Во-первых, тут что-то напутано, ибо «Тайна еврейства» и «Протоколы сионских мудрецов» — это все-таки две разные фальшивки, и резолюция Столыпина, касающаяся одной из них, не могла относиться к другой. А во-вторых, весь этот пассаж появился в книге Солженицына с очевидной целью — еще раз облагородить столь высоко им чтимого П. А. Столыпина; не будь его резолюции, о «главной лжи столетия» (как ее определили западные исследователи) в книге вообще не было бы упомянуто![115]
Несколько больше внимание Солженицын уделяет подложному воззванию председателя Всемирного Еврейского Альянса Адольфа Кремье,[116] видного политического и общественного деятеля Франции. Приведя отрывок из подлинного воззвания Альянса, Солженицын продолжает:
«А позже возник и побочный документ, напечатанный во Франции, — якобы воззвание самого Адольфа Кремье „К евреям вселенной“. Очень вероятно, что это подделка. Не исключено, что это был один из проектов обращения, не принятый организаторами Альянса (однако он попадал в тон обвинениям Брафмана,[117] что у Альянса — скрытые цели): „Мы обитаем в чужих землях и мы не можем интересоваться переменчивыми интересами этих стран, пока наши собственные нравственные и материальные интересы будут в опасности… еврейское учение должно наполнить весь мир…“» (стр. 180, курсив мой — С.Р.)
То, что этот злонамеренный бред является фальшивкой, говорит сам процитированный Солженицыным текст, ибо иудеи — в отличие от христиан и мусульман — никогда не стремились навязать или распространить свою религию (учение) на неевреев, тем более, «наполнить им весь мир». Впервые этот апокриф был напечатан во французском журнале под выразительным названием «Антисемит». Редакция уверяла, что ею раздобыт секретный доклад Кремье. Фальшивка почти немедленно была разоблачена и опровергнута Альянсом, но она до сих пор используется наиболее беспардонными антисемитскими идеологами для «разоблачения» еврейского заговора.[118] Однако ни гнева, ни негодования, ни хотя бы укоризны в адрес создателей этой фальшивки в книге Солженицына нет. Более того, для него это только вероятная подделка, да и то, относительная. Он допускает, что текст ее был рожден в недрах Альянса, только вот при окончательном обсуждении доклада Кремье его решили заменить другим. Солженицын идет и дальше: «И. С. Аксаков, — читаем в книге, — в своей газете „Русь“ заключил, что „вопрос о подложности … воззвания не имеет в настоящем случае особого значения ввиду неподложности высказанных в оном еврейских воззрений и чаяний“» (стр. 180, курсив Аксакова).
Приведя эту цитату, Солженицын не считает нужным ее прокомментировать. А нелишне было бы сообщить читателям, что вождь славянофилов широко использовал этот подлог для громокипящих «разоблачений» еврейских козней. Когда же отрицать подложность документа стало невозможно, он и заявил, что это-де ничего не меняет, так как выраженные в нем «чаяния» евреев — подлинные.[119] О том, что об этих чаяниях Аксаков судил по тем же писаниям Якова Брафмана, из книги Солженицына тоже не узнать, да и самому Брафману он дает хотя и обширную, но невнятную характеристику. Уделенные ему страницы (стр. 166–168) пестрят выписками из нескольких еврейских энциклопедий, из двухтомного труда Ю. Гессена и вообще наполнены всякой всячиной — вплоть до того, что «поэт Ходасевич — внучатный племянник Брафмана». Но, что «Книга кагала» Брафмана имела такое же отношение к реальной истории кагалов, как, например, сталинский «Краткий курс» — к подлинной истории большевистской партии, понять невозможно. В общем же вырисовывается четкая тенденция. К антисемитским подлогам Солженицын терпим и снисходителен, да и не вполне уверен, что все они — фальшивки. Потому и не возражает он против мысли Аксакова, что если цитируемое воззвание Кремье и не совсем подлинное, то высказанные в нем мысли все же весьма близки к тому, чего добиваются евреи. Ну, а если бы кто-то высказал аналогичное соображение о письме Плеве: даже если оно не подлинное, в нем-де выражены подлинные намерения и действия Плеве — мог же он передать свои пожелания Раабену устно, при личной встрече, через того же Левендаля или какого-то нарочного! Понятно, как отреагировал бы на это Солженицын: с громокипящим негодованием. Он и без того убежден, что «лжеистория кишиневского погрома стала громче его подлинной истории» (стр. 335). «И — осмыслится ли хоть еще через сто лет?» — спрашивает Солженицын, сильно обиженный на историю (стр. 335).
Увы, так, как хочется Александру Исаевичу, — не осмыслится. Ему бы хотелось, чтобы российское правительство выглядело в этой истории «косным стеснителем евреев, хотя неуверенным, непоследовательным» (стр. 338). Таким правительство и хотело выглядеть! Но общественность нарисовала другой портрет. Солженицын пишет, что «путем лжи оно было представлено — искуссным, еще как уверенным и бесконечно злым гонителем их [евреев]» (стр. 338). Увы, это была правда. Князь С. Д. Урусов писал по горячим следам событий:
«Нельзя, по моему мнению, снять с центрального правительства нравственной ответственности за происшедшие в Кишиневе избиения и грабежи. Я считаю наше правительство виновным в покровительстве, оказываемом им узко-националистической идее; в недальновидной и грубой по приемам политике его по отношению к окраинам и инородцам; в том, что эта политика поддерживала и возбуждала среди отдельных народностей взаимное недоверие и ненависть и в том, наконец, что власть, потакая боевому лжепатриотизму, косвенно поощряла те дикие его проявления, которые… моментально исчезают, как только правительство открыто заявит, что погром на почве национальной розни есть преступление, за допущение которого ответит местная администрация. Обвинение в попустительстве правительства погромам я считаю, таким образом, доказанным».[120]
Князь С. Д. Урусов
Но Урусов не останавливается и на этом, а, исходя из опыта последовавших погромов, сенатских расследований и разоблачений деятельности жандармских офицеров, печатавших погромные прокламации не где-нибудь, а в тайной типографии Департамента полиции, продолжает:
«То непонятное и недоказанное в кишиневском погроме, что прежде вызывало во мне недоумение, я стал относить к действию некоторых тайных пружин, управляемых высоко стоящими лицами».[121]
Нельзя обойти молчанием и еще одно положение Солженицына, которое «открыло глаза» на «правду» о погромах некоторым его восторженным комментаторам. Суть «открытия» в том, что вот-де, русских, Россию ославили на весь мир за погромы, а ведь бесчинства творились в основном на окраинах, громилами были в основном молдаване, украинцы, белорусы, а вовсе не русские![122] Увы, современники видели другую правду:
«Местный обыватель не мог не заметить отражения благосклонных правительственных взглядов на поведении и программе тех лиц, которые облекали свою деятельность, хотя бы совершенно частную, в патриотические формы, стараясь везде проявлять свой „русский“ дух. Уродливые проявления этого духа, создавшего впоследствии знаменитые организации „истинно-русских людей“, общеизвестны, а принадлежность к составу этих патриотов многих лиц с темным прошлым, с незавидной репутацией и с испачканной совестью — замечены, вероятно, большинством непредубежденных людей. Ненависть к евреям — один из главных членов символа их веры… и эти люди открыто заявляли себя опорой русского правительства и пионерами русских интересов в инородческой стране…. в этой компании можно было встретить сколько угодно экземпляров, готовых и побить, и пограбить евреев во имя православной церкви, в защиту православного народа и во славу самодержавного русского Царя. Связь этих „русских людей“ с полицией, в особенности тайной, существовала уже в то время, которое я описываю».[123]
Не может подлежать пересмотру главное: Кишиневский погром был прямым следствием имперской, шовинистической, антисемитской политики, которуюв то время олицетворял и проводил в жизнь Плеве.
Подводя итог этой главе, можно сказать, что не все погромы правительство организовывало. Но те, что оно не организовывало, — оно поощряло. А если не поощряло, то попустительствовало. А когда не организовывало, не поощряло и не попустительствовало, тогда пресекало. И погромов не было или их гасили в зародыше. Как повествует Солженицын, после убийства Столыпина евреем Богровым, «председатель молодежного „Двуглавого орла“ Галкинпризвал разгромить киевское Охранное отделение, проморгавшее убийство, и бить евреев, [но] его обуздали тотчас. Вступивший в премьер-министры [В. Н.] Коковцов срочно вызвал в город казачьи полки… и разослал всем губернаторам энергичную телеграмму: предупреждать погромы — всеми мерами, вплоть до оружия» (стр. 441).
Главой киевской черносотенной организации «Двуглавый орел» был студент Владимир Голубев (а не Галкин), но неточность в пернатой фамилии «истинно-русского» патриота — далеко не самый крупный промах Солженицына. Куда существеннее в данном контексте подробность, им не упомянутая: Голубев и его орлята рвались к погрому задолго до убийства Столыпина. Именно для того, чтобы накалить страсти и устроить погром, они развернули ритуальную агитацию вокруг убийства Ющинского. Власти ритуальную агитацию подхватили, а погром устроить не позволили, ибо в то время это не отвечало видам правительства.[124]
И погромов не было.
Как не вернуться в 1880-е годы и не сопоставить этот факт с тем, что после убийства императора Александра II группой террористов, которую возглавляли русский крестьянин Андрей Желябов и русская дворянка Софья Перовская, а бомбометателями были русский студент Николай Рысаков и поляк Игнатий Гриневецкий, по югу России покатились волны еврейских погромов, да таких, что власти не могли совладать с ними целых три года — до тех пор, пока министра внутренних дел графа Игнатьева не сменил Толстой. И можно ли считать простой случайностью, что начальником Департамента полиции при Игнатьеве был тот же Вячеслав Константинович Плеве, который двадцатью годами позднее, уже в качестве министра внутренних дел, нажал спусковой крючок Кишиневской бойни?
Не знаю, много ли найдется простаков, готовых поверить Солженицыну, что все это — результат расхлябанности, недосмотра, а не злого умысла, продиктованного политическим расчетом.
Революционное движение
Главы, посвященные революционному движению, — одни из самых обстоятельных в книге Солженицына. Около двадцати пяти страниц посвящено только его раннему этапу. Однако о том, чем оно было вызвано, из книги понять невозможно. Неадекватен сам зачин этого повествования:
«В России 60-70-х годов XIX в. при широкой поступи реформ — не было ни экономических, ни социальных оснований для интенсивного революционного движения. Но именно при Александре II, от самого начала его освободи тельных шагов, — оно и началось, скоропалительным плодом идеологии». (Стр. 213).
Как же так? Если ни экономических, ни социальных оснований не было, то откуда же свалилась эта напасть? И что значит — скоропалительный плод идеологии? Официальная идеология в России того времени базировалась на известной формуле С. С. Уварова «православие, самодержавие, народность»; на неофициальном уровне западники спорили с славянофилами, но Солженицын, конечно, имеет в виду другую идеологию — ту, которая питала революционные настроения. Но разве эта идеология и основанное на ней движение возникли в 1860-е годы?
Всякий, кто хоть немного знаком — пусть не с историей, а хотя бы только с классической русской литературой — знает, что это не так. Даже если не уходить в далекие времена разинщины и пугачевщины, то как не вспомнить, что движению шестидесятников предшествовало беспощадно травимое, но не вытравленное свободомыслие тридцати летней николаевской эпохи, когда властителями дум в «стране рабов, стране господ» был отнюдь не Уваров с его трехголовой формулой, а гонимые или едва терпимые Пушкин, Лермонтов, Белинский, Грановский, Герцен. Достаточно вспомнить хотя бы то, с каким восторгом в самом начале царствования Александра II встретили в обеих столицах амнистированных декабристов, чтобы понять, насколько общественное сознание уже было подготовлено к новому подъему (а не началу!) революционной волны. Не говорю уже о том, как подхлестнула этот подъем бездарно проигранная Крымская война, в одночасье превратившая жандарма Европы, перед которым все трепетало, в «бумажного тигра». Ну а если добавить прозябание основной массы народа в бесправии и невежестве, что не могло не возмущать всякого развитого человека, не лишенного совести; произвол режима «столоначальников» (М. Е. Салтыков-Щедрин); половинчатость наиболее важной из реформ, при которой освобождение крестьян от крепостной зависимости — колоссальный шаг вперед! — сопровождалось уполовиниванием крестьянских земельных наделов да сохранением крестьянской общины, что делало лично свободных крестьян экономически прикрепленными к этим — не им самим, а миру принадлежавшим — наделам.[125] А если вспомнить относящийся именно к этому времени колоссальный исторический сдвиг: появление на общественной арене нового активного класса — разночинной интеллигенции, отвергавшей традиционные ценности дворянской культуры и остро нуждавшейся в своей, особой, демократической (скоропалительной или нет, — это уже вторично) идеологии, выдвигавшей на первый план такие ценности, как труд, свобода, образование, научный и общественный прогресс, равноправие всех сословий и национальных меньшинств, женское равноправие, — то этого ли недостаточно, чтобы понять, что серьезнейших причин для революционного движения[126] шестидесятников вполне хватало!
Все это Солженицын оставляет за пределами своего рассмотрения, чтобы отметить только одну малосущественную для истории, но важную для него деталь: «в петербургских студенческих волнениях 1861 [года] уже встречаем [еврейские имена] Михаэлиса,[127] Утина и Гена» (стр. 213).
И дальше страница за страницей терпеливо наполняются еврейскими именами, причем наряду с более или менее видными революционерами, такими, как Марк Натансон, Арон Зиндулевич или Григорий Гольденберг, перечисляются десятки, даже сотни давно и безвозвратно забытых — в силу их незначительности — имен.[128] В результате, хотя и не утверждается прямо, но целенаправленно создается впечатление, что эти бесчисленные евреи и создавали революционное напряжение в спокойном, благодатном, гармоничном православно-самодержавно-народном социуме 1860-70-х годов; что никаких оснований для недовольства — кроме искусственно возбуждаемых этим чужеродным элементом — в стране не было.
Правда, Солженицын делает оговорку: «Если речь на последующих страницах идет преимущественно о евреях — то это лишь по кругу нашего обозрения, а не означает, разумеется, что среди русских не было многих и важных революционеров» (стр. 213). Почему же так селективен очерченный им круг? В книге, посвященной тому, как русские и евреи жили вместе в одной стране, — не естественно ли повествовать об их совместном участии в революции? Но именно этого Солженицын избегает и даже свою вялую оговорку перечеркивает предшествующим ей пассажем:
«Участие евреев в российском революционном движении требует нашего внимания, ибо радикальная революционность стала растущей стезей активности среди еврейской молодежи (курсив мой, стиль автора — С. Р.). Еврейское революционное движение стало качественно важной составляющей революционности общерусской» (стр. 213). Ну а дальше евреи уже превращены в «зажигательную смесь в революции» (стр. 235).
Каков же был удельный вес участия евреев на первом (в солженицынском понимании) этапе революционного движения, когда почти все оно было сосредоточено в узком (впрочем, и наиболее активном) слое общества — разночинной интеллигенции? Автор подводит неожиданный итог, сообщая статистические данные (со ссылкой на того же спасительного Ю. Гессена): «„среди 376 лиц, привлеченных за первое полугодие 1879 г. в качестве обвиняемых по государственным преступлениям, евреи составляли всего 4 %“, а из судимых перед Сенатом в течение 1880, „среди 1054 лиц… евреи составляли 6,5 %“. Похожие оценки можно найти и у других авторов» (стр. 236).
Однако, сделав этот ошеломляющий (после всего нагроможденного на 25 страницах) повествовательный зигзаг, Солженицын спешит вырулить на первоначальную стезю: «Но из десятилетия к десятилетию в революционном движении появляется евреев все больше, их роль — заметней и влиятельней. В первые годы советской власти, когда это чтилось в гордость, видный коммунист Лурье-Ларин сообщил нам: „В царских тюрьмах и ссылке евреи обычно составляли около четверти всех арестованных и сосланных“. — А марксистский историк М. Н. Покровский оценивал по данным различных съездов, что „евреи составляли от 1/4 до 1/3 организаторского слоя всех революционных партий“. (Современная Еврейская Энциклопедия выражает сомнение в этой оценке)» (стр. 237).
Сомнения, высказанные в энциклопедии, можно понять. Приведенные данные исходят от пристрастных большевистских авторов, писавших в 1920-х годах, когда в стране «диктатуры пролетариата» наблюдался рост антисемитских настроений, против которых и были направлены эти писания. Коль скоро участие в революционном движении тогда «чтилось в гордость», то эти авторы «с большевистской прямотой» могли ведь и преувеличить. В предшествующую эпоху столпы режима тоже преувеличивали революционную активность евреев, хотя и с противоположными целями, ибо тогда принадлежность к смутьянам чтилась в порочность. В. К. Плеве, принимая еврейскую депутацию после Кишиневского погрома, предъявил ей счет, заявив, что вся российская смута идет от евреев, так как они составляют 40 процентов всех революционеров в России, а в губерниях черты оседлости — 90 процентов.
Плеве откровенно врал, ибо даже официально опубликованная статистика того времени давала другие цифры, хорошо согласующиеся с данными Ларина и Покровского, которые, видимо, из нее и исходили.[129] Но и эти данные были липовыми, ибо статистика не учитывала основной массы участников революционных выступлений. В отличие от 1860-70-х годов, когда активных революционеров можно было пересчитать поголовно, к началу двадцатого века революционное движение распространилось на самые широкие слои населения. Так, в 1902 году в Полтавской и Харьковской губерниях крестьянское движение «охватило 165 сел и деревень. Крестьяне громили помещичьи экономии, захватывали хлеб, корм для скота, семена, были случаи непосредственного захвата помещичьих земель. В подавлении крестьянских выступлений участвовали более 10-ти тысяч солдат и офицеров. Суду было предано 1092 крестьянина, 836 из них понести наказания».[130]
Тысячи крестьян — преданных и не преданных суду — подверглись телесным наказаниям и другим карательным мерам, похожим на пытки: в частности, целыми деревнями их заставляли по много часов выстаивать на коленях в снегу.[131] А ведь то было только начало массовых крестьянских выступлений — задолго до «иллюминаций» 1905 года, когда, по данным Игнатьева и Голикова, крестьянское движение охватило 37 процентов уездов Европейской России, причем «в некоторых уездах, как, например, в Балашовском уезде Саратовской губернии, были уничтожены буквально все помещичьи усадьбы», и когда «возникали своеобразные „крестьянские республики“, причем одна из них продержалась девять месяцев, имела своего президента, прекратила платить налоги, отказывалась нести воинскую повинность».[132] Именно крестьянские бунты больше всего пугали власть, именно решительным подавлением крестьян отличился Саратовский губернатор П. А. Столыпин, столь превозносимый Солженицыным. Да и столыпинская земельная реформа была реакцией на крестьянские выступления: она была направлена на то, чтобы раскассировать общину, превратить крестьян в собственников земли и тем самым подорвать их революционность. Именно крестьянство было основной «зажигательной смесью» революции и оставалось ею до самого 1917 года!
Однако статистика государственных преступлений крестьян не учитывала. Не учитывала она и рабочих, матросов, солдат. Их можно было расстреливать на улицах Петербурга, Златоуста и других городов, можно было высылать против них карательные экспедиции, но то ли по инерции, то ли в целях пропаганды, революционерами их не считали.
Таким образом, основная масса участников революционных выступлений оставалась вне статистики, которой оперировали предшественники Солженицына и теперь оперирует он сам. Приводимые им цифры касаются «государственных преступников» из образованного слоя общества. Среди них евреи действительно составляли значительный процент, но он примерно соответствовал их доле в образованном слое общества в целом. Если в дореволюционной России из 150-ти миллионов населения евреев было около четырех процентов, то в образованном слое их было- 25–30 процентов или даже больше. Отсюда так называемое «засилье» евреев в широком спектре интеллектуальных и полуинтеллектуальных профессий, с чем никак не хотели мириться власти и «патриотические» организации. Держа основную массу русского населения в темноте и невежестве, они никак не могли взять в толк, почему это евреи «наводняют» русскую медицину, адвокатуру, прессу, финансовые и некоторые иные учреждения, и старались их оттуда выжить — без всякой связи с их реальной или мнимой революционностью.
Так, Витте в своих «Воспоминаниях» указывает на то, что некоторые инженерные кадры Юго-Западных железных дорог (он по десять-двадцать лет знал этих людей) «в последние годы [при Столыпине] потерпели погром, потому что среди них довольно много было поляков, а также некоторые из них были евреи… Несомненно, что все эти поляки и евреи, которые теперь должны были оставить службу вследствие нового черносотенного направления, все они с государственной точки зрения были нисколько не менее благонадежны, нежели русские. Таким образом, увольнение их есть ни что иное, как дань безумному политическому направлению».[133]
Если революционные или оппозиционные настроения охватывали часть образованных евреев более или менее пропорционально тому, как они охватывали образованные слои русского общества, то то же самое можно сказать и о контрреволюционных настроениях. В частности, немало евреев имелось среди провокаторов, агентов охранки, внедренных в революционные партии. Всем известны имена Евно Азефа и Дмитрия Богрова, но в числе агентов охранки было и множество фигур меньшего калибра. Говоря о «зубатовщине», Витте упоминает о всеобщей забастовке в черноморских портах, «устроенной по приказу из Петербурга [переусердствовавшими] правительственными агентами». Он пишет, что «Плеве вынужден был своих же агентов (в том числе главного — еврейку из Минска) арестовать и выслать с юга»[134] (курсив мой — С.Р.) Другим агентом Плеве была «какая-то еврейка одного из городов Германии». Она под диктовку писала ложные доносы на самых высокопоставленных чиновников (включая Витте), а Плеве докладывал о них царю, чтобы подтачивать доверие самодержца к своим истинным или мнимым соперникам.[135] Тем не менее, даже Витте находился в плену таких же предубеждений в отношении революционности евреев, как и Плеве: при встрече с Т. Герцлем он поставил ему в упрек, что «составляя менее 5 % населения России, 6 миллионов из 136, евреи рекрутируют из себя 50 % революционеров» (стр. 237). Цитату Солженицын выписал из статьи еврейского историка Гершона Света, но оборвал ее на середине. В цитируемой статье дальше сказано: «Однако в конце беседы Витте признал, что евреям в России тяжко живется и что если бы „он сам был евреем, то сам был бы против правительства“…».[136]
Г. И. Успенский
Солженицын не раз прибегает к «агитпроповскому» методу цитирования. Каждый раз на это указывать нет смысла, но в данном случае опущенная оговорка весьма существенна. Витте не чета Плеве. Он понимал, что всякое широкое общественное явление имеет свои общественные причины, и если власть хочет ликвидировать это явление, она должна искоренить причины. Евреи были против правительства, потому что им тяжко жилось. Вот, в чем был корень зла, что толкало евреев в революцию! Ну а русским рабочим, крестьянам, студентам, мелким служащим, вообще подавляющему большинству населения — намного ли лучше жилось? Как мы помним, Солженицын, препарировав некоторые тексты Глеба Успенского, выкроил из них нужное ему «объяснение» погромов 1880-х годов. Но вот другой, не препарированный, отрывок из Глеба Успенского, более адекватно передающий мысли и чувства писателя:
«Как известно, а может быть, и не известно читателю, в настоящее время [те же начальные 1880-е годы], телесные наказания при волостных правлениях не только не умаляются в своих размерах, но, напротив, с каждым годом возрастают… Дранье на волостных судах… проходит без малейшего внимания, а дранье — непомерное… Я сам был свидетелем летом 1881 года, когда драли по тридцать человек в день. Я просто глазам своим не верил, видя, как „артелью“ возвращаются домой тридцать человек взрослых крестьян после дранья — возвращаются, разговаривая о посторонних предметах… Осенью самое обыкновенное явление — появление в деревне станового, старшины и волостного суда. Драть без волостного суда нельзя — нужно, чтобы постановление о телесном наказании было сделано волостными судьями, — и вот становой таскает с собой суд на обывательских. Суд постановляет решения тут же, на улице, словесно, а „писать“ будут после. Писарь тут же. Вы представьте себе эту картину. Вдруг в полдень влетают в село три тройки с колокольчиками: на одной — становой, на другой — старшина с писарем, на третьей — шесть человек судей… Въезжает эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики: „Розог!“… „Деньги подавай, каналья!“… „Я тебе поговорю, замажу рот!“…»[137]
Г. Успенский показывает, сколько корысти, лицемерия, произвола стоит за этой издевательской практикой, сделавшей «законное» надругательство над человеком настолько рутинным, что ни палачи, ни жертвы не сознавали всей чудовищности происходящего. «Не раз я становился в тупик перед этим явлением. Я никак не мог понять, каким образом можно положить на пол, раздеть и хлестать смородиной вот этого умного, серьезного мужика, отца семейства — человека, у которого дочь невеста». И тут же он приводит ответ старосты на вопрос о том, силой ли кладут на землю приговоренных к экзекуции, или они ложатся добровольно: «Кое — силом валят, кое — сами ложатся».[138] А вот и пророческое предвидение: «Этот посев ежедневной и ежегодной жестокости, как и всякий посев, должен, непременно должен дать всходы, плоды. Но едва ли они будут похожи на смородину».[139]
В начале 1880-х, когда писались эти строки, мужик, хорошо еще помнивший крепостное право, не смел даже в мыслях своих противостоять этой, по терминологии Г. Успенского, «татарщине». Копившуюся в нем самом жестокость мужик обрушивал на тех, кто был еще слабее и бесправнее. И делал он это тем охотнее, что ему нашептывали (и он простодушно верил), будто есть царский указ, «разрешающий и даже предписывающий истребление еврейского имущества». Мужик знал сермяжную истину: против лома нет приема. Сам изгой, он с тем же ломом шел на еще более беззащитных изгоев. Таковы были немедленно проклюнувшиеся всходы на почве жестокого произвола власти.
Ну а плоды созрели поколением позже, и на смородину они точно не походили. Но мужиков продолжали драть. И когда Государственный совет принял осторожное решение — «обратить внимание государя на своевременность отмены телесных наказаний, Николай II ответил окриком: „Я сам знаю, когда это надо сделать!“»[140]
Все сказанное не значит, что я хочу преуменьшить роль евреев в революционном движении. В том, что она была значительной, сомневаться не приходится. Однако оценить ее статистически невозможно, все цифры и проценты на этот счет беспристрастному исследователю ни о чем не говорят, а пристрастный выведет из них все, что захочет.
В своих воспоминаниях С. Ю. Витте подробно и содержательно пишет о революционности евреев и анализирует ее причины. И фактическая, и аналитическая сторона его рассуждений (которые я приведу ниже) далеко не безупречны. Он субъективен, в чем-то неточен, а порой и не свободен от того, что он называет «историческими предрассудками», на чем придется остановиться отдельно. А пока — вот этот пространный, тяжеловесный по стилю, но чрезвычайно важный для нашей темы отрывок:
«После… Александра II, вместо того, чтобы вести политику относительно евреев в смысле постепенного уничтожения специальных еврейских законов, начали принимать ряд самых резких законодательных стеснений. Так как вся груда еврейских законов представляет смесь неопределенностей с возможностью широкого толкования в ту или другую сторону, то на этой почве создалась целая куча всяких произвольных и противоречивых толкований. В результате явился источник самого разнообразного взяточничества. Ни с кого администрация не берет столько взяток, сколько с евреев. В некоторых местностях прямо создана особая система взяточнического налога на жидов. Само собой разумеется, что при таком положении вещей вся тяжесть антиеврейского режима легла на беднейший класс, ибо чем еврей более богат, тем он легче откупается, а богатые евреи иногда не только не чувствуют тяжести стеснений, а, напротив, в известной мере, главенствуют, они имеют влияние на высших чинов местной администрации. В начале [18]80-х годов сенат боролся с таким положением вещей, стараясь не допускать произвольных толкований законов и стеснений евреев, но затем со стороны министров внутренних дел последовали всякие наветы на некоторых сенаторов как противодействующих администрации. Начали обходить таких сенаторов наградами, переводить их из одних департаментов в другие, даже были случаи увольнения наиболее строптивых,[141] наконец, начали назначать новых, послушных сенаторов. В результате и сенат начал давать по еврейским законам такие толкования, которые по правде никоим образом из законов не следовали.[142]
Все это способствовало крайнему революционированию еврейских масс и в особенности — молодежи. Этому содействовали также и русские школы. Из феноменально трусливых людей, которыми были почти все евреи лет 30 тому назад, явились люди, жертвующие своей жизнью для революции, сделавшиеся бомбистами, убийцами, разбойниками… Конечно, далеко не все евреи сделались революционерами, но несомненно, что ни одна национальность не дала России такого процента революционеров, как еврейская. Громадное количество евреев пристало к самым крайним партиям. Ожидая от освободительного движения облегчения своей участи, почти вся еврейская интеллигенция, кончившая высшие учебные заведения, пристала к „партии народной свободы“, которая сулила им немедленное равноправие.[143] Партия эта в громадной степени обязана своему влиянию еврейству, которое питало ее как своим интеллектуальным трудом, так и материально. Я неоднократно предупреждал глав русского и иностранного еврейства, что они стали на весьма рискованный и некорректный путь, что, следуя этому пути, они еще более обострят еврейский вопрос в России, что они должны добиваться облегчений корректными путями, что они должны явить пример верноподданности, что облегчений они могут добиться только через царя, что их лозунг должен быть не стремление ко всяким свободам, а только „мы просим только одного, чтобы для нас не создавали исключений“. Но в пылу освободительных и революционных стремлений и доверившись вожакам „партии народной свободы“, т. е. кадетов, на мои советы не обращалось никакого внимания!
В результате, конечно, явилась сильнейшая реакция, многие сочувствовавшие евреям или индифферентные к ним, стали антисемитами, и весьма резкими. В России никогда не было столько врагов евреев, как ныне, никогда еврейский вопрос не стоял так неблагоприятно для евреев. Такое положение очень тягостно для них и крайне неблагоприятно для России, т. е. для ее успокоения. Я убежден в том, что, покуда еврейский вопрос не получит правильно го, незлобивого, гуманного и государственного течения, Россия окончательно не успокоится; но вместе с тем весьма опасаюсь, чтобы сразу данное равноправие евреям не наделало много новых смут и опять не обострило дела. Подобные, как и всякие политические вопросы, касающиеся масс, затрагивающие, так сказать, исторические предрассудки, в некоторой степени основанные на расовых особенностях, могут решаться только постепенно, исподволь; всякие быстрые, резкие решения расстраивают равновесие, лучше временное равновесие, хотя бы оно было искусственное, кособокое.
Н. П. Игнатьев
Государство есть живой организм, а потому нужно быть очень осторожным в резких операциях. С государственной точки зрения граф Н. П. Игнатьев (официальный автор антиеврейского закона 1882 г.) и П. Н. Дурново наделали много вреда своей глупой политикой в еврейском вопросе. Такой ультраконсерватор, но умный человек, как граф [И. И.] Толстой, бывший министр внутренних дел при Александре III, не допустил бы этих ошибок. Он не успел исправить ошибки Игнатьева,[144] но при нем еврейский вопрос успокоился.[145] После его смерти [И. Н.] Дурново взял прежний курс Игнатьева, хотя лично был в самых дружеских отношениях с некоторыми еврейскими крезами, и не из материальных расчетов, ибо он денежно был человек честный. Он просто был крайне недалек и угодлив. Такой курс был в дворцовой камарилье, и он угодничал. Душою же и сочинителем всех антиеврейских проектов и административных мер был Плеве, как при графе Игнатьеве, так и при Дурново. Лично, как это было ясно из многих разговоров с Плеве по еврейскому вопросу, он против евреев ничего не имел, он был настолько умен, что понимал, что политика эта неправильна, но она нравилась великому князю Сергею Александровичу, по-видимому и его величеству, а потому Плеве старался вовсю».[146]
Этот густо написанный отрывок насыщен бесценной информацией, но она препарирована соответственно общественно-политическим взглядам автора, а потому нуждается в уточнениях. Прежде всего, бросается в глаза недостаточная осведомленность Витте в революционных и оппозиционных российских группировках. Все они для него на одно лицо, он видимо, никогда не слышал об острых разногласиях между народниками и социал-демократами, большевиками и меньшевиками, все революционные группы для него — «анархисты». И где-то рядом, в его представлении, обретаются кадеты. А так как еврейство, за исключением кучки богатых «крезов», тоже представляется ему довольно однородной массой, то и получается что они — «бомбисты, убийцы, разбойники» и они же — интеллектуально и материально питают «партию народной свободы». То и другое просто несовместимо, а не только непомерно преувеличено.
Особенно наивно для такого многоопытного государственного мужа выглядят его советы «главам русского и иностранного еврейства». Выходит, даже Витте не был свободен от того предрассудка, из которого родились «Протоколы сионских мудрецов» (кстати сказать, именно против него и направленные, но это отдельная тема). Он исходит из того, что существуют какие-то «главы еврейства», которым подчиняется еврейская масса. Призывы к «благоразумию», обращенные к «главам», основаны на этой фикции: ведь «главы еврейства» могли повлиять на еврейскую (и нееврейскую) молодежь не в большей мере, чем если бы читали проповедь землетрясению.
Да и были ли эти советы так уж благоразумны? Вряд ли. Разве евреи не пытались десятилетиями добиться мало-мальски сносного к себе отношения покорностью, кротостью, угодничеством, подхалимством? Не сам ли Витте пишет об еще недавней «феноменальной трусливости» евреев, за версту ломавших шапку перед околоточным надзирателем и не смевших помышлять ни о каких протестах! Увы, горьким опытом поколений было добыто простое знание, что милости от властей предержащих им не дождаться; что мольбой, лестью, кротостью, заискиванием, даже астрономическими взятками можно добиться только еще большего презрения, какого, впрочем, и заслуживают трусы и подхалимы. Часть евреев полностью изверилась в возможности чего-то добиться; выход она видела в исходе (сионизм!). Другая часть свои упования на лучшую долю связывала с судьбой остальной России, считая, что перемен к лучшему можно добиться, но только совместно с русским народом. Вряд ли эта позиция была неразумной.
П. Н. Дурново
Разве не об этом на каждом шагу свидетельствует и сам Витте? Он-то, конечно, хотел решить еврейский вопрос благоприятно для евреев и с пользой для государства. Но он был белой вороной в высшем эшелоне царской администрации. Преобладали в ней графы Игнатьевы и Толстые, личности типа П. Н. Дурново, Плеве, великого князя Сергея Александровича. Одни устраивали погромы; другие их прекращали, но ужесточали процентные нормы; третьи — при всеобщем молчании — затевали высылку еврейского населения из первопрестольной. Кто-то, не имея в душе ничего против евреев, третировал их из угодничества перед дворцовой камарильей и его величеством. И все — жировали за счет «налога на жидов». Можно ли было всерьез ожидать, что свора высокопоставленных держиморд и мздоимцев ни с того ни с сего сжалится над инородцами-иноверцами и приступит к — пусть не одномоментной, но хотя бы постепенной (как считал правильным Витте) — отмене травли, ограничений, стеснений, а, значит, и столь выгодного «налога». Ради чего? По какой надобности?
Ну а сам Витте — допустим на минуту, что он получил бы от царя полномочия осуществлять все, что считал полезным и нужным? Столь уж неотложными показались бы ему послабления по отношению к иноверцам, чьи «расовые особенности» он считал одной из причин «исторических предрассудков» против них, когда на повестке дня всегда стояли бы куда более неотложные вопросы? Вот пример, который приводит он сам.
В 1905 году, когда он, заключив в Портсмуте мир с Японией, встретился с президентом США Теодором Рузвельтом, тот передал ему письмо для Николая II, в котором указывал на неверное толкование российской стороной одного из пунктов торгового соглашения 1832 года. Соглашение предусматривало широкий доступ в каждую из стран бизнесменов из другой страны. Ограничения могли касаться лишь лиц, о которых имеются данные, что их приезд может нанести стране материальный или иной ущерб. И вот российская сторона исключение превратила в правило, чтобы не впускать в Россию американских евреев! Рузвельт объяснял, что при такой трактовке договор входит в противоречие с конституцией Соединенных Штатов, которая запрещает дискриминацию по вероисповедальному признаку. Он просил пересмотреть практику российской стороны, предупреждая, что в противном случае Америка должна будет его расторгнуть.
Вернувшись в Россию, Витте передал письмо американского президента царю, а тот — министру внутренних дел Булыгину. Но с мертвой точки дело не сдвинулось. А вскоре — после манифеста 17 октября — сам Витте возглавил правительство. Казалось бы, ему и карты в руки. Что же он сделал? Он создал… комиссию, и при нем она завершить работу не успела. А потом, уже при Столыпине, комиссия пришла к положительному решению вопроса, но этому решению «не было дано никакого хода», то есть американских евреев продолжали дискриминировать. То же продолжалось и после убийства Столыпина, когда правительство возглавил министр финансов В. Н. Коковцов, который лучше кого бы то ни было понимал экономические выгоды сохранения торгового договора с Америкой. В декабре 1911 года американская сторона денонсировала договор. Торжествовал принцип, некогда провозглашенный императрицей Елизаветой Петровной: «От врагов Христовых интересной прибыли не желаю!»
Как же можно было ждать от правительства — даже самого доброжелательного, — что оно будет торопиться с решением еврейского вопроса, если сами евреи будут вести себя ниже воды, тише травы, ничего не требовать, а только иногда жалобно скулить и «подмазывать»? Мало у правительства других забот? Можно не сомневаться, что веди евреи себя так, как советовал Витте «главам еврейства», «кособокое равновесие» сохранялось бы вечно!
И, наконец, нельзя не сказать о моральном аспекте его совета. Речь ведь шла о конкретной исторической ситуации, когда в России нарастала и все более обострялась борьба между обществом и властью, дорого обходившаяся обеим сторонам. А евреям предлагалось чужими руками загребать жар, то есть в борьбе не участвовать, показывать пример послушания и, пока идет драка, под шумок вымаливать у царя какие-то послабления. Кроме всего прочего, это означало, что евреи не должны были даже мечтать о равноправии, а тихохонько вымаливать для себя равенства в бесправии, да и то — не полного равенства, а постепенных частичных послаблений. А конституции, избирательных прав, свободы печати и прочих свобод для народа, а, значит, и для них, должны были добывать русские, идя за это в тюрьмы, на каторгу, виселицу. То, что предлагал Витте, в сущности, сводилось к штрейкбрехерству, и при том совершенно бесплодному. Евреи были обречены на участие в освободительном, революционном, либерально-демократическом движениях бок о бок с русскими и всеми другими народами.
Постулируемая Солженицыным супер-революционность евреев — это миф, причем он восходит к тому времени, когда евреев вообще не было или почти не было среди российских революционеров, а просто всех неугодных записывали в евреи, что производило соответствующий пропагандистский эффект. Методика св. Геннадия Новгородского, сработавшая в его борьбе против ереси «жидовствующих», действовала безотказно на протяжении столетий. Того же С. Ю. Витте его политические противники постоянно причисляли к «жидовствующим». Любопытна запись в дневнике военного министра генерала А. Н. Куропаткина (1902) — о том, как министр юстиции Н. В. Муравьев обрабатывал его, вкрадчиво внушая, что Витте, «благодаря своей жене, еврейке чистой крови, Матильде, заключил тесный союз с евреями и опутывает Россию.[147] Что в экономическом отношении это опасный для России человек, и чем скорее он оставит пост министра финансов, тем лучше. Но что есть еще более опасная сторона этой личности. Инспирируемый своею Матильдою, он тоже ненавидит государя. Муравьев готов намекать, что в своей ненависти он, неразборчивый в средствах, может зайти очень далеко. В его руках евреи, в его руках особые органы своей тайной полиции. Муравьев и ранее намекал мне, что в происходящих внутри России волнениях он готов заподозрить Витте. Что из числа государственных преступников ему, Муравьеву, первого пришлось бы арестовать Витте. Что он, Муравьев, готов подозревать самые коварные, преступные замыслы в голове Витте. Что он готовится, если бы была перемена царствования, захватить власть в свои руки. У него масса своих людей, всюду организовано свое влияние».[148]
Такова технология всех антисемитских мифов. Сперва постулируется некая особая вредоносность евреев, а затем все неугодные объявляются евреями (или еврействующими, породненными с евреями и т. д.). На таком неглубо ком фундаменте построен и миф о супер-революционности евреев.
В. В. Шульгин
В действительности еврейская масса была не более революционна, чем русская, польская, грузинская etc. Участие в революционных выступлениях принимало активное меньшинство. Наблюдавшееся с годами увеличение доли евреев в этом активном меньшинстве (точнее, в его образованной части) в какой-то мере объяснялось специфически антиеврейской политикой властей, а еще в большей мере — быстрым обрусением евреев. Когда черносотенец, благожелательно цитируемый Солженицыным, В. В. Шульгин писал: «Роль евреев в революционизировании университетов была поистине примечательна и совершенно не соответствовала их численности в стране» (стр. 238),[149] то он допускал заведомую передержку, ибо удельный вес евреев в университетах, даже при наличии процентной нормы, в несколько раз превышал их удельный вес в населении страны. Что же касается основной массы еврейства, то даже Шульгин признавал, что они к революции никакого отношения не имели, а «мирно зарабатывали свой „ковалек хлиба“».[150]
О том, что революционные настроения были особенно широко распространены в студенчестве, хорошо известно. Причина этого раскрывается в мемуарах того же Витте. Говоря о первой жертве политического террора в начале века, министре народного просвещения Н. П. Боголепове, Витте писал:
«Это было первое анархическое покушение; оно было как бы предвестником всех тех событий, которые мы переживали с 1901 по 1905 гг. и которые в другой форме мы переживаем и ныне,[151] но уже по причинам иного порядка, не потому, чтобы России не было дано того, чего она желала. В конце концов, его величеству благоугодно было 17 октября 1905 г. дать России то, о чем лучшие ее люди мечтали с царствования Александра [I] Благословенного. Но нынешнее положение дела происходит от других причин, а именно от того, что Столыпин по соображениям личным, не будучи в состоянии уничтожить 17 октября 1905 г., постепенно его коверкал и коверкал в направлении политического распутства.[152] Боголепов был весьма порядочный, корректный и честный человек, но он держался крайне реакционных взглядов… Вообще, когда сравниваешь этот режим, который был в 1901 г., с тем, который ныне водворил министр народного просвещения Кассо, то приходится дивиться тому, каким образом такой режим, режим полнейшего произвола и усмотрения мыслим после 17 октября 1905 г. Это удивление может быть умалено сознанием, что, в сущности говоря, Кассо есть продукт общей распутной политики, внедренной Столыпиным, которая и породила Кассо».[153]
Витте не упоминает о том, что Боголепов, в бессильном стремлении приструнить студентов, был инициатором такой карательной меры, как сдача их в солдаты. Убивший его В. Карпович и был одним из таких исключенных студентов. Так что у студенчества было достаточно причин противостоять власти и до 17 октября 1905 года, и после, но откуда следует, что студенты-евреи были более революционны, чем русские? Одолев барьер процентной нормы, евреи в большинстве учились гораздо прилежнее своих товарищей и местом в университете сильнее дорожили. С другой стороны, та же процентная норма не могла не возмущать в них естественного чувства справедливости, не оскорблять их национального достоинства, не звать к протесту. Впрочем, ограничения прав евреев возмущали не только их самих, но и многих из их русских товарищей. Чувство солидарности, как известно, особенно развито у молодежи.
Мне неизвестно ни одного исследования, в котором сопоставлялась бы степень революционности студентов разных этнических и религиозных групп. Можно говорить только об отдельных частных наблюдениях, но для обоснованных выводов они недостаточны.
Солженицын приводит наблюдение В. В. Шульгина, относящееся к студенческой сходке в Киевском университете в 1899 году: «Длиннющие коридоры университета были заполнены жужжащей студенческой толпой. Меня поразило преобладание евреев в этой толпе. Было их более или менее, чем русских, я не знаю, но несомненно они „преобладали“, т. е. они руководили этим мятущимся месивом в тужурках» (Стр. 237). Однако нет никаких оснований считать этот случай типичным, да и сама его «подача» не заслуживает доверия по ряду оснований. Во-первых, все писания В. В. Шульгина относятся к полубеллетристическому жанру, реальные факты «обогащены» авторской фантазией. Во-вторых, данное свидетельство было записано через тридцать лет после самого события, а на таком временном расстоянии память способна проделывать шутки с куда более щепетильными мемуаристами. А главное, Шульгин был патентованным антисемитом, чего и не скрывал, но, напротив, «сто тысяч раз в течение двадцатипятилетнего своего политического действия о сем заявлял, когда надо и не надо»;[154] а в предубежденном сознании юдофоба евреи «преобладают» во всем, к чему он, юдофоб, относится негативно.
Волнения в Киевском университете, о которых пишет Шульгин, возникли в знак солидарности со студентами Петербургского университета, подвергшимися избиению полицией. В столичном же университете евреев было в несколько раз меньше, чем в Киевском, ибо прием их был ограничен трехпроцентной нормой (в Киеве — 10 процентов).[155] Так что студенты-евреи, участвовавшие в киевских событиях, шли на столкновение с властями ради того, чтобы поддержать своих питерских товарищей-неевреев. Такова истинная цена утверждениям Шульгина и вслед за ним Солженицына, будто евреи преобладали в студенческом движении.
Большего доверия заслуживает другое свидетельство, приведенное Солженицыным. Он пишет: «Г. Гершуни на суде объяснял: „Это — ваши преследования загнали нас в революцию“» (стр. 239). Г. Гершуни — один из ведущих эсеровских боевиков, отличавшихся фанатизмом и бесстрашием, — говорил, конечно, о своем субъективном опыте. Переносить его на широкие слои молодых еврейских интеллигентов не следует: большинство из них, хотя и жаждало перемен, но не готово было ни умирать, ни убивать ради них. Но определенная доля истины в словах Гершуни, несомненно, содержится. Ибо если власти рассчитывали, что в ответ на процентную норму в гимназиях и университетах евреи введут процентную норму на свое участие в революционном движении, то это была утопия. Одно из двух — либо процентная норма на поступление в учебные заведения и вообще на нормальное участие в жизни, либо процентная норма на участие в борьбе против процентных норм и иных притеснений!
Итак, понятно, что «загоняло в революцию» евреев. Но Солженицын, не оспаривающий черносотенца Шульгина, оспаривает «красносотенца» Гершуни: «На самом деле объяснение уходит корнями и в еврейскую, и в русскую историю, и в их пересечение», поправляет он эсеровского боевика (стр. 239).
Оно, конечно, не без того, да выражено как-то уж очень туманно по сравнению с чеканной формулировкой Гершуни. Она, как это ни парадоксально (а на самом деле, симптоматично), хорошо согласуется если не с взглядами, то с фактической стороной приведенного выше отрывка из «Воспоминаний» Витте. О том же еще один весьма выразительный отрывок:
«Я расходился с Плеве и по еврейскому вопросу. В первые годы моего министерства при императоре Александре III государь как-то раз меня спросил:
„Правда ли, что вы стоите за евреев?“
Я сказал его величеству, что мне трудно ответить на этот вопрос, и спросил позволения государя задать ему вопрос в ответ на этот. Получив разрешение, я спросил государя, может ли он потопить всех русских евреев в Черном море. Если может, то я понимаю такое решение вопроса, если же не может, то единственное решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить, а это возможно лишь при постепенном уничтожении специальных законов, созданных для евреев, так как в конце концов не существует другого решения еврейского вопроса, как предоставление евреям равноправия с другими подданными государя… Я доныне остаюсь при высказанном мною Александру III убеждении по еврейскому вопросу. Поэтому, когда я был министром финансов, я систематически возражал против всех новых мер, которые хотели принимать против евреев. Я был бессилен заставить пересмотреть все существующие законы против евреев, из которых многие крайне несправедливы, а в общем законы эти принципиально вредные для русских, для России, так как я всегда смотрел и смотрю на еврейский вопрос не с точки зрения, что приятно для евреев, а с точки зрения, что полезно для нас, русских, и для Российской империи».[156]
Тому, что Витте, многократно записанный в «жидовствующие», смотрел на еврейский вопрос «не с точки зрения, что приятно для евреев», можно привести массу примеров, но наиболее показателен эпизод, на котором здесь уместно остановиться уже потому, что на нем останавливается и Солженицын.
Вынудив царя «даровать» свободы, изложенные в манифесте 17 октября 1905 года и возглавив правительство, Витте встретился с представителями прессы, чтобы заручиться ее поддержкой, но потерпел неудачу. От имени собравшихся издателей и редакторов речь держал С. М. Проппер, издатель «Биржевых ведомостей». Он не бросился в объятия к новому главе правительства, как тот ожидал, а стал излагать претензии, что ужасно возмутило Витте.
Солженицын приводит многие подробности этой встречи, но не то, что наиболее важно для основной темы его книги. Вот место из воспоминаний Витте, которые Солженицын обходит.
«Что же собственно заявлял мне г. Проппер в присутствии представителей всей прессы?
— „Мы правительству вообще не верим“. — Согласен, что оно, когда начинает говорить о либеральных мерах, часто не заслуживает доверия. Теперь столыпинский режим это нагляднее всего показывает… Но все-таки не Пропперу было мне после 17 октября заявлять, что он правительству не верит, а в особенности с тем нахальством, которое присуще только некоторой категории русских „жидов“».[157]
Витте просто из себя выходит от одной мысли, что какой-то жид смеет нахально ему возражать, выставлять требования, и это после того, как он, граф Витте, «вырвал» (сам он, впрочем, отрицал, что вырвал) у государя манифест о даровании гражданских прав, парламента, конституции и т. п.! И Проппер смеет говорить «от имени прессы, по крайней мере в присутствии почти всех представителей ее».[158] Если бы эти требования выставил «представитель какого-то крайне левого листка, социалистического или анархического направления, я бы его понял, но в устах Проппера…»[159]
Когда писались эти строки, со времени злополучной встречи прошло лет пять-шесть, но бывший премьер продолжает кипеть, не умея совладать со своими эмоциями!
Из дальнейшего его изложения, однако, выясняется, что ничего собственно «жидовского» в поведении Проппера не было: говорил он не от себя лично, а от профсоюза газет, создавшегося в те бурные дни. В него входили и правые, и левые издания. Перед встречей они, видимо, договорились, что их мнение первоначально должен представить кто-то один, чтобы не устраивать базара. Почему выбор пал на Проппера? Да, видимо, потому, что его газета была умеренной, и сам он был компромиссной фигурой, — ни правым, ни левым, да и вообще не политиком. То, что он высказал премьеру, было согласовано с теми, кто молчал!
Витте считал Манифест 17 октября своей личной победой, и субъективно имел к тому основания, учитывая ту жестокую борьбу, какую он выдержал в замкнутом кругу высшей правительственной бюрократии. Но представители прессы видели в Манифесте победу общественных сил, и у них к тому были не менее веские основания. Они знали, что если бы не общественные настроения, выражаемые прессой и поддержанные такими нешуточными аргумента ми, как всеобщая забастовка, волнения в армии, крестьянские бунты, растерянность и дезорганизация власти, то ни о каких послаблениях не могло быть и речи. Но победу они считали не полной, не окончательной, а, главное, не гарантированной. Они требовали гарантий, что начатый процесс не будет повернут вспять (и ведь был повернут очень скоро, что сам Витте подтверждает). Солженицын, видимо, прав, когда солидаризируется с Витте, который отверг высказанное Проппером требование о выводе войск и полиции из Петербурга (фактически это было требование социал-демократов). Но как понять реакцию того же Витте на требование удалить с поста генерал-губернатора палача рабочих и душителя всех свобод генерала Д. Ф. Трепова?
Трепов был главным врагом Витте на Олимпе власти. «Само собой разумеется, что, раз я стал председателем Совета министров, диктатор Трепов оставаться не мог, но такое требование в устах Проппера лишило меня возможности сейчас же расстаться с Треповым, который, запутавшись, жаждал удалиться к более благоприятной для своей особы роли, и, вопреки просьбе Трепова, дать ему сейчас же возможность улепетнуть, я был вынужден задержать его некоторое время (недели две), так как немедленное удаление его имело бы вид моей слабости, т. е. слабости власти, мне врученной. И опять-таки, кто представил это требование? Господин Проппер…».[160] (Курсив мой — С.Р.).
Интересная логика, очень ясно показывающая, кто был с кем и кто против кого в те судьбоносные дни. Трепов — это абсолютное зло, Трепов должен уйти, он и сам просится уйти, но Витте его не может отпустить именно потому, что представители прессы требуют того же!
Аналогичное противостояние возникло по вопросу о политической амнистии. Вскоре был принят закон (точнее, указ) о широкой амнистии политических заключенных, совершивших преступные деяния до 17 октября; Витте явно гордился этой акцией. Но то, что Проппер, от имени профсоюза прессы, потребовал амнистии, его возмущает до глубины души.[161] По его логике, сотрудничество с прессой должно было выразиться в том, чтобы она пала перед ним ниц и стала коленопреклоненно петь осанну дорогому и любимому вождю и учителю Сергею Юльевичу. Выходит, что власть, даже в лице наиболее либерального и решительного ее представителя, не готова была объединиться с обществом для совместной работы над оздоровлением обстановки в стране. Между властью и обществом сохранялся водораздел, так что Проппер имел основания не доверять правительству и требовать подтверждения либеральных деклараций немедленными действиями.
П. Н. Милюков
Об этом говорили Витте многие в те дни. Он прилагал большие усилия, чтобы привлечь в правительство или хотя бы заручиться поддержкой представителей общественных организаций — конечно, из числа наиболее умеренных. С этой целью он встречался со многими видными деятелями, но все они выставляли условия, требования, которые он, может быть, и рад бы, но бессилен был удовлетворить. Так, П. Н. Милюков предлагал ему — в развитие Манифеста, издать от имени царя Конституцию, взяв за образец хотя бы Бельгийскую или Болгарскую. Только так, объяснял будущий лидер партии кадетов (в те дни еще не оформившейся) правительство сможет заручиться доверием общества. Витте ответил: «Не могу, потому что царь этого не хочет». И он действительно не мог. Ведь даже в Манифесте, где фактически говорилось о даровании конституции, само это слово — столь страшное для царя — выступало под псевдонимом «основные законы». «Это было то, чего я ожидал: краткий смысл длинных речей, — продолжает П. Н. Милюков. — И я заключил нашу беседу словами, которые хорошо помню: „Тогда нам бесполезно разговаривать. Я не могу подать вам никакого дельного совета“».[162]
Перетягивание каната продолжалось, и виноваты в этом были, как минимум, обе стороны. Витте это отрицает, а негодование свое фокусирует на Проппере, хотя тот был только одним из тех, кто «озвучил» перед ним широко распространенное мнение. Нельзя не видеть, что рассуждения бывшего премьера о «нахальном еврейчике» продиктованы не разумом, а прорвавшимися сквозь внешний лоск юдофобскими атавизмами, таившимися, оказывается, в темных закоулках его души и вдруг хлынувшими наружу, точно прорвавшаяся из недр магма.
Если такие страсти бушевали в душе даже самого высоколобого представителя царской администрации, то что же говорить о менее умных и интеллигентных! В их сознании евреи заранее были виноваты во всех неудачах власти.[163]
Не одни Меньшиковы творили миф о «еврейской революции», когда революционной была вся униженная и оскорбленная Россия, то есть большинство русских крестьян, рабочих, ремесленников, солдат, мелких служащих, студентов, интеллигентов, и практически все национальные и религиозные меньшинства (они составляли 35 процентов жителей империи, если украинцев и белорусов считать русскими, хотя сами они так не считали и имели свои претензии к власти). Но расшатывали ее и более могущественные силы. Вот что писал об этом уже в эмиграции великий князь Александр Михайлович (Сандро), один из наиболее близких Николаю II членов императорской фамилии:
«Императорский строй мог бы существовать до сих пор, если бы „красная опасность“ исчерпывалась такими людьми, как Толстой и Кропоткин, террористами, как Ленин и Плеханов, старыми психопатками, как Брешко-Брешковская или же Фигнер, или авантюристами типа Савинкова и Азефа. Как это бывает с каждой заразительной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных носителях заразы: мышах, крысах и насекомых… Или же, выражаясь более литературно, следует признать, что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков заразы. Трон Романовых пал не под напором предтеч Советов или юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян (но хотел ли? — С.Р.); полиция справилась бы с террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах. Как надо было поступить с теми великосветскими русскими дамами, которые по целым дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу?»[164]
Великий князь Александр Михайлович (Сандро)
Лодку самодержавной власти Николая II раскачивало все общество снизу до верху. Только вот с логикой великого князя Сандро согласиться трудно, ибо получается у него, что вся страна болела «заразительной болезнью», и только государь император был здоров. На самом деле, наиболее тяжелой формой болезни страдал он сам и усиленно прививал ее всем тем, кто вместе с ним или его именем правил страной. Об этом свидетельствует и сам великий князь Сандро, когда приводит часть своего письма, посланного императору за два месяца до его отречения от престола:
«Как это ни странно, но мы являемся свидетелями того, как само правительство поощряет революцию. Никто другой революции не хочет. Все сознают, что переживаемый момент слишком серьезен для внутренних беспорядков. Мы ведем войну, которую необходимо выиграть во что бы то ни стало. Это сознают все, кроме твоих министров. Их преступные действия, их равнодушие к страданиям народа и их беспрестанная ложь вызовут народное возмущение. Я не знаю, послушаешься ли ты моего совета или же нет, но я хочу, чтобы ты понял, что грядущая русская революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего правительства. Впервые в современной истории революция будет произведена не снизу, а сверху, не народом против правительства, но правительством против народа».[165]
Стремясь подвести хоть какую-то базу под представления об «особой», «чрезмерной» революционности евреев, Солженицын прибегает к излюбленному им приему — цитированию авторов-евреев, подбирая то, что ему нужно, а не то, что хоть сколько-нибудь обосновано и соответствует исторической действительности. Источником ему в данном случае служит в основном сборник «Россия и евреи», составленный так называемым «Отечественным объединением русских евреев за границей» и изданный в Берлине. (Берлин: Основа, 1924; второе издание: Париж: YMCA-Press, 1978). Весь пафос авторов этого сборника состоит в биении себя в грудь и посыпании головы пеплом.
Объясняя, в чем состояла якобы роковая роль евреев в русской революции, Г. А. Ландау, которого Солженицын называет «видным еврейским публицистом», многословно рассуждает о том, что еврейские родители — мещане и буржуа — даже те из них, кто не придерживался революционных взглядов, «сочувственно, подчас с гордостью, и в крайнем случае безразлично [взирали] на то, как их дети штамповались ходячим штампом одной из ходячих революционно-социалистических идеологий» (стр. 239–240) — в отличие, надо полагать, от русских мещан и буржуа, которые своих детей от этого удерживали!
Прежде всего надо сказать, что Г. А. Ландау был не только публицистом, но активным общественным и политическим деятелем, участником Еврейской демократической группы. До 1905 года эта группа примыкала к Союзу Освобождения, в котором ведущую роль играли П. Б. Струве, И. И. Пуринкевич, П. Н. Милюков, Ф. И. Родичев, составившие затем ядро Конституционно-демократической партии. В горниле событий 1905 года немногочисленная группа Ландау оказалась левее кадетов, в одной связке с трудовиками, тогда как к кадетам примкнула более многочисленная Еврейская народная группа — еще одно подтверждение той простой истины, что еврейское революционное, либеральное, оппозиционное движение, в своей пестроте, лишь повторяло в уменьшенном виде общероссийское движение.[166] Таким образом, Г. А. Ландау выражал настроения отнюдь не всего еврейства, а относительно небольшой группы. Пиком его общественно-публицистической деятельности было составление в 1905 году, «в минуту открытого проявления всех общественных требований», текста знаменитого «Заявления еврейских граждан» с требованием равноправия, под которым было собрано более шести тысяч подписей. Для Солженицына этого документа не существует — он его не цитирует и не упоминает, зато охотно приводит сомнительные послереволюционные спекуляции того же Ландау, под которыми вряд ли поставили бы свои подписи хотя бы шесть человек из тех, кто подписал его «Заявление» 1905 года.
Словами «видного еврейского публициста» Солженицын сообщает читателям о том, будто «постепенно установилась в еврейском обществе гегемония социализма», что революционные идеи «в еврейской среде были дважды разрушительны», и т. п. Договаривается он вместе с Г. А. Ландау и до того, что евреи якобы отрицали «гражданское общество и современное государство» (стр. 240). Абсурдность этого утверждения состоит уже в том, что российское государство, в том виде, в каком оно существовало, как раз и было главным отрицателем гражданского общества; значительное большинство тех, кто выступал против такого государства, боролись за гражданское общество. Не говорю уже о том, что противники царского строя вовсе не отрицали государства. Исключение составляла лишь небольшая группа анархистов, сбитых с толку опасными утопиями Бакунина и Кропоткина. В «Заявлении» Г. А. Ландау 1905 года читаем: «Мы ждем уравнения нас в правах с русским народом; наравне и вместе со всеми народами России мы и будем устраивать свою судьбу, свободно развивая свои силы на благо государству и человечеству». (Курсив мой — С.Р.).[167] Какова же после этого цена словам того же автора, что евреи якобы отрицали гражданское общество и государство?
Не большего стоят и его запоздалые сетования на то, что еврейские родители якобы охотно поощряли детей на революционный подвиг. Если бывали такие родители, то только как исключение. Правилом же было обратное: еврейские родители тряслись над своими детьми гораздо больше, чем русские (чрезмерное чадолюбие — одна из самых характерных национальных черт евреев, предмет постоянных шуток острословов), а потому и всячески старались уберечь отпрысков от опасных увлечений, грозивших погубить их молодые жизни. Если же часть молодежи все-таки шла в революцию, то лишь потому, что родители были бессильны противостоять влиянию общественной атмосферы, в которую попадали их чада, когда выпархивали из-под родительского крыла.
Об убожестве рассуждений, на которые опирается Солженицын, еще ярче говорят другие его выписки из того же сборника. Читаем:
«В. С. Мандель отмечает: „Русский марксизм в чистом его виде, списанный с немецкого, никогда не был русско-национальным движением, и революционно настроенной части русского еврейства, для которой восприять социалистическое учение по немецким книжкам не составляло никакого труда, естественно было принять значительное участие при пересадке этого иностранного фрукта на русскую почву“. Ф. А. Степун высказался так: еврейская молодежь смело спорила, цитируя Маркса, в каких формах русскому мужику надо владеть землею. Марксистское движение в России началось с еврейской молодежи в черте оседлости. Развивая мысль, В. С. Мандель припоминает „Протоколы сионских мудрецов“… эту нелепую и злостную фальсификацию».[168] Так вот «эти евреи усматривают в бреднях протоколов злой умысел антисемитов искоренить еврейство», но ведь они «сами в большей или меньшей степени не прочь устроить мир на новых началах и верят, что революция есть шаг по пути осуществления царства Божия на земле и они, уже не в осуждение еврейского народа, а в похвалу, приписывают ему роль вождя народных движений за свободу, равенство и социальную справедливость, вождя, для достижения этой высокой цели, конечно, не останавливающегося перед разрушением существующего государственного и социального строя». И приводит пример крайнего выражения в книге Фрица Кана «Евреи как раса и народ культуры»: «Моисей за 1250 лет до Христа первый в истории провозгласил права человека… Христос заплатил смертью за проповедь коммунистических манифестов в капиталистическом государстве»; а «в 1848 году вторично взошла вифлеемская звезда — и опять она взошла над крышами Иудеи: Маркс» (стр. 242, со ссылкой на сборник «Россия и евреи», стр. 172–173).
Солженицын приводит этот длинный пассаж для подтверждения основных своих положений. Попытаемся разобраться — есть ли нем хоть какой-то смысл? Нам сообщается, что марксизм был перенесен в Россию не Г. В. Плехановым и другими разочаровавшимися в народничестве чернопередельцами, а еврейской молодежью.
«Протоколы сионских мудрецов» В. С. Мандель, конечно, называет фальшивкой, но сам — с не меньшей разнузданностью, нежели создатели этого подлога, — приписывает евреям претензию на «вождизм», на руководство всем миром, на безудержное стремление к потрясению основ, «не останавливаясь перед разрушением существующего государственного и социального строя». Это та же клевета на еврейский народ, что содержится в «Протоколах…»! Но, пожалуй, самое изумительное в приведенном пассаже — это цитата в цитате из некоего Фрица Кана, говорящая о том, что бредовому сознанию юдофобствующего еврея — так же, как сознанию любого одержимого юдофоба, — поистине «все дозволено». Библейский Моисей — племенной вождь, освободивший из рабства свой народ (племя) — превращается в поборника прав человека (индивидуальных свобод), о чем, конечно, он не имел ни малейшего понятия; рабовладельческий Рим, распявший Иисуса Христа, превращен в капиталистическое государство, а сам Иисус, проповедовавший то ли всепрощение и смирение (согласно одному из наиболее принятых толкований), то ли звавший к народному восстанию против Рима (согласно другому распространенному толкованию), то ли как-то сочетав ший в своем учении эти две крайности, вдруг становится проповедником коммунистических манифестов, которые, конечно, ему не могли и присниться; и, наконец, истинный автор коммунистического манифеста, немецкий выкрест-антисемит, считавший евреев наиболее полным воплощением ненавистной ему буржуазности, преображается в подобие прорицателя, странствующего по Иудейской пустыне.
Бумага поистине все терпит. Постулируя мистическую связь между тремя евреями, отделенными друг от друга тысячелетиями, Мандель, в сущности, приписывают евреям все социальные потрясения и катаклизмы, когда-либо случавшиеся в истории человечества. От чего, конечно, снова переходит к истории России. Солженицын с готовностью цитирует. Русское правительство «окончательно зачислило еврейский народ во враги отечества», но это, так сказать, поделом, ибо «хуже того было, что многие еврейские политики зачислили и самих себя в такие враги, ожесточив свои сердца и перестав различать между „правительством“ и отечеством — Россией… Равнодушие еврейских масс и еврейских лидеров к судьбам Великой России было роковой ошибкой» (стр. 453–454). Это пишет тот самый автор, который только что иронизировал по поводу того, как еврейская революционная молодежь, с пеной у рта и с риском попасть на каторгу, спорила о формах земельной собственности русских крестьян! Так в чем же была «роковая ошибка» евреев — в том, что они вместе с русскими революционерами боролись с деспотическим режимом, чтобы сделать Россию свободной и счастливой страной, или в том, что они были равнодушны к ее судьбе, полагая, что им с ней не по пути? Только очень неумный и полуобразованный «публицист», одержимый манией своей собственной значимости, может без зазрения совести выставлять на всеобщее обозрение такой интеллектуальный кисель. Вести разговор на таком уровне просто неудобно. Но именно из такого сора Солженицын выстраивает свою концепцию ведущего участия евреев в революции. Он пишет уже от себя:
«…и в разрушении монархии, и в разрушении буржуазного порядка… евреи также послужили передовым отрядом. Такова — прирожденная мобильность еврейского характера, и его опережающая повышенная чуткость к общественным течениям, к проступу будущего. Но в истории человечества не раз бывало, что из самых естественных порывов людей — потом вдруг да вырастали неестественные чудовища» (Стр. 123).
Иначе говоря, неестественное чудовище большевистской тирании «произросло» из естественной мобильности еврейского характера! Если не одни они совершили революцию, то «послужили передовым отрядом».
Солженицын приходит к тому, с чего начал. Он не ищет ответа на поставленный вопрос, не решает задачу, а подгоняет решение под заранее известный ему ответ. Ответ этот заимствован отнюдь не у Ландау или Манделя, а из досоветских и пост-советских писаний черносотенных публицистов, от М. О. Меньшикова и В. В. Шульгина до И. Р. Шафаревича и В. В. Кожинова.
Но почему же все-таки в России произошла революция? Кто был ее действительным вдохновителем и организатором? На этот вопрос в книге Солженицына ответа нет. Мой посильный ответ — в следующих главах.
ЧАСТЬ II Коронованный революционер
Между «дураками» и «мерзавцами» 1894–1904
Как мы видели, статистические выкладки о процентном участии евреев в революционном движении, на которые опирается Солженицын, оставляют за бортом огромное большинство участников революционных выступлений, а выписки из «еврейских источников», приводимые им в подтверждение преобладающего участия евреев в революции, тенденциозны и тенденциозно подобраны. Однако наиболее существенный изъян его построений на этот счет в том, что относительное участие тех или иных групп населения в разрушении царской России в принципе не может быть оценено на основании статистических данных.
Самые разные общественные круги и отдельные личности, в том числе и те, кто не был сторонником революции, своими действиями, а порой и просто фактом своего существования намеренно или ненамеренно, подмывали устои склеротического режима. Ненасильственное сопротивление, к которому призывал яснополянский мудрец, в бессильной злобе преданный церковной анафеме, содействовал дискредитации и развалу системы с куда большей эффективностью, чем все революционные партии. Роль одного Троцкого в тысячу раз превосходила роль сотен рядовых, да и не очень рядовых «бойцов революции», ну а Ленин стоил сотен Троцких. Однако и Ленин, и Сталин, и Троцкий, и Плеханов, и Керенский, и все боевики-эсеры не имели бы ровно никакого значения (в крайнем случае, в подробном учебнике российской истории им отводилось бы краткое подстрочное примечание), если бы не главный революционер всех времен и народов, государь император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая и прочая — Николай II. Если бы не методичное разрушение могучей империи венценосным конспиратором, то «товарищ Сталин не принимал бы в 1931 году в Кремле мистера Бернарда Шоу», как не без остроумия заметил его двоюродный дядя, великий князь Александр Михайлович (Сандро).[169]
В Советском Союзе о Николае II были опубликованы тонны разоблачительных текстов, рисовавших его кровожадным злодеем. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Все, что ими было достигнуто, — это обратная реакция постсоветской историографии, когда почти все авторы ударились в другую крайность, стремясь максимально облагородить последнего российского самодержца, показать его невинной жертвой — то ли еврейского заговора, то ли большевистских зверств, то ли еще кого-то или чего-то, но только не его собственной политики и линии поведения. Интересно, что у Солженицына, как в эпопее «Красное колесо», так и в «научном», как он считает, труде о русско-еврейских отношениях, в котором евреям отводится столь важная роль в революционном движении, Николай Романов почти отсутствует. Словно на российском троне восседала не действующая историческая фигура, а какая-то мумия, не человек, а тень человека.
* * *
Николай Александрович Романов как частное лицо был вполне симпатичен. Он был невысок, но хорошо сложен, строен, с офицерской выправкой, приятным лицом и чарующим взглядом больших голубых глаз. Он любил наряжаться в мундиры самых разных полков, и некоторые ему очень шли. Он был хорошо воспитан, мягок, предельно выдержан, немногословен. Он не был умен, но обладал цепкой памятью. Умел вести неторопливую светскую беседу о пустяках — дружески, но держа дистанцию, не впуская собеседника себе в душу. Он никогда не повышал голоса, и в его манере держаться не было ничего самодержавного или хотя бы барского. Он был любящим мужем, нежным, заботливым отцом, образцовым семьянином. Будь он, допустим, помещиком средней руки, он мог бы прожить спокойную, счастливую жизнь в кругу своих родных и близких. Он любил простые, здоровые развлечения и, вероятно, много времени уделял бы рыбалке, охоте, пилке и колке дров, верховой езде и особенно пешим прогулкам. Он мог бы стать хорошим метеорологом: мало кто с такой любовной пунктуальностью отмечал в дневнике малейшие колебания погоды.
Его природное здоровье и здоровый образ жизни давали ему хороший шанс дожить до глубокой старости, выдать замуж всех четырех дочерей и с наслаждением возиться с озорующим выводков внучат. Вот с единственным сыном Николаю Александровичу не повезло. Унаследованная болезнь оказалась роковой. Она причиняла мальчику много страданий, доводила родителей до отчаяния, и — вопреки их героическим усилиям — в сравнительно раннем возрасте свела бы его в могилу. Одна мысль об этом причиняла отцу и матери много горя. Но можно не сомневаться, что при глубокой религиозности Николая Александровича он сумел бы со скорбным достоинством пережить свое несчастье. Тем больше отцовской заботы и нежности он отдавал бы дочерям и внукам и почил бы в окружении многочисленного семейства, обливающегося искренними слезами.
Закадычных друзей, в силу некоторых особенностей характера, у Николая Александровича, вероятно, не было бы; но среди знакомых он пользовался бы уважением и любовью, хотя те, кому довелось бы узнать его ближе, перешептывались бы о том, что-де человек он хороший, но неустойчивый; что серьезных дел с ним лучше не затевать, так как слова своего он не держит, обещанного может не исполнить; судачили бы о том, что он скуповат, на чужую беду неотзывчив и что он был бы много приятнее, общительнее и интересней, если бы не находился под каблуком своей властной супруги — единственного в семье человека «в штанах», как она сама говорила.
Словом, Николай Романов был обычным средним человеком, со своими сильными и слабыми сторонами. Но этому среднему человеку выпала далеко не средняя роль на подмостках исторической сцены, и все его качества — положительные и отрицательные, полезные и вредные соединились роковым образом для того, чтобы привести к гибели его империю, его самого и столь любимое им семейство.
Оглядываясь на его жизнь, нельзя не увидеть в ней мистической заданности, словно с самого рождения неумолимый рок вел его к гибели в подвале Ипатьевского дома.
Николай Александрович, старший сын Александра III, родился в день праведного Иова, чему впоследствии придавал сакральный смысл. В тяжелые минуты, когда надо было принимать судьбоносные для страны и для него самого решения, а у него опускались руки, — он любил сравнивать себя с многострадальным Иовом, говоря, что изменить все равно ничего нельзя, так как все зависит от воли Божией. Это была отговорка слабого, растерянного человека; Божьим промыслом он оправдывал свою беспомощность. Фундаментальное различие между ним и библейским персонажем состояло в том, что праведный Иов стал жертвой жестокого эксперимента; сыпавшиеся на него несчастья были предначертаны свыше и никак не зависели от него самого. Тогда как самодержавный российский государь Николай II почти все несчастья накликал на себя сам.
По-видимому, его воля была сломлена еще в детстве — вероятнее всего, слишком строгим и жестким отцом. Однако излишний родительский нажим может вызвать разную реакцию: одних он делает податливыми, робкими, мягкими, как воск; других ожесточает и заставляет противодействовать. Николай Александрович с готовностью покорился, подчинился отцу, которого боготворил, чьи заветы свято хранил и кому потом пытался подражать. Но отцовская палица оказалась ему не по плечу. Трудно указать на двух столь разных людей, как император Александр III и его сын Николай II.
Александр III
Александр III был высокого роста и могучего телосложения. Тучный, малоподвижный гигант, чья поступь была весома и значима, как и каждое слово. Он был ограничен и деспотичен — коронованный мужлан. Но он отличался большой цельностью, уверенностью, прямотой, отсутствием комплексов. Он охотно пользовался услугами людей, превосходивших его знаниями, культурой, умом, не чувствуя себя ущемленным.
Николай II был намного образованнее, воспитаннее, утонченнее своего отца, но он не обладал его уверенностью и прямотой. Снедаемый мелким честолюбием, он испытывал скрытую ревность и зависть к более умным, знающим и сильным. Ему все чудилось, что его держат за несмышленыша, что насмехаются над ним за его спиной. Это развило в нем крайнюю недоверчивость и скрытность. Ему было комфортнее с людьми мелкими, подобострастными, готовыми восхищаться каждым его словом и жестом — в таком окружении он ощущал себя полноценной личностью. Искреннее ли было восхищение или лицемерное — в это он подчеркнуто не вникал: внешнюю форму, ритуал отношений ценил больше, чем их суть. Он не умел говорить людям в глаза неприятное и еще меньше умел выслушивать. Двуличие и лицемерие были для него нормой. Высказанную ему неприятную правду он считал дерзостью. Против возражений он не спорил, но молча их отвергал как посягательство на неограниченные права самодержавного властелина.
«Спорить было противно самой природе царя, — отмечал близкий к нему свитский генерал В. Н. Воейков. — Не следует упускать из вида, что он воспринял от отца, которого почитал и которому старался подражать даже в житейских мелочах, незыблемую веру в судьбоносность царской власти… Он склонялся лишь пред стихийным, иррациональным, а иногда и противным разуму, пред невесомым, пред своим все возрастающим мистицизмом. Министры же основывались на одних доводах разума. Они говорили о цифрах, процентах, сметах, исчислениях, докладах с мест, примерах других стран и т. д. Царь и не делал [попыток], и не мог оспаривать таких оснований. Он предпочитал увольнять в отставку лиц, переставших преследовать одну с ним цель».[170]
В этом отрывке почти все точно, но одна оговорка необходима. Как было бы все просто и объяснимо, если бы царь преследовал ясные цели и удалял тех сотрудников, которые в эти цели не верили! Но в том-то и дело, что никакой стратегии у него не было, а тактику он менял постоянно, уступая нашептываниям или нахрапу тех или иных царедворцев, и — с роковой последовательностью — проявлял неожиданное упрямство именно тогда, когда жизненно необходимо было уступить доводам разума. Податливость, готовность изменить свои мнения, отказаться от намеченного плана, чтобы кого-то не обидеть или избежать истерической сцены с женой, сочетались в нем с упорством и неподатливостью по отношению к аргументам людей ответственных, принципиальных, т. е. имеющих свое мнение и готовых его отстаивать. Создается впечатление, что чем неотразимее были доводы, тем упорнее он их игнорировал. При этом был злопамятен и рано или поздно несогласных отправлял в отставку.
«По недостатку гражданского мужества, царю претило принимать окончательные решения в присутствии заинтересованного лица. Но участь министра была уже решена, только письменное ее исполнение откладывалось».[171]
Одним из самых больших, почти непостижимых парадоксов личности Николая II было отсутствие властолюбия. Возможность повелевать, играть судьбами людей его не тешила, а тяготила. Власть была для него бременем, это был крест, возложенный на него судьбой многострадального Иова. Отчего же не облегчить себе ношу?
Самодержцы или монархи, получившие власть по праву рождения, не всегда наделены талантами государственных деятелей. На то и состоят при них герцоги Ришелье, Меттернихи, Бисмарки. Отчего же венценосному Иову было не избавиться от своих мучений, вручив бразды правления какому-нибудь российскому Бисмарку? Но Николай II хотел сам играть ведущую роль. Над свежей могилой погибшего ради него П. А. Столыпина (впрочем, не над могилой: на похоронах царь «блистал своим отсутствием»), предлагая возглавить правительство В. Н. Коковцову, Николай не преминул предупредить: «Надеюсь, что вы меня не будете заслонять, как Столыпин?» Это был, может быть, наиболее выразительный по циничной неуместности пример, когда государь так ярко обнаружил уязвленность мелкого себялюбца, но далеко не единственный. «Такими примерами полно его царствование», — свидетельствовал А. Ф. Кони.[172]
Будучи наследником, Николай старался всячески угождать родителю. Из послушания он был прилежен в учебе. Он старательно нес тяготы военной службы, не манкируя, не злоупотребляя положением цесаревича. Больше всего времени он проводил в среде гвардейских офицеров — прямых, примитивных парней. С ними ему было хорошо. Даже в его речи до конца жизни улавливался гвардейский акцент.
М. Кшесинская
Когда Николай повзрослел, но еще рано было его женить, отец велел ему завести любовницу (дабы отучить от некой вредной привычки). Он и это исполнил с готовностью. Так появилась в его жизни обольстительная балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, которую он потом передал с рук на руки своему двоюродному дяде, великому князю Сергею Михайловичу (а позднее она ушла к другому великому князю, Владимиру Александровичу, от которого имела сына). Ее воспоминания о «Никки» дышат сердечностью женщины, бережно хранящей память о первой любви и недолгом счастье. Но, даже будучи еще очень неопытной молоденькой девушкой, без ума влюбленной в будущего императора, Матильда сознавала, что «он не сделан для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть».[173] Он с ней соглашался не только по своему органическому неумению спорить.
Преждевременная кончина Александра III ошеломила Николая. Горе его было искренним и глубоким, и не столько потому, что он потерял обожаемого отца, сколько из страха перед собственной неспособностью его заменить. Он чувствовал, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. И хуже всего то, что это понимали окружающие.
«Каждый… сознавал, что наша страна потеряла в лице государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть, — вспоминал великий князь Александр Михайлович. — Никто не понимал этого лучше самого Никки. В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня под руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что сделался императором, и это страшное бремя власти давило его.
— Сандро, что я буду делать! — патетически воскликнул он. — Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!
… Я старался успокоить его и перечислял имена людей, на которых Николай II мог положиться, хотя и сознавал в глубине души, что его отчаяние имело полное основание, и что все мы стояли перед неизбежной катастрофой».[174]
Итак, уже в день кончины Александра III предчувствие катастрофы было у всех, кто хорошо знал их обоих — почившего государя и его наследника. Правда, совсем иное ощущение господствовало в широких общественных кругах.
Александр III оставил сыну наследство в отменном порядке. За 13 лет своего царствования он последовательно избегал войн, поддерживал инициативы министра финансов Вишнеградского, а затем Витте, энергично проводивших политику укрепления рубля и привлечения иностранного капитала для развития промышленности, транспорта — особенно железнодорожного. Экономика развивалась рекордными темпами, с фантастической быстротой возникали акционерные общества, банки, различные предприятия. Страна крепла, рос объем внутренней и внешней торговли, рос ее международный престиж.
Правда, подавляющее большинство населения прозябало в бедности, бесправии и невежестве, периодические неурожаи приводили к массовому голоду, что мало заботило власти. В 1891 году государь отметил десятилетие своего царствования заявлением, что, «слава Богу, все благополучно», имея в виду то, что он сам и высшие чины администрации вне опасности: террор задавлен, вооруженная борьба против режима заглохла, оппозиции заткнут рот. А в это время в Поволжье от голода пухли дети, вымирали целые деревни. В. Г. Короленко, «работавший на голоде» (как тогда говорили), то есть участвовавший в усилиях общественности организовать помощь голодающим, на государево «благополучие» отозвался статьей, проникнутой болью и сарказмом. Опубликовать ее в России никакой возможности, конечно, не было. Статья появилась за границей без подписи автора.
Но в самой империи царили спокойствие, тишина и порядок. Даже массовая кампания по высылке десятков тысяч евреев из Москвы, проведенная генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем (1991–1992), прошла при полном молчании печати.
Посвятив этому акту произвола несколько скупых строк, Солженицын отмечает реакцию на него в Европе и Америке. Он издевается над «крыловскими порядками», позволившими американской правительственной комиссии не только приехать в Москву и своими глазами наблюдать творимые там ужасы, но в тайне от полиции посетить Бутырскую тюрьму, где томились евреи, виноватые только в том, что из-за крайней бедности не могли выехать из первопрестольной за собственный счет. Их вылавливали и сажали в тюрьму, чтобы затем выслать по этапу. Американцам удалось заполучить фотографии высылаемых, а так же образцы наручников, в которые их заковывали, и затем опубликовать свой отчет в материалах Конгресса США — «к вящему посрамлению России», сокрушается Солженицын (стр. 289).
Только вот о реакции на это варварство российской общественности он ничего сказать не может, ибо никакой реакции не было; вернее, власти не позволили ей себя обнаружить.
Еще за год до этой карательной акции они запретили публиковать протест против травли евреев в печати, подготовленный Владимиром Соловьевым и подписанный пятидесятью крупнейшими деятелями русской культуры, в их числе Л. Н. Толстом и В. Г. Короленко. Мне приходилось упоминать об этом в исторической повести о Короленко,[175] причастность к этой акции Толстого подробно исследована В. Порудоминским.[176]
Этот эпизод говорит о многом. Невозможность публично критиковать власти и высказывать взгляды, им неугодные, создавала иллюзию отсутствия оппозиции. Иллюзия приводила к тому, что проблемы, вызывавшие общественное недовольство, не решались, накапливались и молчаливую оппозицию только усиливали. Потому в том, что называлось тогда «образованным обществом», кончина слоноподобного императора не вызвала особой печали, а породила надежды на благотворные перемены. Такое уже было в недавней российской истории. «Энергичный» император Николай I заморозил страну на тридцать лет, но, как только власть перешла к его сыну Александру II, началась оттепель, потом весна… Головокружительные реформы и вызванный ими подъем общественных сил были таковы, что захватывало дух.
К сожалению, проводя либеральные реформы, ослабляя гнет и тем способствуя образованию и укреплению независимого общественного сознания, Александр II и его администрация как огня боялись какой-либо оппозиции. Не чувствуя за собой морального превосходства над оппозицией, они пытались ее задавить актами полицейского произвола в духе Николая I. Но в новых условиях эти акты не устрашали, а только озлобляли общество, обеспечивая широкую поддержку самым крайним антиправительственным выступлениям, включая террор. Особенно ярко это проявилось в известном деле Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Так она выразила протест против безобразного акта произвола, совершенного Треповым, который приказал высечь заключенного студента Боголюбова, не снявшего перед ним шапку в тюремном дворе. Для понимания атмосферы, царившей в обществе, важен не столько поступок Засулич, сколько реакция на него потерпевшего. Оправившись от ранения, градоначальник ездил по высокосветским гостиным, пытаясь как-то оправдаться в своем безобразном поступке и бормоча, что он ни против Боголюбова, ни против Засулич ничего не имеет.
Арестованная террористка стала героиней дня. Лучшие адвокаты рвались защищать подсудимую, а вот прокурора, готового ее обвинять в суде, долго не находилось. Когда начался процесс, зал суда заполнило самое изысканное общество, явно симпатизировавшее подсудимой, а не ее жертве. Председатель суда А. Ф. Кони, вопреки закулисному давлению, обеспечил обвиняемой и ее защитнику линию наибольшего благоприятствования. Оправдательный приговор присяжных — равносильный осуждению власти — фактически был предрешен. А так как произвол после этого не прекратился, то, чувствуя общественную поддержку, террористы начали охоту на самого царя-Освободителя, чья жизнь трагически оборвалась взрывами бомб на Екатерининском канале 1 марта 1881 года.
Вместе с Александром II ушла из жизни целая эпоха. Но не пришла ли пора ей возродиться? Если Александр III, грубо оборвав преобразования отца, вернулся к курсу своего деда, Николая I, то отчего бы новому императору ни возобновить курс своего деда, Александра II! Возможность поворота казалась тем более реальной, что об интеллигентности и мягком характере молодого императора ходили упорные слухи.
* * *
Николай II с Георгом V
За три года до своей кончины Александр III решил женить наследника, — разумеется, на принцессе, ибо, согласно традиции и закону, брак цесаревича мог быть только династическим (нарушение этого правила лишало права на престол). Послушный сын не возражал, хотя его роман с Матильдой Кшесинской был в разгаре и приносил обоим много радости. Последовали зондажи европейских дворов, выезды заграницу. Николаю приглянулась принцесса Алиса Гессенская. Трудно понять, чем она прельстила изысканного гвардейского офицера. Она не была дурна собой, в каком-то смысле даже красива, но это была угрюмая красота замкнутой, словно чем-то всегда испуганной и сердитой девицы. В Алисе не было живости, непосредственности, женственности, веселости — всего того, что делает молоденьких девушек привлекательными и желанными. Тем не менее, она покорила сердце Никки.
Император и императрица не одобрили его выбора, и послушный сын не посмел перечить. Другие царственные невесты по разным причинам отпали, и вопрос о женитьбе наследника отсрочился на неопределенное время. К неописуемой радости Матильды Кшесинской, уже успевшей оплакать вечную разлуку, Никки утешился в ее объятиях. Но когда болезнь императора приняла крутой оборот, женитьба наследника снова стала актуальной. Александр хотел, чтобы сын срочно обеспечил продление царского рода. Но тут Никки обнаружил ту пассивную агрессивность, которую мало кто подозревал в выдержанном и приветливом молодом человеке. Он сказал, что готов жениться только на Алисе, а поскольку родители этого не одобряют, то он вступать в брак пока не желает.
Других вариантов все равно не было, а с браком император спешил.
Никки был послан в Лондон на свадьбу его кузена принца Георга Йоркского (будущего короля Георга V), где, как было известно, он мог встретиться с Алисой и сделать официальное предложение. 24 июня (6 июля) 1893 года состоялась помолвка, тотчас начались приготовления к свадьбе; но как ни спешили, болезнь императора прогрессировала быстрее. Пока невеста собралась и доехала до России, пока прошла обряд крещения в православную веру, Александр III скончался.
Гроб с телом почившего из Ялты доставили в Петербург. Траурная процессия двинулась в Петропавловский собор — по заранее подготовленному маршруту. По обеим сторонам улицы в скорбном молчании стояли войска; за спинами солдат грудились толпы народа, привлеченного редким зрелищем. Когда процессия двигалась по Невскому проспекту, бравый молодой офицер-конногвардеец зычно скомандовал своему эскадрону: «Смирно!» И еще громче: «Голову направо! Смотри веселей!»
Шедший в группе министров С. Ю. Витте, с удивлением взглянув на офицера, спросил своего соседа: «Кто этот дурак?» И услышал в ответ: «Ротмистр Трепов».[177]
В новом царствовании «дурака» ждала фантастическая карьера (как и двух его братьев). В самые трудные месяцы 1905 года именно он будет пользоваться наибольшим доверием государя и добьется отстранения Витте от власти.
Николай II с будущей императрицей
Через три недели после кончины Александра III состоялась свадьба Николая II и принцессы Алисы Гессенской, ставшей императрицей Александрой Федоровной; свадебные торжества шли вперемежку с траурными. Поспешность венчания выглядела бестактностью, но, хотя для Никки соблюдение приличий имело первостепенное значение, его это не остановило. А когда престарелый министр двора граф И. И. Воронцов-Дашков попробовал намекнуть, что свадьбу следовало бы отложить до окончания траура, Николай, по выражению личного секретаря Воронцова В. С. Кривенко, «закинулся, остался недоволен». Возникшее отчуждение привело к тому, что в конце концов графу Воронцову было указано на дверь.[178] Наиболее близкий из министров обожаемого отца, граф Воронцов стал жертвой пассивной агрессивности молодого императора. Он «почувствовал в нем опекуна, человека, знавшего его с пеленок, относившегося к нему как бы по-отечески, покровительственно. Именно слабые натуры и не выносят кажущийся им над собой контроль», — замечает Кривенко.[179]
Слабые натуры не выносят контроля, но без него им сиротливо, одиноко, они потеряны и растеряны. Избегая контроля со стороны одних лиц, они тем охотнее подпадают под влияние других.
Характерен эпизод, которым Витте начинает свое повествование о Николае II.
Еще при отце его рассматривалось два альтернативных варианта для строительства базы военно-морского флота — в Либаве, на Балтике, или в Мурманске, на Баренцевом море. Стратегические преимущества Мурманска были очевидны: незамерзающий и практически недосягаемый для возможного противника порт на севере делал Россию грозной морской державой, тогда как в Либаве корабли полгода были бы скованы льдами, да и в летнее время могли быть легко заблокированы в бухте флотом потенциального противника. После того, как командированный в Мурманск Витте нашел подходящую бухту, Александр III решил вопрос в пользу мурманского варианта, но окончательного указа подписать не успел. А поскольку Николай был в курсе этого дела, то он и захотел — при первом же докладе у него Витте — окончательно утвердить отцовское решение. Витте просил его повременить, чтобы не сложилось впечатления, что он воспользовался неопытностью молодого государя и «протолкнул» свой проект за спинами оппонентов. Николай резонно возразил, что такие кривотолки исключены, так как он только подтверждает решение отца, но согласился выждать некоторое время. А через два месяца Витте прочитал в «Правительственном вестнике» высочайший указ о строительстве порта имени Александра III в Либаве. И особо подчеркивалось, что имя покойного государя присваивается новому порту именно потому, что осуществляется его идея.
Оказалось, что решение Никки утвердить мурманский проект смертельно обидело главного сторонника Либавы великого князя Алексея Александровича, занимавшего пост генерал-адмирала. Сцена, которую ему закатил дядя, была для Никки — как нож в сердце. Он самолично приезжал к другому великому князю, Константину Константиновичу, — поплакаться в жилетку, но нажиму обиженного родича уступил. Он пожертвовал важными стратегическими интересами России ради того, чтобы порадеть родному человечку. Усвоенные им «начала» самодержавия он понимал самым примитивным образом: Российская империя — это семейная собственность дома Романовых. Цель же своего царствования он, как хороший семьянин, видел в том, чтобы сохранить эти «начала» и передать их своему наследнику в таком же виде, в каком он сам их получил от отца.
Предупредить Витте о перемене решения у него не хватило духу, так что министру финансов пришлось проглотить вдвойне горькую пилюлю, не подслащенную хоть каким-то личным объяснением. И, может быть, самый мелкий в серии мелких поступков, связанных с этим эпизодом, — трусливая попытка спрятаться за широкую спину покойного родителя.
Тут, как в капле воды, отразились почти все аспекты поведения бесхребетного царя в пиковых ситуациях. Впереди их было много, причем куда более судьбоносных с точки зрения выживания самого Николая, его семьи и империи.
* * *
Как же плохо понимало молодого государя общество, связывавшее с ним надежды на перемены! Это тотчас же обнаружилось в знаменитом приветственном Адресе тверского дворянства. Составленное в приподнятых верноподданнических тонах, это послание содержало намек на желательность того, чтобы «общественные учреждения» получили право «выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигнуть выражение потребностей и мыслей не только представителей администрации».[180]
Невинная фраза вызвала в Зимнем Дворце переполох. Автор Адреса, впоследствии один из лидеров партии кадетов и депутат всех четырех Государственных Дум, Ф. И. Родичев живописно рассказал о том, какая мышиная возня поднялась вокруг этого документа, а затем — вокруг церемонии вручения Адресов государю.
Списки земских деятелей, которым дозволялось присутствовать на церемонии, многократно пересматривались дворцовой администрацией, сама церемония откладывалась. Съехавшиеся в Петербург земские представители судорожно совещались в своих гостиничных номерах, возражали против вычеркивания из списков отдельных имен, грозили коллективным бойкотом, после чего вычеркнутые имена восстанавливались. Наконец, в парадной зале, перед выстроившимися почтительным полукругом земцами, появился бледный, затравленный государь с фуражкой в руке. Заглядывая в припрятанный внутри фуражки листок (он так и не смог заучить коротенькую речь наизусть), он испуганно прокричал свой ответ на «голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтаниями об участии земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял мой незабвенный покойный родитель».[181]
Ничего более безобразного перед лицом пришедших его приветствовать представителей земской России Николай сказать не мог, хотя вскоре получил восторженное одобрение из Берлина: «Мой рейхстаг держит себя из рук вон скверно, — писал кузен Вилли кузену Никки, — колеблясь между социалистами, подстрекаемыми жидами, и ультамонтанами-католиками; насколько я могу судить, скоро обе партии надо будет поголовно перевешать… Вот почему я так обрадован превосходной речью, которую ты произнес перед депутациями в ответ на просьбы о реформах».[182]
В самой России тоже не было недостатка в восторженных почитателях позорной речи — такова инерция страха и подобострастия. Многие представители земств, прямо из Зимнего дворца, гурьбой повалили в Казанский собор — отметить благодарственным молебном полученный плевок в лицо. Но лакейство не было всеобщим. Как вспоминал Ф. И. Родичев, предводитель харьковского дворянства князь П. Д. Святополк-Мирский в Казанский собор не пошел. А уже через день по рукам стало ходить неподписанное открытое письмо Николаю II. В нем говорилось о том, что царь нанес удар «по самым скромным надеждам» общества; что он отождествил самодержавие с чиновничеством и сословным режимом и тем самым вызвал на борьбу «живые общественные силы». «Вы первый начали борьбу, и борьба не заставит себя ждать», — говорилось в письме.[183]
П. Б. Струве
Автором самиздатского документа был молодой П. Б. Струве, будущий «легальный марксист», хотя до 1905 года он был нелегальным деятелем, а основанная им в Штутгарте независимая газета «Возрождение» следовала скорее традициям Герцена, нежели Маркса.
Струве оказался провидцем: всё царствование Николая II прошло в борьбе власти и общества.
Скандал вокруг «несбыточных мечтаний» едва перестал быть злобой дня, как разразилась куда более страшная драма — Ходынка.
На коронационные торжества в Москву съехались высокопоставленные гости со всего мира; помпезная коронация должна была продемонстрировать величие России и незыблемость самодержавных «начал». И вот эти единственные в каждом царствовании торжества ознаменовались горой растерзанных трупов. Верноподданные людишки поплатились за то, что позарились на копеечные государевы «гостинцы». Однако страшнее самого несчастья стала реакция на него коронованного властителя.
«В три часа дня мы поехали на Ходынку, — вспоминал великий князь Сандро. — По дороге нас встречали возы, нагруженные трупами. Трусливый градоначальник старался отвлечь внимание царя приветствиями толпы. Но каждое „ура“ звучало в моих глазах как оскорбление. Мои братья не могли сдержать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки [Московского генерал-губернатора] великого князя Сергея Александровича и прекращения коронационных торжеств. Произошла тяжелая сцена. Старшее поколение великих князей всецело поддерживало Московского генерал-губернатора.
Мой брат, великий князь Николай Михайлович ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызвал образ французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближающуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора.
— Помни, Никки, — закончил он, глядя Николаю II прямо в глаза, — кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей[184] останется неизгладимым пятном на твоем царствовании. Ты не в состоянии воскресить мертвых, но ты можешь проявить заботу об их семьях. Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую».[185]
Отложить назначенный на тот вечер бал у французского посла или хотя бы не являться на него — такова естественная реакция перед лицом неожиданного несчастья. Так и советовал поступить весь выводок Михайловичей, да и почти все, кто окружал его в эти тяжелые часы и минуты. Предлагали пойти дальше: объявить национальный траур, на три дня приостановить церемонии. Но он — такой податливый, уступающий по любому поводу, чтобы только избежать ссоры или простого неудовольствия толпившихся у трона родичей, — на этот раз, поджав мелко подрагивающие губы, молчал и смотрел прямо перед собой остекленевшими упрямыми глазами. Очевидно, верх взял нажим со стороны главного виновника несчастья — великого князя Сергея. Его желание ничего не менять, сделать вид, будто ничего не произошло, импонировало государю. «Вечером Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланником. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставляла иностранцев высказывать предположения, что Романовы сошли с ума».[186]
А. Ф. Кони видел в появлении царя на балу один из примеров «отсутствия у него сердца»,[187] но это вряд ли справедливо. Был бы Николай беспечным гулякой, которому лишь бы повеселиться, покуражиться, поплясать, а там хоть потоп, — тогда куда ни шло. При его вялом флегматичном темпераменте его можно попрекать многим, но только не этим. Я не исключаю, что в душе он скорбел о невинных жертвах. Кроме того, он не мог не усматривать зловещего смысла в том, что беда пришла в дни коронации. При его склонности к мистике он должен был видеть в ходынском несчастье предзнаменование будущих тяжелых испытаний и бедствий. Если его смятение не бросалось в глаза, то не потому, что он не испытывал смятения. Прятать свое душевное состояние под маской почти дегенеративной заторможенности уже стало для него второй натурой. А то, что, явившись на бал, он выставлял себя бесчеловечным монстром, — это он высокомерно игнорировал или вовсе не сознавал. Он слишком твердо усвоил основное «начало» самодержавия: государь всегда прав, а если и нет, то ответ будет держать перед Богом; не смертным его судить.
Неудивительно, что при таких «началах» и при неустойчивом характере человека, их воплощавшего, государство российское стало расползаться по швам. Первоначально этот процесс шел очень медленно, почти незаметно, как незаметно движение часовой стрелки на циферблате часов. Слишком сильна еще была инерция стабильности, установившейся при его отце. Но со временем процесс распада убыстрялся, скоро его можно было уподобить ходу минутной стрелки, а затем и секундной. Одна из причин состояла в том, что «его величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще недолюбливал и даже не переносил лиц, представляющих собой определенную личность, т. е. лиц твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях».[188] Если государь все-таки терпел таких лиц, то по той же слабости характера да еще из пиетета к покойному отцу, частично переходившего на его сановников. Поэтому при поддержке Николая «недолюбливаемому» Витте удалось провести денежную реформу и ввести в жизнь винную монополию (то и другое было начато еще при Александре III). В эти же годы с большой энергией продолжалось прокладывание Транссибирской железнодорожной магистрали — то был один из самых грандиозных строительных проектов века.
К. П. Победоносцев
Другим «обломком прошлого», которого Николай II, напротив, очень и очень «долюбливал», был обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев.
Победоносцев выдвинулся в высшие эшелоны власти еще при Александре II, с энтузиазмом участвовал в либеральных преобразованиях, но затем сменил вехи, стал адептом крайнего консерватизма и особую силу набрал при его сыне.
Сразу после восшествия на престол Александра III, когда еще было неясно, куда он повернет, Лев Толстой обратился к нему с призывом помиловать убийц отца и своим великодушием разорвать порочный круг насилия, порождающего насилие. Толстой убеждал молодого императора, что таким милосердным поступком он обнаружит не слабость, а силу своего режима, его добрый пример получит широкую поддержку в обществе и принесет стране успокоение.
Письмо Толстой через Н. Н. Страхова передал Победоносцеву для дальнейшей передачи государю. Но Победоносцев испугался, что доводы писателя подействуют, и, спрятав письмо подальше, стал атаковать молодого царя своими письмами, настаивая на быстрой и беспощадной расправе над террористами.[189]
Такой язык оказался Александру III понятен; Победоносцев надолго стал его поводырем и наставником. Почти во всем расходясь с Витте, Победоносцев расходился с ним и в еврейском вопросе. Если Александр III, как мы помним, однажды попрекнул министра финансов тем, что тот «стоит за евреев», то, скорее всего, это было инспирировано Победоносцевым. Витте стоял за Россию, и его ответ государю был продиктован интересами российского государства: если можете угробить евреев, то я понимаю такое решение вопроса, а если не можете, дайте им возможность жить по-человечески. Самое неразумное и вредное — держать их между жизнью и смертью, ничего хорошего такая политика не принесет.
Но Победоносцев стоял именно за такую политику! «Треть евреев вымрет, треть примет крещение [то есть ассимилируется и перестанет быть евреями], а треть — эмигрирует», — такова была формула растянутого во времени Холокоста, вычеканенная Победоносцевым. Она и проводилась в жизнь потом добрых сто лет.
«Ничего не менять!» — вот доминирующая установка Победоносцева. С таких позиций он подходил к любым проблемам, в том числе и к тому, что требовало немедленных перемен. С годами, набирая опыт «руководящей работы» и лучше узнавая Победоносцева, Александр III стал относиться к нему скептически. Царь видел, что его наставник может блестяще раскритиковать любую идею, но сам не способен предложить ничего конструктивного. Между тем, страной надо было управлять; Победоносцев был в этом плохой советчик, его влияние стало падать.
Но оно снова возросло при Николае II, на которого Победоносцев, по словам великого князя Сандро, воздействовал «в том направлении, чтобы приучить его бояться всех нововведений».[190]
Между тем, борьба, навязанная молодым императором обществу, набирала обороты, и отбиваться от общества, ничего не меняя, становилось все труднее. Не сознавая, что главная проблема — он сам, государь становился все более недоволен министром внутренних дел И. Л. Горемыкиным, на котором лежало обеспечение порядка и спокойствия во всей державе.
По свидетельству Витте, Горемыкин «был довольно либерального направления», но «под влиянием свыше, боясь себя скомпрометировать, начал вести довольно реакционную политику».[191] Однако он был безынициативен, трусоват, действовал с оглядкой; и царь захотел посадить на его место «сильного человека», так как «ему надоели пешки». Обратившись за рекомендацией к Победоносцеву, он услышал:
«— Есть два человека, которые принадлежат к школе вашего августейшего отца. Это Плеве и Сипягин. Никого другого я не знаю.
— На ком же из двух остановиться?
— Это безразлично. Оба одинаковы, ваше величество. Плеве — мерзавец, Сипягин — дурак.
Николай II нахмурился.
— Не понимаю вас, Константин Петрович, я не шучу.
— Я тоже, ваше величество. Я осознаю, что продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее теплое дуновение весны, и все рухнет. Задача эта может быть выполнена только людьми такого калибра, как Плеве и Сипягин».[192]
Портфель достался «дураку». Два года спустя, будучи в гостях у Сипягина, Витте дружески заметил ему, что «он принимает чересчур резкие меры, которые по существу никакой пользы не приносят, а между тем возбуждают некоторые слои общества». Тот ответил, что иначе поступать невозможно, так как «наверху» (выше был только царь) даже эти меры считаются недостаточно строгими.[193]
2 апреля 1902 года, когда Сипягин приехал на заседание Комитета министров, к нему подошел офицер в адъютантской форме и протянул пакет из Москвы — от великого князя Сергея Александровича. Сипягин взял пакет, но в этот момент курьер выхватил браунинг и выстрелил несколько раз в упор.
Схваченный на месте преступления, террорист сознался, что никакой он не военный, а бывший студент, по фамилии Балмашов. (Он затем был повешен). Сипягин скончался в больнице, не приходя в сознание. Так он поплатился за «чересчур резкие» меры, которые наверху казались чересчур мягкими.
«Дурака» сменил «мерзавец», вожделенно рвавшийся к высшему правительственному посту уже много лет. Его обошел Горемыкин, потом Сипягин, и теперь он был полон решимости доказать, что уж он-то наведет порядок! Он-то способен на такие меры, что земля содрогнется! Он-то сможет загнать обратно в бутылку вырвавшегося из нее джинна крамолы!
Но, как и его предшественник, Плеве продержался на столь вожделенном посту только два года. Бомба, брошенная в его карету эсеровским боевиком Евгением Созоновым, остановила его «энергичные» меры. Однако и за этот недолгий срок Плеве успел так похабно наследить в русской истории, что и через сто лет его имя звучит как синоним кровавых оргий и грязных провокаций. Добился же он только того, что крамола в стране продолжала нарастать с неудержимой быстротой. Погром кишиневских евреев ее не остановил, а ускорил. Не помогли карательные экспедиции против крестьян, репрессии против студентов, скулодробительные акции против рабочих, ссылка, каторга, даже смертная казнь, применявшиеся против активных революционеров.[194] Не помог и следующий погром — в Гомеле, где, к тому же, погромщикам дала отпор еврейская самооборона. Позднее, на суде, погром был представлен как банальная драка, причем погромщики и давшие им отпор евреи рассматривались равно виновными. Все попытки защитников внести ясность в существо событий пресекались судом. Протестуя против профанации правосудия, защитники подсудимых евреев покинули судебное заседание.
Солженицын повествует о Гомельском погроме в полном соответствии с позицией властей, а уход адвокатуры комментирует следующим образом: «Этот находчивый и революционный ход либеральной адвокатуры был вполне в духе декабря 1904 — взорвать само судоговорение!» (стр. 345).
Однако адвокаты и раньше не раз прибегали к такой крайней мере. В частности, такая тактика была применена в Полтаве в 1902 году, когда судили крестьян, участвовавших в бунте и уже подвергнутых телесным наказаниям. Удостоверить это на суде было жизненно важно для спасения подсудимых крестьян от каторги, ибо закон запрещал дважды наказывать за одно и то же преступление. Однако, когда защитник кого-либо из обвиняемых начинал говорить о том, что его клиент уже был наказан карателями, и пытался привести тому доказательства, судья обрывал его, отказывал в вызове свидетелей, заявляя, что все это не имеет отношения к делу. Лишенные возможности эффективно выполнять свой профессиональный долг, адвокаты, посовещавшись (между прочим, в доме В. Г. Короленко), решили выразить свой протест совместным уходом из зала суда. Адвокаты не были революционерами, но сама власть толкнула их на революционный акт!
Таковы были успехи Плеве по борьбе с крамолой. А когда он исчерпал все свои полицейско-провокаторские ресурсы, то решил прибегнуть к последнему средству. Но «маленькая победоносная война» с первых же дней стала превращаться в крупнейшее и позорнейшее поражение, окончательно ввергнув страну в анархию.
Однако, отдав должное «мерзавцу», следует помнить, что власть ему принадлежала лишь постольку, поскольку он выполнял волю своего государя, выдерживавшего за его спиной роль тихони.
* * *
Тихоня навязал борьбу не только «живым общественным силам» страны. Не в меньшей мере он оказался склонен и к внешним авантюрам. Остановить его мог только страх тяжелых последствий, отнюдь не чувство чести или порядочности. Оценивать степень риска он не умел — для этого у него не хватало ни политического чутья, ни стратегического мышления. Действовал он опять же зависимо, причем, роковым образом — попадал под влияние самых бездарных, темных и безответственных авантюристов.
Беда чуть было не случилась уже в конце 1896 года, вскоре после Ходынки, когда посол России в Константинополе А. И. Нелидов явился с проектом захватить Босфор, воспользовавшись внутренней смутой в Турции. На собранном под председательством государя совещании против авантюры решительно высказался Витте. Он напомнил о Берлинском трактате, подписанном после Балканской войны в конце царствования Александра II. Россия тогда одержала победу над Турцией и навязала ей выгодные для себя условия мира, но вмешались европейские державы и заставили отказаться почти от всех преимуществ, добытых кровью русских солдат. Витте говорил, что если России и удастся захватить Босфор, снова вмешаются европейские державы, и тогда придется либо уйти ни с чем, либо ввязаться в большую войну. Однако другие участники совещания, стараясь потрафить прямо не высказанному, но всеми понимаемому желанию царя, поддержали Нелидова, и Николай объявил о своем самодержавном решении: спровоцировать конфликт и — брать Босфор!
Но то была напускная бравада. В душе Николай боялся ответственности за возможный провал и хотел переложить ее на других. Соответственно и «журнал» (то есть протокол) обсуждения босфорской авантюры был сфальсифицирован: решение подавалось в нем как единогласное. Получив этот журнал на подпись, Витте приложил к нему письмо с напоминанием о своем несогласии с остальными участниками совещания; он верноподданнически просил внести в журнал его особое мнение, так как он предвидит непоправимые бедствия, к каким приведет захват Босфора, и не хочет, чтобы потомки считали его причастным к этой акции. Демарш министра финансов заставил государя заколебаться, и Витте попытался дожать его, прибегнув к закулисной интриге (хотя когда такие методы применялись другими, он их гневно осуждал). Он ввел в курс дела К. П. Победоносцева и великого князя Владимира Александровича, объяснив им, какая каша может завариться. Оба имели большое влияние на Николая и сочли нужным его предостеречь. Кончилось тем, что царь дал отбой. Но сама легкость, с какой он склонился к авантюре, не предвещала ничего хорошего.
Международный дворец мира в Гааге
В Гааге имеется единственное в своем роде учреждение — Международный дворец мира. Здесь решаются многие международные споры, здесь судят военных преступников, ведется научно-исследовательская работа по международному праву. Вместе с тем, Дворец мира — это великолепный музей, в нем не иссякает поток посетителей. Обаятельные гиды рассказывают об удивительной истории этого учреждения, в строительство которого и в придание ему современного облика внесли свою лепту десятки стран мира, а также крупные частные фонды, в особенности фонд Эндрю Карнеги. А начало было положено в 1899 году на Международной гаагской конференции, созванной по инициативе императора России Николая II, чей парадный портрет занимает в экспозиции почетное место. Это он выступил с великой идеей всеобщего разоружения и отказа от решения международных конфликтов военным путем.
Идеи, воплощенные в Дворце мира, до сих пор не стали определяющими в международных делах, но они живут второе столетие, набирают сторонников, и, может быть, когда-нибудь восторжествуют. То, что русский царь стоял у истоков этого гуманнейшего начинания, делает ему честь. Однако, когда узнаешь о генезисе этой инициативы, то романтический ореол вокруг нее тускнеет.
Началось с того, что разведка донесла о широкой программе обновления артиллерии в австрийской армии. Россия только что приступила к перевооружению пехоты, на что военному министерству были отпущены большие средства, а с артиллерией решили повременить: она была не хуже, чем у потенциальных противников. Австрийское начинание спутало расчеты. Военный министр А. Н. Куропаткин настолько растерялся, что обратился к министру иностранных дел Н. М. Муравьеву с предложением воздействовать на Австрию дипломатически: пусть-ка повременит с модернизацией артиллерии, пока Россия не будет готова к тому же!
Витте, с которым снесся по этому вопросу Муравьев, высмеял генерала: уж лучше залезть в новые долги и ассигновать необходимые средства на артиллерию, чем демонстрировать свою несостоятельность. В ходе разговора Витте стал рассуждать о том, как много средств во всех странах тратится на вооружение, как это вредно отражается на благосостоянии населения и каким благом для Европы и всего мира могло бы обернуться международное соглашение положить этому предел. «Хотя мои мысли не представляли ничего особенно нового, — замечает Витте, — но для Муравьева при полной его некультурности в серьезном смысле этого слова многие из моих мыслей явились совершенно новыми».[195] Муравьев доложил обо всем государю. Так родилась инициатива о созыве международной мирной конференции: гуманное начинание Николая II было всего лишь военно-дипломатической хитростью!
«Тем не менее, — подытоживает Витте, — величайшая заслуга государя, что он возбудил этот вопрос, но, конечно, будет еще большая заслуга, если в дальнейшем царствовании своем он своими действиями покажет, что мирное предложение, им сделанное, представляет не только внешнюю форму, но содержит в себе и практическую реальность. К величайшему сожалению, надо признаться, что на практике пока мысль о мирном разрешении вопроса осталась в области разговоров, Россия сама делает пример совершенно обратный тому, что было предложено ее монархом, ибо несомненно, что вся Японская война и кровавые последствия, от этого происшедшие, не имели бы места, если бы мы не на словах, а на деле руководствовались мирными великими идеями».[196] Это было написано в 1911 или 1912 году. Через два или три года, втравив Россию в совершенно не нужную ей Мировую войну, Николай еще раз показал истинную цену его мирных устремлений.
Авантюры Николая на Дальнем Востоке — это серия безумств, спровоцировавших «маленькую победоносную войну», обернувшуюся большим кровавым позором. «Кто виноват в этой войне? — спрашивал Витте и отвечал. — В сущности никто, ибо единственно кто виноват, это самодержавный и неограниченный император Николай II. Он же не может быть признан виновным, ибо он не только, как самодержавный помазанник Божий, ответственен лишь перед Всевышним, но, кроме того, с точки зрения новейших принципов уголовного права, он не может быть ответственен, как человек если не совсем, то, во всяком случае, в значительной степени невменяемый».[197]
Круг событий, предшествовавших войне, показывает, насколько безнравственным был российский самодержец, считавший себя верующим христианином, но попиравший все Божьи и человеческие заповеди.
Широко распространено убеждение, что мораль и политика — две вещи несовместные. Однако дальновидной и мудрой может быть только честная и гуманная, то есть нравственная, политика. Обманом, коварством, провокациями, жестокостью можно порой достигнуть сиюминутных выгод, но, в конечном счете, такая политика обречена на провал.
Для достижения химерических целей на Дальнем Востоке Николай и его правительство пустили в ход арсенал самых низких средств: ложные посулы, лицемерие, подкуп, нарушение договорных обязательств и — бесчисленные убийства своих и чужих… Самодержец всероссийский оставался верен себе в главном: как истый революционер, он постоянно строил интриги против своих собственных помощников, вступая в сговор с одними сатрапами за спиною других, а затем предавая первых под напором вторых.
Строительство транссибирской магистрали побудило царское правительство всемерно улучшать отношения с Китаем, и пока эта политика проводилась честно, она приносила богатые плоды. Россия получила согласие на проведение части дороги по китайской территории (КВЖД), что значительно спрямляло, удешевляло и ускоряло постройку. Дорога, все сопутствующие сооружения и полоса отчуждения, охраняемая российскими войсками и пограничной стражей, оставались полностью под контролем России. Отношение китайских властей и населения к служащим КВЖД и русским солдатам было самое дружелюбное.
Позиции России на Дальнем Востоке в еще большей мере укрепили договоры, заключенные в Москве во время коронации 1896 года. По одному из них, Россия стала гарантом территориальной целостности Китая, еще теснее привязав к себе гиганта, на который с вожделением поглядывали колониальные державы. По другому договору, Япония отказалась от каких-либо притязаний в Корее. А по договору с Кореей, Россия направила в нее военных и финансовых советников и небольшой контингент войск. Практически вся финансовая и экономическая жизнь этой страны перешла под контроль России, причем, без всякого противодействия со стороны других держав.
Когда японские войска вторглась на Ляодунский полуостров, Россия добилась их ухода. Дружеское расположение китайских властей и всего населения к России возросли еще больше; и, хотя отношения с Японией ухудшились, она смирилась со своей неудачей.
И вдруг германский морской десант совершил высадку в китайском порту Циндао, причем оказалось, что Россия, несмотря на договорные обязательства по отношению к Китаю, потребовать их удаления не может, так как кузен Никки «неосторожно» дал кузену Вилли согласие на этот разбой. Более того, склонный к авантюрам министр иностранных дел граф М. Н. Муравьев составил записку, в которой предлагал воспользоваться акцией кузена Вилли для собственного разбоя, а именно, для захвата Порт-Артура и бухты Даляньвань, куда незамедлительно была направлена российская эскадра.
Против новой авантюры опять возражал Витте, доказывая, что такое неслыханное коварство подымет против России дружественный Китай и разъярит Японию. Кроме того, удерживать Порт-Артур будет невозможно без проведения к нему железнодорожной ветки от Восточно-Китайской дороги, а для ее охраны придется оккупировать значительную часть Ляодунского полуострова, что еще больше ожесточит и Японию, и Китай, да и другие страны вряд ли останутся в стороне.
Доводы Витте, как и в случае с Босфором, произвели впечатление на Николая; он объявил, что муравьевский проект не утверждает. Но все уже знали, что решение царя редко бывает окончательным. Николая продолжали тянуть в разные стороны, и на этот раз верх взял Муравьев, придумавший новое основание для авантюры: вблизи Порт-Артура появились британские корабли; если «мы» прозеваем, то там высадятся англичане.
Британцы высадки не планировали, и это легко было выяснить по дипломатическим каналам. Но подзуживаемый Муравьевым, Николай предпочел не выяснять: слишком уж у него чесались руки. При этом ему хотелось верить, что он меняет решение самостоятельно — ввиду изменившихся обстоятельств.
Муравьев уверял китайские власти, что русские корабли прибыли к тихоокеанскому побережью, чтобы заставить уйти немцев: как только те уберутся, русские тоже уйдут. Китайцы верили. И вдруг посланник России в Пекине потребовал, чтобы Китай передал ей «в аренду на 36 лет» Порт-Артур, бухту Далянвань и часть Ляодунского полуострова (Квантунскую область). Потрясенная коварством союзника, императрица-мать (регентша при малолетнем императоре) отказалась выполнить это требование. Серьезной военной силы у нее не было, но послы Англии и Японии обещали поддержку — это придавало ей твердости. В воздухе запахло войной.
Стремясь предотвратить катастрофу, Витте обратился к германскому послу Родолину с просьбой передать от него лично императору Вильгельму совет: уйти из Китая во избежание непоправимых бед и для Германии, и для России. Вильгельм велел передать Витте, что тот зря беспокоится: ему, видимо, неизвестны некоторые обстоятельства (то есть соглашение между Никки и Вилли, утаенное Николаем от собственных министров). Между тем, эта переписка была перехвачена министерством иностранных дел, дешифрована, и торжествующий Муравьев доложил о ней царю. Очередной доклад министра финансов был встречен с предельной холодностью, а, завершая аудиенцию, царь предупредил его, что следует быть осторожнее в беседах с иностранными послами.
Витте вынужден был просить об отставке, мотивируя тем, что он, по-видимому, утратил доверие своего государя. Николай ответил, что вполне доверяет ему как министру финансов и просит остаться. Это означало, что, по крайней мере, частично царь ему доверять перестал, а, стало быть, отставка неминуема в ближайшее время.
В отчаянной попытке вернуть утерянные позиции, Витте решил доказать свою преданность не вполне обычным путем. Он дал указание представителю министерства финансов в Китае встретиться с наиболее влиятельным китайским сановником Ли Хун-Чжаном и его ближайшим сподвижником Чан Ин-Хуаном и от имени Витте (который хорошо знал обоих) настоятельно рекомендовать им убедить императрицу-мать, что она должна принять условия России. В случае успеха первому сановнику было обещано полмиллиона, а второму — четверть миллиона рублей.
Вскоре пришел положительный ответ, и когда Витте телеграммой сообщил об этом царю, тот в недоумении написал: «Не понимаю, в чем дело?» А когда разъясни лось, как дешево досталась «аренда» лакомого куска территории Китая, Николай отметил: «Это так хорошо, что даже не верится».[198]
Витте уверяет: то был единственный случай, когда он прибегнул к подкупу иностранных сановников. Если так, то случай вдвойне поучителен. Витте вернул себе фавор совсем ненадолго: отставка его все равно была неизбежна. Оба китайских сановника после этой сделки утратили всякое влияние; один из них окончил дни в тюрьме, где, видимо, был умерщвлен. А вечно колеблющегося Николая «блестящая» операция лишь поощрила на дальнейшие авантюры.
Захват Порт-Артура и Квантунской области прошли гладко, но отношение к России в Китае резко изменилось. Население из дружелюбного превратилось во враждебное. Началось так называемое боксерское восстание, которое принесло много материальных потерь и стоило немало жизней служащим КВЖД и ее охране. Но Петербург ликовал: появился повод для новых захватов.
А. Н. Куропаткин
Под предлогом усмирения «боксеров» Россия ввела войска в Манчжурию, был разграблен Пекин, в том числе императорский дворец, спешно покинутый его обитателями. «Боксеров» усмирили, но уходить из Китая не собирались. Генерал А. Н. Куропаткин — воинственный и недалекий — уверял, что Манчжурия так и останется российской — на правах Бухарского ханства.
Эти события до предела обострили отношения России с Японией, и на сторону последней стали почти все крупные державы — Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, даже Германия, с которой всё и началось. Все настаивали на удалении российских войск из Манчжурии, а Япония потребовала за уступку Ляодунского полуострова вознаграждения в виде Кореи. Россия вынуждена была принять эти условия. Так гора родила мышь, да и та оказалась дохлой. За захваты в Китае пришлось отдать японцам Корею и при этом восстановить против себя ведущие державы мира.
Но и на этом дальневосточные авантюры венценосного революционера не прекратились. Хотя вместо умершего графа Муравьева министром иностранных дел стал грамотный дипломат и уравновешенный политик граф Ламздорф, скоро выяснилось, что царь с его мнением не считается. Роль министра иностранных дел была сведена к оформлению чужих решений. Зато великий князь Сандро — человек неугомонный, авантюрного склада — охотно вмешивался во все и вся, включая внешнюю политику. Он отыскал «знатока» дальневосточных дел, отставного ротмистра А. М. Безобразова, ввел его в Зимний Дворец, и тот очаровал государя своими «хитроумными» проектами ползучего возвращения в Корею.
Договор с Японией не позволяет правительству России соваться в эту страну, так пусть это делают частные фирмы! Такова была мысль Безобразова. Пусть они заключают сделки, берут концессии на всяческие разработки в Корее, вгрызаются в ее природные богатства, прибирают к рукам экономику, а субсидировать их и действовать за их спиной будет государство! Эти детские хитрости и легли в основу дальневосточной политики империи. Николай не понимал, что надувает не Японию, а самого себя.
Об опасности безобразовского курса неустанно говорил государю Витте, его осторожно поддерживал граф Ламздорф, о том же Николаю даже написал знаменитый негодяй князь В. П. Мещерский,[199] имевший на него немалое влияние (один из немногих, с кем государь был на «ты»). Государь не спорил, но продолжал закулисные интриги с отставным ротмистром, долго не занимавшим никакого официального поста и потому ни за что не отвечавшим. Мещерскому царь ответил в характерном для него стиле конспиратора: «6 мая [1903 года] увидят, какого мнения по этому предмету я держусь».[200]
6-го мая тайное стало явным: Безобразову был пожалован пост статс-секретаря его величества. Когда его жена (из-за болезни жившая в Женеве, но приехавшая представляться при дворе) узнала, какую силу забрал ее благоверный, она не могла сдержать изумления: «Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный».[201]
Полупомешанный стал поводырем полуневменяемого.
Безобразовщина 1904–1905
Япония не раз обращалась с предложениями урегулировать отдельные вопросы и весь комплекс двухсторонних отношений, но Николай, демонстрируя свое пренебрежение к «макакам», высокомерно отвечал послу страны восходящего солнца: «Япония дождется того, что рассердит меня». Для вящего посрамления «макашек» все дела с ними, как заведомо мелкие, были переданы начальнику Квантунской области, возведенному в ранг наместника на Дальнем Востоке, адмиралу Е. И. Алексееву. Это само по себе было оскорбительно для суверенной державы, а при полной никчемности адмирала Алексеева прямо вело к конфликту.
Карьера Алексеева была одиозна даже по тем временам. Молодым морским офицером он попал в свиту великого князя Алексея Александровича и угождал ему особой услужливостью. Оказавшись в Марселе, великий князь с компанией русских моряков отправился «в веселое заведение с дамами», где подвыпивший член императорской фамилии так надебоширил, что в «заведение» явилась полиция. Запахло международным скандалом. Но наутро в полицейский участок пожаловал молодой офицер Алексеев и дал показания, что это он бесчинствовал в публичном доме, а не великий князь Алексей; в протоколе-де оказалась ошибка из-за сходства имени одного и фамилии другого.
За подобные услуги великий князь и двигал вверх Алексеева. Так, не пройдя реальной выучки ни в сухопутных войсках, ни во флоте, ни в административном аппарате, он оказался во главе дальневосточной политики империи, а затем — воюющей армии.
Возможно, инстинкт самосохранения все-таки удержал бы Николая на краю пропасти, если бы вслед за Безобразовым его не стал в нее спихивать Плеве. Последним препятствием оставалось сопротивление министра финансов. Витте был честолюбив и хотел удержаться у власти, но не любой ценой: ему было важно, какое место он займет в истории. Неминуемо приближался день, когда царь, с необычной любезностью выслушав его очередной доклад и, пряча глаза от смущения, произнес:
«Я вас хочу назначить на пост председателя комитета министров, а на пост министра финансов я хочу назначить [управляющего государственным банком Э. Д.] Плеске». И — с лицемерным недоумением: «Разве вы недовольны этим назначением? Ведь это самое высокое место, какое только существует в империи».[202]
«Высокое место» было почетной отставкой, так как главой правительства был царь, каждый министр отчитывался только перед ним и получал указания только от него. Когда обескураженный Витте удалился, Николай с облегчением перевел дух, сказав только одно слово: «Уф».[203] Гора спала с плеч многострадального Иова: ведь он так не любил обижать людей! Но другого выхода у него не было, путь к катастрофе должен был быть расчищен!
Самым поразительным было то, что, провоцируя военный конфликт, великий конспиратор не считал нужным к нему готовиться. Война началась в январе 1904 года «неожиданным» нападением японских кораблей на русскую эскадру и осадой Порт-Артура. Николай заметил, что это для него как булавочный укол (хотя тысячи русских моряков уже кормили рыб на дне Тихого океана). Попытки Плеве инспирировать патриотические шествия провалились. Война с самого начала была непопулярной, а по мере того, как приходили вести о поражениях — все более крупных и позорных, — она становилась все ненавистнее.
С развитием событий на Дальнем Востоке вал революционного движения пошел круто вверх. В июле 1904 года эсеровский боевик Егор Созонов достал-таки Плеве. Взрывом бомбы всесильного министра разнесло на куски. Сам террорист был тяжело ранен, контужен и тут же избит. Когда Созонов-отец выехал из родной Уфы в Петербург, чтобы как-то облегчить участь арестованного сына, он боялся, что в поезде его узнают и — растерзают. Его узнали. И стали обнимать, откупоривать бутылки шампанского, произносить тосты в честь его сына. Вряд ли среди этих добропорядочных и весьма состоятельных обывателей (Созонов-отец был богатым лесопромышленником и ездил в первом классе) были революционеры. Ненависть к первому министру и олицетворяемому им режиму была всеобщей.
П. Д. Святополк-Мирский
Убийство Плеве показало, наконец, Николаю, как далеко завела его десятилетняя борьба против общества. Не на шутку перепугавшись, он назначает на главный пост в стране князя П. Д. Святополка-Мирского — человека иного склада и ориентации. В прошлом это был тот самый земский деятель, который, выслушав речь о «несбыточных мечтаниях», не пошел в Казанский собор заказывать молебен. К моменту назначения на «главный» пост он был Виленским губернатором. В сложном, весьма пестром по религиозному, этническому и социальному составу крае он проводил политику сотрудничества с общественными кругами и пользовался всеобщим уважением.
Сделав его министром, царь показал, что «мечтания» все-таки могут сбыться, и очень скоро. В первом же выступлении перед чинами министерства внутренних дел Святополк-Мирский сказал: «Плодотворность правительственного труда основана на искренне благожелательном и искренне доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы получим мы взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства».[204]
Таких слов от власти в России не слышали, кажется, за всю ее тысячелетнюю историю! А в числе первых дел нового министра было — возвращение из ссылки земских деятелей, попавших в опалу при Плеве, и ослабление цензурных препон. Иначе говоря, началась эпоха гласности и перестройки. Становилось похоже на то, что власть — в лице нового министра внутренних дел — искренне готова к сотрудничеству с общественными силами.
Но Николай, поддавшись этому настроению из страха, тотчас дал задний ход. Прямо и косвенно Мирскому стали ставить палки в колеса. Слово «выборы», появившееся в некоторых его документах, для Николая было крамольным. Напрасно Мирский внушал государю, что промедление смерти подобно, так как ситуация выходит из-под контроля. Николай давал обещания и тотчас от них отказывался. А общество, видя, что кулак власти стал разжиматься, только усиливало нажим.
В декабре Святополк-Мирский подготовил царский указ о разработке целого ряда реформ, где главным было положение о созыве «представительных учреждений». Но царь снова вычеркнул крамольный пункт, в значительной мере обесценив весь документ. Он не терпел «парламетриляндии адвокатов». Презрительный неологизм он соорудил из слов парламент и Финляндия. Особый статус Финляндии с ее сеймом и конституцией не давал царю покоя; он не раз пытался ограничить полномочия сейма, обломать непослушных депутатов, что приводило к острым эксцессам. Финляндский генерал-губернатор Н. И. Бобриков, рьяно проводивший политику подавления свобод, гарантированных финляндской конституцией, вскоре будет убит террористом. Даже императрица-мать, Мария Федоровна, тщетно просила сына «не травить финляндцев». И вот теперь, «парламентриляндию» ему предлагали распространить на всю империю! Это никак не совмещалось с усвоенными им «началами».
Однако остальные пункты программы Мирского были утверждены, причем конкретная разработка реформ поручалась канцелярии Комитета министров, что частично возвращало к активной деятельности Витте, в котором Мирский видел своего союзника. Томившийся бездельем Витте стал энергично создавать комиссии и особые совещания по подготовке решений в духе новых начинаний. В короткий срок были подготовлены проекты постановлений о водворении законности, о веротерпимости, об облегчении положения старообрядцев и сектантов, о свободе пользования украинским языком (в то время запрещённым). Возобновилась работа по земельной реформе, начатая им еще в 1903 году, рабочему законодательству, печати (то есть по более либеральному цензурному уставу).
Напуганный государь большинство предложений утверждал без сопротивления. Но вскоре он «по обыкновению заколебался», ибо «пошли наушничанья из темных углов», и «сделав шаг вперед, он уже решил сделать шаг назад».[205] А ведь речь шла об очень умеренных шагах навстречу не столько даже требованиям общества, сколько требованиям здравого смысла. «То, что говорилось [в Комитете министров], почиталось бы между всеми конституционными фракциями, не говоря о тайных и явных революционерах, обскурантизмом», признавал тот же Витте.[206]
С Дальнего Востока приходили известия о новых тяжелых поражениях. Без толку и смысла гибли тысячи солдат. Под напором общественности царь назначил командующим Куропаткина (тогда еще пользовавшегося престижем решительного вояки), но оставил на посту и главнокомандующего Алексеева. Перед отъездом в действующую армию Куропаткин явился к Витте за советом: что ему делать по прибытии на место? Тот ответил, что первым делом следует арестовать адмирала Алексеева и отправить его под конвоем в Петербург, а царю послать телеграмму с просьбой либо казнить за самоуправство, либо дать возможность вести войну с несвязанными руками, ибо ничего не может быть опаснее на войне, чем двоевластие. Куропаткин это понимал, но совету последовать не мог. Не того калибра был человек.
Двоевластие в Дальневосточной армии отражало двоедушие мечущегося государя. Шарахаясь из стороны в сторону, он с неумолимой последовательностью принимал самые гибельные решения. Великий князь Сандро картинно живописует, как несколько раз убеждал Николая не посылать на Дальний Восток эскадру адмирала З. П. Рожественского и как Николай «твердо» с ним соглашался, а затем столь же «твердо» менял решение. Произошло неминуемое:
«Наш флот был уничтожен в Цусимском проливе, адмирал Рожественский взят в плен. Если бы я был на месте Никки, я бы немедленно отрекся от престола. В Цусимском поражении он не мог винить никого, кроме самого себя (будто в чем-то другом самодержиц мог винить других, но не себя! — С.Р.). Он должен был бы признаться, что у него недоставало решимости отдать себе отчет во всех последствиях этого самого позорного в истории России поражения. Государь ничего не сказал, по своему обыкновению. Только смертельно побледнел и закурил папиросу».[207]
Ситуация на внутренних фронтах складывалась еще опаснее, чем на дальневосточных. И здесь тоже царило двое- и многовластие. Даже самые крутые приверженцы самодержавия не строили иллюзий относительно того, на ком лежит основная вина за все переживаемые бедствия. Представлявшийся государю в апреле 1905 года один из наиболее образованных и умных «монархистов» Б. В. Никольский[208] записал в дневнике:
«Нервность его ужасна. Он, при всем самообладании и привычке, не делает ни одного спокойного движения, ни одного спокойного жеста. Когда его лицо не движется, то оно имеет вид насильственно, напряженно улыбающийся. Веки все время едва уловимо вздрагивают. Глаза, напротив, робкие, кроткие, добрые и жалкие. Когда говорит, то выбирает расплывчатые, неточные слова, и с большим трудом, нервно запинаясь, как-то выжимая из себя слова всем корпусом, головой, плечами, руками, даже переступая… Точно какая-то непосильная ноша легла на хилого работника, и он неуверенно, шатко, тревожно ее несет».[209]
Никольский считал, что «не быть ему [самодержавию] нельзя… Быть или не быть России, быть или не быть самодержавию — одно и то же».[210] Но, по мере ухудшения ситуации, записи в его дневнике становятся все более жесткими, даже заговорщическими. Вот пассаж от 15 апреля: «Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен! Он — прости меня Боже, — полное ничтожество. Если так, то нескоро искупится его царствование. О, Господи, неужели мы заслужили, чтобы наша верность была так безнадежна?.. Я мало верю в близкое будущее. Одного покушения [на царя] теперь мало, чтобы очистить воздух. Нужно что-нибудь сербское.[211] Конечно, мне первому погибать. Но мне жизни не жаль — мне России жаль».[212]
26 апреля: «Мне дело ясно. Несчастный вырождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что творит, губит Россию. Не будь я монархистом — о, Господи! Но отчаяться в человеке для меня не значит отчаяться в принципе».[213]
19 мая: «В какое ужасное время мы живем! Чудовищные события в Тихом океане превосходят все вероятия. Что дальше будет, жутко и подумать…Конец России самодержавной и, в лучшем случае, конец династии. На чудо рассчитывать нечего… Но, конечно, если бы я верил в чудеса и в возможность вразумить глупого, бездарного, невежественного и жалкого человека, то я предложил бы пожертвовать одним-двумя членами династии, чтобы спасти ее целость и наше отечество. Повесить, например, Алексея и Владимира Александровичей, Ламздорфа и Витте, запретить по закону великим князьям когда бы то ни было занимать ответственные посты, расстричь Антония,[214] разогнать всю эту шайку и пламенным манифестом воззвать к народу, заключив мир до боя на сухом пути. Тогда еще все могло бы быть спасено. Но это значит: распорядись, чтобы сейчас стала зима. Замени человека другим человеком… Я не Бог, чтобы из бабы делать мужчину, из Николая — Петра… Агония может еще продлиться, но что пользы?.. Династия — вот единственная жертва. Но где взять новую? Ведь придворный переворот безнадежен, ибо при нем — долой закон о престолонаследии, а тогда полная смута. Словом, конец, конец!.. Еще если бы можно было надеяться на его самоубийство — это было бы все-таки шансом. Но где ему!..»[215]
Вот когда, оказывается, — не у марксистов или эсеров, а у самых крайних «патриотов» и адептов самодержавия — появились мысли о необходимости устранить Николая! Впрочем, есть свидетельство, на мой взгляд, сомнительное, что еще раньше, в 1903 году, Витте обратился к А. А. Лопухину с конкретным предложением:
«У директора Департамента полиции ведь, в сущности, находится в руках жизнь и смерть всякого, в том числе и царя, — так нельзя ли дать какой-нибудь террористической организации возможность покончить с ним; престол достанется его брату (тогда еще сына у Николая II не было), у которого я, С. Ю. Витте, пользуюсь фавором и перед которым могу оказать протекцию и тебе».[216]
Витте не был особенно близок с Лопухиным и не доверял ему как сотруднику Плеве, и вряд ли решился бы на такую откровенность. В крайнем случае, мог сделать намек, которому Лопухин впоследствии дал свое толкование. Но мысль о том, что гибель государя могла бы стать спасением для страны и монархии, наверняка посещала Витте!
Однако ни в убийстве, ни в самоубийстве царя необходимости не было. Вполне достаточно было отречься от престола. Какую огромную услугу он этим оказал бы любимому отечеству! Но для принятия хотя бы такого решения нужно было быть личностью: а не «тварью дрожащей». Так что — «где ему!»
Но законно было бы спросить того же Никольского, где был он и подобные ему «патриоты», щедрые на красивые фразы: «мне жизни не жаль, а России жаль»? Видя единственное спасение России в устранении Николая, они отваживались только на кукиш в кармане.
Что же касается террористов из революционного лагеря, то отваги им было не занимать, но эмоции застили разум экзальтированным юношам. Не то, чтобы они щадили царя — конечно, нет! Но настоящей злости к нему у них не было. Слишком он был мелок, ординарен, неприметен, походил на тень самодержавного деспота. Своей податливостью, мягкостью, умело разыгрываемой ролью тихони, он прятался за спину «сильных личностей» типа Плеве, а позднее — Столыпина (одновременно ревнуя к их репутации), подставляя их под пули и бомбы вместо себя. Центральный Комитет партии социалистов-революционеров даже принял особое решение, запретившее своей Боевой Организации покушаться на царя. Запрет был снят только на излете деятельности Боевой Организации, когда она, благодаря двойной игре возглавлявшего ее Евно Азефа, была под надежным колпаком у тайной полиции. Коронованный революционер оказался куда более ловким конспиратором, чем все Азефы и Савинковы, вместе взятые.
Витте назвал внутреннюю политику тех судьбоносных месяцев «реакционными шатаниями» с «искрами напускного либерализма»; они «не только не успокаивали смуту, а производили совершенно обратное действие».[217]
Этот диагноз мне представляется точным.
Одной из «искр либерализма» стало удаление в отставку московского генерал-губернатора Сергея Александровича, давно ставшего символом всего самого жестокого и реакционного в реакционном режиме, хотя сам великий князь был игрушкой в руках обер-полицеймейстера Москвы, к тому времени уже генерала, Д. Ф. Трепова.
Николай II
Трепов «принципиально» ушел в отставку вслед за своим патроном, громогласно заявив, что он «не согласен» с политикой Святополка-Мирского и намерен отправиться в действующую армию. В сущности, это был открытый выпад против государя, который Святополка поставил. Но выпады «справа» царя не оскорбляли, он не чувствовал себя уязвленным ими; напротив, к тем, кто это себе позволял, он тотчас проникался большой симпатией. Когда бравый конногвардеец, перед тем, как отправиться на фронт, приехал в Петербург, министр двора граф Фредерикс — тоже бывший конногвардеец, по традиции протежировавший «своим», — представил его государю. И тот не только принял фрондера, но с первого взгляда, как гимназистка, «влюбился» в бравого генерала с выпяченной грудью и страшными глазами. Трепов тотчас был назначен Петербургским генерал-губернатором. О его отъезде на Дальний Восток вопрос уже не стоял. Вслед за тем, Трепов был назначен заместителем министра внутренних дел и командующим Петербургским гарнизоном. Заняв три ключевых поста и заручившись исключительным доверием государя, он фактически стал главой исполнительной власти с почти диктаторскими полномочиями.
Между тем, анархия, разгулявшаяся в стране, проникла в само государственное управление. На всех уровнях власти царили неразбериха, растерянность, боязнь бездействия и еще больший страх действовать.
То, что на воскресенье 9 января 1905 года назначено массовое шествие рабочих к Зимнему дворцу для передачи царю петиции с изложением их нужд, ни для кого не было секретом. То, что манифестация будет мирной, под руководством священника Григория Гапона, вскормленного в Департаменте полиции «самим» Зубатовым, тоже было известно. Копию петиции рабочих Гапон заблаговременно передал властям — в ней не было ничего крамольного. Да и петербургский градоначальник генерал И. А. Фуллон лично знал Гапона и полагался на него. Казалось бы, к такой демонстрации следовало отнестись благосклонно.
Однако, когда намеченный день придвинулся и стало ясно, что демонстрация примет небывалый размах, власти охватила паника. Пример подал сам государь, заблаговременно убравшийся в Гатчину. 8 января вечером Святополк-Мирский собрал совещание, на котором был принят план градоначальника Фуллона и генерал-губернатора Трепова — самое нелепое из всех возможных решений: не препятствовать демонстрантам при прохождении по улицам города, но на Дворцовую площадь не допускать, загородив подходы к ней полицейскими кордонами; а в случае отказа разойтись, пустить в ход оружие. Если бы намеренно хотели устроить кровавую баню, то нельзя было изобрести лучшую ловушку.
Пока шло заседание у Мирского, к Витте, видимо, как к наиболее здравомыслящему представителю власти, пришла депутация от редакции «Наших дней» (включавшая Максима Горького). Она указывала на тревожную ситуацию и просила принять срочные меры для недопущения кровопролития. Обер-министр без портфеля, уязвленный тем, что даже не приглашен на совещание к Мирскому,[218] ответил, что он не у дел, ни во что не посвящен, помочь не может. Правда, он позвонил Мирскому и попросил его выслушать депутацию; тот ответил, что принять ее не может, добавив, что ее точка зрения ему известна, но выполнить ее нельзя.
На следующий день прозвучали ружейные залпы. Страна содрогнулась от кровавой расправы, в которой неизвестно, чего было больше — трусости, подлости или бездушия. Либеральная печать, вчера еще благоволившая к Святополку-Мирскому, обвиняла его в «слабости» и в этом сошлась с дворцовой камарильей. Недолгая эпоха «доверия к обществу» кончилась. «Слабый» Мирский был отставлен, зато позиции «сильного» Трепова — главного виновника Кровавого Воскресенья — укрепились.
Министром внутренних дел царь назначил добродушного А. Г. Булыгина, много лет состоявшего в Москве вторым человеком после генерал-губернатора Сергея, но не имевшего никакого влияния, так как все держал в своих руках Д. Ф. Трепов, и теперь оказавшийся его заместителем («товарищем»). Двоевластие продолжалось!
Генерал Трепов представлял собой ухудшенное издание Плеве: он был столь же «решителен», но необразован, глуп и обладал склонностью влипать в нелепые ситуации, вроде команды «смотри веселей», отданной им на похоронах Александра III, что не помешало его головокружительной карьере.
Кровавое Воскресенье послужило детонатором для новой волны беспорядков, перекинувшихся теперь даже в армию и во флот. В феврале в Москве был убит великий князь Сергей Александрович. Акция эсера Каляева была тем более бессмысленной, что великий князь был уже не у дел. Но общественный эффект она произвела даже больший, чем недавнее убийство Плеве: ведь жертвой террора стал виднейший член царствующего дома.
Николай в высшей степени странно отреагировал на гибель августейшего дяди и свояка.[219] Через два часа после получения страшного известия иностранные послы стали свидетелями изумившей их сцены: государь и великий князь Сандро сидели на узком диване и изо всех сил спихивали с него друг друга; и оба заливались хохотом…
Говорило ли это о чудовищной бессердечности Николая, в чем его упрекал А. Ф. Кони, или он пребывал в шоковом состоянии, когда атрофируются все чувства, или это был истерический хохот непреодолимого страха? Кто может это знать!..
Если осенью 1904 года царь отверг предложение Мирского пополнить государственный совет выборными представителями земств, а в декабре — вычеркнул из его программы пункт о представительных учреждениях, то летом 1905 года уже спешно обсуждался законопроект о Булыгинской (законосовещательной) Думе.
Деваться было некуда, земля — в буквальном смысле — горела под ногами российского самодержавия. «Вся Россия была в огне, — живописал Великий князь Сандро. — В течение всего лета [1905 года] громадные тучи дыма стояли над страной, как бы давая знать о том, что темный гений разрушения всецело овладел умами крестьянства, и они решили стереть всех помещиков с лица земли. Рабочие бастовали. В черноморском флоте произошел мятеж, чуть не принявший широкие размеры».[220]
6 августа царь издал манифест о «даровании» представительных учреждений. Конечно, речь шла не о всенародном представительстве: рабочие, студенты, солдаты, бедный городской люд не получали никаких избирательных прав. Остальное население было разбито на курии, в которых выборы должны были проводиться многоступенчато, в каждой — по своей норме, причем явное преимущество получали дворяне и верхний слой буржуазии, а следом шло крестьянство. Вопреки тому, что происходило в стране, Николай упрямо продолжал верить, что крестьяне консервативны и стоят за неограниченного царя-батюшку; а потому, чем больше крестьяне будут представлены в Думе, тем лучше. В этом отношении он полагался на крестьян даже больше, чем на дворян: среди них было много «умников», то есть интеллигентов, выступавших с теми или иными «мечтаниями» об ограничении царской власти.
Как бы то ни было, а стране было обещано нечто вроде парламента! Пусть без права издавать законы, но все-таки с правом их обсуждать, выражать свое независимое мнение! Это уже было нешуточное завоевание либерально-демократического общества. Но оно не верило царскому слову. Столько раз давались обещания и столько раз не выполнялись! Что может помешать царю опять отступиться? Тем более, что Дума была связана с именем Булыгина, а правил бал Трепов.
За спиной Булыгина творились акции, о которых он сам узнавал из газет, а когда к нему обращались за разъяснениями, так и отвечал: ничего не знаю, не посвящен! Он просился в отставку, но государь его не отпускал: треповский срам нуждался в прикрытии фиговым листком. Дошло до того, что «вахмистер по воспитанию и погромщик по убеждению», как вскоре назовет Трепова князь Д. С. Урусов с трибуны Первой Государственной Думы (не совещательной Булыгинской, так и не состоявшейся, а законодательной, Виттевской!), организовал в Департаменте полиции публикацию нелегальных прокламаций погромного содержания, о чем уже упоминалось. Конспирация в квадрате! Когда позднее, благодаря Лопухину, Витте разоблачил эту преступную затею и доложил о ней государю, венценосный конспиратор нисколько не удивился, косвенно признав, что для него это не новость!
Интересно, что эту полицейскую акцию Солженицын называет личным «конспиративным предприятием авантюриста Комиссарова», которое якобы было вскрыто и пресечено министром внутренних дел П. Н. Дурново. С появившимся вдруг новым пылом, столь неожиданным в его вялом повествовании, он разоблачает имеющиеся на этот счет «лжеверсии, [которые] так присохли, а особенно на отдаленном Западе, откуда Россия виделась всегда в черном тумане, а пропаганда против нее звучала отчетливо» (стр. 403). Тут же, конечно, и «Ленину было подстать налепить: царизм „ненависть измученных нуждою рабочих и крестьян к помещикам и капиталистам старался направить на евреев“; и его подручный Лурье-Ларин выкручивался объяснять это классово». (Стр. 403).
Но С. Ю. Витте — не отдаленный Запад и не Ленин-Лурье, все объясняющий классово. В осведомленности ему не откажешь, как и Лопухину, разузнавшему об «авантюре», видимо, благодаря своим прежним связям в Департаменте полиции. Со своими разоблачениями он не случайно пошел к Витте, а не к Дурново. И Витте, который четко указывает, что секретный комиссаровский отдел «был организован еще при Трепове и находился в ведении [известного мастера полицейских провокаций П. И.] Рачковского»,[221] не случайно вызвал к себе Комиссарова в обход Дурново (который к тому времени уже сошёлся с Треповым, но об этом у нас речь впереди), обманом выспросил у него о его деятельности и, доложив государю, убедился, что тот вполне в курсе комиссаровской провокации. Только после этого Витте поручил Дурново провести официальное расследование этого дела и доложить о нем на заседании Совета министров.
«В моем архиве, — продолжает Витте, — хранится сообщение Дурново о результатах следствия, которое не отрицает фактов, но, конечно, их значительно преуменьшает».[222]
Что же касается ротмистра Коммисарова, то его рвение было оценено по достоинству: вместо того, чтобы за свои преступные действия, отягощенные злоупотреблением служебным положением, пойти под суд и на каторгу, он был «прощен» царем за прошлые заслуги, с блеском продолжал свою карьеру и 1917 год встретил в чине жандармского генерала!
Вот когда тот же Лопухин разоблачил двойную игру своего бывшего агента Азефа, прошлые заслуги многолетнего начальника Департамента полиции в зачет не пошли: он был предан суду и сослан в Сибирь! Таковы еще несколько выразительных штрихов, либо вовсе обойденных Солженицыным, либо истолкованных им таким образом, чтобы они не сильно ударяли по его навязчивой (вернее, навязываемой читателю) идее, что царская власть погромов не организовывала и не инспирировала, а только неумело с ними боролась!
Отправляясь на театр военный действий, генерал А. Н. Куропаткин подготовил стратегический план — вполне грамотный и здравый. Поскольку основная часть армии еще не прибыла на Дальний Восток, Куропаткин намеревался избегать крупных сражений. Ведя планомерное отступление и сдерживая продвижение противника, он хотел дождаться прибытия и развертывания основной части войск, а затем перейти в контрнаступление. Однако на месте Куропаткин стал подгонять свою «кутузовскую» тактику под шапкозакидательство главнокомандующего Алексеева. Одно позорное поражение следовало за другим. Дважды уничтожив российский флот и овладев океаном, японцы добились подавляющего превосходства и на суше. Многократно разбитые русские войска к лету 1905 года были обескровлены и деморализованы. Но и японцы к этому времени выдохлись.
На фронтах наступило затишье. Президент США Теодор Рузвельт выступил с мирной инициативой, за что российские власти, конечно, ухватились. Граф Ламздорф сразу же предложил государю отправить на переговоры Витте. Царь не мог не понимать, что это наилучший выбор. Но соображения мелочного самолюбия, как всегда, брали верх над государственными интересами. С каким лицом он должен был просить Витте ехать за океан расхлебывать кашу, которую тот так упорно просил его не заваривать, за что и попал в опалу! Говоря слогом самого Витте, «его величеству были отлично известны мои убеждения и мои старания предотвратить от России и ее монарха великие бедствия и что мои старания не увенчались успехом потому, что его величеству не угодно было в этом вопросе оказать мне доверие».[223]
Царь решил возложить миссию на посла в Париже Нелидова — того самого, который когда-то чуть было не втравил его в босфорскую авантюру, но доверия не утратил. Однако Нелидов, сославшись на преклонный возраст и болезни, от многотрудного задания уклонился. Тогда царь обратился к посланнику в Дании Извольскому, но тот ответил, что такое дело ему не по плечу и что единственный человек, способный его вытянуть, — это Витте. Следующим кандидатом стал посол в Италии Н. В. Муравьев (бывший министр юстиции).
Муравьев явился в Петербург, но, узнав, что на расходы главы делегации ассигнуется 15 тысяч рублей, а не 100 тысяч, как он рассчитывал, он на аудиенции у государя расплакался и, сославшись на болезни, стал просить уволить от столь тяжелой миссии.
Пришлось-таки самодержцу всероссийскому прищемить собственный хвост и пойти на поклон к опальному председателю комитета министров! Витте отправился за океан и добился такого соглашения, что весь мир ахнул. Такую дипломатическую победу после столь позорного военного поражения, кажется, никто еще никогда не одерживал! Получив телеграмму о благополучном исходе переговоров, государь, по своему скудоумию и бедности воображения, не понял, что же произошло в этом далеком Портсмуте. И только когда на него обрушился шквал поздравлений со всего света, он осознал масштаб случившегося.
По возвращении Витте в Петербург Николай сердечно благодарил его за то, что он не только по букве, но и по духу выполнил все инструкции, и возвел его в графское достоинство. А через год, когда черносотенная пресса стала поносить вторично опального графа Витте, ставя ему в вину и Портсмутский мир, заключенный в угоду «жидам и масонам», газета «Новое время» привела слова государя: «Тогда все, кроме меня, были за то, чтобы заключить мир».
Говорил это царь или нет, неизвестно, но, как замечает Витте, «конечно, Суворин бы этого не печатал, если бы он не знал, что сие будет встречено свыше одобрительно».[224]
Пока Витте вытаскивал Николая из кровавой дальневосточной трясины, в которую тот себя загнал с помощью кузена Вилли, Безобразова и Плеве, Николай ухитрился попасть в новую ловушку, расставленную тем же неугомонным кузеном. Летом 1905 года состоялась встреча двух императоров в Бьерках. Официально она была объявлена частным свиданием родственников, не имеющим никакого отношения к политике. На самом же деле кузен Вилли, преследуя именно политические цели, выцарапал у кузена Никки не больше не меньше, как договор о военном союзе на случай войны с какой-либо третьей страной. При этом оговаривалось, что договор войдет в силу после ратификации мирного договора России с Японией. То есть, в случае провала переговоров в Портсмуте (которые шли в то время) и возобновления военных действий на Дальнем Востоке Россия на помощь Германии рассчитывать не могла. А вот если бы Германия ввязалась в войну с какой-либо страной, а как раз обострился ее конфликт с Францией из-за притязаний обеих стран на Марокко, то Россия обязалась выступить на стороне Германии!
Кузен Никки сделал приятное кузену Вилли, ни с кем не проконсультировавшись и даже скрыв подписанный им документ от министра иностранных дел и всех остальных министров. Лишь три месяца спустя граф Ламздорф смог ознакомиться с текстом договора и пришел в ужас. Россия состояла в военном союзе с Францией, по которому страны обязывались защищать друг друга. А теперь получалось, что в случае военного столкновения между Францией и Германией Россия по одному договору должна выступить на стороне Франции, а по другому — на стороне Германии!
Когда вдумываешься в такие факты, то, право, начинаешь подозревать, что ум российского самодержца был так же ограничен, как и его воля. Ведь несовместимость этих двух договоров очевидна любому школьнику, не понимать этого может только умственно отсталый человек. Может быть, прав был В. И. Гурко, полагавший, что «начала» самодержавия Николай понимал в том смысле, что поскольку он отвечает только перед Богом, то может действовать «как Бог на душу положит»![225]
Ламздорф, с помощью Витте и великого князя Николая Николаевича, настоял на внесении «поправки» в Бьеркские соглашения, которая его фактически аннулировала. Но это привело к ненужному осложнению отношений с Германией. Союз ведущих держав континентальной Европы — Франции, Германии и России, к чему стремились наиболее прозорливые политические деятели всех трех стран, оказался невозможным. Так конспиративными действиями кузен Никки еще раз объегорил самого себя. Европа осталась разделенной, что, в конечном счете, ввергло ее в кровопролитную Первую мировую войну и привело к гибели императорской России (и императорской Германии).
Двоедушие царя проявлялось буквально во всем, а самым губительным образом — в том двоевластии, которое продолжало расшатывать устои государства. В один и тот же день публиковался манифест, подтверждающий незыблемость самодержавия, и рескрипт, поручающий Булыгину разработать проект о представительных учреждениях. Мало того, что Булыгин и Трепов тянули в разные стороны, смута проникла в душу самого «железного» Трепова. Тараща вахмистрские глаза и выпячивая грудь погромщика, затянутую в генеральский мундир, бравый конногвардеец праздновал труса.
«Ему, как всякому невежде, все сначала казалось очень просто: бунтуют — бей их; рассуждают, вольнодумствуют — значит, надо приструнить… Никакой сложности явлений нет, все это выдумки интеллигентов, жидов и франкмасонов», — издевался Витте.[226] Но как только простота, что хуже воровства стала давать осечки, Трепов «сделался политическим вахмистром-Гамлетом» и стал шарахаться из одной крайности в другую. Он стоял за начала неограниченного самодержавия, а в проект Булыгинской Думы предлагал внести такие положения, что даже крайние либералы считали их слишком левыми. Он требовал выгнать из университетов всех профессоров и студентов, как главных носителей крамолы, а потом настаивал (и настоял!) на предоставлении вузам самой широкой автономии. Он был автором знаменитого приказа «холостых залпов не давать, патронов не жалеть» и тут же высказывался за широкую политическую амнистию…
Неудивительно, что в сентябре, когда Витте, заключив мир, с триумфом вернулся в Петербург, страна была залита огненной лавой бунтов, забастовок, многотысячных митингов и демонстраций, тюремных голодовок, отстрела губернаторов, жандармов и других наиболее ретивых представителей власти, а заодно, конечно, гибли посторонние, ни в чем не повинные люди. Мир пришел слишком поздно и лишь подлил масла в огонь. Резервисты, мобилизованные на время войны, рвались разъехаться по домам, а вывезти их с Дальнего Востока было невозможно, так как всеобщая забастовка парализовала железные дороги, в том числе и Транссибирскую магистраль. Да и опасно уже стало возвращать столь беспокойную массу понюхавших пороху и ничего не боявшихся людей, явно не лояльных правительству. Власти стремились поскорее вывезти с Дальнего Востока именно регулярные войска, дабы бросить их на усмирение волнений, но из-за этого волнения резервистов передались и регулярным частям, и теперь уже становилось безопаснее держать тех и других подальше, так как на них нельзя было положиться.
В правительственных сферах царила растерянность, все в один голос говорили о необходимости срочных уступок. Даже «супер-патриотические» газеты стали требовать конституции. В «Новом времени» об этом писали такие твердые «монархисты», как Меньшиков и Никольский, в «Гражданине» — князь Мещерский.
6 октября председатель полубездействующего Комитета министров (по возвращении из Портсмута Витте вернулся на прежний пост) запросил аудиенцию у государя, дабы «изложить соображения о современном крайне тревожном положении». Он понял, что настает его время. 9 октября Витте был вызван в Петергоф, где «имел счастье явиться к его величеству» с всеподданнейшей запиской. В ней излагалось два возможных выхода из создавшегося положения — либо назначить полновластного диктатора и «с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее проявлениях», либо стать на путь конституционных преобразований. 10 октября Витте снова был вызван к императору. На этот раз при разговоре присутствовала императрица Александра Федоровна, и он детально повторил свои соображения в ее присутствии.
После долгих обсуждений с разными лицами, после составления нескольких проектов манифеста, после настоятельных рекомендаций Витте вообще никакого манифеста не издавать, а обнародовать только его всеподданнейший доклад, утвержденный государем, было все-таки решено сопроводить доклад Манифестом, «дабы все исходило лично от государя».[227]
И. Л. Горемыкин
Ведя переговоры с Витте, венценосный конспиратор оставался верен себе: по секрету он поручил редактирование манифеста И. Л. Горемыкину и барону А. А. Будбергу.
«Если бы в это решающее на много лет судьбы России время вели дело честно, благородно, по-царски, то многие происшедшие недоразумения были бы избегнуты. При всей противоположности моих взглядов с взглядами Горемыкина и тенденциями балтийского канцеляриста барона Будберга, если бы они были призваны открыто со мною обсуждать дело, то общее чувство ответственности, несомненно, привело бы нас к более или менее уравновешенному решению, но при игре в прятки, конечно, события шли толчками, и документы составлялись наскоро, без надлежащего хладнокровия и неторопливости, требуемых важностью предмета».[228]
Увы, Николай думал не о важности предмета, да и вряд ли понимал значение того, что происходит. Он думал только о том, как бы не продешевить, как бы не уступить слишком многого, сверх абсолютно необходимого минимума! Да, может быть, и минимума не потребуется, авось все еще как-нибудь обойдется!..
Ознакомившись, наконец, с горемыкинским вариантом Манифеста, который поздно ночью привез ему граф Фредерикс, Витте, взвинченный до предела, сказал, что вполне с ним согласен, но при том условии, что выполнять правительственную программу будет поручено ее автору. Он предложил свою программу и берется ее проводить в жизнь, но не чужую.
Вскоре после возвращения графа Фредерикса в Петергоф туда прибыл великий князь Николай Николаевич, имевший репутацию «сильного» человека и военного стратега. Фредерикс сказал ему, что для спасения самодержавия надо установить диктатуру и он, великий князь, должен стать диктатором. В ответ на это страшно возбужденный Николай Николаевич выхватил револьвер и сказал, что сейчас пойдет к государю и либо заставит его принять программу Витте, либо застрелится на его глазах. Взять на себя роль диктатора Николай Николаевич боялся, да и опереться диктатуре было не на что.
Свершилось! Конспирировавший против самого себя и своей собственной власти государь император Николай II «добился» того, чему так упрямо противился. Он вынужден был «даровать» народу России конституцию (хотя в Манифесте она обтекаемо называлась «основными законами»), парламент (названный народным представительством), основные гражданские свободы. То есть отказаться от тех «начал» самодержавия, которые он так упорно подрывал все одиннадцать лет с момента восшествия на престол.
Так кончилась первая половина царствования Николая II.
Эпоха Витте 1905–1906
«Уступки следует делать заблаговременно и в позиции силы, а не в условиях слабости», — пишет Солженицын по поводу издания манифеста 17 октября (стр. 368).
Что и говорить, справедливое замечание; да ведь если бы такой совет был дан самому Николаю II (и давали не раз!), он бы его просто не понял. Достаточно вспомнить его реакцию на «бессмысленные мечтания» тверского дворянства, чтобы убедиться, что ни единой крохой своей абсолютной власти он в позиции силы не поступился бы. И не потому, что он так сильно ею дорожил (мы уже знаем, что власть для него была тяжелой обузой), а потому, что таково было его понятие долга, которое в нем усиленно культивировали те, кто его окружал. При желании в этом можно видеть смягчающие обстоятельства, но ведь только он сам определял, кому быть, а кому не быть «особами, приближенными к императору». Даже с минимальными ограничениями, установленными для себя самим самодержавием, Николай и его камарилья не хотели считаться.
«Представление Николая II о пределах власти русского самодержца было во все времена превратное, — писал В. И. Гурко. — От воли государя зависело самовластно и единолично отменить закон и издать новый, но поступить вопреки действующему закону он права не имел. Между тем Николай II… этого положения не признавал и неоднократно, по ничтожным поводам и притом в вопросах, весьма второстепенных, нарушал установленные законы и правила».[229] Гурко был в числе тех высокопоставленных бюрократов, которые хорошо знали все внутренние пружины государственной системы, так как сами были ее частью.
Однако негодование Солженицына направлено не по адресу слабого и лукавого деспота, вынужденно подобравшего когти, а по адресу «либерального и революционного общества»: почему оно не удовлетворилось крохами и захотело большего?
Верный своему методу, Солженицын ищет опоры в еврейских источниках. Г. Слиозберг, часто оспариваемый автором книги, в данном случае опять ко двору. «„Достигнута была цель, к которой стремились в течение десятилетий лучшие русские люди, — солидарно цитирует его Солженицын. — … Добровольный по существу отказ Государя от самодержавной власти и обязательство передать законодательную власть на решение народных представителей… Казалось, всех должна была объять радостью весть об этой перемене“ — а встретили ее с прежней непримиримой революционностью: борьба продолжается! На улицах срывали национальные флаги, царские портреты и государственные гербы». (Стр. 369 со ссылкой на Г. Слиозберга).
Реальная картина снова деформирована. Во-первых, общество отнюдь не отринуло свобод, дарованных Манифестом 17 октября, а встретило их с ликованием. Люди, принадлежавшие к самым разным слоям населения, нацепив красные банты, выходили на улицы, обнимались, целовались, смеялись и плакали от радости. Во-вторых, то, к чему стремились «лучшие русские люди», далеко ещё не было достигнуто. И в-третьих, те же «лучшие русские люди» сознавали, что на дальнейшие преобразования власть по собственной воле не пойдет; ее можно только заставить.
А главное, сам царь и его подобострастное окружение полностью разделяли это мнение!
Дарование народу свобод для них было именно уступкой, а вовсе не принципиальной переменой стратегического курса. Пойти на коренное преобразование государственного строя, так, чтобы все в равной мере подчинялись законам; чтобы народ, в лице своих избранников, мог сам решать свою судьбу; чтобы верховная власть стала воплощать сбалансированные интересы разных групп населения, а правительство — служить этим интересам? В окружении Николая нельзя было высказать большей крамолы. При его понимании долга монарха — сохранить самодержавную власть и во всей полноте передать ее сыну — требовалось остановить время, заморозить политическую жизнь страны, надеть на нее ледяной панцирь. А поскольку жизнь брала свое, постольку многострадальный Иов чувствовал себя уязвленным в лучших своих чувствах. А те, кого он считал наиболее себе преданными (и впереди всех обожаемая супруга), не уставали льстиво и вместе с тем укоризненно нашептывать, что все неурядицы происходят от безграничной его доброты, покладистости, от его голубиного характера.
Царь, камарилья и полицейско-бюрократический аппарат исходили из того, что чем больше власти у царя, тем меньше прав и свобод у народа. И наоборот. Потому вынужденные уступки, должны были быть минимальными и, по возможности, временными.
«Ограничения царской власти, провозглашенного манифестом 17 октября 1905 года и закрепленного в 1906 году новым содержанием Основных Законов Империи, Николай II определенно не признавал, — продолжает В. И. Гурко. — Правда, самого факта издания этого манифеста он никогда не мог простить ни самому себе, ни тем, которые его к тому подвинули, и в душе, по-видимому, лелеял мысль манифест этот со временем отменить, но, тем не менее, упразднения самодержавия он в нем не усматривал».[230]
Властитель слабый и лукавый упирался до того, что уже готовили корабль для бегства царской семьи за границу, под крылышко кузена Вилли, услужливо предложившего свое гостеприимство. А когда он уступил, то «всю королевскую рать», вдруг оказавшуюся в положении больших роялистов, чем сам король, Манифест 17 октября поверг в смятение. Это был удар в спину, надругательство над «патриотическими» чувствами, а, главное, подрыв ее — королевской рати — сверхпрочного положения. И ответила она на царский Манифест о свободах своим бунтом против Манифеста, бессмысленным и беспощадным, направив его в привычное для нее русло.
Девятый вал еврейских погромов покатился по городам и весям черты оседлости и даже выплеснулся за черту. «Вы хотели свободы — вот вам свобода!» Таков был основной лозунг монархистов, возмущенных уступчивостью монарха. По масштабу, количеству жертв, по неистовости разгула темных страстей эти кровавые оргии во много раз превзошли еще недавно казавшийся таким чудовищным Кишиневский погром.
Говорить об этом разгуле ненависти и насилия вкратце нельзя, а чтобы рассмотреть гору всевозможных материалов, надо писать отдельную книгу. Я остановлюсь только на том, как эти события освещены в книге Солженицына, где им отводится 45 страниц текста — почти десятая часть всего труда.
Солженицын в основном ограничивается пересказом отчетов двух сенатских ревизий — сенатора Турау о погроме в Киеве и сенатора Кузминского о погроме в Одессе. Но анализом хотя бы этих двух документов он себя не утруждает. Сенат, по Солженицыну, «был авторитетнейшим и независимым юридическим учреждением», а ревизии сенаторов — это «высший класс достоверного расследования, применявшийся в императорской России». (Стр. 370) Чего же тут анализировать!
С такой комплиментарной оценкой трудно согласиться уже потому, что в самодержавном государстве независимые учреждения невозможны по определению. Относительной гарантией некоторой самостоятельности сенаторов служило то, что, по закону, назначения в Сенат были пожизненными. Но свои собственные законы, как мы знаем, самодержец часто нарушал. Излишне строптивых сенаторов под тем или иным предлогом удаляли, а на их место ставили угодных и готовых угодничать. Обычной практикой было сбрасывание в Сенат несильно проштрафившихся или просто ставших ненужными чиновников высшего ранга, и они там старательно заглаживали свои вины и доказывали свою нужность, надеясь на то, что их снова отличат и поднимут на более высокую ступень власти. Или, напротив, в Сенат подбрасывали за особые заслуги и усердие чиновников относительно низкого ранга, от которых можно было ждать еще большей угодливости. Так, прокурор Киевской судебной палаты Чаплинский был назначен в Сенат за его усердие при фабрикации ритуальных обвинений против Бейлиса, в которые сам он, конечно, не верил. С другой стороны, Н. Н. Кутлер, составивший слишком «дерзкий» проект земельной реформы и за это уволенный с высокого поста, почти равного министерскому ни в Государственный Совет, ни в Сенат определен не был. Сопоставление только этих двух примеров показывает, какого сорта личности преимущественно оседали в Сенате и чем многие из них руководствовались при выполнении деликатных поручений.
Но если и не оспаривать апологетических посылок Солженицына, то следует ли из них, что то, что было «высшим классом» в тогдашней империи может служить высшим авторитетом для сегодняшнего историка? Даже беглое ознакомление с отчетами двух сенаторов-ревизоров обнаруживает предвзятость — большую у Турау, меньшую, но тоже вполне очевидную, у Кузминского.[231]
В каждом из отчетов — и в их солженицынском изложении — дается длинная вступительная часть, подробно излагающая революционные события всего 1905 года в Киеве и в Одессе. В обоих декларируется прямая связь этих революционных выступлений с еврейскими погромами, последовавшими за Манифестом 17 октября, — на том основании, что в противоправительственных акциях евреи якобы «выделялись».
Полуцитируя, полупересказывая отчет сенатора Турау, Солженицын четко расставляет акценты: «„Еврейская молодежь, говорится в отчете, преобладала и на митинге 9 сентября в политехническом институте“; и при оккупации (?! — C.Р.) помещения литературно-артистического общества; и 23 сентября в актовом зале университета, где „сошлись до 5 тысяч студентов и посторонних лиц и в том числе 500 женщин“. З октября в политехническом институте „собралось до 5 тысяч человек… преобладала еврейская молодежь женского пола“. И дальше упоминания о преимущественном участии евреев: на митингах 5–9 октября; и в митинге 12 октября в университете…» (Стр. 372).
Цитату можно продолжать, но и из приведенного фрагмента видна руководящая идея сенатора, который, как для большей вескости подчеркивает Солженицын, опросил более 500 свидетелей. Что и говорить, материал был собран обильный! Но именно поэтому он мог быть обобщен по-разному. Только от самого сенатора Турау зависело, что в этом материале считать характерным, а что случайным, что важным и заслуживающим доверия, а что второстепенным или сомнительным. Сам язык изложения, местами сухой и точный, каким и должен быть юридический язык строгого ревизора, в других местах становится намеренно зыбким, расплывчатым, выдавая стремление не столько прояснить истину, сколько создать нужное властям впечатление.
В одном случае, как мы видели, сенатор указывает на участие в революционном митинге необычно большого числа женщин, вполне определенно проставив оценочную цифру: пятьсот из пяти тысяч участников. А вот говоря о другом пятитысячном митинге с большим участием женщин, сенатор уже обходится без цифр: преобладала «еврейская молодежь женского пола»!
В каком смысле — преобладала? Из пяти тысяч женщин было больше двух с половиной тысяч? И откуда известно, что все эти женщины — еврейки? Паспортов у них не проверяли, имен не переписывали, а по внешности не каждую еврейку определишь с первого взгляда. За юридически установленный факт здесь выдается личное впечатление каких-то свидетелей, видимо, антисемитов, в чьих глазах (что мы уже отмечали) евреи преобладают и выделяются во всем, что они не одобряют. Такой лексикон не подобает сенатской ревизии. Он более уместен в псевдоэмоциональной мемуаристике-беллетристике В. В. Шульгина!
Чтобы понять цену этим «ревизиям», надо вспомнить, что революционные выступления в 1905 году проходили по всей стране, а основная масса евреев концентрировалась в черте оседлости. В городах и местечках черты евреи составляли от двадцати до пятидесяти процентов населения (где-то и больше) и, конечно, участвовали в революционных выступлениях. Но ничто не говорит о том, что накал борьбы из-за этого был большим, чем вне черты, где евреев либо вообще не было, либо было очень мало, причем среди них преобладали люди обеспеченные — не те, кто рвался на баррикады. Не еврейская молодежь женского пола жгла помещичьи усадьбы в Саратовской губернии, с чем никак не мог совладать бесстрашный губернатор П. А. Столыпин. Не еврейская молодежь восстала на «Потемкине» и «Очакове», митинговала в Дальневосточной армии, парализовала всеобщей забастовкой железные дороги и крупнейшие предприятия Петербурга, Москвы и других городов!
Но главное, что хотелось бы спросить обоих сенаторов: где коза и где капуста?
Царь издал манифест о даровании свобод, народ в радостном возбуждении высыпал на улицы — какие основания считать, что эти вполне законные (ведь разрешена же свобода собраний и манифестаций!) выступления в поддержку царского манифеста носили антиправительственный характер? Но именно на таком утверждении строится логика обоих сенаторов и вторящего им Солженицына:[232]
«Смею сказать, в такой неистовости ликования проявилась черта и неумная и недобрая: неспособность удержаться на границе меры. Что толкало евреев, среди этих невежественно (? — С.Р.) ликующих киевских сборищ так дерзко предавать осмешке то, что еще свято простому народу?[233] Понимая неутвержденное положение в государстве своего народа, своих близких, — могли бы они 18–19 октября по десяткам городов не бросаться в демонстрации с таким жаром, чтобы становиться их душой, и порой большинством?» (Стр. 375).
Выходит, православному народу ликовать можно — хотя бы по его простоте и невежеству. А евреям (среди них «простого народа» нет!) надобно помнить, что в изъявлениях радости им следует соблюдать субординацию, ибо ликующий рядом «большой народ» может осерчать. Радовались бы втихомолку, глядишь, пронесло бы. А они туда же, плясать на улицах! Словно забыли про свое «неутвержденное положение в государстве»!
Так Солженицын итожит сенатские ревизии.
Но надо отдать справедливость почтенным сенаторам. При явном стремлении показать, что погромы хотя бы отчасти инициировали сами евреи, они не скрыли того, что и в Киеве, и в Одессе жертвами бесчинств стали те, кто не имел никакого отношения ни к каким выступлениям — ни антиправительственным, ни проправительственным. Удостоверили и то, что избиения евреев проходили при попустительстве, поощрении и прямом участии полиции, войск, военных и гражданских чинов высоких рангов. Впрочем, как могли бы они утаить то, что в обоих городах было известно каждому обывателю, и по всей России разошлось широко — благодаря прессе, ставшей, наконец, почти свободной!
Сенатор Турау отдал под суд два десятка полицейских чинов во главе с полицмейстером Киева Цихоцким (погромщики его с восторгом качали за поощрение их бесчинств, а он им кланялся), а сенатор Кузминский — четыре десятка, включая градоначальника Одессы Д. Б. Нейдгардта. Солженицын видит в этом доказательство безупречной объективности обоих ревизоров: наказали виновных, не взирая на звания и чины! А тем показали и непричастность более высокого, петербургского, начальства.
Вот о том, были ли судимы и осуждены шесть десятков мундирных погромщиков Одессы и Киева, Солженицын молчит. Вынужден молчать и я, ибо никаких данных об их участи мне найти не удалось, если не считать упоминания Витте о том, что Д. Б. Нейгардт был им уволен, но снова «выплыл на поверхность административного влияния при Столыпине в качестве брата его жены».[234]
Витте не уточняет, в чем именно состояла роль выплывшего Нейгардта. Но об этом можно узнать из других источников, например, из воспоминаний почетного лейб-медика, академика Г. Е. Рейна, на чьих руках умирал в 1911 году смертельно раненый П. А. Столыпин. Рейн пишет, что «принял на себя организацию ухода за раненым министром, пока не прибыли супруга министра Ольга Борисовна и два ее брата сенаторы Александр Борисович и Дмитрий Борисович Нейгардт».[235] (Курсив мой — С.Р.)
Так вот в каком качестве «выплыл» одесский обер-погромщик, отданный сенатором Кузминским под суд — в качестве его коллеги-сенатора! Но если мы решим, что это уникальный случай, то есть что Нейгардту его кровавые преступления сошли с рук только благодаря протекции высокопоставленного родича, то ошибемся. О том, что и других мундирных погромщиков ждала отнюдь не мученическая судьба, видно по аналогичному погромному делу того времени.
«Провокаторская деятельность департамента полиции по устройству погромов дала при моем министерстве явные результаты в Гомеле, — засвидетельствовал С. Ю. Витте. — Расследованием… неопровержимо было установлено, что весь погром был самым деятельным образом организован агентами полиции под руководством местного жандармского офицера графа Подгоричани, который это и не отрицал. Я потребовал, чтобы [министр внутренних дел П. Н.] Дурново доложил это дело Совету министров. Совет, выслушав доклад, резко отнесся к такой возмутительной деятельности правительственной секретной полиции и пожелал, чтобы Подгоричани был отдан под суд и устранен от службы. По обыкновению был составлен журнал заседания, в котором все это дело было по возможности смягчено… На этом журнале Совета министров государь с видимым неудовольствием 4 декабря (значит, через сорок дней после 17 октября) положил такую резолюцию: „Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела графа Подгоричани подлежит ведению министерства внутренних дел“».[236]
В другом месте Витте уточняет: «На мемории по этому делу, конечно, не без влияния министра внутренних дел Дурново, его величество соизволил написать, что эти дела не должны быть доводимы до его сведения (вероятно, по маловажности?..)».[237] А вот и итог: «Через несколько месяцев я узнал, что граф Подгоричани занимает пост полицмейстера в одном из черноморских городов».[238]
Солженицын к таким свидетельствам глух и слеп. Зато с орлиной зоркостью он высматривает себе созвучное, — в особенности, в еврейских источниках. «„Мы абсолют но уверены, — цитирует он Л. Прайсмана, со ссылкой на его статью 1987 года в израильском русскоязычном журнале „22“, — что Департамент полиции не был таким хорошо организованным учреждением, чтобы подготовить в одну и ту же неделю погромы сразу в 660 местах“. За те погромы „несет ответственность не только и не столько администрация, сколько само русское и украинское население черты оседлости“. Вот с последним — соглашусь и я, — одобряет Александр Исаевич. — Но только с существенной поправкой: что и еврейская молодежь того времени — весомо делит ту ответственность». (Стр. 404) (Имеется в виду еврейская самооборона; по логике Солженицына, еврейские юноши, дававшие отпор там, где бездействовали войска и полиция, делят вину с самими громилами).
А дальше — обобщение, далеко выходящее за рамки «того времени»: «Тут трагически сказалась та черта русско-украинского характера (не различая, кого из громил кем считать), что в минуты гнева мы отдаемся слепому порыву „раззудись плечо“, не различая правых и виноватых, а после приступа этого гнева и погрома — не имеем способности вести терпеливую, методическую, многолетнюю деятельность к исправлению бед. В этом внезапном разгуле дикой мстящей силы после долгой дремли — на самом деле духовная беспомощность наших обоих народов». (Стр. 404–405).
Я оказываюсь в парадоксальном положении: мне ли, «лицу еврейской национальности», отстаивать достоинство русского народа, оспаривая такого безупречного русака, как Солженицын? Но я вырос среди русских, воспитан на русской культуре, русский язык — это язык моих мыслей и чувств; русская литература, наука, история — предмет моих занятий на протяжении всей сознательной жизни. Думаю, я достаточно знаю русский национальный характер — с его достоинствами и недостатками. К последним отношу излишнюю инфантильность, с которой связываю многие неустройства российской общественной, государственной, экономической жизни в прошлом и настоящем. Преувеличенное представление о своей особой духовности, богоносности на протяжении столетий тоже не содействовали взрослению нации. Но объявлять «внезапный разгул дикой мстящей силы», помноженный на «духовную беспомощность», прирожденной особенностью народа значит ставить его вне человеческой цивилизации!.. Куда только смотрит Игорь Шафаревич, неутомимо рыщущий по литературным текстам в поисках истинных или мнимых обидчиков «большого народа»!
Шафаревич молчит, а с ним и вся гвардия воителей против «русофобии». Видимо, они согласны с Александром Исаевичем. А я не согласен. Я считаю русский народ — такой, каким он сложился в результате выпавшей на его долю исторической судьбы, — не менее цивилизованным, чем другие ведущие народы мира. Может быть, ему недостает немецкой аккуратности, американской деловитости, или китайского трудолюбия, но это не признаки духовной ущербности. Русский народ имеет великие достижения и великих представителей, которыми по праву гордится; имеет он и своих мерзавцев, на что, по известной формуле В. Жаботинского, всякий народ имеет право.
Погромы 1905 и других лет совершал не русский народ, а его отребье, руководимое властями и черной сотней. То, что отребья оказалось так много, русских не украшает, но основная вина в том лежит на тех же властях и идеологах черной сотни. Это они растлевали народ ненавистью к евреям и другим меньшинствам, доводя часть его до «нравственного одичания» (о чем, как мы помним, предостерегал В. С. Соловьев задолго до описываемых в этой главе событий). Кто же действительно срамит Россию — тот, кто объясняет творившиеся в ней безобразия действиями наделенных властью мерзавцев разного калибра, или тот, кто приписывает разгул низменных страстей духовной ущербности самого народа? Не знаю, найдет ли Солженицын выход их логического капкана, в который сам себя загнал.
Возвращаясь на Олимп власти, можно сказать, что первые полгода после Манифеста 17 октября напоминали отчаянную борьбу над пропастью между самоубийцей, рвущимся к роковому прыжку, и его спасителем, который пытается оттащить его от края бездны.
«Я вступил в управление империей при полном ее, если не помешательстве, то замешательстве, — вспоминал Витте. — Ближайшими признаками разложения общественной и государственной жизни было общее полное недовольство существующим положением, что объединило все классы населения; все требовали коренных мер государственного переустройства».[239]
Это еще мягко сказано. Комментируя «Воспоминания» Витте, А. В. Игнатьев и А. Г. Голиков с протокольной точностью указывают, что, кроме массовых забастовок и манифестаций в городах, крестьянских бунтов, всевозможных требований, раздававшихся с трибун съездов земских, городских и иных организаций, «осень 1905 г. была отмечена массовыми выступлениями в армии и на флоте. С октября 1905 г. до начала 1906 г. было 195 массовых выступлений. Причем в 62 случаях дело доходило до различных форм вооруженной борьбы, включая восстания. Наиболее крупными выступлениями осени 1905 г. были отмеченные С. Ю. Витте „волнения“ в Кронштадте и Севастополе. В Кронштадте матросы 12-ти флотских экипажей из 20-ти и солдаты гарнизона крепости в течение двух дней вели бои с правительственными войсками. Военно-полевой суд грозил полутора тысячам матросов и нескольким сотням солдат. Под воздействием 160-тысячной всеобщей забастовки рабочих Петербурга дело было передано не в военно-полевой, а в обычный военно-окружной суд. Угроза смертной казни для восставших миновала».[240]
Затем последовала широкая амнистия политических заключенных и другие шаги, направленные на смягчение противостояния власти и общества. Хотя и неровно, толчками, но началось успокоение. Вопреки утверждению Солженицына, что общество «злорадно истолковало Манифест как капитуляцию и оттолкнуло его» (Стр. 368), в Петербурге вскоре прекратилась всеобщая забастовка. Хотя Петербургский совет рабочих депутатов, который еще накануне чувствовал себя полным хозяином в столице, постановил забастовку возобновить, это решение не было выполнено. Снова заработали заводы и фабрики. Пошли поезда по железным дорогам. Заработал телеграф.
Витте хотел тотчас отдать приказ об аресте председателя Петербургского совета Г. С. Носаря (Хрусталева), но ему посоветовали с этим повременить, дабы не вызвать нового возмущения еще не остывших рабочих. Солженицын называет Носаря-Хрусталева подставной фигурой, за чьей спиной якобы орудовали «несравненные руководители Парвус и Троцкий» (стр. 370). Но это не что иное, как опрокидывание будущего в прошлое — по рецепту марксиста Покровского, для которого история была не наукой, а политикой, туда «опрокинутой».
Впоследствии Троцкому пришлось сыграть выдающуюся роль в революционном движении, тогда как роль Носаря была незначительной, но в 1905 году подлинным лидером рабочего движения в столице был именно Носарь-Хрусталев. Беспартийный интеллигент, позднее примкнувший к меньшевикам, юрист по образованию, он оказался блестящим организатором и трибуном. Его авторитет в рабочей среде был непререкаем. Эти были те самые рабочие, которые всего несколькими месяцами ранее, в январе, под руководством Гапона, с хоругвями и церковными песнопениями, шли поклониться царю и просить выслушать их нужды, но, встреченные картечью, бежали, оставляя на мостовых истекающих кровью товарищей. В октябре, под лидерством Носаря, они были сплочены и непреклонны. Но после 17 октября рабочее движение стало утрачивать свою монолитность, а авторитет Совета и его председателя — быстро падать.
Учитывая все это, Витте согласился выждать.
Любопытно сопоставить то, как эти события отложились в памяти разных участников — в зависимости от их сектора обзора. Если Витте делал ставку на раскол единого антиправительственного фронта и прибегал к маневрированию, то жандармский генерал А. В. Герасимов, в то время — начальник Петербургского охранного отделения, понимал борьбу с революцией так, как ему и было положено по должности: «держать и не пущать». Всё, кроме лобовых ударов, с его точки зрения, лишь способствовало успеху революции. Под его пером Манифест 17 октября не ослабил революционного напора, а усилил его. Для него малейшее неодобрение скулодробительных мер — это свидетельство слабости и некомпетентности. Особенно достается от Герасимова его тогдашнему начальнику П. И. Рачковскому. Матерый мастер политических провокаций и сыска предстает в книге А. В. Герасимова глупым, претенциозным дилетантом. «Философия» генерала Герасимова прекрасно выражена в приводимом им эпизоде, касающемся первого его доклада у вновь назначенного министра внутренних дел П. Н. Дурново:
«Я чувствовал, что мой доклад был Дурново несколько не по вкусу. Он морщился и наконец перебил меня:
— Так скажите: что же, по-вашему, надо сделать?
— Если бы мне разрешили закрыть типографии, печатающие революционные издания, и арестовать 700–800 человек, я ручаюсь, что я успокоил бы Петербург.
— Ну, конечно. Если пол-Петербурга арестовать, то еще лучше будет, — ответил Дурново. — Но запомните: ни Витте, ни я на это нашего согласия не дадим. Мы — конституционное правительство. Манифест о свободах дан и назад взят не будет. И вы должны действовать, считаясь с этими намерениями правительства как с фактом.
Наша беседа длилась около часа. Больших надежд она в меня не вселила».[241] (Правда, через некоторое время Дурново, согласно Герасимову, «исправился», то есть стал проводить линию на усиление репрессий, получая на то согласие царя и Трепова через голову Витте).
Носарь-Хрусталев был арестован только 26 ноября, никаких эксцессов не последовало. 3 декабря был арестован весь Совет рабочих депутатов в составе 267 человек. Это также не вызвало беспорядков в столице.
Через три дня после ареста Петербургского Совета в Москве состоялся съезд железнодорожников, который призвал к всеобщей забастовке и превращению ее в вооруженное восстание. Но мало где последовали этому призыву, кроме самой Москвы — но так как вооружённое восстание во второй столице оказалось одной из немногих изолированных вспышек, то и подавить его не составило большого труда. Петербург же, вопреки опасениям Герасимова, оставался относительно спокойным. Это позволило снять наиболее надежный Семеновский полк под командованием генерала Г. А. Мина и послать его на помощь московскому генерал-губернатору адмиралу Ф. В. Дубасову.
Московский генерал-губернатор адмирал Ф. В. Дубасов
Жестоко подавленное декабрьское восстание и стало высшей точкой революции, после чего она пошла на спад. Как только наступило успокоение во второй столице, адмирал Дубасов, не желая мстить побежденным, поверг на высочайшее имя предложение судить мятежников не военным, а гражданским судом (это значило — не применять к ним смертной казни). Но император не понял такой мягкотелости. Как мелкий человек он был мстителен.
Конечно, до полного успокоения было еще далеко. На жестокие акции властей революционное подполье усилило акты индивидуального террора. В Петербурге две группы боевиков вели охоту на министра внутренних дел Дурново. Дело сорвалось только потому, что глава боевой организации эсеров состоявший на службе в Охранном отделении Евно Азеф искусно направлял своих товарищей-террористов по ложному следу. Но он же содействовал покушению в Москве на адмирала Дубасова, чудом уцелевшего: бомбой, брошенной в его экипаж, был убит его адъютант; сам Дубасов был выброшен из экипажа и получил контузию, от которой потом долго лечился. После ухода Витте (апрель 1906 года) Дубасов тоже подал в отставку. Царь его не удерживал.[242]
Отвечая ударами на удары «непримиримых», Витте пытался навести мосты к умеренным общественным кругам, но процесс примирения шел бы значительно быстрее, если бы не самодержавный конспиратор, все время хватавший своего премьера за руки.
Видные общественные деятели, которых Витте склонял к сотрудничеству (в их числе М. А. Стахович, князь Е. Н. Трубецкой, Д. Н. Шипов[243]), готовы были войти в правительство или оказать ему частичную поддержку. Но они ставили условия. Одно из них — введение прямого и равного избирательного права вместо системы курий, которую Витте унаследовал от Булыгина, хотя и расширил избирательные права на низшие слои общества. Но о «четыреххвостке», то есть всеобщем, прямом, равном и тайном голосовании царь не хотел слышать: слишком это походило бы на конституционные режимы европейских стран!
П. Н. Милюков, у которого премьер тоже «просил совета», хотя министерского портфеля ему не предлагал, сказал, что коль скоро правительство «решило дать России конституцию, то оно „лучше всего поступило бы, если бы прямо и открыто сказало это — и немедленно откроировало[244] бы хартию, достаточно либеральную, чтобы удовлетворить широкие круги общества“». Как на образец Милюков «указал на болгарскую конституцию, явно доступную для русского народа, или какую-нибудь другую разновидность бельгийской, — во всяком случае, с всеобщим избирательным правом». Указал он и на то, что «проект такой конституции уже разработан земским съездом». «Уклоняясь от прямого ответа по существу, — продолжает в своих воспоминаниях Милюков, — он начал возражать мне очень извилистой и внутренне противоречивой аргументацией… Я хотел добиться от Витте прямого ответа и спросил его в упор: „Если ваши полномочия достаточны, то отчего вам не произнести этого решающего слова: конституция?“ Витте, уже охлажденный моими предложениями, ответил каким-то упавшим голосом, лаконично и сухо, но так же прямо: „Не могу, потому что царь этого не хочет“. Это было то, что я ожидал: краткий смысл длинных речей. И я закончил нашу беседу словами, которые хорошо помню: „Тогда нам бесполезно разговаривать. Я не могу подать Вам никакого дельного совета“».[245]
Но если относительно избирательного закона Витте еще мог как-то сговориться с наиболее умеренными общественными кругами, то большую их часть оттолкнуло то, что портфель министра внутренних дел он предложил П. Н. Дурново. В глазах общественного мнения это был один из самых одиозных столпов режима полицейского произвола. Сам Витте знал его как человека нечистоплотного и даже «пострадавшего» еще при Александре III за то, что свое положение начальника Департамента полиции использовал для слежки за своей содержанкой и ее любовником — испанским (по версии А. В. Герасимова, бразильским) послом. Был он нечистоплотен и в финансовых делах. Тем не менее, «либеральный» премьер на нем остановил свой выбор, хотя у него было минимум два других варианта.
Ему рекомендовали князя С. Д. Урусова, человека принципиального, с немалым административным опытом и безукоризненной репутацией. На посту Кишиневского губернатора, куда он был назначен после погрома, Урусов в короткий срок добился успокоения и возвращения жизни в нормальное русло; при этом он не побоялся пойти на конфликт с самим Плеве. И позднее он проявил себя с наилучшей стороны. Однако, когда в разговоре с Витте о предполагавшемся назначении на пост министра внутренних дел Урусов заикнулся о своей неопытности, тот поспешил с ним согласиться. Для успокоения разбушевавшегося революционного моря предстояло прибегать не только к прянику, но и к кнуту; на посту министра, в чьем ведении находилась полиция, жандармерия, тайный сыск, такие люди, как Рачковский и Герасимов, ему нужен был человек, не отличавшийся излишней чистоплотностью.
Второй вариант, который предлагали общественные деятели, — возглавить наиважнейшее министерство ему самому. Он отговорился тем, что премьерство съедает все силы и время, совмещать два поста в столь трудное время он не сможет. Видимо, он не хотел брать на себя прямую ответственность за грязную и кровавую работу.
Дурново для этого вполне подходил. С министерством внутренних дел была связана вся его карьера. Он дорос до поста товарища министра и пересидел целую серию сменявшихся шефов: Сипягина, Плеве, Святополка-Мирского, Булыгина. Главным для Витте было то, что ко всем ним — столь разным по личным качествам и проводимо му курсу — Дурново был лоялен. К тому же он не ладил с Треповым. Это внушало уверенность, что он станет надежной опорой премьера.
А. Ф. Трепов
Трепов опрокинул эти хитроумные расчеты. По его наущению, царь утвердил Дурново только исполняющим обязанности министра, и теперь от Трепова, а не от Витте зависело, удержится ли он на вожделенном посту. Дурново стал угождать Трепову и ставить палки в колеса премьеру, которыми не только заработал себе в лице Дурново коварного врага, но и осложнил и без того сложные отношения с обществом.
Появление столь одиозной личности во главе карательной системы правительства не остановило общей тенденции к успокоению. Главную причину того, что революционная волна пошла на спад, просто объяснил П. Н. Милюков: «начался шелест избирательных бюллетеней». Хотя сложная, многоступенчатая система выборов обеспечивала огромные преимущества одним группам населения за счет других,[246] Витте не уставал разъяснять, что Манифест и Основные законы — только начало преобразований; дальнейшее развитие реформ будет зависеть от избранных законодателей. Это звучало убедительно. Заново возникавшие или выходившие из подполья политические партии видели смысл в переходе от силовой конфронтации с властью к предвыборной борьбе. Даже в ЦК партии эсеров заговорили о том, что следует приостановить террористическую борьбу и направить основные усилия на пропагандистскую работу в массах. Непримиримыми оставались только некоторые крайние революционеры, но теперь они оказались в изоляции. Большевики призвали рабочий класс к бойкоту выборов и этим только лишили себя представительства в Думе; рабочие же в массе своей от участия в выборах не отказались.
Но — чем дальше царь отодвигался от края пропасти, тем меньше становилось влияние премьера. Сбывалось пророчество одного из самых интимно близких царской семье людей, товарища министра двора князя Н. Д. Оболенского. Он на коленях умалял Александру Федоровну воздействовать на государя с тем, чтобы тот не ставил Витте во главе правительства. Что бы ни делал Витте для успокоения страны, говорил ей Оболенский, личная неприязнь к нему государя, а она известна, будет только накапливаться, перейдет в чувство мести, и при первой возможности Витте будет отставлен; в результате пострадают и государь, и Россия.
Когда все произошло именно по этому сценарию, в немилость впал… князь Оболенский. Его перестали приглашать во дворец, а если он должен был являться с докладом (в отсутствие министра двора барона Фредерикса), то царь всегда назначал аудиенцию на вторую половину дня, чтобы не приглашать к завтраку, как было заведено еще со времен Александра III. Принять Оболенского перед завтраком и не пригласить к столу было неловко, а пригласить при охладившихся отношениях, рискуя получить нахлобучку от решительной супруги, тоже не хотелось. «Какой маленький — великий благочестивейший самодержавнейший Николай II!», восклицает по этому поводу Витте.[247]
Николай II
Из тех, кто снова стал тянуть государя к пропасти, первую скрипку играл все тот же Д. Ф. Трепов. С назначением Витте премьером он должен был оставить свои посты петербургского генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел. Но царь назначил его дворцовым комендантом, то есть своим личным охранником, что давало ему возможность по несколько раз в день общаться с императором. Влияние Трепова на государя усилилось, хотя, не занимая официального поста в правительстве, он теперь не нес ровно никакой ответственности за принимаемые решения. (Как не вспомнить Коржакова при президенте Ельцине!)
«Трепов во время моего министерства имел гораздо больше влияния на его величество, нежели я; во всяком случае, по каждому вопросу, с которым Трепов не соглашался, мне приходилось вести борьбу. В конце концов, он являлся как бы безответственным главою правительства, а я ответственным, но маловлиятельным премьером».[248]
Вскоре обнаружились и другие поползновения на правительство с тыла, то есть со стороны самой власти. Известный мастер политических провокаций, поставленный Дурново во главе политической полиции империи, доктор Дубровин стал создавать по всей стране «монархические» организации Союза Русского народа. Союз стал в прямую оппозицию к Манифесту 17 октября как подрывающему самодержавие. «Союзников» тут же взял под свое покровительство Великий князь Николай Николаевич, а вскоре и сам государь стал поддерживать «союзников» и говорить о том, что Манифест у него «вырвали», причем имелось в виду, что это сделал не Николай Николаевич, разыгравший перед ним мелодраму с приставленным к собственному виску револьвером, а граф Витте. И в то время, когда премьер с огромным трудом пытался проводить курс реформ, намеченный царским Манифестом, автор Манифеста все более откровенно отмежевывался от самого себя!
С февраля 1906 года Витте стал говорить о том, что поставлен в невозможное положение. Он как глава правительства несет всю ответственность за происходящее в стране, подвергается нападкам со всех сторон, а проводить свой курс ему не дают безответственные элементы, окружающие трон, что работать в таких условиях он не может и должен будет просить государя об отставке. Он заговаривал об этом то с Треповым, то с министром двора Фредериксом, а то и самим государем. Конечно, он знал, что в нем нуждаются и не отпустят, и бряцание отставкой было способом борьбы с противодействием его начинаниям.
Но, по мере того, как ситуация в стране становилась менее острой, царь становился все более подозрителен к своему премьеру. Играя на его слабостях, ему все настойчивее нашептывали о коварстве Витте, о том, что тот чуть ли не готовит заговор, дабы свергнуть монархию и самому стать президентом республики. Николай благосклонно выслушивал наветы и, наконец, дал понять премьеру, что не возражает против его ухода, но не раньше, чем тот завершит основные дела по вытаскиванию страны и монарха из ямы. Для этого оставалось вернуть с Дальнего Востока армию, успешно провести по всей стране выборы и заключить крупнейший в истории иностранный заем, без чего государство неумолимо катилось к банкротству — со всеми вытекающими последствиями, вплоть до нового — и уже ничем неостановимого — революционного взрыва. Царь был намерен выжать из премьера последние соки, а затем выбросить вон.
И когда все было исполнено — в апреле 1906 года — за несколько дней до открытия Государственной Думы, «просьба» Витте об отставке была удовлетворена.
Прощаясь с ним, верный в своем постоянном непостоянстве государь сказал, что решил вручить бразды правления его врагам, но не потому, что они его враги, а потому, что «в настоящее время такое назначение полезно».
Прекрасно зная, на ком государь — по наущению Трепова — остановил свой выбор, Витте спросил: «Ваше величество, может быть вам будет угодно мне сказать: кто это такие мои враги, ибо я не догадываюсь о том». И после того, как государь назвал И. Л. Горемыкина, Витте сказал: «Какой же, ваше величество, Горемыкин мой враг? Во всяком случае, если все остальные лица такого калибра, как Горемыкин, то они мне представляются врагами очень мало опасными».[249]
И. Л. Горемыкин
Государь усмехнулся, оценив иронию. Когда-то он уволил Горемыкина с поста министра внутренних дел, потому что ему «надоели пешки». И вот теперь он ставил эту пешку на капитанский мостик корабля, которому предстояло плавание по далеко еще не успокоенному и притом совершенно неведомому морю! Почему?
«Для меня главное то, что Горемыкин не пойдет за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти, и я могу ему вполне доверять, что не будет приготовлено каких-либо сюрпризов, и я не буду поставлен перед совершившимся фактом, как было с избирательным законом, да и не с ним одним».[250] Так он объяснит В. Н. Коковцову. Объяснит лицемерно, еще раз демонстрируя свою мелочность и ничтожество. Ни избирательного, ни какого-либо иного закона Витте не мог издать «за спиной» государя. Все делалось с его согласия и одобрения! Правда была только в том, что премьер настаивал на нововведениях, исходя из широко понимаемых государственных интересов, тогда как государь превыше всего ставил свои личные интересы, и понимал их узко — так, как их понимали льстивые ничтожества, составлявшие его ближайшее окружение. Горемыкин подходил больше, чем Витте, ибо «его [государя] доверие направилось к тем, кто толкал его к гибели».[251]
Неумолимый дрейф к краю пропасти не мог не возобновиться.
Эпоха Столыпина 1906–1911
Поработать с Государственной Думой, которую он породил, Витте не дали, а И. Л. Горемыкин не имел ни малейшего понятия о том, с какой стороны подступиться к такому чудищу. Как предупредил государя В. Н. Коковцов, «личность Ивана Логгиновича, его величайшее безразличие ко всему, отсутствие всякой гибкости и прямое нежелание сблизиться с представителями новых элементов в нашей государственной жизни, все это не только не поможет сближению с ними, но послужит скорее лозунгом для усиления оппозиционного настроения».[252]
Такая характеристика нового премьера (Коковцов, по его словам, «до мельчайшей подробности» передал этот разговор самому Горемыкину, во что трудно поверить) не помешала назначению Коковцова министром финансов в горемыкинский кабинет! Пойдя на образование солидарного Совета министров, Николай продолжал делать все, чтобы солидарности не допустить. Кажется, «разделяй и властвуй» был единственный метод управления, которым он владел. Он походил на капитана тонущего корабля, который, вместо того, чтобы налаживать дружную работу команды, дабы попытаться задраить брешь и дотянуть до спасительного берега, озабочен только тем, как бы старший помощник и боцман не сговорились между собой и тем не нанесли ущерба его безграничной власти на судне.
Нечего и говорить, что, коль скоро ему так важно было противопоставлять друг другу министров, то куда важнее было поссорить правительство с Государственной Думой, еще даже не открывшейся. Если созданное для работы с Думой правительство в чем-то и было солидарно, то именно в том, чтобы с Думой не работать! Когда Государственный контролер П. К. Шванебах заметил, что в новом правительстве оказалось «немалое количества элементов, не слишком нежно расположенных к идее народного представительства и едва ли способных внушить к себе доверие со стороны последнего», Коковцов резонно ответил: «Пожалуй, что и все мы принадлежим к тому же разряду, начиная с нашего председателя».[253]
А вот картина приема депутатов Думы царем в Тронном Георгиевском зале Зимнего дворца — перед началом ее занятий.
«Вся правая половина от трона была заполнена мундирной публикой, членами Государственного Совета и — дальше — Сенатом и государевой свитой. По левой стороне, в буквальном смысле слова толпились члены Государственной думы и среди них — ничтожное количество людей во фраках и сюртуках, а подавляющее же количество их, как будто нарочно, демонстративно занявших первые места, ближайшие к трону, — было составлено из членов Думы в рабочих блузах, рубашках-косоворотках, а за ними толпа крестьян в самых разнообразных костюмах, некоторые в национальных уборах, и масса членов Думы от духовенства».[254]
Ради чего Николай устроил эту бестактную демонстрацию пышности в пышной своей резиденции вместо того, чтобы самому явиться в Таврический дворец и показать свое уважение к народным избранникам? А ради того, чтобы показать прямо противоположное: в державе ничего не изменилось и меняться не будет! Он снизошел к народным чаяниям по безграничной своей милости и добросердечию; но тот, кто раздает милости, может их и отобрать. Народные представители в своих жалких зипунишках и косоворотках должны знать свое место!
Понятно, как восприняли этот прием представители народа. Они стояли насупленные, глядели исподлобья, а «наглое лицо» одного из депутатов дышало «таким презрением и злобой», что новый министр внутренних дел П. А. Столыпин сказал стоявшему рядом с ним Коковцову: «Мы с Вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня даже не оставляет все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы и не произойдет ли тут несчастья».[255]
Состав Думы оказался в большинстве оппозиционным, отчасти и революционным, а поскольку избирательный закон давал многократные преимущества привилегированным классам, то настроение широких масс в среднем было еще более радикальным.
Вопреки антисемитской демагогии черной сотни, которая так импонировала царю и дворцовой камарилье, основной движущей силой революции было крестьянство. Как вскоре скажет П. А. Столыпин, «смута политическая, революционная агитация, приподнятые нашими неудачами, начали пускать корни в народе, питаясь смутою гораздо более серьезною, смутою социальною развившейся в нашем крестьянстве… Социальная смута вскормила и вспоила нашу революцию».[256]
Это не значит, что другие вопросы — в особенности рабочий и национальный (польский, финский, еврейский и другие) — стояли менее остро. Но крестьянство составляло основную массу населения, и потому главный вопрос, который требовалось решить, чтобы всерьез и надолго оградить страну от потрясений, был вопрос о земле.
До отмены крепостного права земля в России была собственностью помещиков (а также государства и монастырей), но часть помещичьей земли находилась в пользовании крестьян. Они отрабатывали барщину, а остальное время трудились на «своем» наделе, что избавляло помещика от необходимости их содержать. Крестьянская часть помещичьей земли находилась в ведении мира: от него каждая семья получала надел — пропорционально числу едоков. Обычно крестьянский надел состоял из нескольких участков в разных местах, дабы равномерно распределялись лучшие и худшие, удобные и неудобные земли, а поскольку одни семьи росли быстрее других и образовывались новые семьи, то время от времени производился передел мирской земли.
Когда Александр II решил покончить с крепостным правом, сразу возник вопрос о земле. Сохранить все землю за ее владельцами значило превратить вчерашних крепостных в толпы голодных бродяг, рыщущих в поисках пропитания. Последствия неминуемой смуты могли быть ужасными. Отдать же «мирскую» землю крестьянам значило разорить помещиков, оставив их хозяйства без рабочей силы, а города — без товарного хлеба. Было принято компромиссное решение: вместе с личной свободой крестьян обеспечивали землей, но в собственность общины — за выкуп — переходила только часть той земли, что раньше была в ее пользовании. Так удалось избежать коренной ломки экономических отношений: свободные крестьяне все-таки должны были работать на помещиков — теперь уже по найму, так как урожай, снимаемый с урезанных наделов, стал меньшим, и крестьянам нужны были заработки для выкупа земли и уплаты податей. С годами производительность полей при общинной уравниловке не росла, но стремительно росло народонаселение; положение крестьян ухудшалось.
В книге Солженицына говорится об опережающем росте еврейского населения, в чем он видит показатель его процветания (хотя демографический взрыв характерен для бедных и отсталых обществ); но такова была общая тенденция — со сходными последствиями и для русских крестьян, и для евреев: быстрое обнищание. Острота положения для евреев смягчалась эмиграцией (в основном в Америку, а частично — в Палестину); русские крестьяне тоже мигрировали — в города, где они превращались в пролетариев, или на свободные земли Сибири и Средней Азии, для чего правительство предоставляло поощрительные льготы. Но эти процессы поглощали только часть избыточного населения. Социальное напряжение росло, и к 1905 году вылилось в массовые крестьянские бунты по всей стране.
Растерянность властей граничила с паникой. Даже Д. Ф. Трепов носился с идеей принудительного отторжения части помещичьих земель в пользу крестьян, объясняя, что он сам помещик, и готов отдать половину своей земли, чтобы сохранить вторую половину.
Витте, давно работавший над проблемой земельной реформы, хорошо знал, что в Западной Европе крестьяне-собственники собирали в три-четыре раза большие урожаи, чем русские крестьяне-общинники, а потому ликвидация общины — это путь к наращиванию урожаев и улучшению жизни крестьян. Он и сделал первые шаги к преобразованию общины в частновладельческие наделы: провел закон о сокращении вдвое выкупных платежей в 1906 году и полной их ликвидации в 1907-м, ибо, пока на крестьянской общине висели долги за землю, раскассировать ее было невозможно. При крайней необходимости Витте готов был пойти и на принудительное изъятие части земли у помещиков в пользу крестьян, указывая на реформу 1861 года как на исторический прецедент. В любом случае он считал, что земельную реформу нельзя вводить бюрократическим путем, да еще в канун созыва Государственной Думы. Гражданские свободы дарованы для того, чтобы народ сам — через своих представителей — решал такие вопросы. Навязанная сверху, реформа будет принята в штыки, какой бы «хорошей» она ни была. Предварительно можно было начать составлять проект реформы, что он и поручил Н. Н. Кутлеру, главноуправляющему земледелия и землеустройства (так официально назывался пост министра земледелия).
Н. Н. Кутлер
В основу проекта Кутлера были положены две определяющие идеи: частичное отторжение помещичьих земель в пользу крестьян (за выкуп по справедливой оценке) и постепенная замена общины фермерством. Но, по мере того, как наступало успокоение, в высших сферах отпала охота «отдать половину, чтобы сохранить вторую половину». Когда проект был готов к предварительному обсуждению, он уже стал неуместным. Витте счел за лучшее отмежеваться от него и сдал одного из лучших своих сотрудников. Царь был настолько рассержен, что отклонил просьбу Витте назначить Кутлера в Государственный Совет или хотя бы в Сенат (как обычно поступали с отставляемыми сановниками высокого ранга). Да и собственные дни Витте у власти тоже были сочтены.
С открытием Думы сразу же со всей остротой был поставлен вопрос об аграрной реформе. Самый радикальный вариант выдвигали эсеры: национализация всей земли и передача ее в пользование «тем, кто ее обрабатывает». Но это был только лозунг: для его осуществления нужен был полный социальный переворот, а в 1905 году он не удался.[257]
Иным был законопроект кадетов. Он основывался на тех же принципах, что проект Кутлера.[258] Кадеты доминировали в Думе, и к ним присоединилась группа «трудовиков», вторая по численности, объединившая большинство депутатов-крестьян.
Глава политической полиции П. И. Рачковский устроил для крестьянских депутатов особое общежитие, где их накачивали «патриотической» идеологией («царь и народ едины, а воду мутят евреи»), пытаясь втянуть в орбиту Союза русского народа, создававшегося доктором Дубровиным при содействии той же политической полиции. Но затея не удалась. «Всем крестьянам, как бы правы [по своей политической ориентации] они не были, было присуще стремление получить землю. А потому, как только выяснилось, что левые партии за отчуждения [части помещичьих земель]… „большой“ план Рачковского — привлечение на сторону правительства правых крестьян, потерпел полное крушение», — вспоминал генерал А. В. Герасимов.[259]
Горемыкин понятия не имел, что предпринять. В Думе он объявил кадетский законопроект «недопустимым», что было прямым посягательством на ее права и «вызвало среди депутатов целую бурю».[260] Даже очень умеренные из них выступили с требованием отставки правительства.
Таков был разрыв между царским правительством и народным представительством, и наводить мосты Горемыкин не пытался. Его председательство в правительстве было фикцией. Заседания совета министров он проводил редко, наскоро, для проформы. Общую линию кабинета не вырабатывал. Он твердил, что он только слуга своего государя, и ждал указаний. Именно такого премьера хотел иметь Николай, но это оказалось не так комфортно, как он воображал. К роли амортизатора между царем и Думой Горемыкин не годился. Д. Ф. Трепов, чьими интригами он был поставлен, теперь стал внушать царю, что народное представительство против государя ничего не имеет, в конфронтации между правительством и Думой виновато правительство. То же самое напевала вся камарилья, и государю такая песня была по душе.
Но кем заменить Горемыкина? Очевидно, тем, кто сможет работать с Думой!
Трепов делает очередной пируэт и набрасывает список будущих министров. В него попадают С. А. Муромцев (председатель Совета), П. М. Милюков, И. И. Петрункевич, В. Д. Набоков, В. Д. Кузьмин-Караваев, Н. Н. Львов, М. Я. Герценштейн, Д. Н. Шипов, то есть самые видные кадеты и близкие к ним общественные деятели. Они-то наверняка устроят Думу! (В список, как видим, попал даже еврей, правда, крещеный — через месяц он будет убит черносотенцами).
Но тут-то и обнаружился предел влияния всесильного дворцового коменданта! При его шатаниях вправо оно было безграничным, при отклонении влево натолкнулось на стену.
Когда царь по секрету показал список предполагаемых министров Коковцову, тот, по его собственным словам, пришел в сильное волнение. Для него в таком правительстве места не было. И он сразу же стал запугивать государя: если тот передаст власть кадетам, то вскоре сам лишится власти и трона![261]
В. Н. Коковцов
В тот же день к Коковцову явился не менее взволнованный А. Ф. Трепов, родной брат дворцового коменданта, и рассказал о «безумном» проекте. Он просил «раскрыть глаза государю на всю катастрофическую опасность этой затеи», иначе проект может «проскочить под сурдинку». (В способность государя самому понять, что к чему, он не верил.) «Невежественные люди, привыкшие командовать эскадроном, но не имеющие ни малейшего понятия о государственных делах, ведут Россию к гибели», негодовал А. Ф. Трепов на своего брата.[262]
Встретившись с П. Н. Милюковым, Д. Ф. Трепов стал почти навязывать ему и его партии власть, объясняя, что сознает степень риска, но «когда дом горит, приходится прыгать и из пятого этажа».[263] Милюков выставил два условия: царь должен согласиться на частичное отторжение помещичьей земли в пользу крестьян и на полную амнистию политических заключенных. Иначе, объяснил он, кадеты не смогут «разоружить революцию, заинтересовав ее в сохранении нового порядка».[264] Но Трепову уже стали выламывать руки. Он «безусловно отвергал принцип экспроприации [земли]» и «находил по-прежнему невозможным говорить о „полной амнистии“». И тогда на авансцену был выдвинут министр внутренних дел П. А. Столыпин.
Теперь уже он «по поручению государя» пригласил лидера кадетов для беседы. Согласно Милюкову, обсуждался вопрос о коалиционном правительстве. Столыпин предлагал себя в качестве председателя и оставлял за царем исключительное право назначать ключевых министров — военного, иностранных и внутренних дел, а также министра двора; остальные портфели отдавались избранникам Думы, то есть кадетам. Милюков не соглашался на председательство Столыпина и, главное, на то, чтобы оставить вне контроля Думы министерство внутренних дел, то есть карательную систему империи.[265] А. В. Герасимов, которому Столыпин в тот же вечер подробно передал ход беседы, подтверждает: «Столыпин говорил, что готов был поддержать план создания думского министерства, но с большими оговорками».[266] Столыпин позднее это отрицал.[267]
Как бы то ни было, а сделка не состоялась. Царь и Столыпин не захотели выпрыгивать с пятого этажа горящего дома. Еще один шанс к гражданскому примирению в стране был упущен.
7 июля, на восемь часов вечера, в дом Горемыкина были приглашены все министры, но хозяина не оказалось на месте. Не было и министра внутренних дел Столыпина. Выяснилось, что оба, хотя и порознь, были вызваны в Царское Село и еще не вернулись.
Через час явился Горемыкин, и первые слова его были: «Поздравьте меня, господа, с величайшей милостью, которую мне мог оказать государь, я освобожден от должности председателя Совета министров, и на мое место назначен П. А. Столыпин с сохранением, разумеется, должности министра внутренних дел».[268]
Коковцов уверяет, что радость Горемыкина была неподдельной: он «чувствовал себя школьником, вырвавшимся на свободу».[269] Но сам Горемыкин доверительно рассказал своему «врагу» Витте, что его съел Трепов. Витте, сам съеденный Треповым, заметил, что такая же участь постигла бы и Столыпина, если бы внезапная смерть не выключила Трепова из игры.
Но дворцовый комендант еще при жизни стал политическим трупом. После того, как царь отбыл на свой своей яхте «Штандарт» в шхеры, а Трепов приглашен не был, он впал в хандру и умер от разрыва сердца. Короткая, но бурная эпоха конногвардейца, метавшегося между погромной и либеральной политикой, между «патронов не жалеть» и «отдать половину земли, чтобы сохранить другую половину», кончилась.
Началась эпоха Столыпина.
Миф о Столыпине как о несостоявшемся спасителе отечества, убитом евреями, возник в эмигрантских кругах праворадикального толка, а затем был оприходован Всероссийской фашистской партией — малочисленной, но крикливой организацией, образовавшейся в 1920-е годы под влиянием успехов Муссолини и Гитлера. Биография Столыпина, изданная в дальневосточной цитадели партии, в Харбине, носила название «Первый русский фашист».[270] Там же действовала «Столыпинская академия» — так была названа Высшая партийная школа русских фашистов.[271]
С разгромом и дискредитацией Гитлера и его союзников миф, казалось бы, должен был угаснуть. Но хранители огня — из числа прямых потомков и близких к ним почитателей П. А. Столыпина — этого не допустили. Конечно, миф пришлось подновить: из коричневой униформы штурмовика Столыпина переодели в белые одежды патриота-свободолюбца. Огонек этот, мало кем замечаемый, десятилетиями теплился на обочине общественного сознания, пока Александр Солженицын не превратил его в олимпийский факел, понесенный вперед и выше.
На крыльях всемирной славы Солженицына столыпинский миф впорхнул в самую сердцевину диссидентской и нонконформистской России и так глубоко в нее врос, что с начала 1990-х годов, когда рухнул коммунизм, а с ним и цензурные преграды, он стал одним из немногих объединяющих мифов русскоязычного «информационного пространства».[272] Культ Столыпина был водружен на пьедестал, где до него перебывали все главные советские вожди. Чем объясняется неистребимая потребность России в таком культе, я судить не берусь. А. И. Солженицын писал, сочувственно цитируя В. В. Шульгина: «Русские не способны делать дела через самозарожденную организованность. Мы из тех народов, которым нужен непременно вожак».[273] С этим я спорить не стану: тем, кто претендует на понимание загадочной славянской души, виднее. Нужен вожак, и все тут! И если его нет, его надо выдумать.
Чтобы показать, как это делается, приведу только одну выписку:
«За 15 лет пребывания „макиавелистого“ (по выражению А. И. Солженицына) Витте на высших государственных постах, неизбежно расстраивались: железные дороги — крушение царского поезда с Александром III произошло в бытность его министром путей сообщения; финансы — в бытность его на посту министра финансов; обороноспособность страны — в бытность его на посту министра внутренних дел, и, наконец, первые грозные симптомы гражданской войны проявились в бытность его на посту премьер-министра. <…> Фактически сделав все для возникновения в стране острого политического, экономического и военного кризиса, правительство Витте подало в отставку.
На предложение государя Петр Аркадьевич ответил царю немедля: „Это против моей совести, ваше величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности… Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний“. Но Николай II настоял. <…> Молодой, статный, с характером необычайно решительным и выдержанным, чуждый кичливости, блестящий оратор, Столыпин сразу же стал инициатором и проводником реформ и законоположений, поучительность и результативность которых поражает и сегодня. Главным делом его жизни стала земельная реформа. Жизни стоившая, но давшая ему всемирную и вневременную известность».[274]
П. А. Столыпин
Непременным атрибутом мифотворчества должна быть демонизация конкурента на роль лучезарного героя. (Как не вспомнить Эммануэля Голдстейна, противопоставляемого Старшему Брату в гениальной сатире Джорджа Оруэлла!) Был ли Витте «макиавелистым»? Безусловно. Иные в высшем эшелоне власти не удерживались, что в равной степени относится и к Столыпину. Что же касается крушения царского поезда, то оно, как мы помним, произошло до того, как Витте стал министром путей сообщения (это крушение и заставило Александра III вспомнить о предостережениях сотрудника «жидовской» дороги и поставить его во главе министерства). Будучи министром финансов, Витте сумел укрепить курс рубля и перевести его на золотое обеспечение, а также привлечь иностранные капиталы для развития экономики страны. Министром внутренних дел Витте никогда не был; обороноспособность страны развалили те, кто втянул ее в позорную японскую войну, против чего Витте возражал. А «гражданская война» (то есть революционные события 1905 года) началась, когда Витте был в опале; для того, чтобы ее погасить, он предложил план конституционных преобразований и, став премьером, в труднейших условиях проводил его в жизнь.
При всех его ошибках, непоследовательности и «макиавельности», не подлежит сомнению стремление Витте искать выход из системного кризиса, в который загнал страну Николай II, в сотрудничестве с обществом, что открывало путь к эволюционным преобразованиям вместо революционных. Но такой Витте создателей культа Столыпина устроить не может. По отношению к нему пускаются в ход оруэловские «две минуты ненависти», дабы ярче воссияло солнце «всемирного и вневременного» Старшего Брата, конечно же «молодого, статного, чуждого кичливости» и т. п.
Что же представлял собой исторический Столыпин? Об этом можно судить по его конкретным делам в конкретных обстоятельствах.
Для роспуска Государственной Думы, назначенного на воскресенье 9 июля, новый премьер разработал в деталях строго законспирированную операцию. Прежде всего, были приняты меры против преждевременной утечки информации об Указе, печатавшемся накануне ночью в Сенатской типографии. В качестве отвлекающего маневра на понедельник 10 июля было назначено слушание в Думе объяснений правительства по депутатскому запросу о еврейском погроме в Белостоке: никто не должен был заподозрить, что до понедельника Дума не доживет. Для еще большего усыпления бдительности депутатов Столыпин просил Коковцова не отменять обычного субботнего отъезда в деревню: перемена в рутинных перемещениях министра финансов могла бы послужить нежелательным сигналом тревоги. «А что, если вспыхнет забастовка на железной дороге и я не смогу вернуться?» — спросил Коковцов. Премьер тотчас позвонил министру путей сообщения и распорядился, в случае необходимости, доставить министра финансов специальным паровозом, так что и это было предусмотрено![275]
Эти предосторожности отнюдь не были лишними! Ведь готовился акт, означавший крутой разворот в политике царского правительства — от медленного, осторожного, но все-таки сближения с обществом к новой крутой конфронтации. Согласно Основным законам, роспуск Думы при некоторых обстоятельствах допускался. Но сделать это меньше, чем через два месяца с половиной после начала ее работы! Да назначить новые выборы так, чтобы новая Дума начала работать только через семь месяцев! Да и где гарантии, что новые выборы — и новая Дума — вообще состоятся! Внезапный разгон общественность могла интерпретировать как государственный переворот, отнимающий у народа свободы, дарованные так недавно! Словом, власть шла на новую конфронтацию с обществом и имела все основания бояться организованного сопротивления.
Хорошо зная своего неустойчивого государя, И. Л. Горемыкин в субботу 8 июля пораньше исчез из дома, а, вернувшись поздно вечером и убедившись, что из Царского Села указаний не поступало, приказал швейцару ни под каким видом себя не будить. Ночью, как потом говорили, было-таки доставлено повеление царя — отложить исполнение Указа! Но Горемыкин спал; пакет до утра пролежал нераспечатанным! Коковцов, приводя эту подробность, добавляет: «Лично я совершенно не доверяю этому рассказу и не допускаю мысли, чтобы государь мог в такой форме изменить сделанное им распоряжение… за спиной человека [Столыпина], на которого он только что возложил такой ответственный долг. Но рассказ этот характерен как показатель настроения, господствовавшего в ту пору».[276] Но вечно конспирирующий против всех и вся государь мог действовать таким манером. И Столыпину, и Коковцову предстояло многократно испытать это на себе.
В воскресенье утром депутаты Думы прочли Указ. Бросившись к Таврическому дворцу, они увидели, что здание оцеплено, все двери заперты. Население, тоже застигнутое врасплох, сорганизоваться не смогло, так что специального паровоза за Коковцовым посылать не понадобилось. Вроде бы все прошло без сучка, без задоринки. Но часть депутатов Думы, потолкавшись у оцепленной своей резиденции, незаметно, по одному или небольшими группами, направились на Финляндский вокзал, оттуда в Выборг — город, как-то защищенный от полицейского произвола финской конституцией. В зале одной из гостиниц собралось около 230 депутатов — большинство кадетов, и Муромцев, заняв председательское место, невозмутимым голосом объявил: «Заседание Государственной Думы продолжается!»
Воззвание под названием «Народу от народных представителей» подписанное большинством депутатов, собравшихся в Выборге, резко осуждало роспуск Думы. «Целых семь месяцев правительство будет действовать по своему произволу и будет бороться с народным движением, чтобы получить послушную, угодную Думу, а если ему удастся совсем задавить народное движение, оно не соберет никакой Думы», — говорилось в воззвании, призывавшем оказать сопротивление этому произволу. «Правительство не имеет права без согласия народных представителей ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе ему не давать ни солдат, ни денег». Это был призыв к мирному гражданскому неповиновению. Ни ко всеобщей забастовке, ни к вооруженному восстанию призыва не было, так что, по тем временам, это было умеренное воззвание, отражавшее умеренную левизну партии кадетов. Позднее, на суде, Муромцев даже скажет, что, призывая народ к пассивному сопротивлению, Выборгское воззвание ставило целью предотвратить активное сопротивление, то есть новый революционный взрыв.[277]
Воззвание не достигло своей прямой цели, но достигло гораздо большего. Оно заставило власти доказывать, что закона они не нарушили, и обещание провести выборы в новую Думу выполнят. Выборгцы поплатились тремя месяцами тюрьмы каждый, но то была небольшая плата за срыв заговора против конституционного строя!
А пока, пользуясь свободой рук в междумный период, Столыпин развернул бурную деятельность, показывая каждым своим словом и действием, что кулак, разжимавшийся целых два года, теперь будет сжиматься, что послужило новым мобилизующим импульсом для революционного подполья. Ведь оно разгромлено не было, хотя лишилось той безусловной поддержки умеренных кругов, какой пользовалось до Манифеста 17 октября. В его собственных рядах возникли сомнения, колебания, разброд. Руководство самой крупной революционной партии — эсеров — в ответ на Манифест 17 октября постановило прекратить террор, но возобновило его после жестокого подавления Декабрьского восстания в Москве. В связи с созывом Думы Совет партии снова постановил прекратить террор, дав Центральному комитету право, «не дожидаясь следующего собрания Совета, возобновить террор в тот момент, когда этого потребуют интересы революции».[278] Правда, наиболее радикально настроенные террористы с этим не согласились и выделились в самостоятельную группу «максималистов». В разных местах действовали другие автономные группы. Тем важнее было для власти проводить курс, который бы привлекал или хотя бы нейтрализовал как можно более широкие слои населения, обрекая экстремистов на изоляцию. Правительство во главе со Столыпиным избрало противоположный путь, так что направление ответного удара можно было предвидеть.
Пикантная подробность побоища в доме премьера на Аптекарском острове состояла в том, что прямым соучастником его был… сам премьер. История этого злодеяния прямо связана с тем, что в июне, в Киеве, некто Соломон Рысс, арестованный «при попытке ограбления артельщика», стремясь избежать смертного приговора, предложил свои услуги полиции. Начальник Киевского Охранного отделения полковник Еремин спешно доложил в Петербург о возможности приобретения ценного агента. Получив одобрение от начальника департамента полиции М. И. Трусевича, Еремин устроил преступнику побег, а два охранника, упустившие его, якобы, по халатности, были судимы и приговорены к каторге![279]
Рысса переправили в Петербург для внедрения в группу максималистов и туда же перевели с большим повышением полковника Еремина, поставленного «заведовать всей секретной агентурой». Ни с кем другим из полицейского начальства провокатор контактировать не желал, а с его условиями приходилось считаться.[280] Своей властью проводить эти перемещения и назначения Трусевич, конечно, не мог: он должен был испросить одобрение министра внутренних дел Столыпина.
Рысс потребовал до поры не арестовывать никого из группы максималистов, к которой он примкнул. Трусевич снова обратился к Столыпину, а тот запросил мнение начальника Петербургского охранного отделения. У Герасимова не было принципиальных возражений против использования в целях сыска уличенных преступников типа Рысса: он сам действовал такими же методами. Он только высказал сомнения в надежности данного агента, — скорее всего потому, что тот проходил не по его Отделению. Именно так это расценил Столыпин: выслушав его сомнения, он все же «присоединился к мнению Трусевича и подтвердил приказ о непроизводстве арестов максималистов».[281]
12 августа, к дому Столыпина на Аптекарском острове, в обычное время приема, когда там толпилось много посетителей, в открытом ландо подкатили два жандарма. Они быстро вошли в вестибюль, неся каждый по тяжелому портфелю. Заметив какие-то непорядки в их форме, охрана бросилась наперерез, но уже было поздно. Страшный взрыв разнес в клочья обоих «жандармов» и отправил на тот свет еще 25 человек. Часть дома взлетела на воздух. Сквозь клубы дыма и пыли слышны были жалобные стоны, ржание раненых лошадей. Тяжело пострадали дочь и сын премьера.
Чудом уцелевший Столыпин проявил самообладание и мужество. То, что злодеяние было совершено при прямом участии агента полиции и соучастии самых высших чинов, удалось скрыть от общественности. Даже после этой бойни Рысс не был арестован и продолжал служить сексотом.
Зато уже через неделю, по представлению Столыпина, царь подписал чрезвычайный закон о введении скорострельных военно-полевых судов. Этот «решительный» ответ власти маскировал отсутствие у Столыпина действенного средства борьбы с террором.
В чем — в чем, а в кровавой юстиции недостатка в России не ощущалось. Гражданское судопроизводство смертной казни не знало, но параллельно действовали военные суды, причем двух принципиально различных типов. Достаточно было объявить ту или иную губернию на военном положении (три четверти губерний в то время), как в юрисдикцию военных судов автоматически переходила определенная категория уголовных дел. Суд вершился скорый, без излишних формальностей; смертный приговор часто выносился при юридически ничтожных уликах.
Адепт пунктуальной законности, В. А. Маклаков подчеркивал, что при всей жесткости такой юстиции в ней еще не было абсолютного произвола, так как это была «общая мера для всех».[282] Но ее дополняла другая категория военных судов — на основе Положения о чрезвычайной охране. Это положение позволяло предавать военному суду любого подозреваемого по усмотрению генерал-губернатора, то есть по произволу. В. А. Маклаков видел в этом миниатюрную модель всей системы старого самодержавия. «В этом был разврат, который всех приучал к беззаконию, заменял закон произволом и этим „воспитывал нравы“».[283]
В. А. Маклаков, правый кадет, еще более поправевший в эмиграции, в своих воспоминаниях о Второй Думе склонен выставлять Столыпина в максимально выгодном свете. Тем не менее, задавая вопрос, что же сделал Столыпин с доставшейся ему карательной системой, он отвечает: «Он не только не исправил, хотя бы частично, „исключительных положений“, но он их в самом „неврологическом пункте“ ухудшил. Единственная новелла, введенная им в эту область, была знаменитая мера 19 августа 1906 г. о „военно-полевых судах“» (курсив В. А. Маклакова — С.Р.)[284]
«Новелла» обрекала на виселицу почти каждого, кто попадал в мясорубку. По положению, суд происходил не позднее 48 часов после ареста, так что ни о каком серьезном следствии не могло быть и речи. В состав суда входили строевые офицеры, без допущения юристов (даже военных). Для профессиональной оценки представленных им улик у них не было квалификации. А приговор приводился в исполнение не позже, чем через 24 часа после его вынесения; обжалованию или пересмотру он не подлежал. Очевидная цель максимального сближения преступления (чаще всего не доказанного!) и наказания (почти всегда неотвратимого!) состояла в одном — в устрашении. Тогда как террористы безнаказанно творили кровавые дела (нередко при содействии полиции), петля в большинстве случаев затягивались не шее тех, кто ни к какой революционной работе причастен не был. Во Второй Думе Столыпин бросит в зал знаменитое: «Не запугаете!» Но сам он делал ставку именно на запугивание. Большевики многократно усовершенствуют эту систему и придадут ей небывалый размах, но в числе тех, кто взращивал ее ростки, одно из самых видных мест принадлежало Столыпину.
Поскольку законоположения, принятые в промежутке между Первой и Второй Думами, надо было как-то оформить, то они вводились царскими указами по 87-й статье Основных законов. Эта статья позволяла во время перерыва в работе законодательных учреждений, «если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном», вводить временные законы, при условии, что после возобновления работы Думы они должны ею утверждаться или прекращать свое действие. Это значило, что такие законы должны были носить временный и обратимый характер.
В свете этого положения, закон о военно-полевых судах, строго говоря, мог быть принят по 87-й статье, так как впоследствии он мог быть (и был) отменен Думой (хотя тысячи повешенных уже нельзя было воскресить). Но этого никак не скажешь о ряде других законов, включая наиболее важный из них — закон от 9 ноября 1906 года, положивший начало аграрной реформе.
В Советском Союзе столыпинскую реформу предавали анафеме, а в пост-советской России (в диссидентских и нон-конформистских кругах много раньше) увидели в ней спасение для сельского хозяйства страны, доведенного коммунистической властью до полного развала и деградации. С зияющих высот колхозного строя иного видения столыпинской реформы трудно было бы ожидать. Но если спуститься в долину дореволюционной России, то легко увидеть, что столыпинский вариант реформы был не единственным и, видимо, не наилучшим. Он не решил главного: острой нехватки земли, которую испытывали крестьянские массы. Альтернативный столыпинскому проект реформы, предлагавшийся партией конституционных демократов в Первой, а затем во Второй Думе, также предполагал в перспективе превращение крестьянина-общинника в фермера-собственника. В этом оба проекта сходились. Разница же состояла в том, что кадеты настаивали на увеличении крестьянской доли землевладения за счет помещичьей. Этого требовали прагматические соображения, так как основные требования крестьянства сводились к одному короткому слову: «Земли!» Удовлетворить это требование хотя бы частично — значило ослабить социальное напряжение в стране.
Но Столыпин самым решительным образом восстал против посягательств на «священные права собственности». Не потому, что он не сознавал крестьянскую нужду в земле. Он предлагал ускорить процесс переселения крестьян на свободные земли Сибири, облегчить покупку крестьянами земли у помещиков, желавших ее продать. Он был способным администратором и сделал немало полезного для улучшения работы государственного аппарата.
Но глава правительства прежде всего — политик, а потом уже — администратор. Как политик он должен либо согласовывать интересы различных групп населения, смягчая противоречия между ними, либо брать сторону одних групп в ущерб другим. Политика Столыпина базировалась на втором, антагонистическом принципе. Принудительного выкупа помещичьей земли он не допускал, а это означало, что крестьяне должны довольствоваться теми наделами, которые получат при выходе из общины. Вот когда научатся хозяйствовать на своей земле, тогда урожаи возрастут, и даже малые наделы станут давать достаточно хлеба — таков был основной посыл Столыпина. Но — улита едет, когда-то будет. И премьер хорошо знал — когда. Не спроста он говорил: «Дайте мне двадцать лет, и вы не узнаете России». А как протянуть эти двадцать лет? Прозябать в нищете? Крестьяне не были в восторге от такой перспективы. Приватизацию общинной собственности даже черносотенные депутаты от крестьян считали недостаточной мерой, резко расходясь в этом вопросе с черносотенными депутатами-помещиками.[285] Демонстрируя, что «священному праву собственности» 130-ти тысяч помещиков власть отдает предпочтение перед сытостью десятков миллионов крестьян, Столыпин лишь подтверждал то, что внушала массам революционная пропаганда: власть стоит на страже интересов «помещиков и капиталистов».
Вопреки нынешним апологетам столыпинской аграрной реформы, она не решала основного вопроса русской революции. О чем, между прочим, особенно ярко свидетельствует одно вскользь брошенное замечание М. В. Родзянко, относящееся к последним месяцам царского режима:
«Так как на дворянство и духовенство уже не полагались, то по мысли [министра внутренних дел] Протопопова решено было привлечь на сторону правительства крестьян и с этой целью стали разрабатывать законопроект о наделении крестьян — георгиевских кавалеров [!] — землею в количестве до тридцати десятин, путем принудительного отчуждения от частных владельцев».[286]
Одна из причин того, что летом 1917 года, вопреки усилиям Временного правительства, стал разваливаться фронт, состояла в том, что солдаты массами разбегались по домам, где, по слухам, начинался передел земли, и они боялись, что останутся обделенными. В этом же причина того, что после Октября ленинский декрет о земле (наряду с декретом о мире) бросил солдат и крестьян в лагерь большевиков.
Таковы были дальние последствия столыпинский реформы; в момент ее принятия их трудно было предвидеть. Но очевиден был ее правовой аспект и немедленные последствия. Речь шла о реформе необратимой (после передачи общинной земли в частные руки ее уже нельзя было вернуть обратно), рассчитанной на долгий срок и не имеющей характера чрезвычайной срочности. Вводить ее царским указом по 87-й статье можно было, только профанируя и эту статью, и Основные законы в целом. Против этого должны были протестовать все, для кого дарованные (или вырванные у царя) свободы не были пустым звуком. Столыпина это не останавливало: он сознательно шел на попрание законов.
«Столыпин… юридической стороне придавал наименьшее значение, и если для него какая-нибудь мера представлялась необходимой, то он никаких препятствий не усматривал… Тут его рассуждения были таковы, что, когда в государственной жизни создается необходимость какой-нибудь меры, — для таких случаев закона нет». Так объяснял действия Столыпина министр юстиции в его кабинете И. Г. Щегловитов.[287] Это признание человека, с чьим именем связаны самые скандальные беззакония той эпохи, вплоть до фабрикации дела Бейлиса, многого стоит! Впрочем, и сам Столыпин, не стесняясь, излагал свое кредо: «Не думайте, господа, что достаточно медленно выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой», — заявил он в Думе (уже в Третьей).[288]
А если так, к чему вообще румяна и прочая косметика?
Разгон Второй Думы был предрешен, причем на этот раз Столыпин прибегнул не только к конспирации, но к провокации. Ключевая роль выпала на долю Екатерины Шорниковой[289] (агент охранки по кличке Казанская). Она была секретарем некоей петербургской военно-революционной группы и держала в своих руках все нити ее работы среди солдат гарнизона. Этой группой, при активном участии Шорниковой (вероятно, по ее инициативе), был составлен «солдатский наказ» для социал-демократической фракции Государственной Думы. Шорникова передала текст начальнику Охранного отделения Герасимову, а тот — Столыпину, который и санкционировал все дальнейшие действия.
«Он потребовал, чтобы аресты были произведены в тот момент, когда солдатская делегация явится в социал-демократическую фракцию, чтобы, так сказать, депутаты были схвачены на месте преступления», — свидетельствует Герасимов.
В чем же состояло преступление депутатов? Может быть, кто-то из них находился в предварительном сговоре с солдатской группой, придумавшей «Наказ»? Но сам Герасимов подтверждает: «Для самой социал-демократической фракции появление этой [солдатской] делегации оказалось полной неожиданностью».[290]
Состава преступления не было, поэтому Охранка должна была его создать. И провалилась. Хотели как лучше, а вышло — как всегда! «Приняв от них [неожиданно явившихся солдат] наказ [и заподозрив неладное], депутаты поспешно выпроводили их из помещения через черный ход».[291]
Когда явились жандармы, уже было поздно. Но этих гостей выпроводить не удалось. Депутатские удостоверения, гарантировавшие парламентскую неприкосновенность, не заставили их ретироваться. Они перевернули все помещение, перерыли и забрали кучу бумаг, но ни солдатской делегации, ни крамольного «наказа» не нашли, то есть «схватить депутатов на месте преступления», как того требовал Столыпин, не удалось. Но премьера это не остановило. Крамольных солдат арестовали в казармах — по списку Шорниковой. Приобщили к делу полученную от нее же копию «наказа». Был выписан ордер и на ее арест, но ей, конечно, «удалось скрыться». (И потом много лет она так удачно «скрывалась», что, числясь в списках преступников, разыскиваемых Департаментом полиции, в том же Департаменте получала справки о благонадежности для устройства на работу).
Итак, борьба с революционной пропагандой в армии служила только прикрытием куда более важной операции. То был столыпинский «поджог Рейхстага»! Готовился новый государственный переворот, и под него следовало подвести надежный фундамент.[292]
Выступая в Думе с требованием лишить парламентской неприкосновенности всю эсдековскую фракцию в количестве пятидесяти пяти депутатов и выдать их для суда, Столыпин к их мнимому заговору пристегнул еще один, куда более зловещий. Отвечая на запрос правых депутатов, специально для этой цели поданный, он «подтвердил» слухи о раскрытии «образовавшегося в составе партии социалистов-революционеров сообщества», которое поставило «целью своей деятельности посягательство на священную особу Государя императора и совершение террористических актов, направленных против великого князя Николая Николаевича и председателя совета министров» (курсив в тексте — С.Р.).[293]
Никаких имен и подробностей Столыпин не сообщил, но имелось в виду дело группы Владимира Наумова, сына начальника Петергофского почтово-телеграфного отделения. Познакомившись с казаком Ратимовым, служившим в охране царского дворца, Наумов стал ему говорить о предстоящей революции, а когда тот доложил об этом начальству, то ему велели продолжать контакты, прикидываясь сочувствующим. Остальное было делом техники. Режиссуру первоначально взял на себя начальник дворцовой охраны полковник Спиридович (через несколько лет он сыграет роковую роль в судьбе Столыпина), а затем «сам» Герасимов. Доведя дело до нужной кондиции, Герасимов арестовал Наумова, запугал его предстоявшим смертным приговором, а затем пообещал даровать жизнь — в обмен, как водится, на известные услуги. Наумов оговорил многих друзей и знакомых, но позднее, на суде, от большинства своих показаний отказался, а других серьезных улик против восемнадцати (!) обвиняемых не было. Чтобы спасти дело, пришлось вызвать свидетелем… самого Герасимова. Ради конспирации и пущего эффекта он давал показания густо загримированным. Но и сквозь грим проступали следы раздутой полицейской провокации. Юридическая несостоятельность сфабрикованного дела о несостоявшемся цареубийстве «вызвала протесты в рядах защиты, и один из защитников, кажется, В. А. Маклаков, во время моих показаний с возмущением покинул зал заседания».[294] Это не помешало присудить Наумова и еще двух человек к смертной казни, а десяток других отправить на каторгу. Партия эсеров с самого начала отрицала связь с группой Наумова, и на суде таковая не была установлена.
Но даже если бы это дело не граничило с блефом, то какое отношение террористическое «сообщество» эсеров могло иметь к депутатской фракции эсдеков, которым какие-то солдаты принесли свой «наказ»? На такой липе основывалось требование премьера Столыпина о выдаче ему для суда пятидесяти пяти депутатов Государственной Думы! Зато посягательство на священную особу, плюс на особу великого князя, плюс на импозантную особу стоящего тут же на трибуне премьера — это звучало гордо! Выскочивший на трибуну вслед за Столыпиным экспансивный Пуришкевич завопил, что «преступники должны быть немедленно выданы и отправлены на виселицу».[295]
В. Пуришкевич
Но крайне правые, к которым принадлежал черносотенный бессарабский помещик, составляли среди депутатов Второй Думы ничтожное меньшинство. Все же отвергать с порога требование премьера Дума не стала, а постановила передать вопрос для изучения в Комиссию, дав ей сроку один день. И тут предсовмина запаниковал. «По существу Столыпин рассчитывал именно на несогласие Государственной Думы», — объясняет смысл провокации Герасимов.[296]
С разгоном Думы давно уже торопил царь, причем он «не входил вовсе в рассмотрение детального вопроса о необходимости соблюсти какую-то особенную осторожность при роспуске, — свидетельствует Коковцов. — Его взгляд был до известной степени примитивен, но ему нельзя, по справедливости, отказать в большой логичности. Я хорошо помню, как на одном из моих всеподданнейших докладов между 17 апреля и 10 мая государь прямо спросил меня, чем я объясняю, что совет министров все еще медлит представить ему на утверждение указ о роспуске Думы и о пересмотре избирательного закона».[297]
Тут сквозило неудовольствие Столыпиным (о чем Коковцов поспешил ему сообщить), а предсовмина, столь грозный и решительный вне стен Царскосельского дворца, стелился перед государем. Что, если Дума выдаст депутатов-эсдеков? Он тут же жалобно запросил: «Можно ли Думу не распускать, если она согласится на исполнение требования?» Николай, к счастью, понял, что в таком случае роспуск был бы неудобен. Но к еще большему счастью…
«Заседание 2-го июня длилось недолго, — сообщает летописец Второй Думы В. Маклаков. — К концу его Кизеветтер, председатель комиссии, занимавшейся делом соц[иал]-демократов, пришел доложить, что комиссия работы своей не окончила, и просил продлить ей срок до понедельника. Предложение было принято Думой».[298]
Дальше медлить было нельзя. И напрасно в тот же вечер, уже около полуночи, в тайне от всего света, включая своих товарищей по фракции, В. А. Маклаков и трое других правых кадетов отправились к Столыпину уговаривать его проявить терпение. «Было что-то возмущающее в том, что этот роспуск надвинулся как раз в тот момент, когда Дума благополучно обошла последние подводные камни, и когда настоящая работа ее, наконец, началась, и могла продолжаться».[299] Столыпин какое-то время валял Ваньку, а потом, «как будто перестав притворяться, грустно сказал: „Пусть все это так; но есть вопрос, в котором мы с вами все равно согласиться не сможем. Это — аграрный. На нем конфликт неизбежен. А тогда к чему же тянуть?“»[300]
Аграрный закон, принятый по 87-й статье, подлежал утверждению Думы, а она стояла за кадетский законопроект, включавший частичное принудительное отторжение помещичьей земли. Так что не депутаты-эсдеки были камнем преткновения, а то, что Столыпин не желал уступить ни пяди помещичьей земли!
«Он кончил неожиданной любезностью, — завершает эту сцену В. А. Маклаков. — „Желаю с вами всеми встретиться в 3-ей Думе. Мое единственное приятное воспоминание от Второй Думы, — это знакомство с вами. Надеюсь, что и вы… узнали нас поближе [и] не будете считать нас такими злодеями, как это принято думать“. Я ответил с досадой: „Я в 3-ей Думе не буду. Вы разрушили всю нашу работу и наших избирателей откинете влево. Теперь они будут не нас избирать“. Он загадочно усмехнулся. „Или вы измените избирательный закон, сделаете государственный переворот? Это будет не лучше. Зачем же мы тогда хлопотали?“ Он не отвечал, и мы с ним простились».[301]
Давно подготовленный Указ о роспуске Думы был подписан в тот же вечер. Одновременно был изменен избирательный закон, хотя, по конституции, только сама Дума имела на это право. Путем государственного переворота от участия в выборах отсекалось большинство крестьян, рабочих и даже мещан. В еще большей степени были урезаны избирательные права жителей окраин империи, дабы в Думу могло пройти как можно меньше инородцев. Словом, обеспечивался сдвиг всего депутатского корпуса далеко вправо, с таким расчетом, чтобы правительство всегда имело большинство. Витте назовет Третью Думу не избранной, а подобранной, а мы, имея за плечами советский опыт, можем увидеть в ней прообраз будущего Верховного Совета. Коммунисты довели подмену избранных депутатов подобранными до логического конца, но начат процесс был Столыпиным.
Манипулирование законом было ведущим методом государственной деятельности Столыпина, на чем он, в конечном счете, и подорвался. Его политическое влияние кончилось весной 1911 года (за полгода до смерти), в связи со скандалом вокруг закона о Западном земстве.
Создатели культа Столыпина видят в этом законе основное свидетельство его умеренности и даже демократичности, что, увы, снова не соответствует исторической правде.
Особенность Западного края состояла в том, что значительная часть крупных поместий принадлежала польским земельным магнатам, тогда как русские помещики, владевшие там крупными имениями, как правило, в них не жили и в местных делах не участвовали. Введение земского самоуправления на тех же основаниях, что во внутренних губерниях, привело бы к преобладающему положению в нем поляков. Чтобы этого не допустить, «национально» мысливший премьер «демократизировал» систему выборов, понизив в десять раз имущественный ценз для избирателей. Это давало право голоса более широким слоям населения, в основном православного. Но именно таким избирателям Столыпин не доверял, считая их малограмотными и малокультурными для самостоятельного участия в политической жизни; чего доброго, по своей несознательности, они могли голосовать за кандидатов-поляков, если бы те соблазнили их какими-нибудь посулами. Чтобы понижение избирательного ценза работало так, как было задумано, Столыпин специально для Западного края вводил систему национальных курий, что заставляло русских избирателей голосовать только за русских (и за ними закреплялось 84 процента мест в земских собраниях), а поляков — за поляков. На поверку демократизация выборов превращалась в манипулирование избирателями.
Имея твердое большинство в Государственной Думе, Столыпин без труда провел в ней этот законопроект. Сопротивление возникло в Государственном Совете, где, казалось бы, правительство всегда имело гарантированное большинство.[302] Лидер правых членов Совета — им был бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново — написал записку государю, в которой изображал законопроект о Западном земстве как почти революционную затею. Его единомышленник В. Ф. Трепов (еще один брат покойного дворцового коменданта) запросил у Николая аудиенцию, на которой выставил Столыпина заговорщиком, стремящимся лишить его власти. Августейший конспиратор, по своему обыкновению, скрыл эти закулисные наушничанья от премьера, а по секрету разрешил В. Ф. Трепову передать противникам столыпинского законопроекта, что они могут голосовать «по совести». Намек, конечно, был понят так, как надо.
Провал законопроекта в Государственном Совете поразил Столыпина, а когда ему стали известны подробности интриги, которая этому предшествовала, он понял, что получил от обожаемого государя удар ниже пояса и оставаться на своем посту больше не сможет. Но недалекий государь ждал от премьера всего, что угодно, но только не прошения об отставке. Рассчитал ли премьер ответный ход, или так получилось «само собой», но он тоже ударил ниже пояса, повергнув государя в смятение.
А. В. Герасимов
Вообще-то Столыпин давно уже надоел Николаю, давно уже было ему некомфортно с премьером. Слишком тот был авторитарен, решителен, уверен в себе, словом, заслонял государя своей крупной фигурой. Давно уже государь давал это понять премьеру разными способами. А. В. Герасимов сообщает об удивительном разговоре Николая со Столыпиным еще в 1909 году, о чем премьер тогда же поведал Герасимову на возвратном пути из Царского Села:
«„Ваше величество, по мнению генерала Герасимова, Вам во время этой поездки [в Полтаву] никакой опасности не грозит. Он считает, что революция вообще подавлена и что вы можете теперь свободно ездить, куда хотите“.
„Я не понимаю, о какой революции вы говорите, — последовал ответ. — У нас, правда, были беспорядки, но это не революция. Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые. Если бы у меня в те годы были несколько таких людей, как полковник Думбадзе, все пошло бы по-иному“».[303]
Столыпин ждал «удовольствия и благодарности», а получил щелчок по носу. Полковник Думбадзе, комендант Ялты, «отличался беспощадным преследованием мирных евреев, которых он с нарушением всех законов выселял из Ялты», — пояснял Герасимов. «Как-то раз (кажется в ту зиму 1908-09) на Думбадзе было совершено покушение. Неизвестный стрелял в него на улице и скрылся затем в саду прилегавшего дома, перепрыгнув через забор. Думбадзе вызвал войска, оцепил дом и арестовал всех его обитателей, а затем приказал снести сам дом с лица земли артиллерийским огнем. Приказ был исполнен».[304]
Такие действия были по нраву тишайшему императору, а, главное, «замечательного грузина» превозносила пресса Союза русского народа. Усердный почитатель «союзников», государь дал понять премьеру, что тому не следует похваляться крутизной своих мер: можно найти людей и покруче.
Однако Столыпин, с точки зрения государя, продолжал позволять себе слишком многое, даже вторгаться в «святая святых»: в отношения царя и царицы со «старцем» — Гришкой Распутиным.
Г. Распутин
О похождениях Гришки Столыпин имел исчерпывающие сведения: их собирала охранка, усердно следившая за каждым шагом шарлатана, втершегося в доверие к царице и к самому царю. Когда премьер впервые спросил государя о старце, тот, заметно смутившись, ответил, что слышал о нем от государыни, но сам его ни разу не видел. Премьер понял, что государь юлит, и сам прибегнул к хитрости:
«— Простите, ваше величество, но мне доложили иное.
— Кто же доложил это иное?
— Генерал Герасимов».[305]
Герасимов уверяет, что в то время еще не имел сведений о личных встречах царя с Распутиным и ничего подобного Столыпину не докладывал, так что тот брал Николая на пушку. Провокация удалась!
«— Ну, если генерал Герасимов так доложил, то я не буду оспаривать. Действительно, государыня уговорила меня встретиться с Распутиным, и я видел его два раза».
Выдавив из себя это признание, царь перешел в атаку: «Но почему, собственно, это вас интересует? Ведь это мое личное дело, ничего общего с политикой не имеющее. Разве мы, я и моя жена, не можем иметь своих личных знакомых? Разве мы не можем встречаться со всеми, кто нас интересует?»[306]
Столыпин выложил государю все, что было известно о скандальных похождениях Гришки из агентурных сведений: о его попойках, сексуальных оргиях, хлыстовской ереси и, главное, о том, как слухи о близости его к царской семье подрывают престиж царской власти. Николай был поражен (а скорее, сделал вид, что поражен) и обещал больше не встречаться со «святым чертом». Но обещания не сдержал, а только затаил еще большую неприязнь к премьеру, которая становилась тем более лютой, ибо бродила внутри, не находя выхода, так как высказать ее прямо государь не умел.
В. Н. Коковцов свидетельствует о том, что видел записку государя Столыпину, датированную 10 декабря 1910 года: Николай «в резких выражениях» выговаривал премьеру за появление скандальных публикаций о Распутине в прессе.[307]
Вероятно, под влиянием этой записки Столыпин вызвал к себе Гришку, и, если верить М. В. Родзянко, накричал на него и велел немедленно убраться из столицы, пригрозив арестом и судом за сектантство.[308] Гришка понял, что премьер не шутит, и поспешно уехал в свое родное село Покровское, но можно себе представить, какую истерику после этого закатила государю супруга и сколько ненависти вылила на премьера, представив его ослушником царской воли.
Не воспользоваться интригой Дурново-Трепова мстительный Николай после этого просто не мог! Но согласиться на отставку Столыпина он тоже не мог: получилось бы, что уход премьера обусловлен неодобрением законодательного органа. Так водилось в какой-нибудь республиканской Франции или в Англии, где король царствовал, но не управлял. В императорской России такого посягательства на «начала» терпеть было нельзя.
«Во что же обратится правительство, зависящее от меня, если из-за конфликта с [Государственным] Советом, а завтра с Думой, будут сменяться министры», — растерянно сказал государь Столыпину и предложил найти другой выход из патовой ситуации, в которую он сам загнал их обоих.[309]
Почувствовав себя опять на коне, Столыпин всадил в бока шпоры. Он согласился остаться при условии выполнения двух требований: во-первых, принять закон о Западном земстве по чрезвычайной 87-й статье, а для этого распустить обе законодательные палаты на три дня. Во-вторых, отправить Дурново и Трепова в длительный отпуск, дабы впредь никому не повадно было затевать интриги за его спиной.
Пока царь раздумывал над этим ультиматумом, императрица-мать Мария Федоровна предсказала дальнейших ход событий, словно читала открытую книгу:
«Я не минуты не сомневаюсь, что государь после долгих колебаний кончит тем, что уступит, — сказала она Коковцову, — [но] будет глубоко и долго чувствовать всю тяжесть того решения, которое он примет под давлением обстоятельств… и чем дальше, тем больше у государя будет расти недовольство Столыпиным, и я почти уверена, что теперь бедный Столыпин выиграет дело, но очень ненадолго, и мы скоро увидим его не у дел».[310]
Дума и Государственный Совет были распущены на три дня, закон о Западном земстве утвержден по 87-й статье, Дурново покорно ушел в преждевременный отпуск, а Трепов — в отставку. Но для Столыпина то была пиррова победа.
«Можно сказать без преувеличения, что почти вся печать была враждебно настроена по отношению к Столыпину… Она критиковала с полной беспощадностью роспуск палат, проведение нескрываемым искусственным способом… отвергнутого закона и еще более резко отзывалась о мерах преследования лиц, хотя бы и замешанных в интриге, но подвергнутых совершенно несвойственным мерам взыскания. Клубы, особенно близкие к придворным кругам, в полном смысле слова дышали злобой и выдумывали всякие небылицы. Столыпин был неузнаваем. Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла».[311]
Конечно, не критика в печати повергла в уныние Столыпина, а то, что царь, уступивший его диктату премьера, теперь брал реванш за свое унижение. В апреле 1911 года премьерство Столыпина фактически кончилось. Правда, сам он еще на что-то надеялся, сам он, зная, с каким нетерпением теперь царь ждет его прошения об отставке, упорно этого «не понимал». Из-за чего поплатился уже не карьерой, а жизнью.
* * *
Столыпин, конечно, не изобрел провокацию. Он унаследовал ее от Плеве, Рачковского, Зубатова, Дурново и более ранних предшественников. Но при нем она достигла расцвета. Герасимов, Трусевич и их коллеги, непосредственные организаторы провокаций, ничего не делали без одобрения Столыпина. Герасимов почти ежедневно являлся к нему с обстоятельными докладами, сопровождал его в поездках к царю, стал доверенным человеком семьи. Столыпин настолько высоко ценил начальника Петербургского Охранного отделения, так хорошо говорил о нем государю (когда еще был в фаворе), что тот тоже захотел с ним познакомиться.
«По традиции, только особы высших четырех классов (по рангу) имели право личного доклада царю. Я же по [тогдашнему] чину полковника принадлежал лишь к пятому классу»,[312] — сообщает Герасимов об оказанной ему чести. Беседа продолжалась полтора часа, а поскольку сидеть в присутствии его величества полковнику не полагалось, то и Николай весь прием простоял.
Что же он вынес из задушевной беседы? «Это настоящий человек на настоящем месте», — сказал государь Столыпину, а тот, конечно, поспешил передать самому имениннику.[313]
Главным козырем Герасимова был Евно Азеф, служивший под его началом и «по совместительству» возглавлявший Центральную боевую организацию партии эсеров. Добрая половина книги Герасимова посвящена Азефу, и главное, что он пытается доказать, это что при нем Азеф «честно» служил охранке. О том, что и как Азеф делал в прежние годы, Герасимов якобы не знал и не интересовался, хотя получил его с рук на руки от Рачковского, который хорошо знал, как далеко зашла преступная работа агента на втором фронте.
Но шила в мешке не утаишь. Герасимов вынужден признать свою осведомленность в том, что, по крайней мере, одно покушение — на адмирала Дубасова в Москве — произошло при участии Азефа, о чем донес другой агент, Зинаида Жученко. Герасимов пишет об этом, петляя, запутывая кровавые следы, но они проступают помимо его желания, словно в фильме ужасов. В конце концов, он признает:
«Существовала возможность, что Жученко принимала участие в организации покушения на Дубасова, но этим не исключалось и предположение, что Азеф, будучи в те немногие месяцы свободен (! — С.Р.) от своей службы в Департаменте полиции, мог по поручению партии принять на себя организацию покушения, а сорганизовав, он расстроить его не сумел. Кажется, только одно не подлежит сомнению: как Азеф, так и Жученко знали о готовящемся покушении, но, по соображениям шкурного характера, они не доносили о нем, так как оба были на подозрении в партии».[314]
Герасимов умалчивает о том, что Азеф позднее рассказал Бурцеву — как Рачковский кричал на него, в присутствии Герасимова: «Это его дело в Москве!» На что Азеф не без вызова ответил: «Если мое, то арестуйте меня!»[315] Он знал, что арестовать его они не могли, так как были повязаны с ним общей веревкой, то бишь, общими преступлениями.
Об Азефе Герасимов постоянно докладывал Столыпину, и тот проникся к нему таким уважением, что интересовался не только его агентурными сведениями, но и политическими суждениями.
«Столыпин несколько раз в беседах с Герасимовым выражал даже желание лично встретиться с Азефом для того, чтобы в устной беседе подробнее ознакомиться с настроениями и взглядами, распространенными в революционной среде. Такую встречу Столыпина с Азефом Герасимов по разным причинам устроить не мог, но вопросы Столыпина Азефу передавать ему приходилось часто… Азеф знал, кто именно ставит перед ним эти вопросы, был несомненно польщен вниманием к нему Столыпина и с особенным старанием давал свои ответы».[316] Герасимов сообщает, что Азеф «почти с восхищением… относился к аграрному законодательству Столыпина».[317] Вот был ли польщен премьер такой оценкой, Герасимов не сообщает.
Петр Карпович
Охранка оберегала от ареста не только самого Азефа, но и его команду, а когда кто-то попадался по оплошности — своей или полиции — организовывала им побег, да так, чтобы они сами не могли догадаться о том, кто им покровительствует. Не без юмора Герасимов повествует о том, как — по требованию Азефа — устроил побег Петру Карповичу и как измучился жандарм, на которого была возложена эта деликатная миссия. Очень трудно заставить бежать арестанта, который этого не хочет! Жандарма (якобы переводившего Карповича в другую тюрьму) мучила то жажда, то расстройство желудка. Вместе с арестантом он заходил то в кофейню, то в пивную, то в ресторацию. Подолгу отсиживался в туалете. А тот все сидел и ждал, как болван, пока, наконец, не догадался, что спокойно может уйти. А ведь на счету беглого каторжника было, как минимум, одно мокрое дело: застрелив в 1901 году министра просвещения Н. П. Боголепова (о чем мы упоминали), он открыл счет самых громких убийств XX века. Когда Карпович примкнул к группе Азефа, тот донес о нем Герасимову, зная, что таков лучший способ обеспечить беглому каторжнику прикрытие. И не ошибся.
Что ж, коронованный революционер был прав: Герасимов был «настоящий человек на настоящем месте», как и его сотрудник Азеф. Оба мастера провокаций устраивали и государя, и премьера Столыпина, чего никак не скажешь об их разоблачителях.
Евно Азеф
Когда потрясенный А. А. Лопухин узнал от В. Л. Бурцева, какими делами занимался его бывший агент на втором фронте, он написал письмо Столыпину, своему гимназическому товарищу. Лопухин давал шанс премьеру самому разоблачить и покарать провокатора. Ответ от своего бывшего однокашника он получил не прямой, но вполне выразительный. К нему на квартиру явился сам Азеф. Уговорами и угрозами пытался принудить к молчанию. И этим, конечно, ускорил развязку. Заверенную копию своего письма Лопухин передал Бурцеву, а сам отправился в Лондон для встречи с лидерами партии эсеров, перед которыми открыл второе лицо главы Боевой организации. По возвращении его ждали арест и суд, санкционированные государем по докладу Столыпина.
Состава преступления в действиях Лопухина не было, но — был бы человек, а статья найдется! Найти статью для своего бывшего приятеля премьер поручил особенно сноровистому в таких делах министру юстиции И. Г. Щегловитову. Лопухина «оформили» по 102-й статье Уголовного уложения, хотя «для применения [этой статьи] необходима была принадлежность подсудимого к тайному преступному сообществу, что, конечно, не имело ни малейших фактических оснований».[318] Ни малейших! Так впоследствии написал генерал Курлов, заместитель Столыпина по полицейской части и сам большой дока по части провокаций.
Генерал Курлов
Это тот самый генерал Курлов, которого общественное мнение заклеймило как чуть ли не главного организатора убийства Столыпина, а он сам, открещиваясь от этих обвинений, представлял себя преданным другом и почитателем Столыпина и всячески его превозносил. Тем не менее, даже он вынужден был признать, что дело против Лопухина было от начала до конца сфабриковано в отместку за разоблачение Азефа. Правда, Курлов пишет об этом без тени осуждения. Да и как он мог осуждать то, что сам практиковал в полной уверенности, что так и надо. (В 1917 году, на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, Курлову был задан вопрос, считает ли он законным использование полицией двойных агентов, которые сами участвуют в преступных акциях, а затем выдают своих соучастников. Курлов, не моргнув глазом, ответил: «Законным — нет, но необходимым — да».[319])
Нечего и говорить, что, фабрикуя дело против Лопухина, премьер был уверен в полной солидарности с ним государя: ведь на докладе по этому делу тот изволил собственноручно начертать: «Надеюсь, что будет каторга». А когда шемякин суд эту надежду оправдал, государь воскликнул от радости: «Здорово!»[320]
Учинив расправу над безвинным Лопухиным, Столыпин встал горой за Азефа — тоже, конечно, с одобрения государя: «Обстоятельств, уличающих его в соучастии в каких-либо преступлениях, я, пока мне не дадут других данных, не нахожу».[321] Вот, что глава правительства говорил с высокой трибуны Государственной Думы в то время, когда «другие данные» (заблаговременно представленные ему Лопухиным) потрясали мировую прессу!
Но, скажут мне, революционеры делали свое черное дело не в белых перчатках, так могли ли чистоплюйствовать власти? Что ж, оставим в стороне морально — уголовную сторону балансирования «на лезвии с террором» и зададимся прагматическим вопросом: была ли кровавая игра полезна для борьбы с революцией? Проще всего ответить на этот вопрос словами самого Азефа. Встретившись через несколько лет (15 августа 1912 года) с Бурцевым для выяснения отношений, он был вполне откровенен.
«„Ну, вы сравните сами, — убеждающим голосом говорил он. — Что я сделал? Организовал убийство Плеве, убийство вел[икого] кн[язя] Сергея…“, — и с каждым новым именем его правая рука опускалась все ниже и ниже, как чаша весов, на которую падают грузные гири… — „А что я дал им? Выдал Слетова, Ломова, ну, еще Веденяпина…“, и, называя эти имена, он не спускал, а наоборот, вздергивал кверху свою левую руку, наглядно иллюстрируя все ничтожество полученного полицией по сравнению с тем, что имела от его деятельности революция».[322] И тут же: «Он надеялся, что ему удастся убить царя, тогда он рассказал бы всю правду. Но в этом ему помешал он, Бурцев: „Если бы не вы, — с упреком в голосе говорил Азеф, — я его убил бы…“».[323]
Не успел отшуметь скандал с разоблачением Азефа, как Герасимов завербовал другого эсеровского бомбиста, Александра Петрова (Воскресенского) — ветерана, даже потерявшего ногу в этих баталиях. Петров, вместе с группой подпольщиков, приехал в Саратовскую губернию — подымать крестьянские восстания, но вскоре вся группа попала в руки полиции. Зная, что многолетнюю каторгу он — одноногий — не вынесет, Петров предложил свои услуги охранке. Из Саратова последовал запрос в центр, после чего Петров был тайно доставлен в столицу, где сам Герасимов, учинив ему строгий экзамен, уверился в искренности его желания переквалифицироваться из террориста в доносчика. С одобрения начальника департамента полиции и министра внутренних дел Столыпина, была проведена тонкая операция. Петров был возвращен в саратовскую тюрьму, там симулировал сумасшествие, был переведен в психбольницу, откуда уже мог бежать без особых осложнений, не вызывая подозрений у своих товарищей. План этот разработал сам Петров, Герасимов его одобрил, «конечно, испросив на проведение его в жизнь согласия Департамента Полиции и Столыпина».[324] Это еще один пример личного участия премьера в подобных беззакониях. Как признает Герасимов, «несомненно формальное нарушение закона нами тогда было сделано. Но это небольшое [!] нарушение закона давно стало своего рода традицией для политической полиции».[325]
Вскоре Герасимов пал жертвой интриг. По версии Герасимова, Столыпин хотел назначить его своим заместителем по полицейской части, но Распутин и враждебный к Столыпину дворцовый комендант Дедюлин провели на этот ключевой пост свою креатуру — генерала Курлова. Тот поспешил отправить Герасимова в длительный отпуск, после чего к сыскной работе его уже не допустили. Петров перешел под начало нового главы Петербургского охранного отделения, полковника Карпова. Через какое-то время они стали друзьями: вместе бражничали по ресторанам, нередко ночевали друг у друга. А тем временем Петров устраивал из своей конспиративной квартиры западню, начиненную динамитом. Карпову он рассказал по секрету, что опальный Герасимов вступил с ним в контакт. Он жаждет мести и склоняет его убить генерала Курлова, сломавшего его карьеру. Герасимов обещает большие деньги и гарантирует безнаказанность, но он, Петров, решил сдать Герасимова. Он готов заманить его в свою квартиру для обсуждения деталей покушения, а из соседней комнаты разговор может быть подслушан.
Карпов доложил ошеломляющую весть начальству, план секретного сотрудника был одобрен. Чтобы уличить Герасимова в преступном замысле, в соседней комнате должны были засесть три человека: сам генерал Курлов, заместитель начальника Департамента полиции Виссарионов и, конечно, Карпов. Таким образом, почти вся верхушка политического сыска попадала в западню. Петрову надо было только выйти в прихожую и соединить два проводка. И у него еще оставался шанс уцелеть и скрыться.
Осуществлению этого грандиозного плана в полном объеме помешала слишком близкая дружба террориста с его шефом и… грязная скатерть, покрывавшая стол, под которым находился мешок с динамитом. Накануне рокового дня к Петрову пожаловал полковник Карпов с выпивкой и снедью, но скатерть на столе ему показалась несвежей, и он ее сдернул, требуя заменить. Вместе с обнажавшейся адской машиной раскрытым оказался и план Петрова. Тому ничего не оставалось, как выскочить в прихожую и соединить провода. Полковника Карпова разорвало на куски.
Взрыв в квартире на Астраханской улице снова потряс всю Россию. Столыпину опять пришлось отдуваться в Государственной Думе. Он «торжественно обещал, что будет произведено исчерпывающее расследование всего и что результаты его будут опубликованы».[326] И в очередной раз обманул. «Суд состоялся при закрытых дверях, отчеты о заседаниях не были опубликованы, и загадка Астраханской улицы так и осталась неразгаданной после того, как Петров взошел на эшафот», — писал Герасимов.[327]
Загадка осталась неразгаданной не только для современников, но и для нас, потомков. На следствии и на суде Петров продолжал утверждать, что генерал Герасимов подговаривал его к убийству Курлова. Это обязывало открыть судебное дело, за что и высказалось большинство участников совещания по данному вопросу, в их числе Виссарионов, Еремин и Курлов. Но вмешался Столыпин. Он «распорядился не давать делу дальнейшего хода»,[328] чем навсегда похоронил тайну одного из самых интригующих эпизодов в истории российского политического сыска. (Вскоре царь так же похоронит тайну убийства самого Столыпина).
Однако дело Петрова было уже одной из последних туч рассеянной бури, ибо благодаря разоблачениям Бурцева и Лопухина были предотвращены не только конкретные террористические акты Азефа. Маска, сорванная с супер-провокатора, повергла в состояние шока все революционное движение. Впервые широкая общественность стала осознавать предостережения Ф. М. Достоевского, которые П. Г. Григоренко уже на нашей памяти отлил в чеканную формулу: «В подполье можно встретить только крыс». Террористическая деятельность в России резко пошла на убыль. Приток молодежи, жаждавшей «революционного подвига», почти прекратился. А тех, кто уже был заангажирован, разъедали сомнения, разлады, в спаянные группы въелась тотальная подозрительность. Террористические акты после этого стали редкими и осуществлялись в основном одиночками. Недолгое относительное успокоение Столыпин приписывал собственной заслуге; но в гораздо большей степени это заслуга таких людей, как Лопухин, приговоренный к каторге почти в то самое время, когда Петрову устроили побег, дабы он мог каторги избежать! Черные дела творятся во тьме сверхсекретности, конспирации и подполья; свет правды для них губителен. Этого света как раз и боялся Столыпин. Есть неумолимая логика в том, что он пал жертвой той самой азефовщины, которую насаждал.
Таков исторический материал, из которого сотворялся миф о Столыпине, наиболее полно воплощенный в романе А. И. Солженицына. По всем правилам жанра, неотъемлемой частью этого большого мифа должен быть маленький миф, или под-миф, о его убийце.
В книге «Двести лет вместе» читаем: «В октябре 1911 года в Государственную Думу был подан запрос октябристов о смутных обстоятельствах убийства Столыпина. И тотчас депутат Нисселович протестовал: почему октябристы в своем запросе не скрыли, что убийца Столыпина — еврей?! Это, сказал он, — антисемитизм! Узнаю и я этот несравненный аргумент. Через 70 лет и я получил его от американского еврейства в виде тягчайшего обвинения: почему я [в „Августе 1914“] не скрыл, почему я тоже назвал, что убийца Столыпина был еврей? Нескрытие с моей стороны — это был антисемитизм» (стр. 442–443; курсив везде Солженицына — С.Р.).
Против таких обвинений я готов протестовать вместе с автором книги как против недоброй и бездоказательной выходки. Но кто, где и когда позволил себе этот враждебный выпад против всемирно известного и всемирно почитаемого писателя? Поскольку ссылки Солженицын не дает, то выяснить это невозможно. Но можно сопоставить текст романа с историческими материалами, легшими в его основу.
Кому и для чего надо было убить Столыпина? На этот счет высказано множество суждений, но однозначного ответа не будет получено никогда, так как державный конспиратор принял к тому надлежащие меры. Известно, однако, что Дмитрий Богров был не единственным участником этого акта.
Незадолго до начала киевских торжеств по случаю открытия памятника Александру II генерал-губернатор Киева Ф. Ф. Трепов получил уведомление, что все дело Охраны царя и его приближенных в Киеве изымается из его ведения и передается в руки заместителя министра внутренних дел генерала Курлова. Это было вопиющим нарушением давно установленного порядка: охрана царя при его поездках всегда была прерогативой местных властей. Считалось, что они для этого лучше подготовлены и более эффективны, так как лучше знают местные условия. Неожиданное отстранение от столь важного дела Ф. Ф. Трепов воспринял как плевок в лицо и, видимо, был уверен, что обязан этим Столыпину — как родной брат интриговавшего против премьера, но переигранного им В. Ф. Трепова. Ф. Ф. Трепов немедленно направил телеграмму премьеру с просьбой доложить государю о его желании уйти в отставку.
Отставка второго Трепова в столь короткий срок была бы воспринята как непозволительная демонстрация, и Столыпин докладывать такое прошение не решился. Он ответил, что не советует огорчать государя в канун столь большого праздника. Какова была его собственная в роль в интриге, осталось неясным. Участвовал ли он в комбинации, составленной с целью унизить Трепова и возвысить Курлова, или она была затеяна вопреки нему, — такова еще одна загадка в цепи неразгаданных тайн, окружающих его убийство.
М. П. Бок свидетельствует, что Курлов интриговал против ее отца, и настолько серьезно, что однажды ей вместе с мужем пришлось срочно приехать из Берлина в Петербург, чтобы предупредить его об этом. Причем, выслушав их, Столыпин будто бы сказал: «Да, Курлов единственный из товарищей министра, назначенный ко мне не по моему выбору».[329]
Сам Курлов, конечно, подчеркивал свою безграничную преданность Столыпину, но по лживости его воспоминания бьют все рекорды. Курлов в 1905 году был губернатором Минска, где устроил форменное побоище. После того, как на него было совершено покушение, он просил перевода в другую губернию, но таковой для него не нашлось, и его причислили к министерству внутренних дел. Столыпин долго не давал ему ходу, но в 1909 году вынужден был назначить его своим заместителем по полиции и начальником корпуса жандармов, хотя прочил на это место Герасимова (по другой версии, Трусевича). Одно это ставило Курлова в антагонистические отношения ко всем троим. От Герасимова, как мы знаем, ему вскоре удалось избавиться, Трусевич был «сослан» в сенат, а когда зашатался Столыпин, Курлов увидел, что для него открывается возможность дальнейшего продвижения. На пост премьера он претендовать не мог, а вот министерство внутренних дел само плыло в руки. Чтобы закрепить его за собой, надо было чем-то отличиться. Охрана киевских торжеств могла стать отличным трамплином.
Киевское охранное отделение во главе с полковником Кулябко перешло под прямое начало Курлова и приехавших с ним начальника дворцовой охраны полковника Спиридовича и вице-директора Департамента полиции Виригина. Спиридович был близким родственником Кулябко, к которому и явился секретный сотрудник Дмитрий Богров с вестью о том, что в Киев прибыл террорист Николай Яковлевич, который дожидается приезда террористки Нины Александровны для убийства премьера Столыпина, а, может быть, другого министра или самого государя.
Дмитрий Богров
Кулябко и его столичные начальники поверили (или сделали вид, что поверили!) легенде Богрова. Полученные от него сведения они не проверяли, попыток выследить и обезвредить мифического Николая Яковлевича не делали, за самим Богровым слежки не установили. Зная, что Столыпин в опасности, оставили его без личной охраны и вообще постоянно «забывали» о нем, давая понять, что он на торжествах — лишний. Наконец, они всячески способствовали появлению Богрова в тех местах, где бывал и Столыпин (как установил потом сенатор Трусевич, у Богрова было минимум три возможности застрелить премьера), хотя инструкции категорически требовали в подобных ситуациях не допускать секретных сотрудников на пушечный (не то, что револьверный) выстрел к высокопоставленным лицам и вообще не спускать с них глаз. Словом, если бы Курлов, Спиридович, Виригин и Кулябко знали об истинных намерениях Богрова и хотели ему помочь, то они должны были действовать именно так, как действовали!
Их ненамеренное (в лучшем случае) или намеренное (в худшем) соучастие в преступлении Богрова было очевидным с первых же минут. Коковцов, по закону заместивший раненого Столыпина, пишет, что Курлов сразу же явился к нему с вопросом: «Угодно ли мне, чтобы он немедленно подал в отставку, так как при возложенной на него обязанности руководить всем делом охраны порядка в Киеве, я могу считать его виновным в случившемся».[330]
Суд над убийцей тоже пришел к заключению: руководители Охраны допустили столь вопиющие нарушения, что против них должно быть открыто дело.
Предварительное сенатское расследование было поручено бывшему начальнику Департамента полиции Трусевичу. Впоследствии, на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, Трусевич показал:
В. Н. Коковцов
«Для меня, конечно, это было самое тяжелое дело, какое выпадало на мою долю, потому что это был, можно сказать, вихрь предположений. Высказывались и крайние предположения — о злоумышлении убийства Столыпина ген[ералом] Курловым».[331] И дальше: «Кулябко давал крайне сбивчивые показания, и все вертелось на вопросе, был ли осведомлен Курлов о том, что агент Богров был допущен в театр… Мне стало ясно, что Курлов был осведомлен об этом».[332]
На вопрос Председателя комиссии Муравьева, не могло ли быть умысла со стороны Курлова, Трусевич ответил: «Я скажу одно: мотив какой-нибудь должен быть; занять место Столыпина — единственный мог быть мотив… Но ведь этим убийством он губил себя, потому что, раз он охранял и при нем совершилось убийство, шансы на то, чтобы занять пост министра внутренних дел, падали, — он самую почву у себя из-под ног выбивал этим, и выбил».[333]
Таково самое веское соображение в пользу того, что Курлов и его сподвижники не были намеренными соучастниками убийства. Однако вескость этого аргумента значительно снижается, если допустить, что Курлов действовал не на свой страх и риск, а по указанию или хотя бы намеку из более высоких сфер. (Иван Карамазов ведь не инструктировал Смердякова убить старика Карамазова, а «только» незаметно его к этому подталкивал и поощрял).
Муравьев скептически отнесся к объяснениям Трусевича, напомнив ему, что «Столыпин был неприятен Распутину». Ведь тот, кто был «неприятен» Распутину, тотчас впадал в немилость к царице. (О том, как Столыпин стал «неприятен» царю, подробно рассказано). В этом контексте особенно знаменательно то, что уже через месяц после гибели Столыпина его преемник услышал от ее величества:
«Мне кажется, что вы очень чтите его память и придаете слишком много значения его деятельности и его личности. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало. Я уверена, что каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стушеваться… Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить вам место, и что это — для блага России».[334]
А через некоторое время сам царь, прервав очередной доклад предсовмина, вдруг заговорил о том, что у него на душе лежит тяжелый камень, который он хочет снять. Заметно волнуясь и глядя прямо в глаза Коковцову, он сказал:
«Я знаю, что я вам причиню неприятность, но я хочу, чтобы вы меня поняли, не осудили, а главное не думали, что я легко не соглашаюсь с вами. Я не могу поступить иначе. Я хочу ознаменовать исцеление моего сына каким-нибудь добрым делом и решил прекратить дело по обвинению генерала Курлова, Кулябки, Веригина и Спиридовича. В особенности меня смущает Спиридович. Я вижу его здесь на каждом шагу, он ходит, как тень, около меня, и я не могу видеть этого удрученного горем человека, который, конечно, не хотел сделать ничего дурного и виноват только тем, что не принял всех мер предосторожности. Не сердитесь на меня, мне очень больно, если я огорчаю вас, но я так счастлив, что мой сын спасен, что мне кажется, что все должны радоваться кругом меня, и я должен сделать как можно больше добра».[335]
Напрасно Коковцов стал объяснять, сколько зла принесет такое решение самому царю, престижу его власти. Напрасно растолковывал, что его «великодушия» никто не оценит, тем более, что за ним всегда остается право помилования — после суда! Милуя тех, кто еще не осужден, государь «закрывает самую возможность пролить свет на это темное дело, что могло дать только окончательное следствие, назначенное Сенатом, и Бог знает, не раскрыло ли бы оно нечто большее, нежели преступную небрежность, по крайней мере, со стороны генерала Курлова».[336]
«Макиавельно» согласившись с министром, что поступил опрометчиво, царь сказал, что решения переменить не может, потому что уже объявил о нем Спиридовичу. (Как будто в других случаях его это останавливало!) Как видим, государь прекрасно знал, что делал! Досудебное «помилование» четверки преступников обнаруживало только одно: он не желал, чтобы на темное дело был пролит свет — именно потому, что тогда могло бы выявиться нечто большее, нежели преступная небрежность! И потому навсегда останется тайной, кто же кого в этом деле обманывал и использовал: Богров своих полицейских начальников, или эти начальники — Богрова, или их всех — сам государь. Немало темных деяний творилось при последнем русском самодержце, но ни от одного из них не разит так сильно смердяковщиной, как от убийства Столыпина.
Но пора перейти к личности убийцы. Кем он был — «пламенным» революционером или сотрудником Охранки? Споры об этом начались чуть не на следующий день после его роковых выстрелов в Киевском оперном театре. Но постановка вопроса некорректна, ибо Богров не был ни революционером, ни сотрудником Охранки, или, если угодно, был и тем, и другим. Он был провокатором!
Д. Богров. Снимок сделан во дворе тюрьмы
В 1905 году восемнадцатилетний юноша, внук известного русско-еврейского писателя и сын состоятельного адвоката и домовладельца с солидными связями в высшем киевском обществе, поступил в Киевский университет и сразу же попал в среду революционно настроенной молодежи. Из боязни, что опасные увлечения доведут до беды, отец вскоре услал его заграницу, в Мюнхенский университет, где уже учился старший брат Дмитрия Владимир. Но Дмитрий почти не посещал университетских занятий; он просиживал все дни в библиотеке, накачиваясь революционной дурью. По свидетельству брата, его кумирами стали теоретики анархизма: Кропоткин, Реклю, Бакунин. Вернувшись в 1906 году в Киев, Богров вошел в кружок киевских анархистов-коммунистов, но вскоре «разочаровался» в них и предложил свои услуги Охранке. Полковник Еремин, сделавший карьеру на провокаторе Рыссе, занимал уже высокий пост в Петербурге, а на его место был назначен Н. Н. Кулябко. Он положил Богрову 150 рублей в месяц и присвоил агентурное имя Аленский.
Но Богров не был Азефом, он был маленьким азефиком. Да и Кулябко был не чета таким мастерам провокации, как Рачковский или Герасимов. Он вроде бы действовал «по правилам»: проведя операцию против выдаваемых Богровым лиц, полиция устроила обыск и у самого доносчика. А в другой раз даже подвергла его аресту на пару недель. Но делалось это неумело, так что у друзей Богрова возникли подозрения на его счет. Он, конечно, все отрицал, и так как твердых улик против него не было, а сам он на какое-то время затихал или уезжал заграницу, то подозрения сглаживались, забывались. Но и эффективность его работы на Охранку снижалась. И Богрову приходилось снова увеличивать свою революционно-доносительскую активность: жалование надо было отрабатывать.
Высокий, худой, толстогубый, с выпуклым лбом и лошадиными зубами, Богров всегда был изысканно одет. Его часто видели в дорогих клубах и ресторанах, он кутил в обществе женщин легкого поведения, азартно играл в карты. (Его брат впоследствии это отрицал, но факты не на его стороне). Отец давал Дмитрию средства на безбедное существование, но денег ему не хватало; приварок от Охранного отделения никогда не был лишним. Залезал он и в революционную кассу, из-за чего (об этом ниже) имел серьезные неприятности.
Нравилась ли Богрову двойная жизнь? Видимо, и да, и нет.
В революционных идеях он разочаровался, едва с ними познакомившись, власть презирал всей душой. Он мнил себя исключительной личностью, но подкрепить свое высокое представление о себе ему было нечем. Привязанностей у него не было. Семью он использовал как дойную корову, оставаясь равнодушным к отцу, матери, брату. Кажется, ни разу не был влюблен. Близких друзей не имел. Да и как заиметь друга тому, кто никому не может открыться, поведать о том, что лежит на душе! Порой он упивался состоянием оглушительного одиночества: именно оно создавало иллюзию исключительности; но чаще оно лишь усиливало черную тоску. Никакой цели впереди он не видел, будущее рисовалось ему как «бесконечная череда котлет», которые ему предстояло съесть.
Что же толкнуло его на сомнительный подвиг? Утрата интереса к жизни? Стремление прославиться любой ценой? Или трехтысячелетняя еврейская ненависть к России, которую усмотрел в нем Солженицын? Власти постарались скрыть внутренние пружины преступления Богрова, но кое-что о его мотивах узнать можно.
В 1910 году Богров, к тому времени уже закончивший юридический факультет, получил незначительное казенное место в Петербурге, куда и перебрался. А вперед полетела шифрованная телеграмма полковника Кулябко его столичному коллеге полковнику фон-Коттену.
Фон-Коттен, сменивший убитого Карпова, казалось бы, должен был быть осторожен. Но рекомендация Кулябко, видимо, в его глазах имела вес. Он без колебаний согласился на конспиративную встречу с Богровым и предложил ему те же 150 рублей в месяц (не Азеф, получавший у Герасимова тысячу!), а тот обещал поднести ему на блюдечке петербургскую организацию анархистов-коммунистов. Но обоих ждало разочарование: никаких анархистов в столице не оказалось!
Они решили попытать счастья у эсеров, и вскоре Богров вышел на след некоего Егора Лазарева.
Тот согласился встретиться, но вопросов не задавал, сам отвечал односложно. Едва начавшийся разговор увядал; Богров чувствовал, что первая встреча может стать и последней. Тогда-то он и заговорил о Столыпине. Скорее всего, это была импровизация — попытка просунуть ногу в дверь, пока та окончательно не захлопнулась. Однако неожиданное заявление Богрова о том, что он задумал убить главу правительства, лишь усилило настороженность Лазарева. Заметив это, Богров поспешил добавить, что никакой помощи от партии эсеров не ждет: свой замысел он исполнит в одиночку. Что же тогда ему надо? Только одно: пусть потом, когда дело свершится, партия заявит о своей причастности — это придаст акту больший политический вес. Но и на эту удочку Лазарев не клюнул. Он только сказал, что если намерение Богрова серьезно, то ему следует меньше об этом болтать.
Словом, ничего полезного ни для революционного дела, ни для охранки провокатор не извлек. А затем уехал заграницу и в Питер уже не вернулся. В марте 1911 года (он снова в Киеве) к нему явился Петр Лятковский, один из прежних товарищей-анархистов, только что освободившийся из тюрьмы, где между политическими заключенными много было толков о вероятном предательстве Богрова.
Позднее Лятковский расскажет, что Богров первый заговорил с ним о том, что товарищи подозревают его в связях с Охранкой; что он опозорен, успел поседеть от переживаний и не знает, как доказать свою невиновность. Лятковский посоветовал ему «реабилитировать себя». На это Богров мрачно усмехнулся и сказал, что может пойти и убить первого попавшегося городового, но какая от этого будет польза? И вдруг патетически воскликнул:
«Только убив Николая, я буду считать, что реабилитировал себя!»
«Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая?» — возразил Лятковский.
«Нет, — воскликнул Богров, — Николай — ерунда. Николай — игрушка в руках Столыпина. Ведь я — еврей — убийством Николая вызову небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина. Благодаря его политике задушена революция и наступила реакция».
Лятковский опять возразил: Столыпина охраняют почти так же плотно, как и царя; чтобы достать его, нужна долгая подготовка, работа целой организации. Богров ответил, что в групповой акции участвовать не может: если произойдет случайный провал, то в этом опять обвинят его. Прощаясь, он несколько раз повторил: «Вы и товарищи еще обо мне услышите». Лятковский пишет, что не придал серьезного значения этой похвальбе, но и уверенности в том, что перед ним провокатор, — не вынес.[337]
Через два месяца к Богрову снова явились гости: два давних знакомых из парижской анархистской группы «Буревестник». Эти парни оказались покруче. Одного из них Богров знал по кличке «Вася», второй никак не назвался. От имени ревизионной комиссии «Буревестника» они потребовали вернуть деньги, растраченные им еще в 1908 году, — 520 рублей. Богров отчаянно торговался и скостил сумму вдвое. Сроку ему дали два дня, но когда пришли снова, то сказали, что «на прежнее решение не согласны и что требуют все деньги сполна». Неясно, чем они ему угрожали, но, видимо, чем-то серьезным. Ему пришлось подчиниться. 150 рублей он выпросил у матери, 210 — у отца; остальные 160 наскреб сам.[338]
Выпроводив крутых «буревестников», Богров полагал счеты с прежними товарищами поконченными. Но не тут то было. В июле он получил заказное письмо из Парижа, подписанное четырьмя «буревестниками». В крайне враждебном тоне от него требовали ответа по поводу ряда провалов за несколько лет. А в августе к нему явился еще один старый знакомый, «Степа». Подлинное его имя Богров не знал (или утаил на допросе), зато сообщил о нем некоторые подробности. «Степа» был отпетый террорист. Однажды, идя выполнять какой-то подготовлявшийся террористический акт, он увидел, как на улице офицер распекает солдата, не отдавшего ему чести. Душа «Степы» взыграла, и он тут же разрядил в офицера свой браунинг. С каторги ему удалось бежать, и он без копейки денег появился в Киеве. Тогда-то (в 1908 году) и познакомился с ним Богров, но в Охранное отделение на него не донес, а дал ему восемь рублей и адрес конспиративной квартиры в Черкассах. Оттуда «Степе» удалось выехать заграницу. Теперь он явился в ином качестве. Он сообщил, что в Париже над Богровым состоялся партийный суд, его провокаторская роль была полностью установлена. Листовка с изложением данных о его предательстве в ближайшее время будет распространена всюду, где он бывает, — в коллегии присяжных поверенных, в суде, в университете. От него отшатнутся, как от прокаженного. А следом за тем он будет убит, ибо ему вынесен смертный приговор. Но ему оставлен шанс — «реабилитировать» себя террористическим актом.
Желательной жертвой «Степа» назвал начальника Киевского охранного отделения Кулябко, но добавил, что, поскольку в конце августа в Киев съедутся двор и правительство, то появится «богатый выбор». Окончательный срок для «реабилитации» — 5 сентября.[339]
Можно ли верить этим показаниям Богрова? Думаю, не в меньшей степени, чем всем остальным его показаниям. Даже в гораздо большей степени. И вот почему.
Судя по сохранившимся документам, арестованного Богрова допрашивали четыре раза, но только три из этих допросов были сняты с него до суда: 1, 2 и 4 сентября. Столыпин умер 5-го, так что Богров первоначально обвинялся не в убийстве, а «в нанесении опасных поранений с целью лишения жизни». Это давало маленький шанс на спасение.
Первый и третий допросы вел сотрудник Охранного отделения жандармский подполковник Иванов; второй — работник прокуратуры, следователь по особо важным делам Фененко.[340]
После третьего допроса — самого короткого и ничего к первым двум не добавившего — скорострельное следствие было закончено. 9 сентября состоялся военный суд. Он длился три часа. Судили уже за убийство. Смертный приговор был обеспечен, терять подсудимому было нечего.
Что именно говорил Богров на суде, навсегда останется тайной: стенограмма либо не велась, либо была уничтожена. Но на суде вскрылись какие-то неожиданные обстоятельства, что и заставило подполковника Иванова 10 сентября еще раз допросить Богрова, — уже приговоренного к повешению и отказавшегося ходатайствовать о помиловании.
Богров умел лгать, поэтому его показания не могут не вызывать недоверия. Но даже протоколы трех досудебных допросов не обнаруживают ни малейшей попытки с его стороны смягчить свою вину и облегчить свою участь. Если он был не вполне искренен, то, только в той мере, в какой изображал из себя идейного революционера. Но, похоже, что на суде и на допросе после суда, когда все было решено окончательно и бесповоротно, у него уже не было сил доиграть эту роль. Тогда и выплыл визит Лятковского, затем — «Вася» с безымянным товарищем и, наконец, «Степа» со смертным приговором и предложением «реабилитироваться».
В романе А. И. Солженицына ничего этого нет и в помине, зато романный Д. Богров говорит Е. Лазареву:
«Я запланировал убийство Столыпина со всей тщательностью, и я готов исполнить мой план, чего бы это ни стоило. Он слишком хорош для этой страны — если позволите так выразиться. Я решил убрать его с политической сцены по своим собственным идеологическим соображениям».[341] И дальше: «Именно потому, что я еврей, для меня невыносимо сознавать, что мы продолжаем жить — позвольте вам это напомнить — под тяжелой рукой черносотенных лидеров. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. Вспомните, что произошло с Герценштейном. И Иоллосом.[342] А тысячи евреев, жестоко забитых до смерти? Главный виновник всегда остается безнаказанным. Так вот, я его накажу».[343] И еще через несколько страниц, уже «змеясь» по театральному проходу к своей цели, вынимая из кармана браунинг, Богров «слышит тихий, уверенный зов трех тысяч лет» [еврейской истории].[344]
Так романный Богров объясняет мотивы задуманного им убийства Столыпина.
Ну, а исторический Богров?
На первом допросе он показал:
«Покушение на жизнь Столыпина произведено мною потому, что я считаю его главным виновником наступившей в России реакции, т. е. отступления от установившегося в 1905 году порядка: роспуск Государственной Думы, изменение избирательного закона, притеснение печати, инородцев, игнорирование мнений Государственной Думы и вообще целый ряд мер, подрывающих интересы народа».[345]
И на втором допросе:
«Я решил убить министра Столыпина, так как я считал его главным виновником реакции и находил, что его деятельность для блага народа очень вредна».[346] (Примерно так же, как мы помним, он объяснял свое намерение в разговоре с П. Лятковским). Высказывал ли он при этом свои сокровенные убеждения или только озвучивал стереотипные мнения революционной среды, этого мы не знаем. На последнем допросе (на мой взгляд, наиболее правдивом) он объяснял проще: «Тогда же ночью я укрепился в мысли произвести террористический акт в театре. Буду ли я стрелять в Столыпина или в кого-либо другого, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал [т. е. видел и мог узнать в лицо], отчасти же потому, что на нем было сосредоточено общее внимание публики».[347]
Как видим, исторический Богров, в отличие от романного, объяснял свои мотивы не тем, что Столыпин слишком хорош для России и уж конечно не тем, что он должен быть отомщен за преследования евреев. Исторический Богров в одном случае называл Столыпина реакционером, подрывающим права и интересы народа, то есть считал его слишком плохим для России. А в другом случае просто тем, что кого-то он должен был убить, а Столыпина выбрал как наиболее заметную и им самим легко узнаваемую фигуру.
Любопытно также сопоставить романную и историческую версии решения Богрова отдать «предпочтение» Столыпину перед царем.
Романный Богров поясняет Лазареву:
«Я это хорошо обдумал. Если убить Николая, будет погром. Но погрома не будет из-за Столыпина. И, в любом случае, Николай только пешка в руках Столыпина. Более того, убийство царя ничего не даст. При его наследнике Столыпин будет продолжать свою нынешнюю политику с еще большей уверенностью».[348]
В другом месте романа Солженицын достраивает ход мысли Богрова еще подробнее: «Этот царь — всего лишь название, не больше. Недостойная цель. Объект публичного осмеяния, полное ничтожество, которого заслуживает эта презренная страна. Зачем его убивать? Никакой наследник не сможет ослабить страну больше, чем этот царь. Уже десять лет здесь убивают министров и генералов, но царя никто не трогал. Люди знали, что делали. С другой стороны, если он будет убит или ранен, то поднимется такая волна мести, что опрокинет цель Богрова. Если бы царя убил кто-то другой, было бы неплохо. Но если это будет сделано в Киеве, и сделает это он, это вызовет страшный погром. Поднимется вся возмущенная чернь. Киевское еврейство — это его плоть и кровь. Погром — это то главное, чего Богров не хотел допустить на Земле. Киев не должен стать местом массового выступления против евреев — ни в этом и ни каком-либо другом сентябре. Он слышал тихий, но уверенный зов трех тысячелетий».[349]
Ну, а исторический Богров? Примерно то же самое, что он говорил о царе Петру Лятковскому, он повторил и на втором допросе, но когда дошло до подписания протокола, потребовал это место исключить. В результате к подписанному Богровым протоколу был приложен еще один документ, подписанный прокурорами Чаплинским и Брандорфом и следователем Фененко. В нем излагалась неподписанная часть показаний Богрова, где он, «между прочим упомянул, что у него возникла мысль совершить покушение на жизнь государя, но была оставлена из боязни вызвать еврейский погром. Он, как еврей, не считал себя вправе совершить такое деяние, которое вообще могло бы навлечь на евреев подобное последствие и вызвать стеснения их прав».[350]
В том, что исторический Богров это действительно сказал, вряд ли можно сомневаться, но почему же он настоял на исключении данного места из своих показаний? Это тут же и объясняется. Он хотел, чтобы его дела поощрили революционно настроенных юношей, в том числе и евреев, на новые террористические акты, и не хотел, чтобы его слова их удерживали. Мысль о том, что участие евреев в терроре может вызвать антисемитские акции, мелькала у него в голове, но его не остановила. И он не хотел наводить на нее других.
Главное, что побудило его стрелять в Столыпина, а не в царя, заключалось в значительности первого и ничтожестве второго. Того, что убийство премьера не отзовется погромом, он предвидеть не мог.
Черносотенная молодежная организация «Двуглавый орел» во главе со студентом В. Голубевым (которого Солженицын назвал Галкиным) уже полгода вела погромную агитацию в связи с убийством Андрюши Ющинского, атмосфера в городе была накаленной; лучшего подарка, чем выстрел Богрова, Голубев и его «орлята» не могли получить! «В населении Киева, узнавшем, что преступник Богров — еврей, [возникло] сильнейшее брожение и готовился грандиозный еврейский погром», — свидетельствовал В. Н. Коковцов. Еврейскую часть населения охватила паника. «Всю ночь они укладывались и выносили пожитки из домов, а с раннего утра, когда было еще темно, потянулись возы на вокзал. С первыми отходящими поездами выехали все, кто только мог втиснуться в вагоны, а площадь перед вокзалом осталась загруженной толпой людей, расположившихся бивуаком и ждавших подачи новых поездов».[351]
Государь, как ни чем не бывало, уехал на маневры, и туда же отправились войска. (Намеченная программа торжеств должна была выполняться и была выполнена!) Силы полиции в городе были незначительны. О том, чтобы своей властью вернуть часть удалившегося гарнизона, генерал-губернатор Ф. Ф. Трепов не мог и помыслить, как и о том, чтобы ночным звонком доложить обстановку государю и испросить указаний. Коковцов, по закону вступивший в исполнение обязанностей премьера, на свою ответственность, приказал вернуть в город три казачьих полка. Они явились к семи часам утра, заняли ключевые позиции и бесчинств не допустили. За эти «непатриотичные» действия Коковцову тотчас и досталось от не названного им по имени «избранного представителя вновь учрежденного земства, члена Государственной Думы третьего созыва, впоследствии члена Государственного Совета по выборам», то есть отнюдь не от рядового обывателя, который подошел к нему в Михайловском соборе, куда оба явились на молебствие об исцелении раненого.
«Вот, Ваше высокопревосходительство, — с явным расчетом на скандал заявил этот господин, — представлявшийся прекрасный случай ответить на выстрел Богрова хорошеньким еврейским погромом теперь пропал, потому что вы изволили вызвать войска для защиты евреев».[352]
Коковцов пишет, что отбрил наглеца, «выразив удивление, что в храме Христа, пострадавшего за грехи человека и завещавшего нам любить ближнего, вы не нашли ничего лучшего, как выражать сожаление о том, что не пролита кровь неповинных людей».[353] Дерзкая выходка высокопоставленного черносотенца настолько обеспокоила Коковцова, что после молебствия он разослал шифрованные телеграммы всем губернаторам черты оседлости с требованием не допускать погромов всеми законными способами, «до употребления в дело оружия включительно». Поэтому бесчинств не было и в других городах.
Мог ли исторический Богров, стреляя в Столыпина, все это предвидеть? Разумеется, нет. Он переиграл самого себя в своих революционно-доносительских играх, был обречен на гибель и, как азартный игрок, решил — погибать, так с музыкой! Равнодушный ко всем, кроме самого себя, он мало беспокоился о том, как его выстрелы отзовутся на судьбе евреев и не евреев.
П. А. Столыпин
Если какой-то неумный рецензент ставил в вину Солженицыну нескрытие того, что Богров был евреем, то вряд ли он мог это делать от имени «американского еврейства», столь редко в чем-либо согласного. Для критики были куда более серьезные основания. В 1989 году, после выхода обновленной версии «Августа 1914» в английском переводе, в моей рецензии, опубликованной в газете «Вашингтон Таймс», говорилось:
«Для Солженицына главное в Богрове — его еврейское происхождение. Автор заставляет его играть роль не русского революционера (или охранника), а представителя еврейского народа и потому — врага России… „Живое, родственно ощущаемое еврейство Киева“ служит главным источником его побуждений и действий. По мнению солженицынского Богрова, Столыпина надо убить, потому что он „слишком хорош для этой страны“ (не слишком плох!). На убийство его толкает „трехтысячелетний тонкий уверенный зов“, то есть наследие всей еврейской истории. Иначе говоря, Солженицын настаивает на том, что террорист Богров не делал различия между Россией и российским деспотизмом: стреляя в Столыпина, он стрелял в саму Россию. Такого различия не делает и сам писатель. Согласно Солженицыну, два выстрела террориста решили „судьбу правительства. Судьбу страны. И судьбу моего народа“».[354]
Как видит читатель, это критика не за нескрытие какой-либо правды, а, напротив, за ее искажение. Справедлива ли она — о том пусть судит читатель.
Прежде чем завершить эту тему, я должен сказать, что в новой книге Солженицын пошел еще дальше по пути мифологизации своих героев. Здесь уже находим утверждение: «Богров убил Столыпина, предохраняя киевских евреев от притеснений». (Стр. 444). Вот, оказывается, в чем был его побуждающий мотив, пафос всей акции! Уже не в отмщении за гонения, не в стремлении погубить Россию, а в том, чтобы защитить киевских (почему только киевских?) евреев! Каким образом — хотя бы гипотетически — этого можно было достигнуть, убив лучшего из русских, Солженицын не поясняет, зато не жалеет места на то, чтобы показать: лучший-то, лучше всего относился именно к евреям! (И как только не заметил этого Богров и вместе с ним все его современники?)
В трактовке Солженицына, Столыпин во всю старался положить конец всем антиеврейским законам и ограничениям! Да и царь не возражал против отмены — только немного умерил пыл премьера. А воспрепятствовали ему в осуществлении этих благородных намерений сами евреи и их ставленники во Второй Государственной Думе, каковыми он изображает кадетов. Вопреки стремлениям Столыпина, «закон о еврейском равноправии не довели [в Думе] даже до обсуждения, не говоря о принятии», сообщает Солженицын, усматривая в этом политический расчет: «в борьбе с самодержавием играть и играть дальше на накале еврейского вопроса, сохранять его неразрешенным — в запас. Мотив этих рыцарей свободы был: как бы отмена еврейских ограничений не снизила бы их штурмующего напора на власть. А штурм-то и был для них всего важней» (стр. 423).
Что здесь от истории и что от мифологии?
Как свидетельствует В. Н. Коковцов, в начале октября 1906 года[355] Столыпин, завершив официальную часть заседания Совета министров и удалив канцелярских работников, предложил обсудить «один конфиденциальный вопрос, который давно озабочивает его». Выражаясь корявым, но, тем не менее, достаточно точным языком В. Н. Коковцова, речь шла «об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев, которые особенно раздражают еврейское население России и, не внося никакой реальной пользы для русского населения, потому что они постоянно обходятся со стороны евреев, — только питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра — Америки».[356]
После взрыва дачи Столыпина на Аптекарском переулке, организованного группой максималистов, находившихся под опёкой охранки с одобрения самого Столыпина.
Все министры поддержали идею, а когда каждый из них представил список предлагаемых к отмене ограничений, касающихся его ведомства, Столыпин свел их в единый документ — для утверждения царским указом по 87-й статье.[357] Однако, продержав законопроект около двух месяцев (до 10 декабря), государь вернул его неутвержденным, объяснив в сопроводительном письме:
«Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, вы тоже верите, что „сердце царево в руцех Божиих“. Да будет так».[358]
Кажется, это был первый случай, когда Столыпин получил щелчок по носу от своего государя. Он тут же бросился извиняться в самых лакейских выражениях: «Вашему величеству известно, что все мои мысли и стремления направлены к тому, чтобы не создавать вам затруднений и оберегать вас, государь, от каких бы то ни было неприятностей».[359]
При этом свое намерение смягчить антиеврейское законодательство, да еще по 87-й статье, то есть в порядке чрезвычайной срочности, Столыпин объяснил более кратко и внятно, чем впоследствии Коковцов:
«Еврейский вопрос поднят был мною потому, что, исходя из начал гражданского равноправия, дарованного манифестом 17 октября, евреи имеют законные основания домогаться (! — С.Р.) полного равноправия; дарование ныне частичных льгот дало бы возможность Государственной думе отложить разрешение этого вопроса в полном объеме на долгий срок».[360] (Курсив мой. — С.Р.)
Все ясно, не правда ли?
Прошло уже больше года после провозглашения Манифестом 17 октября равноправия всех граждан России независимо от сословных, национальных, религиозных и иных различий. Пора платить по векселям, но платить-то не хочется! Между тем, надвигается открытие Второй Думы, она-то непременно предъявит векселя ко взысканию. И вот, как с аграрной реформой и другими законами, срочно вводимыми по 87-й статье, Столыпин спешит сыграть на опережение. Бросить кость с царского стола, отменить наиболее бессмысленные ограничения, которые сама жизнь смела, и этим снять остроту вопроса! Тем самым предоставление евреям конституционных прав «в полном объеме» отложится на долгие годы. Да в каком положении окажется Дума (еще не созванная, но уже ненавистная), когда чрезвычайный закон будет вынесен на ее утверждение! Отклонить — значит, выступить против отмены ограничений. Утвердить — значит, законодательно закрепить остающиеся ограничения!
Таковы были «макиавелистые» намерения Столыпина, но в книге Солженицына он представлен как «первый русский премьер, честно [!] поставивший и вопреки государю выполнявший задачу еврейского равноправия». (Стр. 440).
Ну, а Дума, столь про-еврейски (по Солженицыну) настроенная?
Почему, в самом деле, она не поспешила с законом о еврейском равноправии? Неужели потому, что хотела сохранить его про запас? При ближайшем рассмотрении все оказывается много проще. Ибо для народных представителей еврейское равноправие вовсе не было высшей ценностью. Оно было неотделимо от общей проблемы равенства всех граждан перед законом. Солженицыну это известно, ибо он указывает тремя страницами раньше: Дума «поставила вопрос о еврейском равноправии в рамках общего уравнения всех граждан в правах — то есть следуя логике царского Манифеста» (Стр. 420). Основные положения этого закона она утвердила, но до окончательного принятия требовалось проработать детали, а для этого нужно было время. Но увы, «Дума еще проговорила один нетерпеливый месяц… пока не была распущена. И закон о гражданском равенстве, в том числе и еврейском, повис». (Стр. 420).
Кем, как и почему Дума была распущена, мы уже знаем. Остается спросить: кто же «играл дальше на накале еврейского вопроса, на сохранении его неразрешенным — в запас»? Столь неуважаемые Солженицыным рыцари свободы, или мифологизируемый им премьер, давивший стремление к свободе и равноправию всеми доступными ему способами — от азефовщины и виселиц до мелких подачек?
Настаивая на том, что Столыпин проводил «среднюю линию», Солженицын подчеркивает, что он подвергался нападкам не только слева, но и справа. Верно, покусывали его и князь Мещерский в «Гражданине», и Меньшиков в «Новом времени», и самые непотребные черносотенные издания типа «Земщины» Маркова Второго. Но это были отдельные редкие эпизоды. Они участились и действительно стали жалить только в последние месяцы его премьерства, когда определилось с очевидностью его скорое падение. Не те нравы царили в среде «патриотов», чтобы поддержать падающего; напротив, подсечь, подтолкнуть и — добить! Если же отбросить последние полгода, то об истинном характере отношений Столыпина с правыми организациями и их прессой лучше всего говорили финансовые ведомости. «Честный бухгалтер» Коковцов, стоя на страже казны и борясь с бессмысленными, по его разумению, тратами (кабы со смыслом, то и он бы не возражал!), свидетельствует:
«Кадеты совсем не фигурируют в списках, что и понятно по их враждебности к Столыпину. Октябристы также упоминаются весьма редко и то больше в качестве передаточной инстанции ничтожных сумм, по преимуществу благотворительного характера. Зато имена представителей организаций правого крыла фигурировали в ведомости, так сказать, властно и нераздельно. Тут и Марков 2-й, с его „Курской былью“ и „Земщиной“, поглощавший 200 000 р. в год; пресловутый доктор Дубровин, с „Русским знаменем“, тут и Пуришкевич с самыми разнообразными предприятиями, до „Академического союза студентов“ включительно; тут и представители Собрания националистов, Замысловский, Савенко, некоторые епископы с их просветительными союзами, тут и листок Почаевской лавры. Наконец, к великому моему удивлению в числе их оказались и видные представители самой партии националистов в Государственной думе».[361]
Причем, если Коковцов, как министр финансов, а затем и премьер, пытался ограничить (не отменить — нет, а только ограничить!) выдачу «темных денег» (как их окрестили в Государственной думе), то Столыпин, напротив, всячески поощрял эти выдачи. Причем, распоряжался ими бесконтрольно и безотчетно, дабы рука берущая никогда не забывала о том, кому персонально принадлежала рука дающая. Так премьеру легче было держать расхристанную черносотенную братию в некоторой узде. Вот еще одно свидетельство Коковцова:
«Еще в 1910-м году на почве подготовки выборов в Государственную Думу, упадавших на лето 1912 года, между мною и Столыпиным произошли серьезные недоразумения. Столыпин, ссылаясь на то, что ни в одном государстве правительство не остается безразлично к выборам в законодательные учреждения,[362] и что, несмотря на наш избирательный закон 3-го июля 1907-го года, такое безучастное отношение приведет неизбежно к усилению оппозиционных элементов в Думе и даст преобладание кадетской партии, потребовал от меня — и получил, несмотря на все мое сопротивление, крупные суммы на так называемую подготовку выборов. Ему хотелось разом получить от меня в свое распоряжение до 4-х миллионов рублей, и все, что мне удалось сделать, — это рассрочить эту сумму, сокративши ее просто огульно, в порядке обычного торга, до 3-х с небольшим миллионов рублей и растянуть эту цифру на три года 1910–1912, разбив ее по разным источникам, находившимся в моем ведении».[363]
Столыпинская реформа в действии. Художник Б. Н. Покровский запечатлел бунт крестьян при землеустроительных работах по принципам аграрной реформы Столыпина.
Вряд ли после этого можно говорить о сколько-нибудь серьезном противостоянии черной сотни Столыпину. Да и откуда могла бы проистекать такая враждебность, если Столыпин пять лет возглавлял царское правительство, служил своему государю верой и правдой, а государь не только не скрывал, но афишировал свои симпатии, да и прямую принадлежность к черной сотне.
После того, как Д. Б. Нейгардт, уличенный сенатором Кузьминским как соучастник Одесских погромов 1905 года, был заменен генералом А. Г. Григорьевым, тот посчитал своей обязанностью положить предел разгулу в городе черносотенной анархии. В Одессе местное отделение Союза русского народа имело свои «чайные», где проводились «патриотические» митинги и всякие сборища, оттуда распространялись погромные листовки, и там же были склады оружия. Глава отделения граф Коновницын имел свою дружину: вооруженные отряды молодчиков в полувоенной форме браво маршировали по улицам города, наводя ужас на всех обывателей. Дружинники куражились над прохожими, избивали ни в чем не повинных людей на глазах державшейся в стороне полиции. Почти каждый день происходили убийства. Нередко жертвами бесчинств оказывались сотрудники иностранных консульств, что приводило и к международным осложнениям. Словом, то были предтечи будущих штурмовиков СД и СС (как и нынешних баркашовцев, «памятников», бритоголовых).
В ответ на попытки Григорьева как-то обуздать дружинников граф Коновницын поехал в Петербург, получил аудиенцию у государя, и тот заверил его, что Союз русского народа — это единственная его надежда и опора, о чем, возвратившись, воодушевленный граф раструбил на всю Одессу. Особенно охотно он рассказывал о том, как маленький наследник престола, присутствовавший на встрече, взобрался к нему на колени, теребил его бороду и, увидев на его груди ленту Союза русского народа — такую же как у него самого, спросил: «Ты союзник?»; а, получив утвердительный ответ, сказал: «Я тоже союзник!»[364]
Градоначальник Григорьев сам поехал в столицу, чтобы рассказать государю правду о Коновницыне и его братве. Но — «когда государь явился, то генерал к своему ужасу увидел на его груди значок Союза русского народа, тот самый значок, который он так часто видел в Одессе на груди у участников погромов».[365] Заготовленная Григорьевым речь застряла у него в горле.
Вскоре Одесса получила «правильного» градоначальника, И. Н. Толмачева, который тотчас вступил в сговор с черной сотней. Условились даже о том, что черносотенные газеты будут его время от времени «продергивать»: так Толмачеву было удобнее сохранять видимость беспристрастного стража законности и порядка.
Не такую ли роль в общероссийском масштабе играли «продергивания» премьера Столыпина в праворадикальных газетах — даже если между ними и не было прямого сговора? Возможно, не всегда их нападки нравились премьеру, но по большей части они были ему на руку, служа противовесом критике слева.
Для понимания цены праворадикальных нападок, перепадавших Столыпину, надо помнить, что сам черносотенный лагерь не представлял собой монолитного целого. Как на левом фланге большевики боролись с меньшевиками, те и другие с анархистами и все вместе с эсерами, так и на правом фланге шла грызня между отдельными группами и их лидерами. Сперва Пуришкевич со своей группой «Архангела Михаила» откололся от дубровинского «Союза русского народа», потом Марков Второй вышвырнул группу Дубровина. Все дружно обвиняли друг друга в подрыве монархического начала, «потворстве жидам», антипатриотизме… Понятно, что поддерживая какие-то из этих групп, правительство получало на орехи от других, считавших себя обойденными. И, конечно, представители власти использовали эти столкновения для сведения своих счетов.
А. В. Герасимов, который вместе с Рачковским энергично насаждал в столице первые организации Союза русского народа, позднее в них «разочаровался». Причиной или поводом послужило то, что новый градоначальник Петербурга фон-Лауниц, прославившийся карательными экспедициями против крестьян Тамбовской губернии, взял столичных «союзников» под свое крыло. Он активно поощрял и финансировал их из городского бюджета, а они сформировали отряд для его личной охраны. Герасимов формально подчинялся фон-Лауницу, но, имея поддержку Столыпина и прямой выход на него, не посвящал градоначальника в свои тайные игры «на лезвии с террором» и всячески пресекал все его попытки вмешаться в дела Охраны. Они невзлюбили, а затем и возненавидели друг друга.
В. Ф. Фон-Лауниц
3 января 1907 года Фон-Лауниц был убит террористом во время многолюдных торжеств по случаю освящения Медицинского института, основанного принцем Ольденбургским. Там же планировалось убийство Столыпина. Получив об этом сведения накануне, Герасимов лично отправился сначала к Столыпину, а затем к Лауницу — предупредить об опасности и убедить их не появляться на торжествах. Столыпина он убедил, а Лауница — нет. На предостережение тот высокомерно ответил: «Меня защитят русские люди!» (Имелись в виду его черносотенные телохранители). Судя по тону, каким пишет об этом Герасимов, он нисколько не сожалел о гибели Лауница. Невольно возникает подозрение, что он не без умысла разозлил градоначальника, подставив его под пулю террориста. Если Азеф использовал охранку для устранения своих противников в партии эсеров, то почему его шеф не мог использовать террористов для устранения своих противников?
Так что, хотя между Столыпиным (и его людьми) и черносотенными организациями порой возникали трения, в основе их лежали карьерные или амбициозные мотивы, а отнюдь не принципиальные расхождения.
Солженицын, пытаясь доказать противоположное, опирается на селективно подобранные материалы, что вообще характерно для его труда. Как мы помним, его указание на то, что поэт Владимир Ходасевич был внучатным племянником Якова Брафмана, привело в восторг иных критиков, потрясенных его эрудицией. Но вот о том, что высокопоставленный одесский погромщик Д. Б. Нейгардт состоял в близком родстве с П. А. Столыпиным, что он (так же как его брат) служили верной опорой Столыпина в Сенате, а потом в Государственном Совете, Солженицын не упоминает, хотя Нейгардт был своим человеком и в семье премьера.[366] Об А. А. Столыпине, который после вознесения его брата на Олимп власти, был катапультирован в ведущие публицисты «Нового времени», Солженицын вообще не упоминает. Между тем, А. А. Столыпин — благодаря близости к главе правительства — имел большой вес как выразитель официозной точки зрения. При его особой роли в ведущей газете он должен был в своих статьях сдерживать личные эмоции; зато после смерти брата шлюзы прорвало, и он побил все рекорды печатного выражения злобы и нетерпимости. Должен здесь повторить выписку из его статьи, которую я приводил в моей книге «Растление ненавистью»:
«Необходимо понять, что расовые особенности так сильно отграничили еврейский народ от всего человечества, что они из них сделали совершенно особые существа, которые не могут войти в наше понятие о человеческой натуре. Мы можем их рассматривать так, как мы рассматриваем и исследуем зверей, мы можем чувствовать к ним отвращение, неприязнь, как мы чувствуем к гиене, к шакалу или пауку, но говорить о ненависти к ним означало бы их поднять к нашей ступени… Распространение в народном сознании понятия, что существо еврейской расы не то же самое, что другие люди, а подражание человеку, с которым нельзя иметь никакого отношения… История знает о вымирающих племенах. Наука должна поставить не еврейскую расу, а характер еврейства в такие условия, чтобы оно сгинуло».[367]
Это та самая «наука», которая привела к Бабьему Яру и Освенциму, а в несколько модифицированном виде — к ГУЛАГу, раскулачиванию, Хатыни и прочим большевистским оргиям. Я не вижу существенной разницы в том, какого типа ненависть служит «теоретическим» обоснованием массовых гонений и убийств — расовая, классовая, религиозная или какая-либо иная. Если справедливо евангельское изречение, что сначала было слово, то одним из первых в России его сказал родной брат премьера Столыпина, аккуратно вынутый Солженицыным из истории «русско-еврейских отношений».
Изъяты и другие теоретики расовой ненависти, например, В. Розанов и П. Флоренский, «открывшие» такую расовую особенность евреев, как неутолимая кровожадность.[368] Правда, имя В. Розанова в книге Солженицына присутствует, но в сугубо позитивном контексте. Читаем:
«Сейчас опубликовано, что В. Розанов в декабре 1912 написал: „После [убийства] Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним [евреям: ] посмел ли бы русский убить Ротшильда и вообще „великого из ихних““». (Стр. 442).
Это высказывание приводится вполне сочувственно, без каких-либо оговорок, хотя оно базируется на концепции коллективной вины. Не говорю уже о полной нестыковке (скажем так) этого пассажа с жизненными реалиями. Розанову хорошо были известны громкие убийства «союзниками» «великих из ихних» членов Государственной Думы Герценштейна и Иоллоса (о чем солженицынский Богров напоминал в «Августе 1914»). А тысячи жертв погромов — «малых из ихних»! А множество других кровавых преступлениях черной сотни, оставшихся нераскрытыми по той причине, что столыпинские карательные ведомства не вербовали из ее рядов Азефов, Шорниковых, Петровых, Богровых, да и вообще ими не занимались (хотя ими занимались его финансовые ведомства)!
Отодвигая эти исторические реалии, Солженицын пространно рассуждает о «капризности Истории», о «непредвиденности последствий, которую она подставляет нам, последствий наших действий» (стр. 443). Тут действительно есть над чем задуматься: история (даже если писать это слово с маленькой буквы) полна таких примеров.
Только вот цепочка вытекающих одно из другого гипотетических событий выстраивается у Солженицына как-то не особенно убедительно. По его логике, если бы Столыпин не был убит в 1911 году, то он предотвратил бы мировую войну; а, значит, и ее проигрыш царской Россией; а, значит, и захват власти большевиками, которые оказались столь бездарными, что (уже во Второй мировой войне) «быстро отдали немцам пол-России, в том охвате и Киев», а гитлеровцы «уничтожили киевское еврейство». Все это строение возводится на исходном тезисе: «От убийства Столыпина — жестоко пострадала вся Россия, но не помог Богров и евреям» (а наслал на них гибель). (Стр. 444).
Это, конечно, мифология — наподобие той, что делала товарища Сталина лучшим другом железнодорожников, а Леонида Ильича Брежнева — полководцем, отстоявшим отечество на Малой земле.
Исторический Богров не для того стрелял в Столыпина, чтобы защитить евреев. Откуда могла бы явиться такая цель, если солженицынский Столыпин только и делал, что сам их защищал и улучшал их положение! Если бы не покушение Богрова, то исторический Столыпин мог бы прожить еще много лет на радость своим родным и близким, но от власти он был бы отстранен, что признает и Солженицын. А если бы царь вернул его к власти «в круговращательном безлюдьи 1914-16 годов» (стр. 444) (что вряд ли было возможно при враждебном отношении Распутина), то в том же круговращении и вышвырнул бы его, как вышвыривал Коковцова, Горемыкина, Штюрмера, А. Ф. Трепова, о чем речь впереди.
В безбрежном пространстве мифотворчества можно переписывать историю, исходя из самых разных допущений (что было бы, если бы Столыпин не был убит, Ленин не родился, а Сталин не пошел на сговор с Гитлером в 1939 году), но к пониманию реальной истории такие представления не приближают, скорее наоборот.
Куда содержательнее представить себе иное: если бы Столыпин не делал ставку на провокацию, то не погиб бы от руки провокатора. Если бы не задействовал Шорникова для разгона Думы и государственного переворота, а проводил в жизнь дух и букву Манифеста 17 октября, то, глядишь, число недовольных в стране стало бы таять, революционные партии — терять влияние, и Россия пошла бы по пути «нормального» эволюционного развития. Вот тогда не было бы ни Мировой войны, ни Февраля, ни Октября, ни ГУЛАГа, ни коллективизации, ни Бабьего Яра. Но и такой логический ряд имеет коренной изъян, ибо, проводил бы Столыпин такую политику, так не продержался бы у власти и пяти месяцев, не то что пяти лет! Исторический Столыпин действовал в рамках, определенных царем, а тот упорно рубил сук, на котором сидел. Остановить самоубийственный дрейф государственного корабля на рифы большевизма можно было только одним способом — устранив Николая с капитанского мостика. Он и был устранен, но слишком поздно.
Эпоха Распутина 1911–1916
Анна Александровна Вырубова (в интимном кругу — Аннушка), ближайшая подруга императрицы и главная посредница между ней и «старцем» Распутиным, после Февральского переворота была арестована, помещена в Петропавловскую крепость и многократно допрашивалась Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства по расследованию преступлений царского режима. Аннушка отрицала какую-либо причастность — свою и старца — к политическим решениям. Она утверждала, что с царем и царицей Распутин виделся редко и говорил с ними о Боге, молитвах, врачевании; с ней самой он вел только душеспасительные беседы. В воспоминаниях, написанных потом в эмиграции, она держалась той же линии.[369] Через несколько лет после их публикации в советском альманахе «Минувшие дни» появился «Дневник» Вырубовой, который свидетельствовал как раз об обратном. Но Аннушка заявила в печати, что ничего общего с этим дневником не имеет. Вскоре его подложность подтвердила научная экспертиза. Оказалось, что то была «шалость» писателя А. Н. Толстого и литературоведа и историка П. Е. Щеголева.
А. А. Вырубова. 1910-е годы
К чести мистификаторов надо сказать, что, при всей сомнительности их «литературного» приема, в поддельном «Дневнике» Вырубовой оказалось куда больше исторической правды, чем в ее подлинных мемуарах. Ничего мистического в осведомленности мистификаторов не было. В 1917 году Щеголев был секретарем Чрезвычайной следственной комиссии, которая допрашивала Аннушку, а также десятки других весьма осведомленных лиц. Большевистский переворот пресек работу Комиссии, но она успела накопить обширный материал. Позднее Щеголев обработал и издал стенограммы допросов в семи объемистых томах — бесценный источник для всех, кто интересуется закатными годами императорской России. Авторам «Дневника» было, на что опереться.
Что же касается подлинных материалов о Распутине, то они больше похожи на мистификацию, чем подделка Толстого-Щеголева. Многие очевидцы, подчеркивавшие свою близость к Распутину и оставившие сотни страниц «личных воспоминаний», на поверку едва были с ним знакомы. Те же, кто хорошо знал «старца», либо намеренно замалчивали свои связи с ним, либо многократно их преувеличивали. Так, известный нам генерал П. Г. Курлов был возвращен в высший эшелон власти Распутиным.[370] Но он категорически отрицает, что пользовался протекцией старца.
Товарищ обер-прокурора Святейшего синода князь Н. Д. Жевахов уверяет, что репутацию распутинца заработал незаслуженно, так как всеми силами боролся против «старца». Впрочем, по его мнению, старец вообще никакого значения не имел, так думают о нем «честные люди», «как Бог велит, а не так, как приказывают думать жиды».[371]
Но и материалы, исходящие от тех, кто не скрывал своей близости к Распутину, столь же сомнительны. В глазах некоторых из них Распутин был святым, пророком, прорицателем, воплощенным божеством; для них он объект беспредельной любви и поклонения. Для других он был жуликом, извращенцем, сексуальным маньяком — средоточием низости и порока. Особое место занимают почитатели Распутина, которые затем стали его врагами, такие, как неистовый иеромонах-расстрига Илиодор (Сергей Труфанов), одержимый «одной, но пламенной страстью» — уничтожить, стереть в порошок ненавистного Гришку! Мало кто опубликовал о нем столько разоблачительных документов, но можно ли доверять сведениям, исходящим от такого пристрастного источника!
Словом, самые, казалось бы, достоверные материалы о Распутине — это царство кривых зеркал. Найти в них адекватное отражение старца — дело почти безнадежное. Возможна ли золотая середина между крайними суждениями? Пока ее никто не нашел.
Доктор филологических наук Татьяна Миронова опубликовала доклад, в котором заявлено, что существовало два Распутина: подлинный и фальшивый. Подлинный Распутин был праведником, патриотом, сгустком русской народной мудрости; он беспрестанно молился за Россию, ее самодержца, его семью, спасал от смерти больного наследника, радел об укреплении трона и благе России. А дебоширил по ресторанам, устраивал хлыстовские оргии, изгонял оптом и в розницу «блудного беса» из своих почитательниц, — это все делал двойник Распутина. Двойник манипулировал министрами, губернаторами, церковными владыками. Двойник писал нарочито безграмотные записочки-приказы, обделывая все те грязные дела, которые приписывали Распутину.
«Ни один чиновник, получивший от просителя-мошенника такую записку, не знал ни действительного почерка Распутина, ни его самого… И какая же буря негодования должна была взметнуться в душе высокопоставленного лица, получившего невозможную по наглости просьбу мошенника, с подобным сопроводительным письмом „от Гришки“. И эта буря негодования немедленно распространялась на Государя, чего и добивались еврейские аферисты».[372] Вместе с праведным Игорием жертвами клеветы становились царь, царица, подрывался престиж государства. «Для этого и была изобретена иудейская афера с появлением фальшивой личности — двойника Григория Распутина»,[373] — итожит ученая филологиня.
Г. Распутин
Разобравшись с жизнью старца Игория, она вступает в единоборство с его смертью. До сих пор было известно, что Гришка Распутин был убит во дворце князя Юсупова, причем наиболее активную роль играли сам Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович и член Государственной Думы В. М. Пуришкевич. Опубликованы дневник Пуришкевича и воспоминания Юсупова. Оба в подробностях описали убийство, нисколько не пытаясь умалить своего участия в этом подвиге. Однако Т. Миронова считает, что изданный посмертно дневник Пуришкевича был сочинен кем-то другим, а князь Юсупов писал воспоминания под диктовку тех же таинственных лиц. «Не только жизнь Григория Ефимовича исказили, оклеветали, сфальсифицировали, но и смерть его мученическую оболгали».[374]
Что же было на самом деле? Уж не убили ли в юсуповском дворце двойника Распутина, тогда как праведник был спасен промыслом Божиим? Нет, говорит Т. Миронова, убит был подлинный Распутин, но в другом месте, другими лицами и другим способом. «Умышленно запутали историю страшной смерти, и все это делалось и продолжает делаться только для одного — сокрыть ритуальный характер убийства».[375]
Новаторская идея!
Ведь в традиционной антисемитской мифологии еврейский заговор и ритуальные убийства существовали параллельно, не пересекаясь; а тут убийство Распутина стало точкой пересечения параллельных — вклад в науку, достойный Лобачевского!
Не менее плодотворно и открытие распутинского двойника. Я вообще люблю двойников: с ними жить лучше и веселее. Не зря же они так густо населяют вороньи слободки шуток и анекдотов. Каких только двойников тут не встретишь — и Ленина, и Сталина, и Берии; недавно появился забавный фильм о двойнике Наполеона. А вот анекдот из реальной российской жизни рассматриваемой нами эпохи. Когда был вынесен приговор Дмитрию Богрову, киевские черносотенцы захотели присутствовать при казни — чтобы убедиться в том, что Богрова не подменят его двойником. Просьба была уважена.
Отчего же не уважить доктора филологии?.. Я на ее месте пошел бы дальше: призвал к участию в «иудейских аферах» подставного царя, подставной царицы, подставной Аннушки Вырубовой… Чем больше двойников, тем объяснимей все исторические загадки, парадоксы и несуразности! А уж для полного объяснения всего и вся надобен двойник (двойница) автора открытия. Не могла же доктор филологии выступить с такой распутинщиной! Не иначе, как ее подменили евреи — с коварной целью подорвать престиж патриотической филологии!
У Солженицына евреи делают ставку не на двойника Распутина, а на него самого — единого и неделимого. «Если раньше ходатайством за евреев занимался открыто барон Гинцбург, то вокруг Распутина этим стали прикрыто заниматься облепившие его проходимцы», читаем в книге. (стр. 496) Подтверждение этому Александр Исаевич находит в еврейских источниках, точнее, в мемуарах Арона Симановича, хотя его книжку «Распутин и евреи»[376] считает «хвастливой» и содержащей «разный бытовой вздор и небылые эпизоды» (стр. 496).
Из тьмы небылиц, на которые щедр Симанович, Солженицын выбирает одну: приписанные великому князю Николаю Николаевичу «сотни тысяч казненных и убитых евреев» (стр. 496). Конечно, Симанович перегнул. Сотни тысяч убитых — это было позднее, в период деникинских и петлюровских погромов.[377] А когда Николай Николаевич был главнокомандующим российской армией, сотни тысяч евреев по его приказу всего лишь высылались из районов боевых действий. Их обвиняли в шпионаже и депортировали вглубь страны — как позднее, при Сталине, депортировали крымских татар, калмыков, чеченцев… Только организовано дело при Николае Николаевиче было похуже, и там, где поголовная депортация не удавалась, из евреев брали заложников. Некоторых заложников расстреливали. Но счет убитых мог идти на десятки, сотни — не на сотни же тысяч!
Оспорив напраслину, возведенную на великого князя, Солженицын с доверием относится к другим «небылям» Симановича. Маленькому человечку захотелось зацепиться, оставить следок в истории — таков, видимо, единственный мотив его творчества. Именуя себя личным секретарем Распутина, он рисует свои отношения со старцем так, словно это Распутин был у него в секретарях и даже в лакеях. Он упивается якобы неограниченным влиянием на Распутина и, мешая сильно препарируемую быль с полными небылицами, повествует о том, как денно и нощно через старца выхлопатывал для евреев всякие льготы, поблажки и привилегии. Элементарное чувство меры не останавливало полета его фантазии.
«Протопопов, решив выдвинуть себя на пост министра, вошел сперва в сношения со мной, — без тени смущения сообщает личный секретарь. — Мы скоро с ним подружились и стали на ты [!]. Я его свел с Распутиным, который начал ему доверять… Мы выдвинули ему наши условия: заключение сепаратного мира с Германией и проведение мер к улучшению положения евреев. Он согласился. Я его потом познакомил с выдающимися представителями еврейства, и он им подтвердил свое согласие относительно евреев».[378]
Беда в том, что никакими другими источниками близость Симановича к Протопопову не подтверждается. Автор озвучивает слухи о тайных переговорах с Германией о сепаратном мире, распускавшиеся в то время, но не подтвержденные расследованием Временного правительства. Об обещаниях Протопопова по еврейскому вопросу личный секретарь Распутина просто выдумывает.
О том, что таких личных вокруг старца толклась целая толпа, Симанович — и следующий за ним Солженицын — не упоминают. А ведь были среди них не менее заметные личности, к примеру, некий Добровольский, которого сам Симанович и «съел». «Добровольский заведовал корреспонденцией Распутина, был посвящен в тайны влияния Распутина на высочайших особ… Поставляя Распутину деловую клиентуру, Добровольский заставил… приглашать себя к участию в прибылях при проведении через Распутина денежных дел», — свидетельствует С. П. Белецкий, к которому стекались агентурные сведения. Непомерными аппетитами Добровольский создал себе врагов; этим и воспользовался Симанович, чтобы вытеснить конкурента из распутинского круга.[379]
Назвав Симановича «весьма оборотистым и умелым… торговцем бриллиантами, богатым ювелиром», Солженицын недоумевает: «и что б ему „секретарствовать“ у нищего Распутина?..» (стр. 496). Но Распутин не был нищим (после его смерти осталось не меньше 300 тысяч рублей — крупное состояние по тем временам), а Симанович был куда более оборотистым вралем, нежели умелым ювелиром. Он оказывал Распутину услуги по части устройства его финансовых дел, не забывая и своей выгоды.
Опираясь на такую «документальную» основу, Солженицын составляет ближайшее окружение Распутина также из банкира Д. Л. Рубинштейна, промышленника И. П. Мануса и «выдающегося авантюриста» И. Ф. Манасевича-Мануйлова (стр. 496–499). Старец оказался настолько плотно «облепленным» этими четырьмя евреями, что для сотен проходимцев куда более крупного калибра места не остается. Да и того же Манасевича-Мануйлова Александр Исаевич обрисовывает селективно: «Он побывал и чиновником м.в.д., и агентом тайной российской полиции в Париже; и он же продавал заграницу секретные документы Департамента полиции; и вел тайные переговоры с Гапоном; потом при премьер-министре Штюрмере исполнял особые „секретные обязанности“» (стр. 497). Опущен такой подвиг Мануйлова, как участие (вместе с М. Головинским и под руководством П. Рачковского) в фабрикации «Протоколов сионских мудрецов».[380] О журналистской работе Мануйлова в «Новом времени», где он травил евреев бок о бок с М. О. Меньшиковым, А. А. Столыпиным, В. В. Розановым, не упомянуто. Так в «еврейское» окружение Распутина вводится тот, кто свои еврейские корни обрубил в ранней молодости и из кожи вон лез, чтобы сеять ненависть к породившему его племени.
Селективный метод позволяет непомерно усиливать роль одних лиц (в данном случае, евреев) и вовсе отключать других. Так, за пределами солженицынского повествования остается такой «секретарь» Распутина, как полковник Комиссаров — тот самый, который в 1905 году печатал погромные листовки в тайной типографии Департамента полиции (тогда он был еще ротмистром). Когда его конспиративная типография была раскрыта и ликвидирована, ротмистра услали в провинцию, где он дослужился до полковничьего чина, после чего его вернули в столицу. Полковника Комиссарова прочили в начальники Охранного отделения, но так как сковырнуть с этого поста полковника Глобачева не удалось, то ему доверили присмотр за Распутиным. За старцем был установлен двойной надсмотр, но тогда как филеры Глобачева мерзли в подъезде, комиссаровцы располагались в самой квартире старца, а сам он близко сошелся со своим подопечным.[381]
Впрочем, серьезные дела решались не на секретарском уровне.
Куда более влиятельные силы использовали Распутина, чтобы подняться в высшие этажи власти, и затем там удерживаться. Они-то и облепляли старца, действуя заодно с ним и через него. О том, как именно это делалось, подробно изложил товарищ министра внутренних дел С. П. Белецкий, рассказавший в частности, о том, как он и его шеф А. Н. Хохлов съезжались с Распутиным у Вырубовой. На этих полуконспиративных совещаниях и определялось, с чем старцу пожаловать к «маме» и «папе», какие советы давать по части назначений, перемещений, помилований, награждений, многомиллионных подрядов и концессий. В числе особых заслуг Белецкого, прежде занимавшего пост начальника департамента полиции, — использование секретных фондов для подкупа экспертов обвинения на процессе Бейлиса. Так что, как ни раскладывай этот пасьянс, а получается, что черносотенцы и погромщики «облепляли» старца куда гуще, чем евреи.
Эпоха Распутина началась не с появления старца при дворе, а значительно позже, когда он стал, так сказать, политической силой, которую, впрочем, не следует преувеличивать. Начало этого периода примерно приходится на последний год премьерства Столыпина, а завершается февральским переворотом 1917 года, хотя самого Распутина тогда уже несколько месяцев не было в живых. Так что причина кризиса заключена не в Распутине, а в одряхлении всего государственного организма. Воля к самосохранению, остатки которой спасли царизм в 1905 году, теперь была на исходе. Если в этом организме еще проявлялись признаки жизнедеятельности, то не в виде нормального обмена веществ, а в виде судорожных конвульсий. Распутин не был причиной болезни, а лишь наиболее зримым ее проявлением. Поэтому и устранение Распутина ничего не изменило. С другой стороны, даже в пору наивысшего влияния старца оно не было абсолютным. Прежде чем провернуть очередное дельце, Вырубова и Распутин тщательно расследовали обстановку, готовили почву, но если чувствовали, что с каким-то вопросом лучше не возникать, то и не возникали. Так, с Распутиным сблизился С. Ю. Витте, надеявшийся через старца снова занять ведущий пост в государстве. Распутину очень льстила эта дружба, но, зная отрицательное отношение к Витте «мамы» и «папы», он так и не решился предложить им его кандидатуру.
Распутин был противником войны с Германией. Оправляясь после ранения в далекой сибирской больнице, он слал «папе» и «маме» телеграммы, умоляя не затевать гибельной бойни. Его не послушались не только потому, что в тот момент его не было в Петербурге. Это еще одна иллюстрация к тому, что Распутин, распутинщина были следствием, а не причиной гангрены, поразившей государственный организм. Трупные пятна проступали и в таких событиях, к которым старец вообще не имел отношения. Наиболее значительное из них по своим последствиям — дело Бейлиса.
Я отмечал в своем месте, что о деле Бейлиса Солженицын пишет недостаточно и неточно. Но его непреклонное убеждение состоит в том, что если бы не два роковых выстрела Богрова, то «это опозорение юстиции» при Столыпине «никогда бы не состоялось» (Стр. 444). Это чистая мифология, так как дело Бейлиса заварилось именно при Столыпине, и, конечно, при его ощутимом личном участии.
Напомню, что когда в Киеве был найден исколотый под евреев труп Андрюши Ющинского (март 1911) и молодежный «Двуглавый орел» повел ритуальную агитацию, то, после несмелых попыток урезонить черносотенцев, министр юстиции Щегловитов, в душе их единомышленник, пошел у них на поводу. Но с постановкой ритуального процесса заклинило. Работники киевской прокуратуры не обнаруживали «еврейского следа» в убийстве Ющинского, а фабриковать улики им не позволяло слишком серьезное отношение к такой ерунде, как законность и профессиональная совесть. Тогда расследование уголовного преступления было передано политической полиции: у нее никаких проблем с совестью не возникало. Но министр юстиции не мог привлечь к делу Охранное отделение, входившее в министерство внутренних дел. Санкцию мог дать только Столыпин.
По характеристике Витте, «Щегловитов держался все время министром юстиции при Столыпине только потому, что был у него лакеем, и министр юстиции, глава русского правосудия, обратился в полицейского агента председателя Совета министров».[382] Правда, в данном случае нелегко разобрать, кто у кого оказался лакеем.
Арестовывать Бейлиса явился отряд жандармов во главе с полковником Кулябко. Так дело об убийстве Ющинского было превращено в дело Бейлиса. Произошло это за несколько дней до роковых киевских торжеств, так как к приезду государя надо было отрапортовать об успехе в расследовании ритуального убийства.
Выслушав благую весть, царь размашисто перекрестился, чем вдохновил чины всех ведомств и рангов на дальнейшие подвиги. Было ли убийство ритуальным, или все-таки нет, — так вопрос больше не ставился. На «ритуал» теперь работала вся государственная машина империи, а не только охранка, юстиция и полиция.[383] Почему же такая грандиозная провокация провалилась?
Прежде всего, потому, что против средневекового мракобесия восстала общественность. В деле Бейлиса она увидела попытку ослепить народ племенной ненавистью и под разгул «патриотических» страстей похоронить остатки гражданских свобод, дарованных в 1905 году, но с тех пор постоянно урезаемых. На защиту Бейлиса встала вся русская интеллигенция. Из писем и дневников видных деятелей той эпохи (Александра Блока, Александра Куприна, Зинаиды Гиппиус) известно, насколько сильным у некоторых из них было личное нерасположение к евреям. Не ради инородцев они выступили против судилища над Бейлисом, а ради самой России.
А государственная машина была уже настолько разболтана, люди, толпящиеся у трона, настолько погрязли в распутинщине, что довести до успешного конца крупномасштабную провокацию были не в силах. Оправдание Бейлиса судом присяжных в октябре 1913 года показало полную немощность власти.
Теоретически еще не поздно было переменить курс, но практически это некому было делать. У власти уже не оставалось людей, способных на смелые решения, и само появление их становилось невозможным.
В. Н. Коковцов
В. Н. Коковцов, не допустив еврейских погромов «в ответ» на выстрелы Богрова, восстановил против себя не только черную сотню, но и сочувствующую ей часть правительства и двора. Он понял, что продолжать эту линию опасно. Хотя дело Бейлиса сопровождало почти все его премьерство, в его двухтомных воспоминаниях оно не упомянуто. Это молчание выразительно. Если бы Коковцов предпринял хоть самую слабую попытку противостоять позорищу, если бы высказал хоть одно скептическое замечание по этому поводу в Совете министров, или при докладе царю, или в разговоре с тем же Щегловитовым, или с кем-то еще, он бы об этом не промолчал!
Но Коковцов и без того с трудом удерживался на плаву. На роль главы императорского правительства он ни по силе характера, ни по уровню государственного мышления не вытягивал. К тому же, он возглавлял правительство, которое не он формировал. Министры не чувствовали себя ему обязанными, как раньше Столыпину. Не облегчало положение премьера и то, что за ним остался пост министра финансов. Блюдя финансовую дисциплину, «честный бухгалтер» чаще должен был отказывать в просьбах, чем их удовлетворять, множа своих врагов. Для борьбы с ними у него не было той власти, какую Столыпину давало совмещение постов премьера и министра внутренних дел, когда в его руках находилась тайная полиция, а, значит, и компромат на министров. Позднее генерал Курлов говорил рвавшемуся к посту премьера А. Д. Протопопову: «Председатель Совета министров должен одновременно быть и министром внутренних дел или иметь на этом месте своего друга, иначе положение председателя Совета министров будет непрочно».[384] Курлов знал в этом толк!
Одним из наиболее ловких противников Коковцова был министр земледелия Кривошеин, который считал, что министр финансов поглощен бухгалтерской цифирью и не видит за ней леса большой политики. Он сумел внушить еще Столыпину, что прижимистость Коковцова сдерживает проведение аграрной реформы. Кривошеин хотел подгрести под себя Крестьянский банк, а Коковцов категорически против этого возражал. Он доказывал, что кредитная политика должна быть единой, иначе будет подорвана вся финансовая система государства. Столыпин вел двойную игру: на словах соглашался с Коковцовым, а за его спиной готовил его падение. Интрига не удалась, потому что государь, не желая быть пешкой в руках «заслонявшего» его Столыпина, взял сторону Коковцова. Но Кривошеин остался в правительстве и продолжал интриговать.
Еще более опасным противником был военный министр В. Сухомлинов. Шумливый и бестолковый краснобай, Хлестаков в чине генерала и в ранге министра, он не пользовался авторитетом ни в армии, ни в обществе. Об уровне военного и политического мышления Сухомлинова (и самого царя) говорит эпизод, случившийся 10 ноября 1912 года. Накануне вечером Сухомлинов позвонил Коковцову, министру иностранных дел Сазонову и министру транспорта Рухлову и сообщил, что они вызваны к государю, но о предмете предстоявшего обсуждения отозвался незнанием. А наутро выяснилось, что решено объявить мобилизацию в двух военных округах (Киевском и Варшавском) — ввиду малочисленности пехоты, сосредоточенной вблизи границы с Австрией, причем, по словам государя, «военный министр предполагал распорядиться еще вчера, но я предложил ему обождать один день».[385]
Опешивший Коковцов стал объяснять, что объявление мобилизации равносильно началу войны, причем, не только с Австрией, но и с Германией, так как две страны связаны военным договором. Россия к войне не готова. Рассчитывать на союзную Францию нельзя, так как договор обязывает предупреждать союзника о таких акциях или он освобождается от своих обязательств.
Доводы премьера были столь элементарными, что все с ним согласились, включая Сухомлинова. Закрывая совещание, государь любезно сказал премьеру: «Вы можете быть совсем довольны таким решением, а я им больше вашего». И Сухомлинову: «И вы должны быть очень благодарны Владимиру Николаевичу, так как можете спокойно ехать заграницу».[386]
Дальше Коковцов продолжает: «Эти последние слова озадачили нас всех. Мы пошли завтракать наверх… и я спросил Сухомлинова, о каком его отъезде упомянул государь? Каково же было наше удивление, когда Сухомлинов самым спокойным тоном ответил нам: „Моя жена заграницей, на Ривьере, и я еду на несколько дней навестить ее“. На мое недоумение, каким же образом, предполагая мобилизацию, мог он решиться на отъезд, этот легкомысленнейший в мире господин, без всякого смущения и совершенно убежденно, ответил: „Что за беда, мобилизацию производит не лично военный министр, и пока все распоряжения приводятся в исполнение, я всегда успел бы вернуться вовремя. Я не предполагал отсутствовать более 2–3 недель“».[387]
Армия теряла боеспособность, а тактика военного министра сводилась к нападкам на скаредного министра финансов. Претензии Сухомлинов прямо Коковцову не предъявлял, а приберегал их к личным докладам государю, так что премьер не мог их парировать. Когда же с опозданием ему становилось о них известно, он, почти со слезами на глазах и с цифрами в руках, объяснял, что никогда в кредитах военному министерству не отказывал, но тех работ и заказов, под которые отпускались деньги в прошлые годы, не проводится. Сотни миллионов рублей остаются неосвоенными — при общем годовом бюджете в два с небольшим миллиарда это были астрономические суммы! Государь все это выслушивал и — продолжал конспирировать с Сухомлиновым против премьера. А армия оставалась дезорганизованной, недовооруженной и недоукомплектованной. Зато за Сухомлинова стоял «наш друг» — старец Распутин.
Дело Бейлиса принесло министру юстиции Щегловитову скандальную известность. В глазах всего общества его имя было покрыто позором, зато из «высших сфер» на Щегловитова и всех других чинов, причастных к позорищу, пролился благодатный дождь наград, чинов, высоких назначений. Я не нашел прямых указаний на то, что такую линию поддерживал старец, но и против нее он не возражал. Чувствуя себя прочно, Щегловитов возглавил группу противников Коковцова в Совете министров, намереваясь занять его место.
Вместе с более умеренными министрами Коковцов рассчитывал на поддержку Государственной Думы, но не тут-то было. После столыпинского переворота 1907 года Дума стала послушной. Наибольшее число мест в ней принадлежало созданной «под Столыпина» и возглавлявшейся А. И. Гучковым партии «Союз 17 октября» (правильнее ее было бы называть «Союзом профанации 17 октября»). В 1912 году срок полномочий Третьей Думы истек, и состоялись выборы в Четвертую. Благодаря столыпинской избирательной системе и секретным денежным вливаниям в избирательную кампанию,[388] состав Думы изменился мало. Казалось бы, правительство и дальше могло рассчитывать на ее поддержку. Но камнем преткновения стал Распутин. Против «темных сил», окружающих престол и губящих государство, выступил с думской трибуны лидер октябристов Гучков!
* * *
Став русской царицей, Александра Федоровна мечтала как можно скорее подарить мужу и своей новой стране наследника престола. В этом она видела свой религиозный и патриотический долг. Но у нее рождались дочери. Страстное желание родить мальчика привело даже к мнимой беременности. Организм Александры Федоровны перестроился так, что сначала ей самой, а потом и всем окружающим стало ясно: императрица в интересном положении! Когда все сроки прошли, а родовых схваток не наступало, стеснительная государыня согласилась допустить к себе врача. Он и установил, что ее набухшее чрево наполнено… пустотой! То было самовнушение огромной силы, полная победа духа над материей! Увы, не совсем полная… Но, тем не менее, на такое способны только очень страстные, одержимые натуры. Одержимые тяжелой душевной болезнью — истерией.
Через десять лет после замужества императрица добилась того, к чему стремилась: родила сына! Радость августейших супругов была безмерной. Но затем на них обрушился удар невероятной силы. Наследственная болезнь царевича, гемофилия, была почти равносильна смертному приговору. (Дефектный ген, передаваясь в роду предков Александры Федоровны по женской линии, проявлялся у мужчин).
Глубоко религиозная женщина, Александра Федоровна должна была бы увидеть в своем несчастье знак Божий. Возмездие за гордыню, за отказ покориться судьбе. «Ты хотела сына — вот тебе сын, обреченный на муки и раннюю смерть».
Императрица с наследником
Но не такой была ее вера в Бога, ее религиозность! Покориться? Нет, только не это. Ведь Господь Бог может все. ВСЕ! Надо достучаться, докричаться, домолиться до него. Надо найти к нему путь. К мольбам простых смертных Господь глух: грехи обесценивают их молитвы. Но есть праведники, Божьи люди, на них нисходит благодать. Их молитвы достигают до престола Всевышнего; на их просьбы Он откликается. Молитвами праведника наследник будет спасен. Да и всю царскую семью, и Россию, он будет беречь от невзгод и несчастий, как талисман. Надо только найти такого праведника, найти свой талисман!
И случилось так, что когда наследник, при очередном обострении болезни, лежал, обессиленный от потери крови, и растерявшиеся врачи предсказывали самое худшее, «отец» Григорий возложил на него свои заскорузлые руки с грязными ногтями и уверенно сказал, что мальчик будет жить.
И мальчик выжил!..
Квадратура круга была найдена: царица обрела свой талисман.
В литературе о Распутине есть немало уверений, что он действительно обладал даром ясновидения, гипнотического внушения, пророчества. В эту мутную область я не вторгаюсь. Бесспорно одно — умение старца распознавать людей и находить правильный тон, особенно с теми, кто склонен был поддаваться его чарам. Императрицу он раскусил безошибочно. Понял, как она одинока, как тяжело себя чувствует в свете, с его условностями, лицемерием, искательством, лестью, злословием. Хитрый и умный мужик надел на себя маску еще большего простака и грубияна, чем был на самом деле. Это был правильный ход. Императрицу не шокировали его мужицкие манеры, нечесаные патлы, наглый взгляд, вульгарное «тыканье». Все, что было в нем отталкивающего, ее привлекало, так как свидетельствовало о его бесхитростной натуре, искренней преданности и — прямой связи с небесными силами. Она внушила себе (а внушить себе она могла все!), что его устами с ней говорят Бог и народ. Тот Бог, от которого исходила власть ее мужа и зависело исцеление ее сына; и тот народ, который безмерно обожал своего государя и свою государыню — в противоположность «образованному классу», всегда недовольному и чего-то требующему.
В родном селе Покровском (Тюменского уезда, Тобольской губернии) Гришку Распутина знали как бездельника, хулигана и конокрада. От его дебошей стонало все село, сладу с ним не было и в семье: спьяну Гришка буянил, избивал родного отца. Попытки местного священника усовестить Гришку сделали их врагами. Но загулы сменялись периодами набожности. Уже имея собственное хозяйство, семью, детей, он «бросил все» и пошел странствовать по монастырям и обителям. Он ходил в рубище, изнурял себя постами, носил вериги, в истовости религиозного бдения ему не было равных. Не умея читать, но обладая цепкой памятью, он, в беседах с монахами и священниками, усвоил немало отрывков из Священного писания. Понимал он их на свой манер. При народной образности речи и туманности суждений его сентенции порой казались неожиданными, как бы внушенными свыше. Бесхитростные монахи и батюшки представляли его более высоким церковным иерархам; Гришка и им умел внушать доверие к себе и своему благочестию. Молва о Божьем страннике, «старце», ширилась и поднималась все выше.
Странствия по глухим местам привели Гришку в сектантский «корабль» «Божьих людей» (хлыстов). По их учению, Иисус не вознесся на небо, а обитает среди живущих, вселяясь в праведников-«христов». Гришке это понравилось, как и хлыстовские «радения». Они сопровождались хлестаньем собственного тела, трясением и плясками до полного изнеможения, а кульминацией становился «свальный грех», который у хлыстов считался не грехом, а Божьим очищением.
В Петербурге Распутин появился примерно в 1904 году, но молва опередила его, что помогло ему без труда войти в круг известных и почитаемых священнослужителей. Его отличили популярный религиозный деятель Иоанн Кронштадтский, епископ Гермоген, инспектор Петербургской Духовной академии и личный духовник императрицы архимандрит Феофан.
От своего духовника императрица и услышала впервые о благочестивом «старце». Привели же его к ней «черногорки» — дочери черногорского князя Негоша Анастасия и Милица Николаевны, жены великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича. Они были лучшими подругами императрицы; обе, как и она, увлекались мистикой, искали и находили блаженных и охотно поставляли их Александре Федоровне.
Распутин у себя дома на Гороховой в Петрограде
После того, как Распутин «доказал» свое благотворное влияние на здоровье наследника, ему уже нетрудно было убедить Александру Федоровну, что от него зависит благополучие всей царской семьи и короны. Общение с Распутиным стало для императрицы постоянной потребностью, но она не могла слишком часто принимать его во дворце, где каждое посещение фиксировалось и становилось известным. Странная дружба мужика и царицы и без того вызывала толки и пересуды, доходившие до насмешек и даже скабрезных намеков. Потребовалось подыскать нечто вроде дома свиданий, где царица могла бы встречаться со старцем без огласки. Выбор пал на дом Аннушки Вырубовой, благо, она жила в Царском селе, поблизости от императорского дворца.
Аннушка была дочерью управляющего императорской канцелярией А. С. Танеева и, можно сказать, выросла во дворце. В больших, широко распахнутых глазах пухленькой миловидной девушки Александра Федоровна читала столько преданности и восхищения, что не могла не проникнуться к ней взаимной симпатией. Как только она подросла, императрица сделала ее своей фрейлиной. Отношения между ними были самыми сердечными — до тех пор, пока государыня не стала замечать, как Аннушка вспыхивает при появлении государя. Надо было срочно удалить потенциальную соперницу, но сделать это так, чтобы не обнаружить своей ревности и не нанести ей обиды. Для этого был один простой способ — выдать ее поскорее замуж, так как служба фрейлины этим автоматически прекращалась. Энергично взявшись за дело, императрица подыскала жениха — лейтенанта флота Вырубова.
Незадолго до свадьбы великая княгиня Милица Николаевна пригласила невесту к себе — «на старца Распутина». Сильного впечатления он на нее не произвел, но, улучшив момент, она все-таки спросила, что ждет ее в замужестве. Тот ответил:
«Замуж ты выйдешь, но счастья не найдешь».
Старец как в воду глядел!
Лейтенант флота Вырубов оказался половым извращенцем, садистом и импотентом. Какие фокусы проделывал он на брачном ложе с молодой супругой, можно только догадываться. Единственное, на что он был неспособен, это лишить ее девственности. Аннушка много месяцев скрывала следы истязаний, но, в конце концов, поведала о своем несчастье матери. Когда тайное стало явным, супруги разъехались, позднее и развелись. Григорий Распутин приобрел еще одну — до гроба верную — поклонницу. А Александра Федоровна прониклась чувством вины к своей бывшей фрейлине: ведь это она устроила скоропалительный брак!
Между двумя женщинами произошло объяснение. Они плакали, целовались, просили друг у друга прощения, клялись в вечной дружбе и преданности. Аннушка чистосердечно призналась в любви к государю, но дала слово, что никогда не позволит себе никакой нескромности, могущей осложнить отношения августейших супругов. Александра Федоровна ей поверила. Особенно же их сблизило общее преклонение перед старцем. А так как Аннушка умела держать язык за зубами, то в ее маленьком домике государыня могла бывать хоть каждый день, не возбуждая любопытства к тому, кто еще там бывает…
Однако слухи о близости простого мужика ко двору, его целительном воздействии на наследника, а со временем и на некоторые назначения — сперва по духовному, потом и по другим ведомствам — ширились. Вокруг Распутина сложился кружок почитателей и особенно почитательниц. Наиболее преданными старцу были неуравновешенные, легко внушаемые девицы и женщины, пережившие какое-то личное горе и, видимо, страдавшие половой психопатией. Бывали и нормальные женщины; они приходили похлопотать за мужа, сына, брата, жениха, любовника. На шумных сборищах у Распутина не различали чинов и званий. Графини и генеральши были равны служанкам и уличным проституткам. Распутин шумно и бесцеремонно «любил» всех своих поклонниц: смачно их обцеловывал, грубовато обласкивал, хватал за «мягкие места». Он проповедовал «очищение через унижение». Его туманные проповеди вызывали восторг, но если какая-то из поклонниц восхищалась слишком бурно, Распутин ее грубо осаживал, осыпал оскорблениями, на что она, довольная, отвечала еще большим восхищением. Самый распространенный способ «унижения» состоял в совместных хождениях в баню: дамы мылись вместе со старцем и мыли его. Лечь с Гришкой в постель для изгнания «блудного беса» считалось особым отличием. Связей этих большинство не скрывало. Иные шли на них с согласия и даже по настоянию своих мужей: такова была плата за гришкины услуги. Если какая-то из новеньких посетительниц с непривычки отклоняла домогательства, старец искренне обижался, но домогательств не прекращал. Сулил непременно исполнить просьбу, но не раньше, чем получит требуемый аванс.
Подачки и подношения — дорогими винами, яствами, бобровыми шубами, пачками ассигнаций были не в счет. Денег он не жалел, охотно раздавал небольшие суммы бедным просителям, остальные просаживал в дорогих ресторанах. Кутежи его были многолюдными, шумными, с музыкой, плясками, цыганским хором, битьем зеркал. Впрочем, когда приходило время платить по счету, Григория Ефимовича обычно просили не беспокоиться: все уже было уплачено.
Старец Макарий, архимандрит Феофан и Григорий Распутин. 1911 г.
Отнюдь не праведная жизнь «старца», столь приближенного к коронованным особам, становилась предметом пересудов в гостиных и клубах, разных слоях общества. Только во дворце ничего «не знали». По указанию Столыпина, а затем и его преемников, за Гришкой велось полицейское наблюдение, все его похождения фиксировались филерами и докладывались начальству. Но для государыни, а, под ее давлением, и для государя все это была клевета на праведника, месть знати и интеллигенции за то, что царь напрямую общается с «человеком из народа».
Архимандрит Феофан, поняв, как сильно ошибся в «Божьем человеке», попытался открыть на него глаза царице. Но едва он заговорил о Гришке, как услышал, что должен немедленно удалиться, иначе будет приказано его вывести. Затем его вообще удалили из Петербурга.
Черногорки тоже поняли, кого привели в свое время во дворец. Но стоило им заикнуться об этом с Александрой Федоровной, как дружба кончилась навсегда. Родная сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна (вдова убитого великого князя Сергея Александровича), после гибели мужа прославилась своей праведной жизнью и благотворительной деятельностью. Она тоже пыталась объяснить сестрице, какое впечатление на общество производит пригретый ею старец. Отношения между сестрами прекратились. Воспитательница великих княжон доложила, что Распутин заходит в спальни девушек в неурочный час, когда они уже лежат в постелях, и она, воспитательница, не может этого допустить. Она лишилась места.
Разочаровался в Гришке епископ Гермоген и — был удален из Священного синода. Его верный ученик иеромонах Илиодор — настоятель монастыря в Царицыне, где за короткий срок развил бурную деятельность и стал очень популярен, — поначалу особенно близко сошелся с праведным старцем. Распутин не раз приезжал в Царицын, а Илиодор вместе с ним ездил в его родное село Покровское. Но чем ближе молодой монах наблюдал старца, тем сильнее его точил червь сомнения. Особенное смятение в его душу вносили «изгнания блудного беса». Илиодор был молод, горяч, окружен богомолками, среди которых попадались писаные красавицы. Дабы не впадать в греховные искушения, он старался на них не заглядываться; и то, что «святой старец» вытворял с женщинами на глазах у всех, его глубоко изумляло. На осторожные вопросы Григорий отвечал, что святостью своей добился полной свободы от «блуда»; и баб он тоже освобождает от блуда, потому они и льнут к нему. С особым смаком он рассказывал, как после совместного мытья в бане они ложатся вокруг него, одна прижимается к правому боку, другая к левому, третья обвивает правую ногу, четвертая — левую, а он изгоняет «бесов». Две знатные дамы даже подрались, потому что ни одна не хотела уступать место у его правого бока!
От таких разговоров у иеромонаха туманилось в голове, возникали греховные видения. Стали закрадываться подозрения: уж не дурачит ли Гришка его и весь Божий свет? Илиодор гнал от себя эти мысли как недостойные и греховные, но они возвращались. Праведник он или дьявол? Коль скоро вопрос возник, доискаться ответа было нетрудно: некоторые поклонницы старца исповедовались у Илиодора. Несколько наводящих вопросов, и ему стало ясно, какими прикосновениями старец изгонял из них «блудного беса».
Однако с разоблачениями Илиодор не спешил. Предстояла тяжелая борьба. Илиодор знал, как велика власть Гришки над самыми влиятельными особами. Вот как он описал сцену, при которой присутствовал:
«Распутин в это время прямо-таки танцевал около Вырубовой; левой рукою он дергал свою бороду, а правой хватал за плечи, бил ладонью по бедрам, как бы желая успокоить игривую лошадь. Вырубова покорно стояла. Он ее целовал… Я грешно думал: „Фу, гадость! И как ее нежное, прекрасное лицо терпит эти противные жесткие щетки…“ А Вырубова терпела, и казалось, что находила даже некоторое удовольствие в этих старческих поцелуях. Наконец Вырубова сказала: „Ну, меня ждут во дворце; надо ехать, прощай, отец святой…“ Здесь совершилось нечто сказочное, и если бы другие говорили, то я бы не поверил, а то сам видел. Вырубова упала на землю, как простая кающаяся мужичка, дотронулась лбом обоих ступней Распутина, потом поднялась, трижды поцеловала „старца“ в губы и несколько раз его грязные руки».[389]
Когда Вырубова ушла, Гришка, заметив ошеломление монаха, не без горделивой усмешки намекнул, что нечто подобное происходит и с «царями». И это походило на правду.
Илиодор принялся разоблачать Гришку не раньше, чем набрал достаточно, как ему казалось, компромата. И тогда уже накинулся на него со всей неистовостью своего темперамента. Не щадил он и церковных покровителей Гришки.
Его пытались урезонить, потом последовал указ о высылке его из Царицына. В ответ Илиодор забаррикадировался в своем монастыре вместе с тысячами преданных ему богомольцев и продолжал произносить громовые речи, а газеты разносили их по всей стране. Столыпин уже готов был брать штурмом взбунтовавшийся монастырь. Но кончилось тем, что указ о высылке монаха был отменен. Его пригласили в Петербург, царь удостоил его аудиенцией.
«Николай, считающий, по словам самого же Распутина, „старца“ Христом, на приеме страшно нервничал, моргая своими безжизненными, усталыми, туманными, слезящимися глазами, мотая отрывисто правой рукою и подергивая мускулами левой щеки, едва успел поцеловать мою руку, как заговорил буквально следующее:
— Ты… вы ты не… трогай моих министров. Вам что Григорий Ефимович говорил… говорил. Да. Его нужно слушать. Он наш… отец и спаситель. Мы должны держаться за него… Да… Господь его послал… Он… тебе, вам, ведь говорил, что… жидов, жидов больше и революционеров [надо ругать], а министров моих не трогай… На них и так нападают враги… жиды. Мы слушаемся отца Григория, а вы что же…»[390]
Когда разговоры о скандальных похождениях Гришки перекочевали в газеты, Николай потребовал от Столыпина прекратить вмешательство в «частную жизнь его семьи». Увы, карать газеты можно было за революционную пропаганду или за «оскорбление величества»; похождения Григория Распутина под эти категории не подпадали. На газеты оказывали неофициальное давление, но заставить их замолчать можно было только одним путем — удалением Гришки от трона. Столыпин вызвал к себе Распутина и, пригрозив полицейскими мерами, велел ему немедленно уехать в Покровское. По свидетельству М. В. Родзянко, которому об этом говорил сам Столыпин, он действовал при «кажущемся безмолвном согласии государя».[391] Видя, что дело приняло нешуточный оборот, Гришка подчинился. Но государыня пришла в ярость. Закатив сцену августейшему супругу, она отправила Вырубову за старцем, и та с торжеством вернула его.
Когда Распутин опять появился в Петербурге, Илиодор и епископ Гермоген, у которого тот остановился, зазвали Гришку к себе. Тот пришел — насупленный, готовый к тяжелому разговору, со слабой надеждой на примирение. Они попытались вразумить и усовестить его; требовали, чтобы он перестал злоупотреблять доверием царя и царицы; объясняли, что своим присутствием при дворе, чем он к тому же не перестает хвастаться, он наносит царю и всей России страшный вред. Завязался спор, посыпались оскорбления, и — два дюжих священнослужителя набросились на Гришку с ножом.
Распутин, Гермоген и Илиодор
По одной версии, они хотели его убить, по другой — кастрировать. Обливаясь кровью, рыча от боли и ярости, Гришка сумел вырваться из западни. Пощады с его стороны ждать не приходилось. Без суда и следствия Гермоген был лишен сана и сослан в дальний монастырь. Илиодор скрылся, но был пойман и под конвоем препровожден в другой далекий монастырь, где содержался под стражей, как в тюрьме. Оттуда ему удалось бежать за границу. Он отрекся от монашества и стал публиковать скандальные разоблачения. Самой убийственной была публикация писем императрицы и ее дочерей к «отцу Григорию». Когда они еще дружили, Гришка показал Илиодору пачку таких писем, сполна насладился его изумлением и подарил по одному письму от царицы и от каждой из великих княжон. Вот что говорилось в письме Александры Федоровны:
«Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник. Как томительно мне без тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает. Тогда я желаю мне одного, заснуть, заснуть, на веки на твоих плечах, в твоих объятьях. О, какое счастье даже чувствовать одно твое присутствие около меня. Где ты есть? Куда ты улетел? А мне так тяжело, такая тоска на сердце… Только ты, наставник мой возлюбленный, не говори Ане о моих страданиях без тебя. Аня добрая, она хорошая, она меня любит, но ты не открывай ей моего горя. Скоро ли ты будешь опять около меня? Скорее приезжай. Я жду тебя и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения и целую твои блаженные руки. Во веки любящая тебя. М[ама]».[392]
Публикации Илиодора проникли в Россию, а о том, чтобы они как можно шире разошлись, позаботились многие, и больше всех — А. И. Гучков, лидер октябристов, то есть партии власти, в Государственной Думе.
Столь откровенное письмо Александры Федоровны отнюдь не доказывало, что она была в интимных отношениях с Гришкой. Во дворце Распутин вел себя развязно, но известной черты не переступал. Даже в отношениях с Аннушкой Вырубовой он держал дистанцию. Позднее, при Временном Правительстве, когда Вырубова оказалось под следствием, она говорила, что Распутин как мужчина был ей «неаппетитен». А когда ей не поверили, она потребовала медицинского освидетельствования, и оно подтвердило: главная-то распутинка — девственница! Не приходится спорить с Коковцовым, когда он пишет, что письмо царицы к старцу было «проявлением ее мистического настроения». Но, по его же словам, оно «давало повод к самым возмутительным пересудам».[393]
Как минимум, давало повод! Жена цезаря — и такое подозрение!
Ну, а сам цезарь? Что испытывал несчастный царь, когда ему пришлось познакомиться с излияниями его августейшей супруги к Григорию Ефимовичу, — даже если он не сомневался в том, что для нее этот мужик — только облако в штанах?
Но гневался он не на свою истеричку-жену, не на старца, сорившего такими письмами, даже не на Илиодора, опубликовавшего их в зарубежье, и не на Гучкова, почти открыто распространявшего гектографические копии в Государственной Думе и по всей России. Виноваты были чины, которые допустили, не доглядели, не пресекли…
«Виноватее всех», конечно, был главный страж порядка, министр внутренних дел А. А. Макаров. «Я застал его в очень угнетенном настроении, — вспоминал Коковцов. — Он только что получил очень резкую по тону записку от государя, положительно требующую от него принятия „решительных мер к обузданию печати“ и запрещению газетам печатать что-либо о Распутине».[394]
От Макарова требовали невозможного, как годом раньше от Столыпина. Но если Столыпин тогда отреагировал высылкой Распутина из столицы, хотя бы кратковременной, то его преемники пошли другим путем.
Коковцов пишет, как Макаров, министр по делам печати и он сам уламывали редакторов и издателей газет. «Я воспользовался визитом ко мне М. А. Суворина и Мазаева [из „Нового времени“] и старался развить перед ними ту точку зрения, что газетные статьи с постоянными упоминаниями имени Распутина и слишком прозрачными намеками только делают рекламу этому человеку, но, что всего хуже, — играют в руку всем революционным организациям, расшатывая в корне престиж власти монарха, который держится, главным образом, обаянием окружающего его ореола, и с уничтожением последнего рухнет и самый принцип власти».[395]
Но если не одна, то другая газета подхватывала очередной скандал, а остальные перепечатывали, комментировали, смаковали подробности.
Карикатура на Распутина и царскую семью
Макаров, бессильный справиться с ситуацией, чувствовал, что тучи над ним сгущаются. Желая показать свою расторопность и преданность государю, он организовал сверхсекретную разведывательно-финансовую операцию по изъятию оригиналов злополучных писем императрицы и великих княжон. Хотя они широко разошлись в печати, их подлинность не была подтверждена. Но они могли быть в любой момент опубликованы в фотокопиях, и тогда каждый, кому доводилось получать какие-либо записки от императрицы, мог бы сличить почерк. А что, если их представят на графологическую экспертизу, и затем опубликуют заключение независимых экспертов? Не допустить этого можно было только одним путем — завладеть письмами. Узнать, где они находятся и затем выкрасть или выкупить их.
Задуманная операция блестяще удалась. Но, заполучив вожделенные письма, Макаров стал в тупик — что с ними делать: спрятать подальше или передать государю?
«Макаров дал мне прочитать все письма, — пишет Коковцов. — Их было 6. Одно сравнительно длинное письмо от императрицы, совершенно точно воспроизведенное в распространенной Гучковым копии; по одному письму от всех четырех великих княжон, вполне безобидного свойства, написанных, видимо, под влиянием напоминаний матери… и — одно письмо, или, вернее, листок чистой почтовой бумаги малого формата с тщательно выведенной буквою А, маленьким наследником».[396]
На просьбу дать совет, какой из двух вариантов избрать, Коковцов отверг оба. Он пояснил, что в первом случае Макаров даст повод к подозрению в каких-то неблаговидных намерениях; а во втором — поставит в неприятное положение царя и в царице наживет врага. Коковцов посоветовал испросить аудиенцию у императрицы и передать письма ей — без свидетелей, из рук в руки.
Макаров согласился, но передумал. Ведь государыня, скорее всего, уничтожила бы письма, ничего не сказав государю, и тот даже не узнал бы о высокоценной услуге министра! Он решил все же обрадовать подарком самого Николая.
«По собственному его [Макарова] рассказу, — завершает этот эпизод Коковцов, — государь побледнел, нервно вынул письма из конверта и, взглянувши на почерк императрицы, сказал: „да, это не поддельное письмо“, а затем открыл ящик своего стола и резким, совершенно непривычным ему жестом швырнул туда конверт. Мне не оставалось ничего другого, как сказать Макарову: „зачем же вы спрашивали моего совета, чтобы поступить как раз наоборот, теперь ваша отставка обеспечена“».[397] Чтобы придти к такому заключению, не надо было обладать пророческим даром Распутина.
Между тем, скандал перешел с альковного уровня на церковный.
Приват-доцент Московской духовной академии Новоселов, специалист по сектантству, собрал материалы, доказывавшие близость проповедей и поведения Распутина к хлыстовской ереси, и обвинил Священный синод и церковное руководство в потворстве сектантству.
Макаров приказал изъять брошюру Новоселова из продажи, но этим только подлил масло в огонь. Газета «Голос Москвы» поместила статью Новоселова, в котором тот повторил основные положения своей брошюры. Тогда репрессии обрушились на газету: на нее был наложен крупный штраф, а номер — конфискован.
«Эти репрессии имели, однако, обратное действие, — свидетельствовал председатель Государственной Думы М. В. Родзянко. — Брошюра Новоселова и номер газеты в уцелевших экземплярах стали покупаться за баснословные деньги, а в газетах всех направлений появились статьи о Распутине и о незаконной конфискации брошюры; печатались во всеобщее сведение письма его бывших жертв, прилагались фотографии, где он изображен в кругу своих последователей. И чем больше усердствовали цензура и полиция, тем больше писали и платили штрафы».[398]
Группа депутатов Думы во главе с Гучковым подала запрос о «незакономерных» действиях правительства. В текст запроса была включена статья Новоселова в полном объеме, и она стала достоянием всей страны: запрос как официальный документ Думы напечатали чуть ли не все газеты в обеих столицах и на местах.
«Верховная власть была поставлена лицом к лицу с необходимостью решить безотлагательно вопрос: быть или не быть Распутину, — писал М. В. Родзянко. — Всякому было ясно, что борьба распутинского кружка с Россией должна была разрешиться победой или поражением той или другой стороны. Силы, однако, были неравные. На стороне Распутина стояла волевая и властная императрица Александра Федоровна, имевшая подавляющее влияние на своего августейшего супруга, и поддержанная придворной камарильей, хорошо знавшей, чего она хочет. А в лагере противников царила нерешительность, опасение энергичным вмешательством разгневить верхи и отсутствовало объединение, потому что не помнили главного — блага России».[399]
В борьбу за удаление Распутина были втянуты многочисленные родственники государя, двор императрицы-матери Марии Федоровны. Она приглашала к себе премьер-министра Коковцова, председателя Думы Родзянко и выслушивала ужасы о художествах «старца».
«Несчастная моя невестка не понимает, что она губит и династию, и себя. Она искренне верит в святость какого-то проходимца, и все мы бессильны отвратить несчастье», — горько обливаясь слезами, говорила императрица-мать Коковцову, и он назвал ее слова «пророческими».[400]
Однако, если верить Родзянко, это он внушал ей: «Государыня, это вопрос династии. И мы, монархисты, больше не можем молчать».[401]
И снова вопрос: «А что же царь?»
В его восковой душе и ватном мозгу, как всегда, происходило перетягивание каната. Его разрывало на части, шатало из стороны в сторону. Все зависело от того, какая из команд в данный конкретный момент тянет сильнее.
Волевая царица требовала от безвольного августейшего супруга ответить на запрос Думы ее роспуском. Но Коковцов пугал непредсказуемыми последствиями, а Родзянко, шумно демонстрировавший свою преданность престолу, просил принять для личного доклада, и государю было неловко распустить Думу, даже не выслушав ее председателя.
Прием состоялся, и августейший супруг должен был битых два часа, тоскливо глядя в окно, выслушивать разъяснения о том, какую угрозу монарху и монархии представляет близость к трону «грязного хлыста».
Если верить Родзянко, то его доклад произвел столь сильное впечатление, что «государь почти не прикасался к еде за обедом, был задумчив и сосредоточен».[402] А на следующий день распорядился: «Пусть он [Родзянко] из Синода возьмет все секретные дела по этому вопросу [о сектантстве Распутина], хорошенько все разберет и мне доложит. Но пусть об этом пока никто не будет знать».[403]
Безмерно польщенный неожиданным поручением, Родзянко тотчас придал секретному поручению самую широкую огласку. Он привлек к делу Гучкова и ряд других лиц — из числа самых ярых разоблачителей Распутина. Александра Федоровна стала срочно принимать контрмеры. Она засылала к председателю Думы своих эмиссаров, передававших ее повеление прекратить расследование и вернуть дело в Синод. Но тучный председатель Думы стоял, как скала, заявляя, что только сам государь может отменить свое поручение. Он подготовил новый доклад, «окончательно» уничтожавший Распутина, но повторно государь его не принял — под предлогом готовящегося отъезда на лето в Ливадию. Причина же была в том, что волевая супруга усилила нажим, да и вообще разговоры с напористым председателем Думы ему были тягостны. Впрочем, он тяготился разговорами о Распутине со всеми, кто не считал старца святым.
М. В. Родзянко
Стало ему тягостно и с Коковцовым после того, как тот вынужденно принял Распутина, а затем доложил, что старец произвел на него крайне негативного впечатление, напомнив «типичных представителей сибирского бродяжничества, с которыми [Коковцов] встречался в начале [св]оей службы в пересыльных тюрьмах, на этапах и среди так называемых „не помнящих родства“, которые скрывают свое прошлое, запятнанное целым рядом преступлений, и готовы буквально на все во имя достижения своих целей».[404] Коковцов посоветовал Распутину (не приказал, как годом раньше Столыпин, а только посоветовал) уехать из Петербурга.
Тот и сам решил уехать на время, так как понимал, что находится в эпицентре скандала, и если об отъезде его попросит сам царь, то ему уже нельзя будет вернуться. Но царице он преподнес дело так, что премьер его заставляет уехать, и тот попал к ней в немилость.
Как ни сторонился Коковцов всего, что касалось Распутина, долго выдержать такую линию было невозможно. Чем более высокий пост занимал человек, тем скорее он должен был определиться: либо он за Распутина и должен плясать под его дудку, либо он его враг. А значит, и враг царицы.
Удалив Макарова, государь поставил на его место черниговского губернатора Н. А. Маклакова, который в своей губернии отличился только тем, что восстановил против себя земство. Зато он был «любимцем» князя Мещерского, и тот делал ему карьеру. На аудиенцию к государю Маклаков явился с бантом Союза русского народа в петлице, держался бодро, а представленный наследнику, изобразил влюбленную пантеру, чем очень развеселил мальчика. Вопрос о его назначении был решен. Никаких данных к тому, чтобы возглавить важнейшее министерство, он не имел, но когда Коковцов указал на это государю, а так же на то, что ему будет трудно сработаться со ставленником князя Мещерского, с которым он расходится по всем основным вопросам, то государь его успокоил: «Вот вы увидите, какого послушного сотрудника я приготовил вам в лице Маклакова». Дальше возражать было трудно, так как государь уже обсуждал с Коковцовым вопрос о перемещении его на пост посла в Берлин, причем ему было ясно, что удаления его хочет императрица.
Н. А. Маклаков стал послушным сотрудником… Щегловитова, активно взявшись за полицейское обеспечение всего того произвола, который позволял двигать в нужном направлении дело Бейлиса. К верноподданническим докладам новый министр непременно приберегал забавные истории. Он умел их рассказывать так, что сдержанный государь хохотал до слез. После доклада он непременно приглашался к завтраку и очень веселил великих княжон и государыню шутовскими выходками. Само собой понятно, что он был другом Распутина и получил высокий пост с его одобрения.
Отношения царского правительства с Думой продолжали осложняться. Дошло до того, что партия власти перешла почти в прямую оппозицию. По свидетельству Родзянко, на съезде партии октябристов «Гучков в блестящей речи обрисовал внешнее и внутреннее положение политики России. Он говорил о том, что надо одуматься, что Россия накануне второй революции и что положение очень серьезное и правительство неправильной своей политикой ведет Россию к гибели».[405]
В резолюции съезда давался следующий наказ депутатам Думы: «Парламентской фракции Союза 17 октября как его органу, наиболее вооруженному средствами воздействия, надлежит взять на себя неуклонную борьбу с вредным и опасным направлением правительственной политики и с теми явлениями произвола и нарушения закона, от которых ныне так тяжко страдает русская жизнь. В парламентской фракции должны быть использованы в полной мере все законные способы парламентской борьбы; как то: свобода трибуны, право запросов, отклонение законопроектов и отказ в кредитах».[406]
Лидер кадетов Милюков подтверждал:
«Среди своих верных он [Гучков] чеканит новую эффектную формулу отказа от своей прежней деятельности: „Мы вынуждены отстаивать монархию против тех, кто является естественными защитниками монархического начала, церковь — против церковной иерархии, армию — против ее вождей, авторитет правительственной власти — против носителей этой власти“. И он же диктует городскому съезду его заключительную резолюцию об угрозе стране тяжкими потрясениями и гибельными последствиями от дальнейшего промедления в осуществлении реформ 17 октября».[407]
Конечно, Милюков всем этим мало доволен, по его мнению, октябристы полевели недостаточно, их оппозиционные настроения в Думе «быстро сходили на нет». Но ничто не демонстрирует так наглядно тот факт, что власть восстанавливала против себя даже те слои общества, которые еще недавно служили ей опорой.
«Высшая точка общественного негодования была достигнута, когда вся неправда режима, все его насилие над личностью воплотилось в попытке сосредоточить на лице невинного еврея Бейлиса обвинение против всего народа в средневековом навете — употреблении христианской крови. Нервное волнение захватило самые глухие закоулки России, когда, в течение 35 дней, развертывалась в Киеве, при поощрении или при прямом содействии властей, гнусная картина лжесвидетельства, подкупленной экспертизы, услужливых прокурорских усилий, чтобы вырвать у специально подобранных малограмотных крестьян-присяжных обвинительный приговор. Помню тревожное ожидание этого приговора группой друзей и сотрудников, собравшихся вечером в редакции „Речи“. Помню и наше торжество, когда темные русские крестьяне вынесли Бейлису оправдательный приговор.
Конечно, все манифестации общественного настроения сопровождались полицейскими скорпионами. По делу Бейлиса на печать были наложены 102 кары — в том числе шесть редакторов арестованы. 120 профессиональных и культурно-просветительных обществ были закрыты или не легализованы. В Петербурге мне с Шингаревым запрещено было сделать доклад избирателям о Четвертой Думе, а в Москве такое же собрание вновь избранных членов Думы к.д. Щепкина и Новикова было закрыто полицией. Закрыто было полицией и юбилейное заседание в честь пятидесятилетия „Русских ведомостей“ и банкет по тому же поводу. Мне были запрещены лекции по балканскому вопросу в Екатеринодаре и Мариуполе. Это — только отдельные эпизоды из целого ряда подобных. Все это вместе напоминало предреволюционные настроения и полицейскую реакцию на них 1905 года».[408]
Коронованный революционер, ведомый своей августейшей супругой, полностью порабощенной Распутиным, снова привел страну к краю пропасти. На этот раз отсрочить падение в нее могло только чудо. И оно произошло. Началась мировая война. Причем, вопреки воле Распутина.
* * *
15 (28) июня 1914 года в Сараево был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, а на следующий день в далеком сибирском селе Покровское, — тяжело ранен прибывший на побывку в родное гнездо Григорий Распутин. Эти два террористических акта, разделенные расстоянием в половину земного шара, но почти совпавшие по времени, оказались роковыми для дальнейших судеб России и мира.
Описывая обстоятельства покушения на Распутина, его дочь Матрена сообщает, что Григорию Ефимовичу принесли телеграмму от царицы с просьбой немедленно вернуться в Петербург. Он пошел отбить ответную телеграмму, чтобы следом и выехать; его остановила укутанная в платок нищенка, и, пока он рылся в кармане, она выхватила из-под полы длинный острый нож и ударом снизу вверх пропорола ему живот.
По версии Матрены Распутиной, террористка, Хиония Гусева, никогда раньше не встречала старца, и личных мотивов у нее быть не могло. Она была подослана врагами Распутина и действовала совместно с журналистом Давидсоном, выслеживавшим передвижения старца с самого Петербурга.[409] Но книга Матрены — одна из самых «распутинских» во всем распутиноведении. Более правдоподобна другая версия: Хиония — одна из многих жертв Распутина, которая доверилась его «святости», а после изгнания «блудного беса» пошла по рукам, заразилась сифилисом и к моменту покушения уже была обезображена тяжелой болезнью. Основной мотив ее преступления — месть за свою загубленную жизнь. Третья версия, не отвергающая, а дополняющая вторую: сообщником Хионии был иеромонах Илиодор. Он и сам не отрицал знакомства с нею, называл ее своей «духовной дочерью» и характеризовал как «девицу — умную, серьезную, целомудренную и трудолюбивую». По его словам, она была «начитана очень в священном писании, и на почве этой начитанности она кое-где немного заговаривалась».[410] Воспламененная ненавистью к «ложному пророку» Хиония просила Илиодора благословить ее на кровавое дело. Он уверяет, что благословения не дал, а, напротив, пытался удержать ее от греха.[411] Так ли это, вряд ли когда-нибудь будет выяснено.
Распутин после покушения Гусевой в Тюменской городской больнице. 1914 г.
Результатом покушения Гусевой стало то, что вернуться в Петербург по призыву царицы старец не смог. Более того, с быстротою молнии распространилась весть о его гибели, что вызвало бурю ликования в Думе и во всей стране; но она оказалось преувеличенной. А пока старец выкарабкивался с того света, Европа сползала в пропасть войны. С больничной койки он слал телеграммы, «умоляя государя не затевать войну, потому что с войной будет конец России и им самим [царствующим особам] и положат до последнего человека».[412] Вырубова лично передала одну из таких депеш царю. Она свидетельствует, что тот принял телеграмму с глухим раздражением, а, по другой версии, даже разорвал на мелкие кусочки.
События на Балканах не раз уже приводили Россию на грань войны «за славянское дело», хотя мало кто понимал, в чем, собственно, оно состоит. Освобождаясь от владычества Турции, малые балканские народы тотчас вступали в борьбу друг с другом, а это открывало калитку в их задний двор для Австрии. Россия бряцала оружием, но к войне готова не была. В 1910 году роковое развитие событий предотвратил Столыпин, в 1912-м — Коковцов. В 1914-м (премьером был уже «вынутый из нафталина» Горемыкин) отчаянную попытку остановить царя предпринял Витте. Давний сторонник континентального союза (Франции-Германии-России), он понимал, что война между ними может привести только к гибели. Но Витте был ненавистен слабому и лукавому самодержцу и повлиять на события не мог. Если у кого был шанс остановить его, то только у Распутина. Старец был убежден, что, будь он в тот момент в Петербурге, войны бы не допустил. Так это или нет, проверить невозможно, так как история не знает альтернативных вариантов. Она пишется набело.
Согласно доминирующему мнению, Первая мировая война открыла путь к революции. Такова основополагающая концепция советской историографии; из нее исходил и Солженицын, когда начинал раскрутку «Красного колеса» с августа 1914 года.
Между тем, внутреннее положение России было таково, что война отодвинула революционный взрыв, а не приблизила его. После позорного провала дела Бейлиса и распутинских скандалов власть находилась в глухой изоляции от страны и общества. Грозно нарастало забастовочное движение, сопровождавшееся массовыми демонстрациями под красными флагами, с пением революционных песен. За первые четыре месяца 1914 года, суммировала газета «Русские ведомости», в России бастовало 447 тысяч рабочих — против 95 тысяч за такой же период 1913 года, тоже далеко не спокойного.[413]
Но наиболее важным признаком надвигающегося взрыва был не сам по себе рост рабочего движения, а солидарность с ним почти всех слоев общества. Даже съезд промышленников, словно для намеренного посрамления марксистской ортодоксии, поддержал рабочее движение. В телеграмме на имя премьера Горемыкина съезд указал, что забастовки вызваны причинами, которые лежат «вне сферы действия торговли и промышленности». «Власть борется с рабочим движением средствами, которые промышленники не могут одобрить. Задача промышленности — ввести рабочее движение в должные рамки и смягчить его, а не обострять; между тем, правительство в своей борьбе с рабочими знает один лишь лозунг, держится одного лишь принципа: хватай!» — говорили делегаты съезда.[414]
Правительство насаждает «повсеместный административный произвол», «создает недовольство и глубокое брожение в широких и спокойных слоях населения»,[415] — констатировала резолюция Государственной Думы, принятая большинством в две трети голосов, то есть ее поддержали не только революционные партии, не только умеренная кадетская оппозиция, но и партия октябристов.
«Наше объединенное правительство лишено творческих сил и государственного понимания… На одно только у объединенного правительства хватает энергии и страсти — на борьбу с обществом, — мотивировал резолюцию умеренный депутат-прогрессист[416] Ефремов. — Земства и города всячески стесняются, школы и суд разрушаются. На права народного представительства [Думы] ведется систематический поход. Только в этом правительство объединено, только в этом здесь оно действует последовательно… Антагонизм различных ведомств во всем, что не касается борьбы с обществом, интриги сановников, своеволия местных властей, вмешательства союзнических [Союза русского народа] организаций и прикрывающихся религиозным мистицизмом развратных проходимцев [Распутин], вмешивающихся в назначение высших должностных лиц и в управление государством, — все это служит ясным показателем разложения и анархии власти».[417]
Обстановка грозно напоминала 1905 год, причем становилась все более накаленной. С начала июля на Путиловском заводе начались волнения в знак солидарности с бастовавшими бакинскими нефтяниками, беспорядки быстро перекинулись и на другие предприятия.
«4-го июля, с утра в течение дня, прекратили работу рабочие фабрично-заводских предприятий и типографий, в числе около 60 000 человек, причем большая часть из них, выйдя на улицу, пыталась петь революционные песни и по пути следования снимать с работ небастующих еще рабочих, но чинами полиции демонстранты были немедленно рассеиваемы», — писала газета «Ранее утро».[418] В столкновениях с полицией было убито несколько человек; их похороны вылились в еще более грозные демонстрации. Когда против демонстрантов вызывали казаков, демонстранты не разбегались, а строили баррикады.
Забастовки протеста охватили многие предприятия Москвы, Харькова, Варшавы; в Риге бастовало 40 тысяч рабочих, восемь тысяч — на верфи в Николаеве. Волнения охватили крестьянство, так и остававшееся по преимуществу безземельным и малоземельным.
Плакат времен Первой мировой войны
Но вот — объявлен манифест о войне, и, словно по волшебству, революционные выступления превращаются в «патриотические» манифестации. Улицы запружены народом, но вместо красных флагов над толпами развеваются национальные, вместо революционных песен — звучит «Боже, царя храни!»; с балконов и с возвышений раздаются пламенные речи, но не «долой самодержавие!», а — в защиту «братьев-славян». Председатель Думы Родзянко, смешиваясь с толпой, с изумлением узнавал, что она состоит в основном из тех самых рабочих, которые только что «ломали телеграфные столбы, переворачивали трамваи и строили баррикады».[419]«Аграрные и всякие волнения в деревне сразу стихли в эти тревожные дни, — продолжает тот же свидетель, — и как велик был подъем национального чувства — красноречиво свидетельствуют цифры: к мобилизации явилось 90 % всех призываемых, явились без отказа и воевали впоследствии на славу. Настроение было далеко не революционное, а чисто патриотическое и воодушевленное».[420]
Лидер кадетов Милюков и вся его партия без колебаний выступили за войну. Более того, в поддержку войны выступили наиболее авторитетные лидеры революционной эмиграции Плеханов, Кропоткин и другие, а Бурцев вернулся в Россию, чтобы лично участвовать в борьбе с врагами отечества, но был арестован и отправлен в ссылку. Ленин, конечно, заклеймил «социал-предателей», но большевистские лидеры в самой России, зная доминирующие настроения рабочих, растерянно мялись и не знали, каких лозунгов держаться…
Я далек от мысли, что война была развязана с сознательным расчетом — остановить революционный подъем, как это безуспешно пытался сделать Плеве десятью годами раньше. Тут был не расчет, а инстинкт самосохранения власти, и он сработал безошибочно. Войну в Европе, в непосредственной близости от жизненных центров страны, население восприняло иначе, чем далекую японскую.
Непонятно было только одно — какова цель войны. Милюков, считавшийся специалистом по иностранной политике, и в особенности — по Балканам, пытался дать «общее понимание смысла войны, ее значения для России, ее связи с русскими интересами, [на чем] предстояло объединить русское общество». Он написал об этом сотни статей, которые «могли бы составить несколько томов», а добился только ироничного прозвища Милюков-Дарданелльский.[421] Вот ради чего русский мужик должен был покинуть родную хату, мерзнуть в траншеях, кормить своим немытым телом тифозную вошь. Вот для чего предстояло ему погибнуть или остаться калекой, вот для чего надо было осиротить целое поколение детей, в конец разорить и без того бедствовавшую русскую деревню, заморить голодом и холодом города, поставить на карту само существование России! Ради Дарданелл.
Мало того, что, ввязавшись в небывалую по масштабам войну, страна не сумела определить своей национальной цели, — под мудрым руководством неунывающего военного министра Сухомлинова она оказалась ужасающе неподготовленной. Правда, по его оптимистическим подсчетам, армия была всем обеспечена сверх головы — на шесть месяцев! А поскольку война должна была закончиться раньше, то беспокоиться было не о чем.
Похоже, что так считал и назначенный главнокомандующим великий князь Николай Николаевич. Патронов войска не жалели, снарядов не берегли, чем и обеспечивались относительные удачи первых месяцев. Правда, армия генерала Самсонова, уверенно двинутая в Восточную Пруссию, попала в окружение и погибла; зато австрияков русские войска вытеснили из Галиции, вторглись и в австрийскую часть Польши. Потери были велики, но с этим командование не считалось: людишек в России хватало. Вот боеприпасы и снаряжение быстро истощались, а пополнений почти не поступало.
Как свидетельствует Родзянко, уже в ноябре 1914 года его вызвал в ставку великий князь и взмолился: «Я в безвыходном положении, армия без сапог, помогите!»
Понадобилось четыре миллиона пар сапог. Много это или мало? Для казенных предприятий, на которые только и ориентировалось правительство, то было непосильное бремя, но не для частной промышленности. Всего-то и дела — собрать съезд представителей общественных организаций, обсудить положение и распределить заказы по предприятиям — в зависимости от их реальных возможностей. Но когда Родзянко обратился к министру внутренних дел Н. А. Маклакову за официальным разрешением на проведение съезда, тот ответил:
«Я не могу дать вам разрешение на созыв такого съезда; это будет нежелательной и всенародной демонстрацией в том направлении, что в снабжении армии существуют непорядки. Кроме того, я не хочу дать этого разрешения, так как, под видом поставки сапог, вы начнете делать революцию».[422]
Правительство оказалось неспособным обеспечивать фронт оружием, боеприпасами, продовольствием; но, как собака на сене, не позволяло мобилизовать на это дело общественные организации и частную промышленность.
«При поездке моей в Галицию на фронт, весной 1915 года, я был свидетелем, как иногда отбивались неприятельские атаки камнями, и даже было предположение вооружить войска топорами на длинных древках», — пишет Родзянко.[423]
В конце концов, фронт был прорван, началось беспорядочное отступление, враг вторгся на территорию России. Срочно понадобилось на кого-то свалить вину, но в этом деле расторопности было не занимать. Протопресвитер российской армии и флота отец Георгий Шавельский не без иронии писал:
«Если в постигших нас неудачах фронт обвинял Ставку и военного министра, Ставка — военного министра и фронт, военный министр валил все на великого князя, то все эти обвинители, бывшие одновременно и обвиняемыми, указывали еще одного виновного, в осуждении которого они проявляли завидное единодушие: таким „виноватым“ были евреи»[424]
«Завидное единодушие» трансформировалось в действия:
«В виду развившегося шпионажа со стороны евреев, немецких колонистов и разного рода пришельцев, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта приказал…»: «Воспрещаю прибытие в крепостной район лиц иудейского вероисповедания, выселяемых по военным надобностям из Курляндской, Лифляндской и Ковенской губерний и вообще из района военных действий…» «На основании телеграммы Сувалкского губернатора предписываю немедленно выселять поголовно всех евреев, находящихся в Гмине…» «Главнокомандующий приказал приостановить массовое выселение евреев из пунктов не районов военных действий [значит, и из тыловых районов высылали]. Евреям, выселенным из таких пунктов, главнокомандующим разрешено возвратиться в место своего жительства под ответственность заложников, неправительственных раввинов и богатых влиятельных евреев». «Верховный главнокомандующий признает поголовное выселение евреев крайне затруднительным и вызывающим много нежелательных осложнений. Главнокомандующий допускает применение поголовного выселения только в исключительных случаях и считает необходимым взять заложников из неправительственных раввинов и богатых евреев с предупреждением, что в случае измены со стороны еврейского населения заложники будут повешены».[425]
В книге Солженицына такие официальные документы не цитируются, зато, в свойственной ему манере, нанизаны цитаты — преимущественно из «еврейских» источников, — подобранные таким образом, чтобы показать, будто гонения на евреев были организованы то ли немцами, то ли поляками, то ли инопланетянами. Начальник генерального штаба Н. Н. Янушкевич в связи с этим попадает в разряд «поляков, принявших православие». Такое указание тоже отыскивается в «еврейских источниках». Не отыскано, пожалуй, только то, что главнокомандующий Николай Николаевич и поставивший его император Николай II были «немцами, принявшими православие». (Благодаря династическим бракам, русской крови у Николая II было не больше одной тридцать второй, а у его двоюродного дяди великого князя — одной шестнадцатой).[426]
Солженицын, конечно, оговаривается: «Да, он [Янушкевич] мог такое [польское] влияние испытать, но мы не считаем этих объяснений достаточными или как-либо оправдывающими русскую Ставку». (Стр. 480) Что и говорить, трудно оправдать Ставку, тем более, если учесть, что ни одно ее указание не выполнялось на местах с такой инициативой и энтузиазмом, и уже без всяких чужеродных влияний.
Колоритно свидетельство украинского ученого академика Даниила Заболотного, известного бактериолога и эпидемиолога, о его встрече с одним из ведущих фронтовых генералов, А. А. Брусиловым. Ученый посетовал на то, что для некоторых экспериментов ему нужны обезьяны, но их трудно доставать, на что генерал «серьезно спросил: „А жиды не годятся? Тут у меня жиды есть, шпионы, я их все равно повешу, берите жидов“». «И не дожидаясь моего ответа, — продолжал ученый, — послал офицера узнать: сколько имеется шпионов, обреченных на виселицу. Я стал доказывать его превосходительству, что для моих опытов люди не годятся, но он, не понимая меня, говорил, вытаращив глаза: „Но ведь люди все-таки умнее обезьян, ведь если вы впрыснули человеку яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна не скажет“. Вернулся офицер и доложил, что среди арестованных по подозрению в шпионаже нет евреев, только цыгане и румыны. „И цыган не хотите? Нет? Жаль“».[427]
Не везде дело оканчивалось столь безобидно. Объявленное вне закона еврейское население стало объектом постоянного грабежа, насилия, погромов, бессудных расправ со стороны своей собственной — не вражеской! — армии. Воевать со своим мирным населением оказалось легче, чем с вооруженным врагом. Тысячи еврейских семей, со стариками, больными, беременными женщинами, детьми были изгнаны из своих домов и высланы во внутренние губернии, для чего даже пришлось отменить пресловутую черту оседлости. Появление огромного числа беженцев — бездомных и нищих — тотчас сказывалось на условиях жизни местного населения, и без того нелегких, что вело к уже и понятному ожесточению против непрошеных гостей. Не эти обстоятельства заставили власти прекратить массовые депортации, а полная дезорганизация транспорта. Фронт страдал от этого куда больше, чем от мнимого еврейского шпионства.
Ни о чем подобном Солженицын в своей книге не пишет, зато наполняет страницы новыми и новыми оговорками, клонящимися именно к оправданию этих дебильных репрессий: «неубедительно и нереально было бы заключить, что все обвинения [евреев в шпионстве] — сплошь выдумки». (Стр. 480) Убедительно же для него вычитанное у протопресвитера Георгия Шавельского (дабы не подумали чего дурного, отыскивается указание на его еврейское происхождение): «Вопрос этот слишком широк и сложен… не могу, однако, не сказать, что в поводах к обвинению евреев в то время не было недостатка…» (Стр. 482).
Нельзя не заметить явного противоречия между этим высказыванием протопресвитера и приведенным ранее, где он иронизирует (впрочем, вполне добродушно) над тем, как кивали друг на друга истинные виновники военных поражений и как дружно сжимали все свои указующие персты в один скулодробительный кулак, обрушенный на евреев. Но читатель книги «Двести лет вместе» этого противоречия не заметит, потому что найдет в ней только второе из приведенных здесь высказываний Шавельского, но не найдет первого, так что взгляды главы армейского духовенства представлены Солженицыным селективно. Еще очевиднее эта селективность видна в эпизоде, связанным с приездом в Ставку московского раввина Мазе (в то время известного всей стране — благодаря его яркому выступлению в качестве эксперта на процессе Бейлиса). Цитата урезана не только ради экономии места. Повторю ее здесь, обозначая выпущенные места курсивом.
«Беседа наша длилась около трех часов. Д-р Мазе пытался убедить меня, что все нападки на евреев преувеличены, что евреи — как и все другие: есть среди них очень достойные, мужественные и храбрые, есть и трусы; есть верные Родине, бывают и негодяи, изменники. Но исключение не может характеризовать общего. Все еврейство — верно России, желает ей только добра. Огульное обвинение еврейства является, потому, вопиющей несправедливостью, тем более предосудительной и даже преступной, что оно может повести к тяжелым кровавым последствиям… Д-р Мазе просил меня употребить все свое влияние, чтобы предупредить пролитие невинной еврейской крови. Как ни тяжело было мне, но я должен был рассказать ему все известное мне о поведении евреев во время этой войны. Он, однако, продолжал доказывать, что все обвинения евреев построены либо на сплетнях, либо на застарелой вражде известных лиц к евреям». «Друг друга мы не убедили, но расстались мы все же приветливо». (Стр. 483).[428]
Как видим, отец Георгий изложил аргументацию Мазе куда убедительнее, чем свои возражения. Почему же они «друг друга не убедили»? И в чем, собственно, раввин Мазе убеждал отца Шавельского? В том, что среди евреев нет трусов и негодяев? Ни в коей мере! Он говорил только о том, что за отдельных выродков нельзя делать ответственным весь народ. Но отец Георгий в концепции коллективной вины не видел ничего предосудительного. Почему же?
Николай II в Ставке Верховного главнокомандующего
Умный и ироничный священнослужитель ядовито описывает, как припеваючи жила Ставка в то время, когда армия истекала кровью; как великий князь Николай Николаевич непременно почивал после обеда; как пекся о своем здоровье и никогда не разрешал шоферу вести автомобиль со скоростью больше 25 верст в час, дабы не приключилось какой неосторожности; и как окружил он себя целой сворой лощеных адъютантов, от скуки гонявших голубей под его окнами. Подстать ему был и начальник генерального штаба Н. Н. Янушкевич. Единственное его достоинство, отмеченное протопресвитером, состояло в том, что он сознавал свою некомпетентность и в военно-стратегическую работу генерального штаба не вмешивался, переложив ее на подчиненного ему генерала Данилова. Собственный боевой пыл он тратил на создание дымовой завесы вокруг военных просчетов и неудач, а когда скрывать их стало невозможно, — на поиски виновных.
Какой резон было протопресвитеру осложнять свою сладкую жизнь в Ставке, открывая военные действия против двух Николаев Николаевичей — великого князя и Янушкевича? Да пропади они пропадом, эти евреи! Не хотят, чтобы их — всех чохом — обвиняли в трусости и шпионстве, так пусть не чистоплюйствуют и принимают святое крещение! Он же сам не побрезговал, окунулся в купель, — и каких высот достиг!
Но если казенный духовник армии и флота умыл руки, то отношение подлинных духовных лидеров России к неслыханным гонениям на бесправный народ было совсем иным. Передо мной литературный сборник «Щит», 1915 года издания.[429] Материалы в нем расположены в алфавитном порядке авторов — за исключением двух последних, добавленных, когда сборник уже печатался. Вот этот авторский коллектив, как он представлен в оглавлении: Л. Андреев, К. Арсеньев, М. Арцыбашев, К. Бальмонт, М. Бернацкий, акад. В. Бехтерев, В. Брюсов, С. Булгаков, И. Бунин, З. Гиппиус, М. Горький, С. Гусев-Оренбургский, Л. Добронравов, Кн. Павел Долгоруков, Вяч. Иванов, А. Калмыкова, проф. М. М. Ковалевский, проф. Кокошкин, Ф. Крюков, проф. И. Бодуэн-де-Куртене, Е. Кускова, П. Малянтович, Вл. Соловьев, П. Соловьев, Ф. Сологуб, Теффи, Тихобережский, Гр. А. Н. Толстой, Гр. И. И. Толстой, Т. Щепкина-Куперник, А. Федоров, С. Елпатьевский, Вл. Короленко. Это цвет тогдашней русской культуры и литературы.
«Ненависть к еврею — явление звериное, зоологическое — с ним нужно деятельно бороться в интересах скорейшего роста социальных чувств, социальной культуры. Евреи — люди, такие же как все, и — как все люди, — евреи должны быть свободны… В интересах разума, справедливости, культуры — нельзя допускать, чтобы среди нас жили люди бесправные; мы не могли бы допустить этого, если бы среди нас было развито чувство уважения к самим себе… Но не брезгуя и не возмущаясь, мы носим на совести нашей позорное пятно еврейского бесправия. В этом пятне — грязный яд клеветы, слезы и кровь бесчисленных погромов… И если мы не попытаемся теперь же остановить рост этой слепой вражды, она отразится на культурном развитии нашей страны пагубно. Надо помнить, что русский народ слишком мало видел хорошего и потому очень охотно верит в дурное… Кроме народа есть еще „чернь“ — нечто внесословное, внекультурное, объединенное темным чувством ненависти ко всему, что выше его понимания и что беззащитно… „Чернь“ и является главным образом выразительницею зоологических начал таких, как юдофобство». Так писал Максим Горький.[430]
Я намеренно ограничиваюсь цитированием только одного из авторов сборника, и именно наиболее скомпрометировавшего себя последующим коллаборационизмом с кровавой диктатурой «пролетариата». Горький и в молодости не отличался большой нравственной чистоплотностью. Став редактором провинциальной газеты, он — на потребу нелучшей части публики — печатал залихватские статейки с пошленькими антисемитскими колкостями — пока не получил вежливый, но настоятельный выговор от своего наставника в литературе В. Г. Короленко: «При нашем положении прессы, когда многое говорить нельзя, нужно быть особенно осторожным в том, о чем говорить не следует». Этот урок Горький усвоил надолго. Но не навсегда. Прижизненно возведенный в классики и «назначенный» основоположником, он не только смирился с тем, что под железной пятой большевизма о многом говорить нельзя, но вдохновенно насаждал то, о чем говорить не следовало. Мало кто с таким упоением и талантом потворствовал низменным инстинктам внекультурной ленинско-сталинской черни, «объединенной темным чувством ненависти ко всему, что выше ее понимания и что беззащитно». На переломах истории подобные метаморфозы происходят не так уж редко. Об этом, увы, свидетельствует и эволюция А. И. Солженицына.
В авторском коллективе сборника «Щит» нет евреев. Отсутствие евреев неслучайно: защитить беззащитных русская литература посчитала делом чести русских по крови писателей. Таков был духовный климат тогдашнего российского общества. Если бы теперь было возможным появление аналогичного сборника, то не было бы нужды мне писать эту книгу.
Сегодняшнее российское «литературное пространство» залито ядом ненависти, она растлевает души и сердца миллионов; но не видно, чтобы принимались серьезные меры против этого оружия массового поражения. Сегодняшняя Россия, похоже, перестала сознавать, что племенная, религиозная, классовая и всякая групповая ненависть превращает культурный народ во внекультурную чернь, как это понимал, но позднее забыл Максим Горький. Даже русские интеллигенты еврейского происхождения не делают серьезных попыток противостоять культивированию антисемитских мифов, а многие старательно отмежевываются от своих еврейских корней, надеясь, видимо, что мутная волна через них перекатит и лично их не затронет.
Я двадцать лет уже не живу в России, но меня она почему-то затрагивает. Потому и занимаюсь ассенизаторской работой, стараясь в меру своих слабых сил (слишком слабых, увы) защитить евреев от поругания, а неевреев — от растления. Как сказал старший современник Иисуса Христа, еврейский законоучитель Гиллель (восхищавший, кстати сказать, Максима Горького), «если я не за себя, то кто за меня; но если я только за себя, то зачем я; и если не теперь, то когда?»
К чести властителей дум российского общества того времени, они были не только за себя.
В новой травле евреев общество безошибочно разглядело неуклюжую попытку властей свалить вину за военные поражения с больной головы на здоровую. Что касается реального шпионажа (странно, если бы его не было), то он проводился врагом очень умело. Единственным разоблаченным шпионом высокого уровня оказался полковник С. Н. Мясоедов. Скоропалительный военный суд приговорил его к смертной казни, и он тотчас же был повешен: чуть ли не из зала суда отправлен на эшафот. А затем, говоря словами британского историка Г. М. Каткова, «провели облаву по всей России. Арестовали жену Мясоедова, арестовали состоявшее главным образом из евреев [как же без них!] правление пароходной компании, членом которого был Мясоедов, арестовали множество лиц, имевших деловые или вовсе случайные контакты с Мясоедовым… После первого суда всех приговоренных к смертной казни казнили, а остальных судили во второй раз. И выносили новые приговоры — к смертной казни, к тюремному заключению».[431]
Однако и это кровопускание было устроено вовсе не для искоренения шпионажа. «Ставке нужен был суд над изменником, чтобы изменой объяснить неудачи на фронте, и особенно поражение Десятой армии. Когда пришло сообщение о казни Мясоедова, стало уже известно, что армии не хватает оружия и боеприпасов, это и была главная причина отступления летом 1915 года».[432] То есть и Мясоедов, на поверку, оказался еще одним козлом отпущения. Выбор на него пал не случайно. Еще за два года до войны жандармского офицера Мясоедова, оказывавшего особые услуги военному министру, публично обвинял в шпионаже А. И. Гучков. Сухомлинов вступился за своего протеже и спас его от суда; Мясоедов дрался с Гучковым на дуэли. Словом, скандал был громкий, и Мясоедову пришлось уйти в отставку. Когда началась война, он был призван в ополчение, но напомнил о себе Сухомлинову, и с его помощью был направлен на фронт, в агентурную разведку Десятой армии, потерпевшей сокрушительное поражение. Таким образом, новые обвинения Мясоедова прямо били по Сухомлинову.
Перепугавшийся военный министр, вместо того, чтобы потребовать тщательного расследования дела, трусливо сдал «„этого негодяя“, отплатившего ему черной неблагодарностью».[433] Этого только и ждал Янушкевич, технично увязавший дело о шпионаже «с резкими жалобами на нехватку оружия и боеприпасов, а тут уж ответчиком, в конце концов, был сам Сухомлинов».[434]
Катков замечает: «В этой игре в кошки-мышки Сухомлинов выглядит недостойно и жалко. Он даже не пытался оспаривать голословные обвинения Янушкевича, которые, помимо болезненной шпиономании, отдавали антисемитизмом и садизмом».[435] Если учесть, что книга Каткова написана с монархических позиций, то эта характеристика высокопоставленных скорпионов, грызущих друг друга у подножья трона в годину тяжелейшей войны, выглядит особенно выразительно.
Заставив фактически удалить незадачливого военного министра, генерал Янушкович должен был тот час же об этом пожалеть. Новый военный министр генерал Поливанов, назначенный вопреки его известной близости к Гучкову, увидев, в каком катастрофическом состоянии находятся дела, заявил в Совете министров, что «отечество в опасности» и больше всех в этом виноват генерал Янушкевич. Его поддержали некоторые другие министры — у них накопилось немало своих претензий к ставке. Обретя в лице Поливанова решительного лидера, они потребовали удаления Янушкевича, а в противном случае грозили коллективной отставкой. «Старик» Горемыкин пытался внушить коллегам, что в самодержавном государстве они только покорные исполнители воли государя и никаких условий ставить ему не могут. Он намекал, что их «бунт» может привести совсем не к тому результату, какого они добиваются. Это был намек на «фактор Распутина», но Поливанов и поддерживавшие его министры то ли не поняли его, то ли не придали этому значения. И были повергнуты в состояние шока, когда им было объявлено, что государь решил удалить из Ставки не только начальника штаба, но и Верховного — с тем, чтобы самому стать во главе войска.
Начался заключительный этап агонии российского самодержавия.
* * *
С великим князем Николаем Николаевичем-младшим (по-домашнему Николашей) императора связывали особые отношения. Будучи наследником престола, Николай служил под командованием Николаши и… страшно его боялся. (Впоследствии он ему в этом признался, чем ввел в большое смущение). Высокий, стройный, с зычным голосом и уверенными жестами, Николаша был, что называется, «военной косточкой» — таким, каким хотел, но не мог быть сам Николай. Никто не сидел так молодецки в седле. Никто не умел так властно заставлять офицеров ходить по струнке. Никто не умел быть таким простым, грубым и аристократичным в одно и то же время. Никто не выглядел таким уверенным и решительным. Ни зависти, ни ревнивого чувства к Николаше у робкого наследника, а потом императора, почти никогда не возникало: он спокойно признавал превосходство своего бывшего «отца-командира», молча восхищался им.
Николай II и великий князь Николай Николаевич на манёврах. 1913 г.
Великий князь Николаша, со своей стороны, боготворил своего августейшего племянника (полубоготворил, если говорить буквально). Как верноподданный и как мистик (фамильная черта Романовых), он вполне серьезно говорил, что хотя государь император не Бог, но он и не просто человек, а нечто среднее — полубожественное. Никаких выдающихся качеств у государя он не находил, но боготворил его, так сказать, из принципа — как помазанника Божьего. Государю льстило такое отношение. Даже после того, как Николаша, играя револьвером, заставил его подписать ненавистный Манифест 17 октября, он затаил злобу не к нему, а к Витте.
Желая лишний раз угодить августейшей чете, великий князь Николай Николаевич и его брат Петр Николаевич, вместе с их женами-черногорками, первые представили их величествам «святого старца» — чудодейственного целителя и ясновидца. Долго они сами пьянели от его туманных пророчеств. Секрет этого мистического пьянения объяснил сам Гришка: «Ты одно изречешь слово, а они нарисуют себе целую картину».[436]
Скандальные похождения Гришки, в конце концов, развеяли мистический туман: Николаевичи увидели его подлинное лицо; но когда они попытались по-семейному предостеречь их величества, то только обеспечили себе ненависть царицы. Однако расположение императора к великому князю Николаше и после этого оставалось не поколебленным — насколько это вообще было возможно при его колебательном характере. Назначив Николашу главнокомандующим, государь наделил его диктаторскими полномочиями не только над армией, но над губерниями прифронтовой полосы. А поскольку фронт должен был взаимодействовать с тылом, и интересы фронта были приоритетными, то власть Николаши (и начальника генерального штаба Янушкевича) распространялась на все отрасли управления, тесно связанные с нуждами армии.
Оправившись после раны, нанесенной Хионией Гусевой, Распутин вернулся в столицу, патриотически переименованную из Петербурга в Петроград, и быстро сориентировался в новой обстановке. Из миротворца он превратился в сторонника «войны до победного конца». Верховному главнокомандующему он телеграфировал, что хочет посетить фронт, чтобы благословить войска. Николаша ответил кратко и выразительно: «Приезжай, повешу!» Стало ясно, что им двоим на Олимпе власти слишком тесно, из чего Распутин и царица сделали свои выводы.
Пока с фронтов поступали победные реляции, нечего было и думать о том, чтобы пошатнуть положение великого князя. К тому же, пошатнулось положение самого Гришки. О новых похождениях «святого старца», выглядевших особенно вызывающими на фоне войны, опять стали трубить газеты. Григорий Ефимович и Аннушка Вырубова без труда объяснили «маме», что это очередные происки врагов, мстящих святому человеку за его близость к «царям». Но когда пришлось объясняться с «папой», Гришка признал грех, оправдываясь тем, что грехи наши тоже угодны Богу: не согрешишь, так не покаешься. «Папа» так осерчал, что даже накричал на «старца» и запретил ему появляться в Царском Селе.
Неизвестно, как долго длилась бы эта опала, если бы не крушение поезда, в котором Аннушка Вырубова ехала из Царского Села в Петербург. С переломанными ногами и бедрами, с разбитой головой и поврежденными внутренностями, она долго пролежала под обломками вагона, замерзая и истекая кровью. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии, ее рвало кровью, она металась в бреду и повторяла только одну фразу: «Отец Григорий, помолись за меня». Узнав о случившемся, Гришка примчался в Царское Село (на автомобиле графини Витте, потому что выделенный ему от царя автомобиль был из-за немилости отнят), вошел в больничную палату, раздвинул столпившихся у постели умирающей (тут были ее мать, отец, царь, царица, великие княжны — некоторые всхлипывали), взял больную за руку и громким повелительным голосом сказал:
«Аннушка, проснись, поглядь на меня!»
И она открыла свои воловьи глаза, улыбнулась и сказала: «Отец Григорий, это ты? Слава Богу!» После чего снова уснула, но уже спокойным младенческим сном.
«Поправится!» — сказал Гришка, шатаясь, вышел из палаты и от изнеможения рухнул в обморок. (Так гласит легенда).
Аннушка выжила, хотя осталась калекой и не расставалась с костылями; а Распутин после этого еще больше усилил свою власть над царицей, а через нее — над царем. Никакой «клеветы» на старца во дворце не хотели слышать. Все приближенные к царской семье, включая высших чинов министерства двора, дворцового коменданта, фрейлин императрицы, пели осанну «отцу Григорию».
Летом 1915 года заместитель министра внутренних дел и шеф корпуса жандармов генерал В. Ф. Джунковский вынужден был доложить его величеству о результатах дознания в Москве, в связи со скандалом в ресторане «Яр». Согласно донесению полковника Мартынова, «поведение Распутина приняло совершенно безобразный характер какой-то половой психопатии: он будто бы обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести разговоры с певичками, раздавая некоторым из них собственноручные записки с надписями вроде: „люби бескорыстно“». Развеселившийся старец похвалялся: «Этот кафтан подарила мне сама „старуха“, она его и сшила»; «Эх, что бы сама сказала, если бы меня сейчас здесь увидела!».
Илиодор (Труфанов)
Я привел часть документа, опубликованного в книге Олега Платонова «Жизнь за царя (Правда о Григории Распутине)»,[437] в которой впервые вводится в оборот большое число архивных материалов. К сожалению, предвзятым отношением к им же публикуемым документам автор в значительной мере обесценивает собственный труд. Всякую информацию, не подтверждающую высшее благородство и святость Распутина, он дезавуирует как клеветническую, а носителей этой информации клеймит как врагов России, масонов, заговорщиков и просто негодяев, причем, его праведный гнев не ведает пределов. Так, дабы не оставить камня на камне от разоблачающей старца книги монаха-расстриги Илиодора (Труфанова), О. Платонов делает его… «большевиком-чекистом», уточняя для пущей убедительности: «Предложение стать чекистом, по словам того же Труфанова, сделал ему сам Дзержинский, который привлекал его к выполнению самых „деликатных“ (а значит, самых грязных и кровавых) поручений».[438]
Труфанов был аморальным типом, но как он мог стать сотрудником ВЧК, если это почтенное заведение возникло в советской России в декабре 1917 года, а он бежал из царской России в 1914-м (в Норвегию, откуда позднее перебрался в США). Не хочет ли О. Платонов сказать, что глава ВЧК специально ездил в Нью-Йорк, чтобы завербовать Труфанова? Мне приходилось писать о Дзержинском[439] и для этого изучить широкий круг материалов: никаких данных о поездке председателя ВЧК за океан не имеется. Зачем же понадобилась автору эта распутинщина?
За последние годы Олег Платонов издал горы «трудов», разоблачающих «жидо-масонский заговор против России», — во всем причудливом разнообразии вариантов этого «заговора». На некоторых его творениях я кратко останавливался в моей книге «Растление ненавистью».[440] Житие Распутина изготовлено им по такой же методе, как и остальные произведения. Многочисленные выписки из опубликованных и неопубликованных источников, частоколы библиографических и архивных ссылок, объемистые приложения, в которых перепечатывается историко-литературный хлам столетней и двухсотлетней давности, призваны придать работе вид научной основательности. Но это только обрамление, упаковка. А внутри — псевдо-патриотическая труха. Цель нового сочинения — вызвать ненависть к евреям, масонам и иным «врагам» России, а реальный результат — глумление над Россией. Чего стоит само название его книги, ставящее Гришку Распутина (Распутина!!) в один ряд с легендарным национальным героем Иваном Сусаниным!
Не проводя параллелей между О. Платоновым с А. И. Солженицыным, я не могу не обратить внимание на то, как сходятся крайности. В книге Солженицына Распутин — величина отрицательная, и он «облеплен» евреями. У Платонова старец — величина положительная, и евреи «облепляют» его главных ниспровергателей. Самый злостный из них — почти столь же злостный, как расстрига-чекист Труфанов, — журналист В. Б. Дувидзон (тот, кто в книге Матрены Распутиной назван Давидсоном; из мимолетного ухажера Матрены О. Платонов превращает его в ее жениха).
Полицейское донесение об инциденте в московском ресторане «Яр» Платонов, конечно, объявляет сфальсифицированным, причем по заданию Джунковского, который доложил о нем царю не потому, что был обязан к тому по должности, а потому, что был масоном и имел цель — погубить Россию и ее праведника. Спорить с этим нет необходимости, ибо сам автор признает, что тайная принадлежность Джунковского к масонству раскрылась уже после революции; царь о его «подрывной» деятельности знать не мог. Однако результатом доклада Джунковского о распутинском непотребстве стала… отставка Джунковского. Снова сработала чудодейственная сила старца!
Великий князь Николаша был куда более твердым орешком, чем какой-то шеф корпуса жандармов, но когда победные реляции с фронта сменились известиями о беспорядочном отступлении, Распутин и его команда поняли, что пробил час рассчитаться и с ним.
Александра Федоровна стала внушать августейшему супругу, что во всех фронтовых неудачах виноват Верховный. А все потому, что он — враг «нашего Друга» и друг «наших врагов». Это и подтвердилось — хотя бы тем, что когда пала Варшава и германские войска подступили к городу Слониму, а вблизи, в Жировицком монастыре, томился на положении узника епископ Гермоген, то великий князь отправил его в Москву, да еще подчеркнул свое почтение к нему и его сану, выделив для переезда два отдельных вагона. «Папе» этот эпизод был представлен как заигрывание с оппозиционными кругами, осуждавшими незаконную (через голову Синода) опалу популярного епископа. А дальше пошли разговоры о нелояльности великого князя, о подготовке дворцового переворота. Кем-то были отпечатаны тысячи экземпляров портрета главнокомандующего с подписью «Николай III».
Имея под рукой многомиллионное войско, Верховный мог сковырнуть императора одним движением пальца! Требовалось срочно лишить его такой возможности. Но кого поставить на его место? Любой генерал на посту главнокомандующего будет столь же опасен! Словом, «папа» позволил «маме» и ее (их!) духовному руководителю убедить себя, что у него нет иного выхода, как взвалить на свои плечи еще и это бремя!
Когда решение государя — еще не объявленное стране, но уже бесповоротное — было сообщено на заседании Совета министров, оно вызвало бурю эмоций. Министры вовсе не ждали столь радикальной перемены. Они добивались замены начальника штаба, надеясь, что на месте заносчивого и бездарного Янушкевича появится генерал, с которым можно работать. А великий князь в роли главнокомандующего их вполне устраивал.
Военный министр Поливанов назвал решение государя «непоправимым бедствием». С ним согласились все министры, имевшие собственный голос. Благодаря тому, что царю пришлось вслед за Сухомлиновым отстранить еще нескольких наиболее одиозных министров — Щегловитова, Маклакова, Саблера (обер-прокурора Синода), в правительстве появились независимые голоса (увы, ненадолго!). Новые министры понимали, хотя об этом не говорилось прямо, что роковое решение государя вызвано влиянием «темных сил».
Премьер Горемыкин предупреждал, «что любая попытка переубедить государя будет безуспешной: „Сейчас же, когда на фронте почти катастрофа, его величество считает священной обязанностью русского царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть. При таких чисто мистических настроениях вы никакими доводами не уговорите государя отказаться от задуманного им шага. Повторяю, в данном решении не играют никакой роли ни интриги, ни чьи-нибудь [Распутина!] влияния“».[441]
Но для министров не было секретом, что сам Горемыкин — креатура Распутина и ни на что, кроме угодничества перед теми, кто выше и сильнее его, не способен.
Некоторые министры на ближайших верноподданнических докладах пытались воздействовать на царя, но наталкивались на упрямое молчание. Тогда они, по словам Каткова, «сделали нечто неслыханное: подписали коллективное письмо, в котором еще раз умоляли государя не совершать этот ужасный шаг, угрожающий царю и династии».[442]
Эти «отчаянные попытки министров» Катков считает непонятными, но они более, чем понятны. Великий князь Николай Николаевич как кадровый военный высокого ранга разбирался в своем деле лучше, чем государь, так что принятие императором верховного командования не сулило фронту ничего хорошего, ответственность же за новые поражения ложилась бы непосредственно на государя, то есть каждая военная неудача становилась бы прямым ударом по престижу власти, и без того крайне шаткой. А, главное, занимаясь фронтом, государь должен был меньше внимания уделять тылу, а это вело к еще большему вмешательству царицы и ее «старца».
Сформировавшийся в Думе «Прогрессивный блок» согласился поддержать правительство, но поставил условие: оно должно состоять из лиц, «пользующихся доверием общества». Речь шла не о подотчетности правительства Думе, а только о том, чтобы к власти были призваны люди, известные стране и чем-то себя зарекомендовавшие.
Министры, готовые сотрудничать с Думой, стали намекать на необходимость смены премьера. «Правительство, опирающееся на доверие населения, — ведь это нормальный государственный порядок», — говорил Поливанов.[443] Горемыкин предлагал вместо перемен в Совете министров распустить Думу. Историк Катков обращает внимание на одно место в воспоминаниях В. И. Гурко, «хорошо знавшего закулисную сторону», где он говорит, что «союз Кривошеин-Поливанов был для России последней возможностью избежать того раскола между троном и общественностью, который… и привел к крушению монархии».[444] Правда, сам Катков считает такую «оптимистическую точку зрения» сомнительной.[445] Но это область чистых спекуляций: этот путь испытан не был. Хотя государь дал согласие на образование «министерства доверия», его решение тотчас было перерешено. Как пишет Гурко, Распутину Россия «обязана и тем, что осенью 1915 года государь изменил принятое им решение и, вместо призыва к власти лиц, пользовавшихся доверием общественности, уволил от должностей всех министров, для общественности приемлемых».[446] О каком «министерстве доверия» можно было говорить, если во главе пирамиды власти стоял уже не вечно колеблющийся государь, и не его «железная леди» и даже не «наш Друг» Распутин, а… распутинский гребешок!
Да, когда Совет министров в полном составе явился по вызову государя в Ставку, чтобы изложить перед ним свои разногласия, государыня срочно настрочила ему письмо-инструкцию. Он должен перед встречей с министрами причесаться гребешком, подаренным «нашим Другом», отчего сойдет на него Божеская мудрость, твердость и благодать. Это он и сделал, чтобы потом доложить супруге: гребешок действительно выручил — встреча прошла благополучно; он всех примирил и дал указание, чтобы дальше работали дружно и не «бунтовали». Это не помешало следом одного за другим отправить в отставку министров, которые «пользовались доверием».
Зачем министры и генералы, когда старец «имел ночное видение» о том, что нужно «начать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо, а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много крови». О. Платонов, цитирующий письмо царицы, находит, что «многие военные советы Распутина… были, как правило, очень удачны». Ну, а по части гражданского управления его советы были просто бесценны! Как в условиях войны, разрухи, бесконтрольного печатания бумажных денег (по боку золотое обеспечение рубля, введенное Витте и поддерживавшееся изо всех сил его антагонистом Коковцовым!), как в этих условиях сдержать инфляцию? Оказывается, нет ничего более простого! «Наш друг думает, — наставляет царица царя, — что один из министров должен был бы призвать к себе нескольких главных купцов и объяснить им, что преступно в такое тяжелое время повышать цены, и устыдить их».[447]
Вот и решение вопроса, над которым лучшие экономисты мира бьются по сей день. Устыди «главных купцов», и все станет на место! Потешайся после этого над кремлевским мечтателем, который провидел будущее, в котором кухарка станет управлять государством. Такое светлое будущее уже было реализовано в прошлом! Государством управлял замечательный кухар! В. И. Гурко, осведомленный о том лучше Ленина, писал: «Царствование Николая II превращалось таким путем в принципе в то самое, что утверждал еще в 1765 году фельдмаршал Миних: „Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, — говорил Миних, — что оно управляется самим Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует“. Возвести это положение в догму суждено было Николаю II. Не на основании какой-либо системы или вперед намеченного плана и не в путях преследования твердо определенных целей стремился он править великой империей, а как Бог ему в каждом отдельном случае „на душу положит“».[448] Нужно добавить, что речь идет о том Боге, который являлся старцу Распутину в его видениях.
Судьбе, однако, угодно было дать российскому самодержавию еще один, теперь уже последний шанс. С осени 1915 года фронт стабилизировался. Это не имело отношения к принятию царем верховного командования, но было прямо связано с удалением Янушкевича. (Вместе с великим князем он был отправлен на второстепенный Кавказский фронт). Начальником штаба стал генерал М. В. Алексеев. Вот это назначение меняло дело: фактическое руководство войсками перешло в руки профессионала высокого класса.
Не менее важным было то, что, не пойдя на создание министерства доверия, царь вынужден был пойти на сотрудничество с общественностью. Было разрешено то, что раньше считалось крамолой. В работу по обеспечению фронта включилось земство, промышленные союзы, общественные организации. Заработали военно-промышленные комитеты. К фронту двинулись эшелоны с винтовка ми, патронами, снарядами, продовольствием, обмундированием. Материальные ресурсы страны еще не были исчерпаны. Наступление врага было остановлено, а в летнюю кампанию 1916 года русским удалось перейти в контрнаступление на юго-западном фронте (Брусиловский прорыв).
Но административная часть руководства оказалась в руках распутинской клики, то есть нравственно неполноценных, разложившихся казнокрадов, рвавшихся к постам, званиям и жирному государственному пирогу. С невероятной быстротой происходили смены министров. Предлагая «папе» кандидатов на высокие должности, «мама» признавала только один критерий: «любит нашего Друга». Ну, а кто его любит, и кто не любит, подсказывал сам Распутин. Хитрый мужик не всегда действовал прямо. Через Вырубову и других своих ставленников он внушал царице нужную мысль, а потом одобрял «ее» решение.
«Относительно преувеличения влияния Распутина ныне, после опубликования писем императрицы к государю, говорить не приходится, но нельзя согласиться и с тем, что главный вред произошел от разоблачения той роли, которую играл при дворе этот зловещий, роковой человек, — писал В. И. Гурко. — Нет, вред им приносимый, был непосредственный. Ведь ему Россия обязана тем, что правящий синклит в последний, распутинский период царствования становился все непригляднее и вызывал к себе, благодаря своей близости к этому человеку, и отвращение, и возмущение».[449]
Понятно, что чем больше в человеке было лакейского пресмыкательства, готовности на любую низость и подлость, тем легче ему было втереться в доверие государыне, государю и святому старцу. Иные качества не играли никакой роли. Так экзарх Грузии Питирим (П. В. Окнов) был поставлен митрополитом Петроградским и Ладожским, хотя перед назначением открылось, что он — «человек сомнительной нравственности», то есть гомосексуалист, состоявший в греховной связи со своим секретарем Осипенко. Ничего более постыдного, как священнослужитель, впавший в содомский грех, в те времена невозможно было вообразить, а тем более — для людей религиозных, чтящих Священное писание. Но Распутину был удобен Питирим. Питирим взял в столицу и своего секретаря Осипенко, который стал связующим звеном между ним и «старцем» (сам митрополит тщательно скрывал, что знается с Распутиным).
Концентрированным воплощением распутинщины стал тандем Хвостов-Белецкий. Старец провел их на посты министра и товарища министра внутренних дел. А. Н. Хвостов издавна стремился к «высшей власти», но путь к ней был тернист. В 1911 году, когда Хвостов был нижегородским губернатором, Распутин приезжал его «смотреть», а после убийства Столыпина царь хотел поставить его министром внутренних дел. Этому воспротивился Коковцов — он в тот момент был нужнее. Но Хвостов заключил, что его дело не выгорело из-за того, что он не очень почтительно принимал Распутина, и решил исправиться.
Чтобы быть поближе к старцу и вообще к верхам, Хвостов в 1912 году выставил свою кандидатуру в Четвертую Думу и, злоупотребляя положением губернатора, добился избрания. В Думе он занял место на самом правом депутатском фланге и был так активен, что стал лидером фракции правых. Во дворец он являлся с бантом Союза русского народа в петлице, это нравилось. Но, главное, он сумел заключить с Распутиным своего рода договор о взаимопомощи и взаимных услугах. Для еще большего укрепления своего положения он — с помощью того же Распутина — провел в свои заместители С. П. Белецкого.
Белецкий — такой же черносотенец — сыграл особенно грязную роль за кулисами процесса Бейлиса, но, несмотря на это, застрял
на посту начальника Департамента полиции, а потом и вовсе был сослан в сенат. Его ахиллесовой пятой была совестливая жена, которая не жаловала Распутина, заставляя и мужа держаться от него в стороне. Но карьерные соображения перевесили, и Белецкий, по секрету от жены, стал обхаживать Распутина, что очень скоро принесло вожделенные плоды.
О том, что представлял собой этот тандем, лучше всего рассказать словами О. Платонова, хотя его текст мне придется сопроводить ремарками.
«Хвостов и Белецкий — два классических афериста и проходимца, рожденных разложением высших слоев государственного аппарата, — пишет автор „Жизни за царя“. — Такие люди, как они, были не единичны в то время. В жизни их интересовала только карьера, а где и с кем ее делать, их не волновало. Держа нос по ветру, они могли представлять себя ярыми сторонниками и патриотами России и вместе с тем находиться в постоянном контакте с самыми темными антирусскими силами: масонами, кадетами, большевиками».
Соглашаясь в основном с этой характеристикой, я должен поправить О. Платонова относительно «антирусских» сил. Главной такой силой в то время была Германия. Кадеты стояли на патриотических позициях «войны до победного конца», в которой, между прочим, погиб сын Милюкова, добровольно пошедший на передовую по настоянию отца, тогда как призванный в армию сын Распутина отсиживался в тылу. В масоны О. Платонов записывает всех, кого хочет. Тем не менее, с большевиками Хвостов и Белецкий контактов не имели, а после Октября их «контакт» заключался в том, что они оказались в большевистском застенке и были расстреляны.
«Хвостов был способен на любую подлость и низость, — продолжает автор „Жизни за царя“. — Он мог лебезить и пресмыкаться перед людьми, от которых зависела его карьера, и вместе с тем вести против них самые гнусные интриги. Когда был обед по случаю назначения Хвостова министром внутренних дел (которым он был обязан Распутину), то Хвостов отказывался есть, пока Распутин его не благословит. Тогда тот его благословил, а Хвостов поцеловал ему руку».
Августейшая чета
«Назначая Хвостова и Белецкого руководить министерством внутренних дел, царь и царица рассчитывали, что они положат конец кампании лжи и клеветы против Распутина ([Хвостов и Белецкий] их в этом заверяли). Об этом государыня говорит в своем письме от 20 сентября 1915 года».
Так вот в чем царь и царица видели основную задачу министерства внутренних дел — в ограждении старца от нападок! Кто же за кого отдал жизнь, старец за царя, или царь и царица поплатились собственной жизнью и жизнью своих детей — если не за него, то из-за него!
«Но на деле они [Хвостов и Белецкий] оказались низкими интриганами, обделывавшими свои делишки, в душе ненавидевшими и презиравшими и царя, и царицу и, конечно, ближайших друзей — Распутина и Вырубову. Хвостов и Белецкий, выдавая себя за настоящих верноподданных, на самом деле вели низкую интригу по дискредитации Распутина и даже подготавливали его убийство».
Б. В. Штюрмер
Эти подробности частично почерпнуты автором из показаний Манусевича-Мануйлова, который, однако, гораздо живее передает свой разговор с Распутиным: «„Ты знаешь, меня на днях убьют!“ Я говорю: „Кто же“ — „Да все, всё готово для того, чтобы меня убить…“ Я говорю: „Если ты знаешь, то, наверное, примешь меры…“ — „Так! — говорит, — вот рука!.. Вот видишь? — моя рука. Вот эту руку целовал министр, и он хочет меня убить“. Так как он был выпивши, то я думал, что просто — странная история…» Однако совершенно трезвый А. Симанович тоже сообщил о готовящемся убийстве, и Манусевич решил доложить об этом своему шефу В. К. Штюрмеру (возведенному стараниями Распутина в премьеры — взамен окончательно вышедшего в тираж Горемыкина). «Штюрмер отнесся к этому крайне недоверчиво, — продолжает Манусевич, — говорил, что это фантазия и, вероятно, — как он сказал — какие-нибудь жидовские происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов».[450]
Но вернемся к тексту О. Платонова:
«Удивительным набором лжи и клеветы являются показания Хвостова и Белецкого перед следственной комиссией временного правительства. Наглая фальсификация здесь переплетается с лукавой клеветой. Это показания лиц, старающихся переложить ответственность за свои преступления и злоупотребления на мертвого Распутина. Записки Белецкого, точнее, показания, которые Белецкий давал комиссии Временного правительства (неизвестно кем отредактированные и изданные книжкой), представляют собой очень сомнительный материал. Они написаны человеком, знавшим, каких показаний от него добиваются в отношении Распутина. Кроме того, это показания человека, стремящегося замести следы своих должностных преступлений, и, прежде всего, участие в расхищении казны, присвоении средств, которые выдавались на разные секретные цели».[451]
Не жалея черной краски при обрисовке двух наиболее одиозных креатур Распутина, Платонов, видимо, не сознает, что рикошетит в самого старца. Негодование автора кипит, пенится, переливается через край, выжигая неугодные ему свидетельства тандема, ибо Распутин выглядит в них таким же мерзким, как сами подследственные. Считать их показания абсолютно правдивыми было бы верхом наивности, но никакого стремления «переложить ответственность за свои преступления и злоупотребления на мертвого Распутина» в них нет: это просто невозможно. Распутин официальной должности не занимал и должностных преступлений совершать не мог. А то, что они — Хвостов и Белецкий — совершали свои преступления при его помощи, их вину только усугубляет.
Хвостов метил в премьеры, с тем, чтобы министром сделать Белецкого. Когда же распутинская клика продвинула Штюрмера, они решили отделаться от старца. Технически это было просто: именно их филеры вели наблюдение за Распутиным и охраняли его. Но в этом состояла и трудность, ибо, в случае убийства старца, их обвинили бы, как минимум, в попустительстве и халатности. Белецкий понял, что играет с огнем, и покушения сначала, роковым образом, не удавались, а затем Белецкий донес на своего шефа. Старец и царица вышвырнули обоих.
Но те, кто пришел на смену, оказались не лучше. Может быть, они не были столь коварны по отношению к старцу, но их некомпетентность, алчность и бездарность были такими же.
Всем становилось ясно, что распутинщина — это не отдельные личности, в которых ясновидящий старец мог ошибиться, а система. Страна шла к катастрофе, это понимали все, кто только способен был что-либо понимать. Все — кроме царя и «облепившей» его распутинской клики во главе с царицей. Кто только и как только не пытался пересилить эту страшную силу!
В Ставку приезжает великий князь Николай Михайлович, рисует перед Николаем картину приближающегося краха, умоляет поговорить о том же с самыми доверенными людьми, оставляет памятную записку… Но — возмущенная реакция Александры Федоровны, и все остается без перемен.
Император проводит два дня в Киеве с императрицей-матерью. Она рыдает кровавыми слезами, прося что-то сделать для спасения страны и династии. И снова Александра Федоровна реагирует с возмущением.
Государя осаждают со всех сторон с теми же предостережениями, но тщетно. Даже протопресвитер Шавельский, столь ценивший личное спокойствие и благополучие, решился поговорить с государем начистоту. Воспоминания его хорошо передают атмосферу тех судьбоносных недель.
«Решаясь на беседу с государем, я сознавал, что делаю насколько ответственный, настолько же лично для себя опасный шаг. Но сознание необыкновенной остроты данного момента и массы соединенных с ним переживаний сделали меня совершенно бесчувственным и безразличным в отношении собственного благополучия….
— Ваше величество! — начал я — Я четыре дня пробыл в Петрограде и за это время виделся со многими общественными и государственными деятелями. Одни, узнав о моем приезде, сами ко мне поспешили, к другим я заезжал. Все это — честные, любящие вас и Родину люди.
— Верю! Иные к вам не поехали бы, — заметил государь.
— Так вот, все эти люди, — продолжал я, — обвиняют нас, приближенных ваших, называя нас подлыми и лживыми рабами, скрывающими от вас истину.
— Какие глупости! — воскликнул государь.
— Нет, это верно! — возразил я. — Не стану говорить о других, скажу о себе. В докладах о поездках по фронту и вообще в беседах с вами приятное я всегда вам докладывал, а о неприятном и печальном часто умалчивал. Дальше я не хочу навлекать на себя справедливое обвинение, и, как бы вы не отнеслись к моему докладу, я изложу вам голую правду. Знаете ли вы, ваше величество, что происходит в стране, в армии, в Думе?… Там в отношении правительства нет теперь ни левых, ни правых партий, — все правые и левые объединились в одну партию, недовольную правительством, враждебную ему…. Вы знаете, что в Думе открыто назвали председателя совета министров [Штюрмера] вором, изменником и выгнали его вон…. Гроза надвигается… Если начнутся народные волнения — кто поможет вам подавить их? Армия? На армию не надейтесь! Я знаю ее настроение — она может не поддержать вас. Я не хотел этого говорить, но теперь скажу: в гвардии идут серьезные разговоры о государственном перевороте, даже о смене династии… Пора, ваше величество, теперь страшная. Если разразится революционная буря, она может всё смести: и династию, и, может быть, даже Россию. Если вы не жалеете России, пожалейте себя и свою семью. На вас и на вашу семью ведь прежде всего обрушится народный гнев. Страшно сказать: вас с семьей могут разорвать на клочки…
— Неужели вы думаете, что Россия для меня не дорога? — нервно спросил государь.
— Я не смею этого думать, — ответил я, — я знаю вашу любовь к Родине, но осмеливаюсь сказать вам, что вы не оцениваете должным образом страшной обстановки, складывающейся около вас, которая может погубить и вас, и Родину. Пока от вас требуется немного: приставьте к делу людей честных, серьезных, государственных, знающих нужды народные и готовых самоотверженно пойти на удовлетворение их!»[452]
Испугавшись собственной смелости, отец Георгий стал просить прощения за то, что осмелился обеспокоить столь неприятным разговором, и заверял, что руководствовался самыми лучшими побуждениями. Государь благодарил и просил всегда так поступать. А вскоре Шавельскому передали, что императрица, узнав о разговоре, возмутилась: «И ты его слушал!»; на что Николай отреагировал, как заведенная кукла: «Еще рясу носит, а говорит мне такие дерзости».[453]
Если раввин Мазе «не убедил» отца Георгия вступиться за гонимых, то мог ли отец Георгий «убедить» государя спасти самого себя!
Шавельский был не первым и не последним. Приехал в Ставку по делам своего второстепенного фронта великий князь Николай Николаевич. Государь встретил его с прохладцей, но вполне корректно. Николаша не выдержал, заговорил о главном, а затем передал разговор Шавельскому:
«„Положение катастрофическое, — говорю я ему. — Мы все хотим помочь вам, но мы бессильны, если вы сами не поможете себе. Если вы не жалеете себя, пожалейте вот этого, что лежит тут“, — и я указал ему на соседнюю комнату, где лежал больной наследник. „Я только и живу для него“, — сказал государь. — „Так пожалейте же его! Пока от вас требуется одно: чтобы вы были хозяином своего слова и чтобы вы сами правили Россией“. Государь заплакал, обнял и поцеловал меня. Ничего не выйдет! — помолчав немного, с печалью сказал великий князь и безнадежно махнул рукой. — Все в ней, она всему причиной…».[454] И еще раньше он твердил Шавельскому: «Дело не в Штюрмере, не в Протопопове и даже не в Распутине, а в ней, только в ней».[455]
Чтобы устранить ее, надо было устранить его, а решиться на это было очень непросто. Политическая и государственная элита пребывала в состоянии психологической сшибки. Измена государю, присяге, да еще в условиях войны, была для всякого верноподданного равносильна измене своему долгу, Родине, всему святому, что было в человеческой душе. С другой же стороны, государь сам изменял Родине, долгу и самому себе! В этом состоянии сшибки родилась паллиативная идея — избавить страну не от никчемного государя, а от его никчемности, от его злого гения-искусителя Гришки Распутина.
О том, кто и как привел в исполнение этот замысел, я говорить не буду, — об этом слишком хорошо известно. Скажу только, что как бы ни было отвратительно это злодеяние, все-таки оно совершилось из патриотических (без кавычек!) побуждений.
Но связанные с ликвидацией Гришки иллюзии быстро развеялись. Распутинщина оказалась шире, глубже, масштабнее Распутина, и она его пережила. Место ясновидца при дворе пытался занять полоумный Протопопов, совмещая роли старца и его ставленника; когда его полоумия недоставало, государыня и ее верная подруга Аннушка черпали недостающее на могиле Распутина, где подолгу каждый день молились. Говоря словами В. И. Гурко, «для всех и каждого было совершенно очевидно, что продолжение избранного государыней и навязанного ею государю способа управления неизбежно вело к революции и к крушению существующего строя».[456]
Больше не оставалось сомнений: спасти страну и армию может только устранение самого!
Февраль 1917
В сумбурных, непоследовательных, многословных, слишком эмоциональных воспоминаниях М. В. Родзянко запечатлен трагичный, бьющий по сердцу эпизод:
«После одного из докладов, помню, государь имел особенно утомленный вид.
— Я утомил вас, ваше величество?
— Да, я не выспался сегодня — ходил на глухарей… Хорошо в лесу было.
Государь подошел к окну (была ранняя весна). Он стоял молча и глядел в окно. Я тоже стоял в почтительном отдалении. Потом государь повернулся ко мне:
— Почему это так, Михаил Владимирович. Был я в лесу сегодня… Тихо там и все забываешь, все эти дрязги, суету людскую… Так хорошо было на душе… Там ближе к природе, ближе к Богу…»[457]
Николай едва выносил Родзянко: считал его бестактным, назойливым, принимал его редко и только при крайней необходимости, с трудом выслушивал его многословные, напыщенные и всегда неприятные предостережения — тем более неприятные, что по сути-то они были верными! И, при всей своей замкнутости, вдруг обнажил перед совершенно чуждым ему человеком нечто самое сокровенное. Родзянко замечает: «кто так чувствует, не может быть лживым и черствым». К этому нельзя не добавить, что тот, кто так говорит, должен быть бесконечно одиноким, растерянным и несчастным.
22 февраля 1917 года государь император, по срочному вызову начальника генерального штаба М. В. Алексеева, отправился из Царского Села в Ставку (располагавшуюся в Могилеве), не подозревая о том, что государем уже не вернется.
М. В. Алексеев
Алексеев сам только что вернулся в Могилев — после трехмесячного лечения в Крыму. Зачем в Ставке так срочно понадобился царь, если все дела решались без него, а его присутствие, в основном, всех тяготило? Задавшись таким вопросом, исследователь февральских событий Г. М. Катков нашел вполне определенные свидетельства: «государь выехал по телеграфной просьбе генерала Алексеева, не зная, в чем именно заключается спешное дело, требующее его присутствия».[458] Более того, оказалось, что никаких срочных дел его не ожидало. Катков вполне логично ставит этот факт в связь с показаниями Гучкова в Следственной комиссии Временного правительства о намерении «захватить императорский поезд по дороге между Петроградом и Могилевым».[459] Императора заманивали в ловушку!
Но был ли Алексеев в прямом сговоре с Гучковым? Не утверждая этого наверняка, Катков приводит данные о том, что начальник генерального штаба и председатель военно-промышленного комитета имели не только официальные контакты, но вели секретную от государя переписку.
О наличии заговора еще более ясно говорят контакты Председателя земского союза князя Г. Львова (первого премьер-министра Временного правительства), через городского голову Тифлиса А. И. Хатисова, с великим князем Николаем Николаевичем. Вернувшись на новый (1917-й) год из Москвы, Хатисов, от имени князя Львова, предложил великому князю… императорскую корону! Он сообщил, что Николая II намечено свергнуть с престола, царицу отправить в монастырь или выслать за границу, а императором провозгласить его, великого князя Николашу, при условии, что он установит конституционную форму правления. Выслушав это, по-видимому, не очень его удивившее предложение, великий князь попросил время подумать, а на следующий день, в присутствии генерала Янушкевича, ответил отказом. Он объяснил, что не уверен, поймет ли такой переворот «мужик» и поддержит ли армия. Николаша сознавал, что никаких прав на престол у него нет, а он, похоже, чуть ли ни единственный, серьезно относился к юридической стороне вопроса о перемене власти. Об его отказе Хатисов уведомил князя Львова условной телеграммой: «Госпиталь открывать нельзя».[460]
По долгу воинской присяги и просто верноподданного, великий князь обязан был немедленно донести государю о сделанном ему предложении. Он этого не сделал, и, видимо, заговорщики имели основания этого не опасаться. Не донес и генерал Янушкевич, от которого великий князь, очевидно, не имел секретов.
Необходимость устранить Николая для спасения страны от революции и от военного поражения к началу 1917 года стала убеждением почти всей правящей элиты. Насколько это убеждение было справедливо, отдельный вопрос, но оснований для него было достаточно.
М. В. Родзянко
Вот как описывал обстановку в стране председатель Государственной думы Родзянко:
«Совершенно ясно, что вся внутренняя политика, которой неуклонно держалось императорское правительство с начала войны, неизбежно и методично вела к революции, к смуте в умах граждан, к полной государственно-хозяйственной разрухе.
Довольно припомнить министерскую чехарду. С осени 1915 года по осень 1916 года было пять [на самом деле шесть] министров внутренних дел: князя Щербатова сменил А. Н. Хвостов, его сменил Макаров, Макарова [А. А.] Хвостов старший [дядя А. Н. Хвостова] и последнего Протопопов. На долю каждого из этих министров пришлось [в среднем] около двух с половиной месяцев управления [На самом деле, меньше; Родзянко забыл, что три месяца пост министра внутренних дел занимал Штюрмер, совмещая его с постом премьера]. Можно ли говорить при таком положении о серьезной внутренней политике. За это же время было три военных министра: Поливанов, Шуваев и Беляев. Министров земледелия сменилось четыре: Кривошеин, Наумов, граф Бобринский и Риттих. Правильная работа главных отраслей государственного хозяйства, связанного с войной, неуклонно потрясалась постоянными переменами. Очевидно, никакого толка произойти от этого не могло; получался сумбур, противоречивые распоряжения, общая растерянность, не было твердой воли, упорства, решимости и одной определенной линии к победе.
Народ это наблюдал, видел и переживал, народная совесть смущалась, и в мыслях простых людей зарождалось такое логическое построение: идет война, нашего брата, солдата, не жалеют, убивают нас тысячами, а кругом во всем беспорядок, благодаря неумению и нерадению министров и генералов, которые над нами распоряжаются и которых ставит царь».[461]
Конечно, это свидетельство пристрастное: Родзянко, как один из активнейших участников переворота, завершившегося катастрофой, задним числом оправдывал свои действия. Но вот взгляд с другой стороны. На допросе в Следственной комиссии Временного правительства последний царский министр внутренних дел Протопопов показал:
«Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность страны — на громадную убыль… пути сообщения — в полном расстройстве… Двоевластие (ставка и министерство) на железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам… Наборы обезлюдели деревню, остановили землеобрабатывающую промышленность, ощутился громадный недостаток рабочей силы, пополнялось это пленными и наемным трудом персов и китайцев…. Общий урожай в России превышал потребность войска и населения; между тем система запрета вывозов — сложная, многоэтажная, — реквизиции, коими злоупотребляли [Вот откуда берет начало практика продразверсток времен военного коммунизма!], и расстройство вывоза создали местами голод, дороговизну товаров и общее недовольство… Многим казалось, что только деревня богата; но товара в деревню не шло, и деревня своего хлеба не выпускала. Но и деревня без мужей, братьев, сыновей и даже подростков тоже была несчастна. Города голодали, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизиций. Единственного пути к установлению цен — конкуренции — не существовало… Таксы развили продажу „из-под полы“, получилось „мародерство“, не как коренная болезнь, а как проявление недостатка производства и товарообмена… Армия устала, недостатки всего принизили ее дух, а это не ведет к победе»… «Упорядочить дело было некому. Всюду было будто бы начальство, которое распоряжалось, и этого начальства было много. Но направляющей воли, плана, системы не было и не могло быть при общей розни среди исполнительной власти и при отсутствии законодательной работы и действительного контроля над работой министров. Верховная власть… была в плену дурных влияний и дурных сил. Движения она не давала. Совет министров имел обветшавших председателей, которые не могли дать направления работам Совета… Работу захватили общественные организации, они стали „за власть“ [вместо власти], но полного труда, облеченного законом в форму, они дать не могли».[462]
В книге «Двести лет вместе» Солженицын всего этого не касается. Заключительные страницы первого тома он посвящает думским дебатам по еврейскому законодательству, хотя в военное время они не были приоритетными и ничего нового по сравнению с предшествовавшим периодом в них не было. Крайне правые депутаты, в основном Марков Второй, использовали трибуну Государственной Думы для обычной антисемитской пропаганды. Марков возлагал на евреев вину за все трудности, переживаемые страной, вплоть до… скупки разменной монеты. Кадеты протестовали против такой травли и настаивали на скорейшем предоставлении евреям равноправия. Но, хотя кадеты входили теперь в Прогрессивный блок, то есть в коалицию большинства, закона о равноправии евреев они так и не провели: их партнеры по блоку, да и они сами, не считали этот вопрос приоритетным. Солженицын пространно цитирует обе стороны этих дебатов, почти никак их не комментируя. Он приводит путаные объяснения начальника Департамента полиции по поводу разосланных им на места секретных циркуляров, в которых, с одной стороны, на евреев возводятся чудовищные обвинения, а, с другой, предписывается не допускать погромов и других эксцессов. К этому тоже не дается никаких комментариев — кроме того, что правительство, похоже, планировало к Пасхе 1917 года предоставить-таки равноправие евреям, да вот не успело из-за февральского переворота. Впрочем, Солженицын отмечает, что прямых подтверждений этому нет. Если вспомнить, что именно к Пасхе особенно часто приурочивались еврейские погромы и обвинения в ритуальных убийствах, то эти планы звучат зловеще.
В числе вопросов, дебатировавшихся в Думе, Солженицын останавливается на «переполненности» евреями университетов. Совет министров в 1915 году разрешил принимать сверх процентной нормы детей евреев, состоявших в действующей армии, а министерство просвещения распространило эту поблажку и на тыловиков, работавших на войну: служащих земских и городских учреждений, госпиталей, учреждений по эвакуации, и т. п. Марков с думской трибуны забил тревогу: «„Университеты пусты, [оттого что] русские студенты взяты на войну, а туда [в университеты] шлют массу евреев“. „Спасаясь от воинской повинности“, евреи „в огромном количестве наполнил[и] Петроградский университет и выйд[ут] через посредство его в ряды русской интеллигенции… Это явление… бедственно для русского народа, даже пагубно“, ибо всякий народ — „во власти своей интеллигенции“. Русские „должны охранять свой верхний класс, свою интеллигенцию, свое чиновничество, свое правительство; оно должно быть русским“». (Стр. 506).
Солженицын не то, чтобы солидарен с этими суждениями, но рациональное зерно в них находит: нехорошо получается, если русские из университетов уходят воевать, а евреи на их место — учиться! «Да вот и мой отец — покинул Московский университет не доучась, добровольно пошел воевать. Тогда казалось — жребий влечет единственно так: нечестно не идти на фронт. Кто из тех молодых русских добровольцев, да и кто из оставшихся у кафедр профессоров? — понимал, что не все будущее страны решается на передовых позициях войны». (Стр. 506)
Этот мотив до боли знаком по Второй мировой войне. Кто из представителей старшего поколения не помнит ядовитых шепотков об «Иване в окопе, Абраме в райкоопе», муссировавшихся на всех государственно-партийно-обывательских уровнях, тогда как «мобилизационное напряжение» (как говорят специалисты) у еврейской части населения было более высоким, чем в среднем по стране; когда полмиллиона Абрамов сражалось бок-о-бок с Иванами и двести тысяч из них пало в боях — это помимо миллионов, попавших под каток гитлеровского окончательного решения. Вот в плен, во власовцы, в полицаи, в силу того же окончательного решения, Абрамам путь был заказан. Такого шанса на жизнь у них не было. Так что воевали Иваны и Абрамы вместе, а погибали во многих случаях врозь! По числу героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и вообще награжденных за боевые заслуги евреи опережали большинство других народов Советского Союза, и это при явной тенденции — вычеркивать еврейские фамилии из наградных списков![463] А среди тех, кто «ковал победу», как тогда выражались, в тылу (а отнюдь не «штурмовал Ташкент», по до сих пор не изжитому злобному мифу), евреям бесспорно принадлежала пальма первенства — из-за их в среднем более высокого профессионального и образовательного уровня. Сотни и тысячи евреев в научных лабораториях и конструкторских бюро, на заводах и фабриках разрабатывали, испытывали и в рекордные сроки запускали в производство боевую технику, превзошедшую германскую качественно и количественно, чем в значительной мере и был определен исход Второй мировой войны.
Что же касается Первой, то Александру Исаевичу, столь много о ней написавшему, должно быть известно, что, перед лицом поражений на фронте и распутинщины в тылу, русская молодежь, рвавшаяся, как его отец, «решать будущее страны на передовых позициях», составляла редкое исключение, а не правило. Весьма осведомленный Родзянко, при всей его приверженности к пышной патриотической фразе, свидетельствовал:
«Я не хочу порочить нашу доблестную армию, а тем более доблестнейшее офицерство, которое кровью своею стяжало себе неувядаемую, бессмертную, всемирную славу, но справедливость требует указать, что симптомы разложения армии были заметны и чувствовались уже на второй год войны. Так, например, в период 1915 и 1916 гг. в плену у неприятеля было уже около 2 миллионов солдат, а дезертиров с фронта насчитывалось к тому же времени около полутора миллионов человек. Значит, отсутствовало около 4 миллионов боеспособных людей, и цифры эти красноречиво указывают на известную степень деморализации армии.
По подсчету, сделанному одним из членов Государственной думы, получилось такого рода соотношение: число убитых из состава солдат выразится 15 %, но по отношению к офицерству этот процент выразится цифрой 30 %, а раненых еще больше.
Процентное отношение пленных ко всему солдатскому составу выражается цифрой около 20 %, между тем как по отношению к офицерам этот процентное обозначение выражается 3 %. Дезертиров офицеров не было вовсе…
Пополнения, посылаемые из запасных батальонов,[464] приходили на фронт с утечкой 25 % в среднем, и, к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следующие в поездах, останавливались в виду полного отсутствия состава эшелона, за исключением начальника его, прапорщиков и других офицеров».[465]
(Эти данные были хорошо известны и протопресвитеру Шавельскому, когда он «убеждал» раввина Мазе, что все зло военных неудач идет от трусости и дезертирства евреев!)
Командующий Юго-западным фронтом Брусилов
Родзянко продолжает: «Кроме этого, я должен с большим огорчением констатировать, что далеко не всегда распоряжения высшего командного состава были на высоте своего положения. Так, например, было с блестяще подготовленной, блестяще начатой и имевшей в начале успех операцией прорыва на Стоходе. Когда, под командованием генерала Брусилова, совершен был глубокий прорыв, и наши войска в начале имели крупный успех, этой операцией не было достигнуто поставленных целей и, главным образом, потому, что распоряжения командного состава не всегда обеспечивали успешные действия доблестных наших частей.
Я был на месте этих боев и знаю, что в силу недостаточной артиллерийской подготовки и не выполненных своевременно других условий — я говорю это со слов специалистов и участников боев, — например, гвардейский корпус, пополненный блестяще за время своего отдыха в тылу, потерял до 60 % своего состава вследствие неумелого командования, полного отсутствия воздушной разведки (на весь гвардейский корпус было, кажется, только четыре аэроплана) и других причин… Кампания могла и должна была быть окончена тогда же полной победой, именно тогда, в этот период начавшегося наилучшего снабжения армии людскими пополнениями и предметами боевого снабжения: почетный и славный мир мог быть куплен ценой этих жертв и этого последнего напряжения народной энергии, а между тем этого-то достигнуто не было».[466]
23 февраля, на следующий день после отъезда государя в Ставку по вызову генерала Алексеева (словно этого только и ждали), в Петрограде начались волнения и забастовки, которые нарастали с каждым днем. Тысячи, затем десятки и сотни тысяч демонстрантов требовали хлеба (в связи с перебоями в снабжении столицы мукой), а затем появились и политические лозунги: «Долой самодержавие!», «Земли и воли!» Интересно отметить, что ни большевики, ни меньшевики, ни эсеры этих выступлений не организовывали и не возглавляли. Напротив, они пытались их предотвратить, считая преждевременными и чуть ли не спровоцированными властями.
Первые два дня в Ставке Николай не имел представления о грозном нарастании событий, так как получал успокоительные послания и от Протопопова, и от начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова, и от плохо осведомленной царицы. 26 февраля, когда до него, наконец, дошло, что события приняли угрожающий оборот, он дал Хабалову телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Приказ этот выполнен не был, и сколько-нибудь серьезных попыток его выполнить тоже не было. Любопытная подробность: в столице стояли лютые морозы, и на ночь демонстранты расходились по домам; но власти не использовали ночные затишья, чтобы установить контроль над стратегическими пунктами города и подавить волнения.
Похоже, что беспорядки в столице были нужны властям. Они давали основание Алексееву «на коленях» молить государя о введении конституционной формы правления. Такое же пожелание слали по телеграфу командующий Северным фронтом Рузский и командующий Юго-западным фронтом Брусилов. В самой Ставке Алексеева поддерживали все генералы. Не отвечая по своему обыкновению ни «да», ни «нет», государь только поощрял наращивание давления, хотя уступать не собирался. Он вызвал генерала Н. И. Иванова, которого считал особо преданным престолу и себе лично, и приказал возглавить карательную экспедицию в столицу, сняв с фронта наиболее надежные части. «Прощаясь с императором, генерал Иванов еще раз попробовал затронуть вопрос о конституционных уступках, но получил уклончивый ответ».[467]
Результатом уклончивости государя стала уклончивость «преданного» генерала. Он затянул свой отъезд из Ставки почти на сутки, а направленные в его распоряжение войска до столицы не дошли. С. П. Мельгунов, детально изучивший весь ход тех судьбоносных событий, информацию о том, что «войска, посланные на усмирение бунта, переходят на сторону революции», назвал «ложной».[468] Зато необходимость двинуть войска кратчайшим путем к Петрограду давала повод искусственно затягивать отправление двух императорских поездов (Николаю не терпелось вернуться в Царское Село), а затем пустить их кружным путем: через Смоленск, Вязьму и Лихославль к Николаевской (московско-петроградской) железной дороге.
Великий князь Михаил Александрович
Поздно вечером, еще до отбытия царских поездов, в Ставку позвонил великий князь Михаил Александрович и предложил свою «помощь»: если государь соизволит отречься от престола, то пусть не беспокоится, — он, Михаил, готов стать регентом при несовершеннолетнем императоре Алексее. Кажется, до этой минуты никто еще не ставил перед Николаем вопроса об отречении! Он сухо поблагодарил брата за неуместную инициативу.
Под утро 28 февраля два царских поезда отошли от Могилева, а во второй половине дня маршрут их снова был изменен: от станции Бологое их направили на Псков, где, как было сказано, штаб Северного фронта возьмет их под свою защиту.
«Защита» обернулась неофициальным, но явным арестом. Как записал в дневнике генерал-квартирмейстер Северного фронта Болдырев, «решается судьба России… Пскову и Рузскому, видимо, суждено сыграть великую историческую роль… Здесь, в Пскове, окутанному темными силами монарху придется вынужденно объявить то, что могло быть сделано вовремя…».[469]
Капкан захлопнулся. Катков, так же тщательно изучивший материалы, как и Мельгунов, рисует драматическую картину:
«Переговоры между императором и Рузским затянулись до поздней ночи с 1 на 2 марта. Они несколько раз прерывались, в частности — мрачным обедом, во время которого, как обычно, политические темы не затрагивались. Во время перерывов Рузский ждал в императорском поезде, беседуя с встревоженными придворными. Их шокировала его точка зрения, в которой они видели вольнодумство, граничащее с изменой. Рузский не смог удержаться и сказал, что предостерегал от принятого политического курса, упомянув при этом, что во влиянии Распутина видит одну из главных причин всех бед. В какой-то момент его спросили, что же, по его мнению, надо теперь делать, и он, как будто, отвечал: „Сдаться на милость победителя“».[470]
Но почему — как будто? Катков словно бы не уверен в том, что Рузский занял столь жесткую позицию. Однако Мельгунов подчеркивает, что этот ответ командующего фронтом зафиксирован в дневниках и воспоминаниях всех свитских, которые оставили письменные свидетельства. Разночтения состоят только в том, что «каждый из них относит слова Рузского к разным моментам».[471]
Н. В. Рузский
«„Я много раз говорил, что необходимо идти в согласии с Гос[ударственной] Думой и давать те реформы, которые требует страна. Меня не слушали. Голос хлыста Распутина имел большее значение. Им управлялась Россия“… — с яростью и злобой говорил ген[ерал]-ад[ъютант] Рузский. После разговора с Рузским мы стояли все потрясенные и как в воду опущенные. Последняя наша надежда, что ближайший [к столице] главнокомандующий Северным фронтом поддержит своего императора, очевидно, не осуществится», записал в дневнике один из свитских генералов, историограф Д. Н. Дубенский.[472]
Больше всех негодовал адмирал К. Д. Нилов. «Он, задыхаясь, говорил, что этого предателя Рузского надо арестовать и убить… Только самые решительные меры по отношению к Рузскому, может быть, улучшили бы нашу участь», записал с его слов генерал Дубенский.[473] Однако протест Нилова ограничивался… замкнутым пространством его купе. В прошлом он был «любимцем» князя Мещерского, благодаря его протекции попал в свиту и был лакейски предан государю, но лишь до тех пор, пока это было ему выгодно и безопасно. Из своего купе он так и не вышел до окончания драмы.
Миллионная армия Северного фронта стояла в непосредственной близи от Петрограда. На фронте было относительное (зимнее) затишье, и во всей стране — относительное спокойствие. То был не 1905 год, когда войско застряло на Дальнем Востоке, промышленность и транспорт — парализованы всеобщей забастовкой, а над необъятными просторами сельской России стелился дым от горевших помещичьих усадеб. Положение теперь было качественно иным, очаг смуты был локализован. Однако, вместо того, чтобы употребить силу для водворения порядка в столице, генерал Рузский, как он вспоминал впоследствии, продолжал «уговаривать» государя. «Надо заметить, — уточняет Катков, — что слова Рузского о том, что он „уговаривал“ государя, могут ввести в заблуждение. На самом деле он просто не дал императору никакого выбора: план Алексеева-Родзянко он представил как единственную возможность».[474]
Между тем, Алексеев снова прислал «совет» царю даровать конституционную форму правления и прилагал текст манифеста.
«Нет сомнения, что телеграмма Алексеева была решающим моментом акции», пишет Катков, но в данном случае он торопит события. На самом деле, удалившись для подписания манифеста, Николай вернулся с другим текстом. В нем говорилось о назначении Родзянко премьером, но ключевых слов о «правительстве, ответственном перед Думой», не было. Рузский его решительно забраковал.
Еще два часа продолжалось выкручивание рук. А когда нужный текст был, наконец, подписан, Рузский, словно издеваясь над бессильным самодержцем (а, скорее, чтобы обезопасить себя), стал лицемерно выспрашивать, сделал ли тот выбор по собственной самодержавной воле и не пожалеет ли о нем? Нетрудно представить, как в этот момент Николай его презирал! По обыкновению сдержанный, он ответил с сарказмом: да, он принял решение по собственной воле, потому что два советника, генерал Рузский и генерал Алексеев, мало в чем между собою согласные, в этом вопросе оказались единодушны. «Был ли тут намек на сговор?» — спрашивает Катков.[475] Мне думается, что ответ вполне однозначен.
Но завершился только первый акт драмы!
Второй понадобился потому, что теперь праздновал труса Родзянко. Назначенный премьером «ответственного министерства», чего он так напористо добивался, он убоялся ответственности. В его панических телеграммах говорилось теперь об арестах министров, убийстве офицеров, всеобщей ненависти к царю и династии; о том, что теперь только отречение государя от престола может успокоить страсти и спасти положение. Как выяснилось позднее, разгул анархии в столице он сильно преувеличивал, хотя, мне думается, ненамеренно: у страха глаза велики.
Расшифровка долгого и крайне нервного разговора по телеграфу между Рузским и Родзянко была передана в Ставку, оттуда телеграмма о необходимости отречения была разослана командующим фронтов, и только после получения их ответов они были доложены государю. Приведу наиболее характерный из них — от великого князя Николаши: «Я как верноподданный считаю, по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклоненно молить ваше императорское величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к нему. Осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследие».[476] Можно лишь удивляться, откуда взялось столько елейного красноречия у необструганного вояки. Такие же лицемерные послания пришли и от других командующих фронтов. Все оказались в сговоре. Его императорскому величеству коленопреклоненно указывали на дверь! «Всюду вокруг трусость, обман и измена», понял, наконец, Николай.
Член Государственной думы А. И. Гучков
2 марта к десяти часам вечера член Государственного Совета Гучков и член Государственной Думы Шульгин добрались до Пскова и с места в карьер начали обработ ку царя. Они убеждали, что посылка войск в столицу бесполезна и может только вызвать гражданскую войну. Присоединившийся к ним Рузский добавил, что войск для направления в Петроград у него нет. Петербургские посланцы готовились к долгой осаде и были поражены, когда царь спокойным, почти отрешенным голосом сказал, что еще в три часа дня принял решение отречься от престола в пользу цесаревича Алексея при регентстве великого князя Михаила, но теперь хочет внести в это решение поправку. Так как, в случае воцарения Алексея, ему, Николаю, вряд ли позволят с ним видеться, он решил отречься и за себя, и за сына, а престол передать Михаилу. «Вы поймете чувства отца», — скорбно произнес государь.
Питерские эмиссары переглянулись. Они были приятно удивлены тем, что царь так легко сдался, и поражены неожиданной комбинацией, которую он предложил. Они запросили небольшого перерыва, чтобы посовещаться.
«Вскоре я пошел к Гучкову и Шульгину, — расскажет позднее Рузский, — и спросил их, к какому они пришли решению. Шульгин ответил, что они решительно не знают, как поступить. На мой вопрос, как по основным законам: может ли [царь] отрекаться за сына, они оба не знали. Я им заметил, как это они едут по такому важному государственному вопросу и не захватили с собой ни тома основных законов, ни даже юриста. [Но основных законов, как видим, не оказалось ни в штабе фронта, ни в двух царских поездах — вот какое значение им придавалось!] Шульгин ответил, что они вовсе не ожидали такого решения. Потолковав немного, Гучков решил, что формула государя приемлема, что теперь безразлично [!], имел ли государь право [отречься за сына] или нет», а Шульгину, которого Гучков назвал «специалистом по такого рода государственно-юридическим вопросам», вопрос: «Алексей или Михаил? перед основным фактом отречения казался частностью». «С этим они вернулись к государю».[477]
В приведенном отрывке важно каждое слово. Невозможно более наглядно показать, как коронованный революционер, долго и упорно рубивший сук, на котором сидел, в последний момент подрубил под корень все дерево российской государственности. И как помогли ему в этом «спасите ли» монархии — Гучков, Шульгин и Рузский. Оказывается, ни царь, ни его советники не имели понятия об основах государственной системы, которую они «спасали»!
В. В. Шульгин
Гучков и Шульгин предложи ли государю привезенный с собой проект манифеста, в который теперь надо было внести «небольшую» поправку, но Николай ответил, что проект уже подготовлен. Когда манифест был исправлен и подписан, государь вручил его Гучкову, и тот зачитал вслух. «Пламенный» монархист Шульгин описал эту сцену напыщенным слогом, разукрашенным глубокомысленными многоточиями:
«Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают. Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли… Государь принес и его и положил его на стол… К тексту отречения нечего было прибавить… Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч… Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности… Половина шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырвалась этим лоскутком бумаги… Так благородны были эти прощальные слова… И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а, может быть, гораздо больше любит Россию».[478]
Приведя это «свидетельство очевидца», Мельгунов ядовито замечает, что «история несколько подшутила над мемуаристом, слишком нарочито и неумеренно выставлявшим свои монархические чувствования».[479] Оказалось, что благородное прощальное объяснение в любви к России было написано не самим Николаем. Проект был изготовлен в Ставке камергером Базили и отредактирован генерал-квартирмейстером Лукомским и самим Алексеевым. Государю принадлежало лишь добавление о передаче престола не сыну Алексею, а брату Михаилу.
Итог свершившемуся перевороту подвел на следующий день великий князь Николаша. Из Тифлиса в Ставку пришла депеша: «Ожидал манифест о передаче престола наследнику цесаревичу с регентством великого князя Михаила Александровича. Что же касается сообщенного вами сегодня утром манифеста о передаче престола великому князю Михаилу Александровичу, то он неминуемо вызовет резню».[480]
Прогноз оказался точным, но для него не требовалось пророческого дара. Монархия — это вид правления, при котором существует, действует, свято охраняется вековой традицией и самой властью, по крайней мере, один закон, который выше воли монарха: это закон о престолонаследии. Он обеспечивает легитимность и преемственность власти. Там, где этого нет, под ликом монархии прячется деспотия. Она держится не на законе, а только на силе, и всякий раз, когда иссякает сила самодержца, происходит переворот.
В России закон о престолонаследии был введен очень поздно, только при Павле I, но подлинным уважением он не пользовался, так что передача и удержание власти и дальше основывалась больше на силе, чем на праве.[481] Николай II, постоянно нарушавший собственные законы, не посчитался и с законом о престолонаследии. Отрекшись за сына, на что он не имел права, передав престол брату, на что он тоже не имел права, он лишил императорскую власть малейшего призрака легитимности. Милюков впоследствии даже допускал, что Николай намеренно совершил беззаконный акт: чтобы оставить за собой шанс позднее отказаться от него, но вряд ли он был способен на такой «макиавеллизм». Как истинный деспот, он не сознавал пределов своей власти.
Между тем, воцарение несовершеннолетнего Алексея разоружило бы противников режима (кроме самых непримиримых, но не они задавали тон). А введение регентом Михаилом конституционного правления могло бы и вовсе утихомирить страсти. Но то, что Михаил мог предложить стране в качестве законного регента, он не мог предложить в качестве беззаконного императора. А так как силы на его стороне тоже не было, то и он должен был отречься. Российская империя перестала существовать. Не Ленин в Цюрихе, а Николай II в Пскове дал толчок к цепной реакции распада, которая скоро и привела к «резне».
Какую же роль в этих событиях играли евреи? Как видно из всего изложенного, никакой. Миф о еврейской революции, или — в более мягком варианте, поддерживаемом Солженицыным, — о чрезмерно большой роли в ней евреев, родился из той колоссальной катастрофы, к которой она привела. Я предлагаю поставить мысленный эксперимент и вообразить невозможное: допустим на минуту, что Гучковы, Львовы, Родзянки, Милюковы, Керенские оказались на высоте той задачи, которая поставила перед ними история, то есть сумели удержать в своих руках инициативу, привлечь на свою сторону большинство народа, выведя страну из ненавистной войны и оперативно проведя хотя бы самые назревшие реформы, и, в конечном счете, преобразовав Россию в современное правовое государство. Кому бы после этого пришло в голову говорить о еврейском или полуеврейском характере российского революционного движения вообще, и Февральской революции, в частности? Можно гарантировать противоположное: наверняка нашлись бы охотники обвинять евреев в недостаточном участии в революционном движении. И это, кстати сказать, не трудно было бы обосновать ссылками на еврейские источники!
Но герои Февраля оказались несостоятельными. Свержением царя они думали загнать назад в бутылку рвавшегося из нее джина анархии, а сами выпустили его на простор. Хотели как лучше, а получилось как всегда, то есть плохо. Так плохо, что хуже некуда. Тогда и понадобилось найти виноватого. Особенно забавно читать мемуарно-беллетристические фантасмагории пламенного русского националиста, патриота и монархиста В. В. Шульгина, сыгравшего столь видную роль в развале старой России, а затем с большим пафосом творившего мифы о том, что это сделали евреи. Внимательное ознакомление с первым томом дилогии Солженицына показывает, что его взгляды мало отличаются от взглядов Шульгина.
Книга вторая МЕЖДУ ДВУХ ЖЕРНОВОВ
ЧАСТЬ III Русская смута
Еще о методе Солженицына
А. И. Солженицын слывет автором, нетерпимым к критике, но справедлива ли такая репутация? Похоже, что не совсем. Израильский ученый и публицист Александр Воронель, посетивший писателя в его подмосковном имении, сообщает, что высказал ему одно критическое замечание (по поводу первого тома «Двухсот лет») и не был выставлен за порог. Александр Исаевич внимательно выслушал его и сказал: «Вы знаете, это очень серьезное замечание, я сейчас запишу». «Для меня, — комментирует А. Воронель, — это было очень важно не для восстановления справедливости, а чтобы понять его отношение к критическому замечанию».[482] Почему восстановление справедливости по отношению к целому (его собственному!) народу для израильского публициста менее важно, чем выяснение отношения А. И. Солженицына к критическому замечанию, мне непонятно, но это вне нашей темы.
Возвращаясь же к ней, я должен сказать, что второй том «Двухсот лет вместе» подтверждает то, что А. Воронель вынес из личного общения с автором. Так, мною было показано, что Солженицын недостаточно владеет материалом об антиеврейских ритуальных процессах, а в качестве курьезного примера я упомянул, что один из инициаторов дела Бейлиса, руководитель черносотенной организации «Двуглавый орел» Владимир Голубев в книге назван другой пернатой фамилией — Галкин. Во втором томе ошибка исправлена: в «Именном указателе» фамилия «Галкин» снабжена примечанием: «Фамилия указана ошибочно: нужно — Голубев В. С.» (т. II, стр. 528). Что ж, хорошо. Одним «русско-еврейским» недоразумением меньше!
Учтено также замечание об освещении (вернее, не освещении) «Протоколов сионских мудрецов». Я писал о том, что Солженицын едва упоминает «Протоколы», и в таком контексте, который не имеет ничего общего ни с созданием этой злостной фальшивки, ни с её ролью в травле евреев; а Ричард Пайпс иронически обронил, что если «Протоколы» в книге упоминаются, то он этого не заметил.[483] О втором томе так не скажешь. Здесь история фальшивки изложена — не очень пространно, но почти объективно. Солженицын сообщает, что «Протоколы» были сфабрикованы царской охранкой под руководством П. И. Рачковского, при участии журналиста и агента охранки Матвея Головинского (т. II, стр. 172–176). Этот шаг в правильном направлении радует. Но он же и огорчителен своей половинчатостью. Не шаг, а шажок, кстати, четко очерчивающий пределы отзывчивости Солженицына на критику. В. Л. Бурцев, автор основополагающей работы о «Протоколах», у которого почерпнута эта информация, пишет: «Лица, на которых возложено было поручение [составить фальшивые „Протоколы“], были: прежде всего „знаменитый“ начальник русской тайной полиции в Париже Рачковский, затем Манасевич-Мануйлов и, наконец, Матвей Головинский».[484]
Как видим, названы два вероятных создателя «главной лжи столетия», но не назван третий, Манасевич-Мануйлов. Просто ошибка, как в случае Галкина-Голубева? Непохоже, так как для Солженицына это имя не проходное. В первом томе Манасевич-Мануйлов фигурирует как еврей, вместе с другими евреями «облеплявший» Распутина на погибель России. Переквалифицировать его в антисемита, спасавшего Россию от еврейской скверны, значило бы распустить большую часть столь трудолюбиво сплетенных кружев. Выбрано меньшее зло: о фабрикации «Протоколов» задним числом рассказано, но Манасевич выскоблен из когорты фабрикаторов![485]
В книге «Двести лет вместе» это не единственный и не самый яркий случай.
Виктор Лошак
Редактор «Московский новостей» Виктор Лошак, взявший ещё одно интервью у Солженицына, поинтересовался, почему второй том вышел с таким опозданием: ведь он был обещан сразу же после первого, а появился через полтора года. Александр Исаевич ответил, что его жена Наталья Дмитриевна, она же редактор книги, «задумала такую ревизию — все сноски заново пересмотреть по широкому контексту. Это была адова работа, потому что надо было все источники опять доставать, брать эти цитаты и читать вокруг каждой по многу страниц. Вот так она проверяла. А сносок-то — полторы тысячи».[486]
Сказанное интересно в двух аспектах. Во-первых, как косвенное признание того, что в первом томе «ревизию сносок» не произвели. А, во-вторых, приподнята завеса над технологией творческого процесса в четыре руки. Оказывается, между автором и редактором существует четкое разделение труда — в духе известной шутки И. Ильфа и Е. Петрова: «Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые». Только у четы Солженицыных разделение не шуточное, а вполне серьёзное: подбор и сверка цитат по широкому контексту (это ведь не просто техническая помощь, но составная часть творческого процесса) — вотчина Натальи Дмитриевны; Александр Исаевич этой «адовой работой» не занимается — то ли это ему не по чину, то ли не по возрасту. Он даёт общее направление, а она поставляет документальное наполнение. То есть материал, подбираемый одним лицом, подводится под схему, создаваемую другим лицом. Всё, что в неё не укладывается, в дело не идет. При такой научности можно и 15 тысяч цитат выверить до последней запятой, а к истине не приблизиться.
Я показал, как во многих конкретных случаях автор «Двухсот лет вместе» манипулирует фактическим материалом в угоду своим пристрастиям. Пример с Манасевичем-Мануйловым — только один из многих, о которых говорится и не говорится в этой книге. Но особенно наглядно это показал сам Солженицын во втором интервью с В. Лошаком — на примере обращения с хронологией, этой основой основ всякого исторического повествования. Был ведь обещан двухтомный труд, охватывающий 200 лет, и четко были отмерены сроки: 1795–1995; но во втором томе повествование доведено только до начала 1970-х. Усекновение последних двадцати с лишним лет обосновано теоретически: «До середины 90-х годов я просто уже не могу дотянуть прежде всего потому, что историком современности быть невозможно. Очень многие явления происходят за кулисами, не публикуются, их подробности будут известны лет через 20, а то и 50. А значит, писать серьезно и ответственно невозможно».[487]
Эти соображения неубедительны, но пусть так: автор скорректировал первоначальный замысел — в этом его суверенное право. Значит, двухтомник охватывает 180 лет, а не 200 — не правда ли? Нет, говорит Солженицын, его труд все равно охватывает 200 лет, «и очень точно». Ибо задним числом он решил вести отсчет своего повествования не от последнего раздела Польши (1795), а от первого (1772).[488] То есть, отрезав двадцать с лишним лет от конца, он их пришил к началу, ничем, однако, это начало не дополнив, — просто для того, чтобы сохранить «круглое» число. Не озаглавишь же книгу: «Сто восемьдесят лет вместе». Так что, если на обложке первого тома проставлены хронологические рамки исследования, то, дорогой читатель, не верь глазам своим! Тем более что на обложке второго тома даты осмотрительно отсутствуют.
При таком обращении с материалом возможны любые вольности, и, увы, возможное во втором томе дилогии превращается в действительное еще чаще, чем в первом. Новое вино влито в старые мехи. Великий Писатель Земли Русской подарил нам еще пятьсот с лишком страниц предвзятого текста, написанного, главным образом, для того, чтобы вину за русскую беду возложить на евреев. Не стопроцентно, конечно, — Солженицын ведь придерживается средней линии, — но в значительной степени. Говоря его собственными словами, «разрушительность революции она [еврейская тема] не объясняет, только густо окрашивает» (т. II, стр. 210).
Только! Но — густо! Причем, во втором томе краска положена еще щедрее, чем в первом, хотя и не ровным слоем, а весьма причудливым, зигзагообразным узором. «Средняя линия» то идет в обход магистральных исторических путей, то пересекает их под разными углами, то проделывает крутые виражи и даже цирковые номера, от которых захватывает дух.
От Февраля к Октябрю
В главах «В февральскую революцию» и «В ходе 1917» (т. II, стр. 27–74) почти не говорится о судьбоносных фактах, составивших основное содержание самой драматичной эпохи в истории России. Вместо этого — густые выписки из «еврейских» источников, которые по большей части не имеют к кардинальным историческим событиям никакого отношения. Тут и про телеграмму Бунда финским социалистам с выражением уверенности, в которой «Бунд ошибся» (т. II, стр. 35). Тут и про «большое возбуждение … в послефевральской прессе о преследованиях евреев в Румынии» (т. II, стр. 36). Тут и про «холодок», с каким весть о Февральском перевороте была встречена консервативной еврейской общиной города Витебска (т. II, стр. 37–38). И, напротив, про неумеренные восторги Розы Георгиевны Винавер (жены одного из ведущих кадетов М. М. Винавера), которой «казалось, что [то] был второй исход из Египта» (стр. 30).
Похоже, что сюда сброшены отходы более раннего производства. Это косвенно признает и сам автор: по его словам, книга родилась «прямо органически из „Красного колеса“». Собирая материал для многотомного романа о революции, он все время «сталкивался с вопросом русско-еврейских отношений». «И что было мне с ним [с этим материалом] делать? Вводить его плотно, подробно в „Красное колесо“ было бы совершенной ошибкой, потому что это бы придало „Красному колесу“ неверный наклон, акцент: объяснение всего происшедшего еврейским вмешательством. Я сознательно этого не сделал». И вот, «когда кончил [„Красное колесо“], смотрю — у меня много осталось таких ветвей от главного ствола, которые я не успел охватить. Вот линия большевиков, революционных демократов, либералов. Вот тамбовское крестьянское восстание. Вот все эти еврейско-русские вопросы. И я с 90-го года сел за эту работу».[489]
В тексте «Двухсот лет» — о том же подробнее и отчетливее, чем в интервью:
«Сам я, много лет работая над „февральской“ прессой и воспоминаниями современников Февраля, не мог бы это „резкое усиление“, этот ветровой напор не заметить [речь идет о политической активности еврейства]. В тех материалах, от самых разных свидетелей и участников событий, еврейские имена многочисленны, а еврейская тема настойчива, многозначна… И — как же, поняв это, я должен был двигаться через „Март Семнадцатого“, затем и „Апрель“? Описывая революцию буквально по часам, я то и дело встречался в источниках со множеством эпизодов, разговоров на еврейскую тему. Но правильно ли бы сделал я, если бы это всё так и хлынуло на страницы „Марта“? Одолел бы и книгу, и читателей — который раз в Истории — легкий пикантный соблазн: все свалить на евреев, на их действия и идеи, разрешить увидеть в них главную причину событий — а тем самым и отвести исследование от действительно главных причин. И чтобы этого самообмана русских не произошло — я настойчиво, через всё Повествование, значительно приглушил в „Красном Колесе“ собственно еврейскую тему — сравнительно с тем, как она тогда звучала в прессе, в воздухе» (т. II, стр. 38–42, курсив мой. — С.Р.).
Но наклон и акцент, перекладывающие на евреев вину за российскую катастрофу, в «Красном колесе» плотно присутствуют. Мною это было показано на примере столыпинских глав «Августа 1914». К такому же выводу привело бы сопоставление романной линии Ленин — Парвус с подстилающими её историческими материалами. Дабы не углубляться в эту боковую аллею, но и не быть голословным, приведу романную характеристику Парвуса в том виде, как её сгустил из нескольких фрагментов солженицынского текста его израильский апологет А. Воронель:
А. Воронель
«…Обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты!.. Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно её предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории! …Вся предыдущая жизнь Парвуса была, как нарочно, состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца, — сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, …приоткрыть его германскому послу… (…теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно засматривали в его пророческие)… Всё это Парвус решил блистательно — ибо всё это было в его природной стихии… Гениальность соединения торговли и революции в том и состояла, что революционные агенты под видом торговых… ездили от Парвуса совершенно легально и в Россию, и назад. Но высшая гениальность была в отправлении денег. …Вот был гений Парвуса: импорт товаров, таких нужных для России, чтоб вести войну, давал деньги выбить её из этой войны! („Ленин в Цюрихе“)».[490]
Завороженный образом «гения злодейства», израильский публицист продолжает уже от себя:
«В отличие от суховатого Ленина, от карикатурного Сталина (в „Круге Первом“), Парвус у Солженицына до такой степени обладает „даром далеких пронзительных пророчеств“, что автору кажется даже уместным напомнить о его земном (а не небесном всё же) происхождении. Он живет нестесненно и естественно, наслаждаясь жизнью, политической игрой и собственной одаренностью, не делая ничего, что не приносило бы ему удовольствия или немедленной пользы. Никакие посторонние призраки долга, страха или стыда никогда не отягощают его моцартовскую натуру. Полнота его существования вызывает оторопь у вечно стиснутого своими ритуально-конспиративными догмами, зажатого, зацикленного на своей маниакальной идее Ленина».[491]
Что ж, художественная форма романа позволяет деформировать историческую реальность, заполнять пустоты и недостающие звенья воображением, придавать событиям и персонажам нужный автору акцент и наклон. Почему бы и нет? Своя рука — владыка. Художник — не хроникер, не летописец. Он творит свой собственный мир — этим и интересен.
Если интересен создаваемый им мир.
А. Парвус
В отличие от А. Воронеля, я не считаю образ Парвуса творческой удачей писателя. Спускать ли этого персонажа с Небес или подымать из Преисподней, но в его фигуре нет жизни. Автор, видимо, это чувствует, потому пытается его заземлить, наделяя, например, «слоно-бегемотной» наружностью, чревоугодием, но такие внешние атрибуты заземлённости не спасают. Образ не наполняется плотью, а раздувается, как мыльный пузырь. Парвус в романе лишен вкуса, цвета и запаха, как дистиллированная вода; невесом и аморфен, как облако в штанах. Не такое перо создало Ивана Денисовича! Это больше похоже на перо Сергея Нилуса, восполнявшего отсутствие литературного дара пророчествами о скором приходе Антихриста, которыми пытался запугать читателей, но запугал только самого себя. Романный Парвус — это не личность, не характер, а скучная персонификация всемирного еврейского заговора.
Такой акцент и наклон присутствуют в «Красном колесе» безотносительно к тому, избыточно или, напротив, «приглушенно» используется в романе «еврейский» материал. Материал сам по себе не может создать чего-либо верного или неверного. Создает автор, который этот материал обрабатывает. Соблазн «всё свалить на евреев» не может появиться в книге писателя, защищенного от такого соблазна стойким иммунитетом. Вот если иммунитета — врожденного или приобретенного — нет, тогда другое дело. Тогда приходится глушить болезнь лекарствами, но они быстро выводятся из организма и природной сопротивляемости заменить не могут. Вот болезнь и прорывается в «Красном колесе» — то в облике Мордко Богрова, одержимого ненавистью к России, накопленной за три тысячи лет еврейской истории, то в облике Парвуса, довершающего губительство Богрова.
Но если в десятитомном «Красном колесе» кипящая магма прорывается наружу несколькими эпизодами, то в дилогии «Двести лет вместе» она заливает всё повествовательное пространство, хотя автор не устает пичкать лекарствами себя и читателя.
Солженицынское Повествование (с большой буквы!) насыщено «правильными», «политкорректными» заклинаниями: «Февральская революция была совершена — русскими руками, русским неразумием» (т. II, стр. 42). «Мы сами совершили это крушение: наш миропомазанный царь, придворные круги, высшие бесталанные генералы, задубевшие администраторы, с ними заодно их противники — избранная интеллигенция, октябристы, земцы, кадеты, революционные демократы, социалисты и революционеры, и с ними же заодно разбойная часть запасников, издевательски содержимых в петербургских казармах…» (т. II, стр. 41). «Февральская Революция была революция российская» (т. II, стр. 121).
Если так, то я заодно с гением. Беда в том, что сам гений не заодно с самим собой. «Правильным» заклинаниям сам автор не верит. Тезис побивается антитезисом: «В то же время в её [Февральской революции] идеологии — сыграла значительную, доминирующую роль та абсолютная непримиримость к русской исторической власти, на которую у русских достаточного повода не было, а у евреев был» (т. II, стр. 42).
Почему у евреев должно было быть больше непримиримости к исторической власти, чем у русских, понять трудно: ведь первый том дилогии пропитан стремлением показать, как вольготно весело жилось на Руси евреям — по сравнению с «коренным» населением. (Эксцессы случались — не без того! — да вот исходили они от кого угодно, но не от «исторической власти»).
Формальную логику здесь найти трудно, но какова диалектика! Получается, что герои Февральского переворота коленопреклоненно выкручивали руки арестованному царю, вдохновляясь «еврейской непримиримостью к русской исторической власти». Да и сам коронованный революционер отрекся от престола за себя и за сына, сняв тем последние преграды на пути к хаосу, — из «еврейской непримиримости» к самому себе!
Но чем дальше расходятся концы у Александра Исаевича, тем настойчивее он их сводит.
«Если же судить по тому, как это принято у материалистических социологов (на такой случай и материалисты годятся! — С.Р.), — кто больше всего, или быстрее всего, или прочнее всего надолго выиграл от [Февральской] революции, то можно было бы её назвать иначе [то есть не русской] (еврейской? но — тогда и немецкой? Вильгельм на первых порах вполне выиграл)», так как «всё остальное русское население почти от начала получило только вред и развал» (т. II, стр. 41).
Непатриотические действия новой власти автор обнаруживает в том, что «[антиеврейские] ограничения снимались слой за слоем: с передвижения, жительства, учебных заведений, участия в местном самоуправлении, с права приобретения собственности на имущество по всей России, с участия в казенных подрядах, в акционерных обществах, с права найма иноверной прислуги, рабочих и приказчиков, занятия должностей при поступлении на государственную и военную службу, с опекунств, попечительств» (т. II, стр. 29).
Февраль действительно принес евреям освобождение от национального гнета, — по крайней мере, формально — «Постановлением Временного Правительства об отмене вероисповедных и национальных ограничений».[492] Но неужто русскому народу ничего хорошего не перепало? А уравнение всех граждан в правах, отмена сословных привилегий, полная отмена цензуры, амнистия политических заключенных, введение прямого и равного избирательного права и многое другое, что объединяется ёмким словом свобода!
О, конечно, то был только глоток свободы. Россия успела вдохнуть, но не успела выдохнуть. Свет Февраля был погашен мраком Октября. Чем это объяснялось?
«С первых дней революции 17-го года в Петрограде началась проповедь разложения русской армии, её дисциплины — её начали не евреи, а совет рабочих депутатов, сделавшийся советом и солдатских депутатов. Совет, издавший приказ № 1 [о неподчинении солдат офицерам], возглавлялся не евреем, а русским чистейшей крови Соколовым, не ведавшим, что творит, и грузином Чхеидзе, очень хорошо знавшим, что делает», — считал ведущий кадет, поборник народной свободы, но не анархии, Ф. И. Родичев.[493]
Такое понимание трагедии Февраля Солженицын игнорирует. Его заботит только одно: «Какое отношение у новой власти ко всему русскому. Конец августа, „корниловские дни“. Россия зримо гибнет, проигрывает войну. Армия развращена, тыл разложен. Генерал Корнилов, перед тем ловко обманутый Керенским (не обманувший, а обманутый! — С.Р.), в простоте взывает, почти воет от боли: „Русские люди! Великая родина наша умирает. Близок час её кончины… Все, у кого бьётся в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, — в храмы, молите Господа Бога об явлении величайшего чуда спасения родимой земли“. — Идеолог Февраля, один из ведущих членов Исполнительного Комитета Гиммер-Суханов тут хихикает: „Неловко, неумно, безыдейно, политически и литературно неграмотно… такая низкопробная подделка под суздальщину!“» (т. II, стр. 62).
Но генерал Корнилов не одними молитвами готовил «чудо спасения». Всё еще существовавшую, кое-как державшую германский фронт армию он решил направить на Петроград, дабы смести Временное правительство, — конечно, вместе с Советами, — а себя объявить диктатором. Такова сердцевина его Воззвания, которая при цитировании вырезана. Соответственно, и в сухановском комментарии ампутировано главное место, где генерал назван «нашим отечественным Бонапартом, ударившим ва-банк».[494]
Александр Исаевич сталкивает лбами две кастрированные цитаты, да так, что не искры летят, а целый фейерверк: «Да, пафосно, неумело, да, нет ясной политической позиции: к политике Корнилов не привык. Но — заливается кровью сердце его. А Суханова — коснется ли боль? он не знает чувства сохранения живой культуры и страны, он служит идеологии, Интернационалу, и тут для него налицо всего лишь безыдейность… И вот с таким пренебрежением ко всему настою русской истории и направляли Февральскую революцию Суханов и его дружки — пена интернациональная — в злопотребном Исполнительном Комитете» (т. II, стр. 62).
Такой тут наклон: чужеродному Гиммеру с его бездушной идеологией плевать на матушку-Россию, а генеральская «суздальщина» — это кровоточащее сердце!
Почему Суханов-Гиммер чужероден? В полицейском досье он проходил как православный и великоросс, да и в его внешности никаких признаков чужеродности замечено не было: «телосложение — среднее, цвет глаз — серый, волосы — белокурые, на голове курчавые, борода густая, рост — 171 см, на лице следы натуральной оспы; рубцов, родимых пятен не имеется».[495]
Н. Н. Суханов-Гиммер
Правда, у отца Николая Николаевича Гиммера было «подозрительное» отчество — Николай Самуилович, а девичья фамилия матери Екатерины Павловны Симон намекает на предков — выходцев из Франции или Швейцарии. В Суханове-Гиммере было, видимо, намешано много кровей — германской, скандинавской, французской, возможно, и еврейской. Подобное было типично для многих дворянских фамилий, что не дает никаких оснований отлучать их от русской культуры. В Суханове-Гиммере её настоялось столько, что хватило бы не на одного генерала Корнилова, гордившегося своим происхождением из казаков, а на целое казачье войско. (Как раз для самосознания казачества были характерны местнические, автономистские тенденции, сыгравшие не последнюю роль в гражданскую войну, когда казаки у себя дома, на Дону, активно восстали против большевиков, но стали покидать Добровольческую армию, когда Деникин двинул её на Москву.
Екатерина Павловна Симон вышла замуж за Николая Самуиловича Гиммера не по любви, а по настоянию своей волевой матери Елизаветы Антоновны, бедной вдовы офицера-прапорщика. Она, видимо, полагала, что хорошо пристроила дочь: за дворянина, пусть без состояния, но имеющего службу. Но, как выяснилось через какое-то время, Николай Самуилович был неизлечимо болен распространенной русской болезнью, из-за чего не раз терял службу, обрекая семью на полунищенское существование. С годами он всё больше опускался на «дно». Это был человек, словно бы сошедший со страниц русской литературы: нечто среднее между Мармеладовым из романа Достоевского и Бароном из пьесы Горького.
Екатерина Павловна оставила пропащего мужа, окончила курсы акушерства, стала работать. А затем сошлась с молодым предпринимателем С. И. Чистовым и, чтобы вступить в законный брак с избранником своего сердца, потребовала развода. Николай Самуилович, человек слабый и добрый, на всё был согласен, но Московская духовная консистория в разводе им отказала. Тогда, по наущению супруги, Николай Самуилович повторил подвиг еще одного литературного героя — из романа Чернышевского. Он симулировал самоубийство, чтобы «вдова» его могла обрести свое счастье. Но в жизни получилось не как в романе: обман раскрылся. Супругов судили и отправили на поселение в Восточную Сибирь, откуда их вызволил сенатор А. Ф. Кони, разбиравший кассационную жалобу по неординарному делу. Пресса долго смаковала подробности «сексуального» (как сейчас сказали бы) скандала. А когда шум несколько поутих, возникла новая сенсация: газетчики прознали, что Лев Толстой пишет драму на этот сюжет.
Юный Николай Гиммер, осыпаемый злыми насмешками товарищей-гимназистов, так больно переживал семейную драму, что решился на отчаянный шаг. Он добился встречи с Львом Николаевичем и просил пощадить его и его мать. Великий писатель дал обещание не публиковать пьесу и сдержал слово. Пьеса пролежала под спудом десять лет, до смерти автора. Опубликовали «Живой труп» уже его наследники, и пьеса тотчас заняла ведущее место в репертуарах сотен театров по всей России. Рецензенты, естественно, не преминули вспомнить о прототипах главных героев.
Так и получилось, что Гиммер-младший вырастал, мужал, достиг зрелости в горниле кипящего общественного скандала, в котором русская литература переплелась с социальным «настоем» русской жизни, образовав опасную гремучую смесь. Понятно, как всё это воздействовало на юную легко ранимую душу. «Суздальщина» вместе с достоевщиной формировали личность подростка.
То ли отзывчивость Льва Толстого на его просьбу, то ли обаяние великого писателя, которое он почувствовал при встрече с ним, вызвали у него обостренный интерес к нравственно-философскому учению Толстого. Молодой Гиммер стал толстовцем. Но не надолго. Приближался 1905 год, в обществе всё бурлило, и молодой толстовец встал под знамена революции. Но в революционной среде как-то не приживался. Примкнул к партии эсеров, но потом от неё отошел. Долго был одиноким стрелком-литератором, конечно, левого толка. Позднее стал меньшевиком, и после Февраля избирался в Советы. А после гражданской войны, будучи известным полемическими выпадами против Ленина и его команды, пытался вступить в большевистскую партию, но принят не был. В 1931 году стал «героем» показательного процесса «меньшевистского центра», был приговорен к десяти годам ссылки, но в 1937 году опять арестован — уже как германский шпион; под пыткой во всем «признался» и был расстрелян.
Я остановился на подробностях биографии Н. Н. Суханова, чтобы показать, насколько рельефно преломилась в ней судьба России в самый острый период её истории. Мало о ком со столь же неоспоримым правом можно сказать: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»
Солженицын всё это должен знать, так как о Суханове он писал еще в ГУЛАГе. Но — сердцу не прикажешь. Русскость для него олицетворяет генерал-казак Корнилов, сыгравший в судьбе России роль медведя в посудной лавке рождавшейся демократии. Не случайно у великоросса Н. Н. Суханова нелепые действия этого «спасителя отечества» вызвали «чувство ущербленной национальной гордости».[496]
«Чего конкретно хочет Главковерх, „открыто выступая“, что собирается он сделать, в чем надлежит ему содействовать „верящим в храмы“ и проч., — это никому не известно, — писал Суханов с горьким сарказмом. — Исходный пункт Корнилова: предание русского народа германскому племени, обвинение коалиции [Временного правительства] в контакте с немецким штабом на фоне собственного похода с фронта на Петербург! Можно ли придумать что-либо более лубочное, корявое, нелепое, неискусное, подрывающее собственное дело?».[497]
Возможно, генерал Корнилов хотел как лучше. Но получилось — как всегда. Очевидно было тогда, и тем более очевидно сейчас, что его попытка «спасти Россию» не просто провалилась, она не могла не провалиться. В других случаях Солженицын выстраивает длинные цепочки отдаленных последствий тех или иных действий (от выстрелов Богрова — аж до Бабьего яра!), но тут он застывает над пропастью, в которую повалилась Россия из-за корниловщины и вслед за корниловщиной. Хотя губительные последствия обнаружились сразу и непосредственно.
Не забудем: с возвращением Ленина в Россию большевики быстро набирали очки, но их выступление в июле 1917 было подавлено. Общественное мнение отшатнулось от них. Ленин и Зиновьев, дискредитированные вскрывшимися связями с германским генштабом, прятались в Разливе.[498] Другие большевистские лидеры, включая только что приставшего к ним Троцкого, арестованы, сидят в «Крестах». Опасность большевистского переворота, столь реальная еще полтора месяца назад, отпала. При всей шаткости Временного правительства появилась реальная возможность дотянуть до Учредительного Собрания и благополучно передать ему власть. Тут-то и показал свой норов генерал-казак. Сила есть — ума не надо. Своим провальным «переворотом» Корнилов прорубил окно прямо к штурму Зимнего дворца.
Временное правительство «вынуждено было тотчас обратиться к большевикам и Красной гвардии — наспех сколоченным отрядам вооруженных рабочих, придуманных большевиками. В тот самый момент, когда большевистские вожди были в тюрьме или в подполье из-за обвинений в связях с немцами, красногвардейцам раздавали винтовки, а Керенский призывал кронштадтских матросов — самые разнузданные элементы большевистского лагеря и главных защитников Июльских дней — скорее выступить на защиту Временного правительства. Тюремное заключение „немецкого агента“ Троцкого приобрело поистине фарсовый характер: в самый разгар следствия его посетила делегация кронштадтских матросов, чтобы спросить совета — защищать ли им Керенского, остановив Корнилова, или прикончить их обоих».[499]
Так Россия отреагировала на призыв генерала «молить о чуде спасения»: отрядила делегацию в тюрьму к «чужеродному» большевику № 2 (местопребывание большевика № 1 не было известно) — просить совета: порешить ли всех «спасителей отечества» разом, или по очереди? Солдат и матросов, «державших революционный шаг», не волновал состав крови ни Корнилова, ни Керенского, ни Троцкого, ни, тем более, Суханова.
Вот как обозначается «еврейская тема» в период между Февралем и Октябрем 1917 года.
«Отщепенец» Ильич
Из первого тома дилогии мы помним, что Гришкой Распутиным верховодили евреи. Коли так, то следовало полагать, что как сковырнули распутинщину — так евреям и крышка. Но из Февральских глав второго тома узнаем, что после устранения распутинского режима они только и стали прибирать всё к своим загребущим рукам. Стало быть, как только накрылся Февраль сокрушительным Октябрем, тут уж точно им должен был быть конец — ведь в бесхребетном либерализме вождей Октября не попрекнешь! Но, по Солженицыну, именно Октябрь обеспечил доминирующее положение евреев! Такая диалектика. С древних времен она разъясняет: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но в солженицынском Повествовании евреям все моря по колено!
«Это слишком неновая тема: евреи в большевиках, — читаем во втором томе. — О ней — уж сколько было написано. Кому надо доказать, что революция была нерусской или „чужеродной“, и — указывают на еврейские имена и псевдонимы, силясь снять с русских вину за революцию семнадцатого года. А из еврейских авторов — и те, кто раньше отрицал усиленное участие евреев в большевистской власти, и кто его никогда не отрицал, — все единодушно согласны, что это не были евреи по духу. Это были отщепенцы. Согласимся с этим и мы. О людях — судить по их духу. Да, это были отщепенцы. Однако и русские ведущие большевики также не были русскими по духу, часто именно антирусскими, и уж точно антиправославными, в них широкая русская культура исказительно преломилась через линзы политической доктрины и расчетов. Поставить бы вопрос иначе: сколько должно набраться случайных отщепенцев, чтобы составить уже не случайное течение? Какая доля своей нации? О русских отщепенцах мы знаем: их было в большевиках удручающе, непростительно много. А насколько широко и активно участвовали в укреплении большевистской власти и отщепенцы-евреи? И еще вопрос: отношение народа к своим отщепенцам. Реакция народа на отщепенцев может быть разной — от проклятия до похвалы, от сторонения до соучастия. И проявляется это суждение, это отношение — действиями народной массы, и — русской ли, еврейской, латышской, — самой жизнью, и только в малой, отраженной степени — изложениями историков. И что ж — могут ли народы от своих отщепенцев отречься? И — есть ли в таком отречении смысл? Помнить ли народу или не помнить своих отщепенцев, — вспоминать то ли исчадье, которое от него произошло? На этот вопрос — сомнения быть не должно: помнить. И помнить каждому народу, помнить их как своих, некуда деться. Да и нет, пожалуй, более яркого отщепенца, чем Ленин. Тем не менее: нельзя не признать Ленина русским» (т. II, стр. 75–76).
Раввин Яков Мазе (1860–1925): «Революцию делают Троцкие, а расплачиваются Бронштейны»
Если читатель запутался в этих зигзагах лавирующей мысли, я его не попрекну. Тезис многократно побит антитезисом, «за здравие» переходит в «за упокой» и обратно. Автор говорит о том, что большевистские главари — это безродные отщепенцы, то есть не русские, не евреи, не грузины, не поляки. Все корни обрублены, тела и души выварены в плавильном котле интернационализма, ничего общего ни с одним народом Земли у них нет, как у инопланетян. На том и поставить бы точку. Тем более что сказанное близко к истине. Хорошо известно, как Лев Троцкий отбрил раввина Якова Мазе, обратившегося к нему, «как к еврею», с просьбой о помощи или снисхождении к еврейской общине: «Я революционер и большевик, а не еврей». (Мазе не смог найти понимания у Троцкого, как несколькими годами раньше — у протопресвитера Шавельского). И ведь ничего специфически «троцкого» в этом ответе не было. Можно не сомневаться, что аналогичным образом ответил бы, например, Дзержинский, если бы к нему обратились с просьбой о заступничестве за поляков. А Серго Орджоникидзе учинил мордобой грузинским товарищам, что вызвало взрыв гнева у Ильича, тут же давшего «теоретическое» объяснение этому попранию принципов «пролетарского интернационализма»: дорвавшиеся до власти нацмены склонны пересаливать по части великодержавного шовинизма.
И ведь прав был! Выходцы из меньшинств, обрубившие свои национальные корни, частенько с особой ретивостью доказывают себе и другим, что ничего общего с породившим их племенем не имеют и иметь не хотят. Не потому ли так часто евреи-выкресты становятся ярыми антисемитами — независимо от того, «выкрестились» ли они в православие, лютеранство или большевистское функционерство.
Прав и Александр Исаевич: большевики-отщепенцы — это отрезанный ломоть, плюнуть и растереть. Но стоит нам с ним согласиться, как он дает задний ход. Если число «случайных отщепенцев» перевалит некий критический уровень (какой именно, не уточняется), то это — «широкая и активная поддержка» народом «своих» отщепенцев. Такой тут наклон. Сказано не прямо, а в форме вопроса, да ведь риторический вопрос в себе несёт и ответ. Народ должен держать ответ за своих отщепенцев — это уже без всякой вопросительности. Евреи должны отвечать за своего Троцкого, грузины — за своего Сталина, поляки — за Дзержинского, а Солженицын как русский человек готов взять на себя Ленина.
К добру ли это растаскивание «отщепенцев» по национальным квартирам? Большевики-то приучили нас к коммуналкам. И вот неприятность: как я ни стараюсь, а никакого сродства с Троцким или Зиновьевым, которое бы делало их для меня более своими, чем Ленин, Сталин, или Ежов, или Дзержинский, или Клим Ворошилов, я не испытываю. Скорее наоборот. Я сызмальства приучен, что «один сокол Ленин, другой сокол Сталин». И что железный Феликс — тоже гордая птица. А Троцкий — это чудовище. Почти такое же, как Фанни Каплан, как убийцы в белых халатах, как… да разве перечесть всех, на кого советская власть науськивала, растлевая неопытные наши души. А Солженицын хочет большевистскую рать пересортировать по пятому пункту, чтобы выявить, кого из них мне следует принять на свой баланс, а кого позволяется перебросить через забор соседу.
Странная мысль, да и не солженицынским языком выражена. При его-то пристрастии к старине, к архаичным словам и выражениям, выуживаемым из стародавних словарей или им самим изобретаемым под старину, вдруг вылезает агитпроповский отщепенец.
Кто только не попадал в отщепенцы у советской власти! Не самого ли Солженицына клеймили этим клеймом? Не диссидентов ли? Не безродных ли космополитов? Не художников ли авангардистов? Не кулаков ли с подкулачниками, меньшевиков с эсерами, троцкистов — действительных и мнимых, не всяких ли уклонистов и оппортунистов? Не отщепенцами ли Ильич назвал своих подручных Каменева и Зиновьева, когда они, в канун Октябрьского переворота, убоявшись последствий, выдали планы большевистского ЦК в меньшевистской газете? Не поручусь, что именно это словцо он употребил по отношению к бывшим друзьям (скоро, впрочем, прощенным), но если и другое, то вполне синонимическое.
И вот теперь сам Ильич отщепенец, да еще наиболее яркий, и, как следует из контекста, русский.
Не слишком ли это просто?
Хотя советская власть в России давно ликвидирована, Ленин продолжает лежать в мавзолее, партия Ленина-Сталина остается самой крупной и самой хорошо организованной политической партией в стране, и голосует за нее — стабильно — около трети избирателей. Только на выборах декабря 2003 года — через 12 лет после падения советского режима — половина коммунистического электората мутировала: от красных национал-патриотов к коричневым; народной свободы от этого в стране отнюдь не прибавилось — еще больше убыло.
Можно сильно не любить компартию и её основателя, но чтобы записать его в отщепенцы, надо не слышать «музыку революции», о которой по горячим следам событий писал Александр Блок: «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем / Мировой пожар в крови — / Господи, благослови!.. Революционный держите шаг! / Неугомонный не дремлет враг!.. / В белом венчике из роз — / Впереди Исус Христос».
Потому и сработали большевистские лозунги — «Мир народам», «Хлеб голодным», «Грабь награбленное», — что значительная часть народа (заранее вооруженного царем; в том числе и те двенадцать) их хотела услышать. «Одним из наиболее громких и горячо принятых к сердцу лозунгов нашей самобытной революции явился лозунг „Грабь награбленное!“ Грабят изумительно, артистически; нет сомнения в том, что об этом процессе самоограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом… расхищается всё, что можно расхитить», — мрачно иронизировал Максим Горький.[500] «Горячо принятый к сердцу» лозунг воодушевлял и двенадцать блоковских апостолов, шагавших «державным шагом» по завьюженному Петрограду в поисках, чем бы еще поживиться. А «за плечами — ружьеца», аргумент нешуточный.
«Поголовное истребление несогласномыслящих — старый, испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II-го этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди — почему же Владимиру Ленину отказаться от такого упрощенного приема? Он и не отказывается, откровенно заявляя, что не побрезгует ничем для искоренения врагов».[501] В другом месте М. Горький выводит ленинский экстремизм из «нечаевско-бакунинского анархизма»,[502] считая, что крайности сходятся; необузданный деспотизм власти и разгул бунтующей толпы — это две стороны одной медали — беззакония. Крайности сходятся, а в осадок, по М. Горькому, выпадает то, что «в большевизме выражается особенность русского духа, его самобытность».[503]
Ну, а кто противостоял большевикам в те роковые дни и недели?
В. И. Ульянов-Ленин
Ильич, как известно, приурочил захват власти к открытию Второго съезда Советов: «Вчера было рано, а завтра будет поздно». Подавляющее большинство на съезде принадлежало большевикам и левым эсерам, но было и меньшинство. Против «всей власти Советам» выступило 15 депутатов. 14 из них были евреи, в их числе лидеры меньшевиков Дан, Мартов, Либер, глава партии эсеров Абрам Гоц, представители Бунда. Единственный великоросс в числе этих пятнадцати — известный нам Гиммер-Суханов. Бунд объявил захват власти Советами «величайшим несчастьем»; вместе с меньшевиками и эсерами бундовцы покинули съезд. Но масса хотела слышать то, что ей говорили Ленин и Троцкий, а не Корнилов, и не Керенский, и не Мартов, и не Суханов. (Даже мысли Максима Горького были несвоевременными).
Ну, а потом?
Первая после Съезда Советов серьезная проба сил между большевиками и их противниками произошла в Учредительном Собрании, которое советское правительство имело неосторожность созвать, хотя большевики получили в нём меньше четверти мест. У Солженицына читаем:
«Учредительное собрание 5 января 1918 года открывает старейший депутат земец С. П. Шевцов — а Свердлов нахально вырывает у него колокольчик, сталкивает с трибуны и переоткрывает Собрание. Надо почувствовать, с какими пылкими многолетними надеждами жадно ждала вся российская общественность давно загаданного Учредительного Собрания — как святого солнца, которое польет счастье на Россию. А удушили его — в несколько часов, между Свердловым и матросом Железняком» (т. II, стр. 84).
Уместно спросить — почему бы российской общественности с вожделением ждать «революцией мобилизованного и призванного» Учредительного Собрания, если её устраивала «традиционная власть»? Но к таким зигзагам Повествования мы уже привыкли. Важнее задаться другим вопросом: а что происходило в Собрании между Свердловым и матросом Железняком?
Г. Аронсон, на чьи работы Солженицын охотно ссылается в других случаях, перечисляет имена евреев, прошедших в Учредилку по небольшевистским партийным спискам. В их числе Д. В. Львович, член небольшой еврейской социалистической партии ферейнигте, избранный от Херсонской губернии по списку партии эсеров. С трибуны Собрания он обрушился на ленинский декрет о мире, демагогически вынесенный на его утверждение. Показав антинародный и антидемократический характер декрета, он сказал: «Еврейский пролетариат стремится к миру, который провозгласила на своем знамени российская революционная демократия, — к демократическому миру без территориальных захватов и без контрибуций, к миру, при котором каждый народ получит возможность сам определять свою судьбу. Если бы мы верили, что мир, который предлагают нам большевики и левые эсеры, приведет нас к указанным целям, мы бы, конечно, его радостно приняли. Вы сами знаете, — обратился он к большевикам, — что своим миром вы передаете в лапы немецкого милитаризма население оккупированных областей и вместе с ним часть еврейского пролетариата, который столь героически боролся в рядах российской революционной демократии за идеалы социализма, в том числе за настоящее Учредительное Собрание. (Возгласы: „Ура“)».[504]
В противовес ленинскому «Декрету о мире» (цель — скорейшее заключение сепаратного мира с Германией) Львович поддержал фракцию эсеров, предложивших обратиться ко всем народам воюющих стран с призывом «заключить всеобщий демократический мир».
Митинговый пафос речи Львовича не должен удивлять: им был наэлектризован воздух эпохи. Соскоблив же пафос и учтя, что эсеры доминировали в Учредительном Собрании, мы поймем, насколько опасно было его выступление для большевиков. Вот почему так быстро «устал» большевистский караул Ленина-Свердлова-Железняка.
Караул устал, а народ, только что проголосовавший за эсеров и другие демократические партии, безмолвствовал. Ведь лозунг «Вся власть Учредительному Собранию!» — это «большой лоскут», годный только на портянки. Да и разговоры о германском милитаризме народу осточертели. Он хотел синицу в руке, а не журавля в небе — то есть мира любой ценой и как можно скорее, а не «всеобщего демократического мира» в очень еще не близком будущем. Ильич это знал, на это и делал ставку.
Способны ли отщепенцы так угадать настроения миллионов? Предлагая народу «похабный» мир, помещичью землю и вообще «грабь награбленное», большевики прекрасно знали, в какую почву бросали ядовитые семена. А почву для них вспахала черная сотня, десятилетиями внушавшая массам, что грабить награбленное (евреями) очень даже хорошо и богоугодно! Красносотенцы отшелушили одно слово от черносотенного лозунга, сделав его еще проще и понятнее.
«В грабеже большевиков и погроме жидоедов уничтожается не только имущество людей, уничтожаются общественные связи, тот строй, благодаря которому держится культура. Национальная вражда, так же как и классовая, ведет к одичанию, к рабству», — писал Родичев.[505] Многолетняя политика «исторической власти», плюс черносотенная погромная агитация, плюс бессмысленная война, плюс распутинщина — вот что довело «человека с ружьем» до нравственного одичания, которым так великолепно воспользовались большевики. Не о том ли задолго предупреждал Владимир Соловьев, что, однако, не помешало его благодарному ученику Александру Блоку не только мощно, но и сочувственно отразить это одичание в своей поэме.
«Большевики — это власть жидов, говорят нам. Откуда это? Большевиков вознесла к власти разлагающаяся армия, а не евреи. Не евреи убивали в Петрограде защищавших временное правительство юнкеров. Не евреи бомбардировали Москву. Матросы-убийцы, плававшие не по морю, а по крови офицеров — не евреи. Убийцы большевизма ради во всех уездных городах и особенно весях земли русской — не евреи. Те, кто по призыву Ленина бросились на грабеж усадеб и убивали по системе и с наслаждением, иногда людей, иногда лошадей и коров — не евреи, а подлинные русские обыватели» (курсив мой. — С.Р.).[506]
Нет, вопреки стараниям Солженицына, в отщепенцы Ленин никак не попадает.
Ну, а попадает ли в русские?
Для художественной завершенности картины его, конечно, следовало бы записать в инородцы, но Александр Исаевич твердит, как заклинание: «Нельзя не признать Ленина русским»; «это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью»; «тем не менее, он русский, и мы, русские, ответственны за него» (т. II, стр. 76).
Приходится вспомнить о заявленной духовной близости Солженицына к группе писателей «деревенщиков», которых он предлагает называть «нравственниками». К их числу он относит и покойного Владимира Солоухина.[507] Доживи этот «нравственник» до наших дней и прочти в солженицынской дилогии сентенции о русскости Ленина, он, вероятно, сильно бы возмутился. Он ведь в своё время целую поэму в прозе сочинил, не без опоры на «еврейские» источники, чтобы убедить читателей, что Ленин ничего общего с Россией не имел, а был четверть-еврей, еще наполовину — калмык, еще на четверть — разный прочий швед. Русских кровей в нем Солоухин не отыскал; а если бы отыскал, то это ничего бы не значило: еврейская кровь такую порчу в себе несет, что остальные три четверти полностью отравляет.[508] Однако возмущение Солоухина длилось бы недолго, ибо он тотчас бы приметил, что тезис у Солженицына побивается антитезисом, заимствованным как раз у него, Солоухина, хотя и без ссылки и не совсем точно (недоглядела Наталья Дмитриевна, но к такой мелочи Владимир Алексеевич вряд ли стал бы придираться):
«Дед его по отцу, Николай Васильевич, был крови калмыцкой и чувашской, бабка — Анна Алексеевна Смирнова, калмычка; другой дед — Израиль (в крещении Александр) Давидович Бланк, еврей, другая бабка — Анна Иоганновна (Ивановна) Гросшопф, дочь немца и шведки Анны Беатры Эстедт» (т. II, стр. 76).[509]
После этого следуют новые заклинания, но уже несколько иные, себя же и опрокидывающие, несмотря на курсивные выделения: «Мы должны принять его как порождение не только вполне российское, — ибо все народности, давшие ему жизнь, вплелись в историю Российской империи, — но и как порождение русское, той страны, которую выстроили мы, русские, и ее общественной атмосферы, хотя по духу своему, не только отчужденному от России, но временами и резко анти-русскому, он действительно для нас порождение чуждое. И все же отречься от него — мы никак не можем» (т. II, стр. 76).
Тезис тут уже намертво слит с антитезисом, что, однако, не приводит к синтезу.
При социализме, победившем в одной отдельно взятой стране, всё было ясно: Ленин — это «величайший пролетарский революционер, гений человечества, выдвинутый русским народом и являющийся его национальной гордостью», (курсив мой. — С.Р.).[510] И горе сомневавшимся! Бумаги о не вполне русском происхождении Ильича томились в самых секретных спецхранах, оберегаемых самыми крутыми церберами в штатском и не только в штатском. Когда М. Шагинян, полжизни копавшаяся в родословной Ленина, попыталась намекнуть на что-то калмыцкое в его крови (не еврейское, упаси Боже!), то получила такую острастку, что помнила об этом всю вторую половину жизни.[511]
А сковырнули победивший социализм, и национальная гордость превратилась в дегенеративного жидо-шведо-калмыка, о чем победно протрубил «нравственник» Солоухин.
Солженицын тоньше: у него средняя линия. Он словно сам себе подмигивает, сам себе кукиш тычет, и сам от себя отворачивается, чтобы кукиша того не видеть. Попробуйте-ка понять из его баллады о Ленине — чуждое это порождение или не чуждое, русское или анти-русское? Если русское, то к чему анализ крови — до третьего и четвертого колена по всем линиям?[512] А если анти-русское, то почему русским от него нельзя отречься? И если всё это приложимо к не имеющему ни капли русской крови Ленину, то почему не приложимо к Каменеву или Троцкому?
Фанни Каплан
Фанни Каплан
Выстрелы, раздавшиеся после митинга на заводе Михельсона в Москве 30 августа 1918 года, были немаловажным событием для истории России, судеб революции и русско-еврейских отношений. Пройди пуля на пару вершков правее, и история пошла бы другим путем! То ведь было не убийство Столыпина, не имевшее политических последствий, но занимающее столь огромное место в историософии Солженицына. Выстрелы в Ленина многое могли изменить: без него главари большевизма неминуемо бы перессорились и не удержали власти. Но об этом покушении он едва упоминает, правда, дважды, зато настолько по-разному, что не поймешь — чья же это пуля достала большевистского главаря. То покушение Фанни Каплан — это «эсеровские счеты» (т. II, стр. 112), а то — «есть весьма убедительные соображения, что Фанни Каплан вовсе не стреляла в Ленина, а схвачена была для „закрытия следствия“, удобная случайная жертва» (т. II, стр. 113).
Тут впору либо взмолиться, либо устроить демонстрацию протеста: «Братцы, помилосердствуйте! Руки прочь от Фанни Каплан! Оставьте бедному еврею хотя бы её! Он ведь семьдесят лет жил под этим проклятьем. „Злодейское покушение на вождя революции!“ „Яд кураре“. „Отравленные пули эсерки Каплан“».
Эти отравленные пули жалили еврея куда сильнее, чем отравленные колодцы во времена Средневековья. И всё это, выходит, зря! Чуть потянуло другим ветерком, начались перерождения: и вождь трудового народа стал четверть-еврей, и Каплан в него не стреляла — по весьма убедительным соображениям.
За десять лет до выстрелов в Ленина анархистка Каплан в Киеве готовила покушение на царского сановника, но бомба взорвалась преждевременно, и она потеряла зрение. (Именно поэтому её не повесили, а приговорили к вечной каторге). Освободила её (из Акатуйской каторжной тюрьмы) Февральская революция, после чего она жила в Крыму, в санатории для вечных политкаторжан. Там она познакомилась с Дмитрием Ильичом Ульяновым (братом Ленина) — врачом Юго-Западного фронта.[513] Она ему нравилась, и он дал ей рекомендательное письмо в Харьков, к знаменитому окулисту, который сумел вернуть ей частичное (силуэтное) зрение. Но она оставалась почти слепой. Этот дефект исключал возможность её участия в заговоре эсеров: в такой крупной организации с многолетним опытом террористической борьбы нашлись бы физически здоровые исполнители.
Но партия эсеров принципиально отказалась от террористической борьбы против большевиков, считая их хоть и заблудшими, но «братьями по классу». Каплан действовала в одиночку, что и стало ясно ЧК сразу же после ее ареста. В покушении она призналась немедленно, без всякого давления. И мотивы свои объяснила четко: решила убить Ленина, так как считала его предателем дела революции. Всё это записано в протоколах её допросов, как и то, что до каторги она была анархисткой, а после каторги ни к какой партии не примкнула. ЦК партии эсеров официально отверг свою причастность к этой акции, но большевики объявили террористку эсеркой, чтобы обрушить красный террор на наиболее сильную из конкурирующих партий.
Когда пришла пора окончательно с ней расправиться (1922), был устроен грандиозный процесс над эсеровским ЦК во главе с Абрамом Гоцем, а рядом со всем известными ветеранами революционных и политических битв на скамье подсудимых оказалась группа эсеровских «боевиков», вступивших в сговор с ГПУ. Возглавлял этих мнимых террористов некий Г. Семенов (Васильев), ближайшей сподвижницей была Лидия Коноплёва. Они и «признались» в организации убийств Володарского и Урицкого,[514] в покушении на Ленина, в подготовке покушений на Троцкого и Зиновьева. По их показаниям, они действовали по заданию эсеровского ЦК, то есть Гоца, Ткача и других подсудимых, что те категорически отрицали. При перекрестных допросах Семенов блуждал в трёх соснах: он утверждал, что как глава боевой организации выполнял задания эсеровского ЦК, но объяснить — где, когда и при каких обстоятельствах получал от подсудимых устные инструкции (письменных в деле, конечно, не было), не мог. Ложный характер показаний Семенова был настолько очевиден, что в обвинительной речи «прокурор республики» Крыленко должен был долго распространяться о «несовершенствах» человеческой памяти, которая может упускать «детали», но это не значит, что ей не следует доверять в «главном».[515]
По провокаторской версии ГПУ, Ленина планировалось застрелить после его выступления на одном из заводов Москвы, но поскольку не было известно, на каком именно заводе он выступит, то боевики разъехались по разным заводам. На один из них отправилась Коноплева, на другой — Усов, на третий (завод Михельсона) — Каплан. Общее руководство операцией осуществлял Семенов. Поскольку Ленин явился на завод Михельсона, то выполнение замысла выпало на долю Каплан. Появился бы он на другом заводе, стрелял бы кто-то другой.
Так что даже фантасты из ГПУ не могли обойтись без Фанни Каплан: не было бы и тени правдоподобия. С годами, однако, эту мифическую версию продолжали «улучшать». Пока Ленин был национальной гордостью великороссов, «эсерка Каплан» (позднее «сионистка») великолепно подходила для отведенной ей роли. Но когда вождь и учитель был разжалован в четверть-еврея, потребовалась народная мстительница иных кровей. Тогда вспомнили про Лидию Коноплёву, которую «передислоцировали» на завод Михельсона.[516] Вот и все убедительные соображения о «дисквалификации» Фанни Каплан, которые стоят за скупой солженицынской строкой. Личность террористки, стрелявшей в Ленина, для него менее важна, чем состав крови Анны Беатры Эстедт и других бабушек-дедушек Ленина. Поразителен контраст между столь пристальным интересом к составу крови в жилах большевистского вождя и отсутствием интереса к тому — кто, почему и зачем пустил кровь из его жил.
Цареубийство
«Ваш спор с большевизмом — глубочайшая ошибка, вы боретесь против духа нации, стремящегося к возрождению. В большевизме выражается особенность русского духа, его самобытность… Именно наш дух освободит мир из цепей истории», — возражал на «Несвоевременные мысли» М. Горького некий пр. Роман Петкевич — то ли прапорщик, то ли профессор, по ироничному замечанию самого Горького.[517] Впрочем, Горький и сам считал, что большевизм в значительной степени выражает дух нации, только у него это не вызывало восторга.[518]
У Солженицына другая система отсчета. «Жестокие последствия» красной диктатуры он выводит из «повсеместного присутствия евреев в большевиках». И прямо шагает к — «убийству царской семьи, которое теперь у всех на виду, на языке, — и где участие евреев русские уже и преувеличивают с самомучительным злорадством» (т. II, стр. 90).
Обширную литературу об убийстве царской семьи мне приходилось изучать подробно, потому могу с уверенностью сказать, что не вообще русские (и не только русские) преувеличивают участие евреев в этом преступлении, а несколько демагогов черносотенного толка. Делают они это действительно со злорадством, но без всякого самомучительства, ибо не участь царя и его близких им важна, а именно участие евреев.
Из этих писаний можно узнать о кабалистических знаках на стене в подвале Дома Особого Назначения, где произошло убийство; и о надписях на идиш на той же стене; и о том, что убийство царя было ритуальным иудейским жертвоприношением; и о том, что вокруг заспиртованной головы царя, доставленной в Кремль, большевистские вожди танцевали ритуальный иудейский танец, вознося молитвы иудейскому Богу Иегове и торжествуя победу мирового еврейства; и о том, что Советской Россией заправлял «красный кайзер» Янкель Свердлов, а Ленин был только ширмой. (Эх! Знать бы им изначала, что Ленин четверть-еврей, вот было бы отрады!) Словом, Шахерезаде сказок хватило бы на вторую тысячу ночей!
Для Александра Исаевича это всего лишь преувеличения. Пусть так. Во всяком случае, он о них осведомлен. А потому должен бы быть особенно аккуратен в обращении с фактами. Увы, мифам определенного толка (конечно, не таким ярко-красочным) он и здесь отдает предпочтение.
Заходит он, надо сказать, издалека: увертюра возникает еще в Февральской главе. Только что отрекшийся от престола царь, воссоединившись со своим семейством, содержится под домашним арестом в Царскосельском дворце. До страшной Екатеринбургской ночи еще целая геологическая эпоха: ведь впереди напластования множества событий — удавшихся переворотов и подавленных бунтов, вознесенных и поверженных лидеров, актов высокого героизма и низкого предательства, фантастически быстро меняющихся декораций на политической сцене. Революционный ералаш только зачинается, ни одна душа на свете еще не предвидит, каким сумасшедшим вихрем закрутится этот смерч. Даже Ленин еще не прибыл в запломбированном вагоне. А евреи, по Солженицыну, уже точат клювы и вострят когти на Помазанника и на всю династию: «В марте [1917-го] Гендельман и Стеклов на Совещании Советов требовали более сурового заключения императорской семьи и дополнительного ареста всех великих князей — так уверенно чувствовали себя у власти» (т. II, стр. 60, курсив мой. — С.Р.).
Это еще только март, а эсер Гендельман и большевик Нахамкис-Стеклов — уверенно у власти??
По свидетельству П. Н. Милюкова, в марте 1917 года, на том самом Совещании Советов, Стеклов говорил о неучастии его партии во власти, Гендельман выразился еще категоричнее: «Нельзя брать на себя власть ни целиком, ни частично».[519]
Почему нельзя? А потому, что социалисты разных мастей, зашоренные теоретическими абстракциями, считали, что в полуфеодальной России могла произойти только буржуазно-демократическая революция, открывавшая путь для развития капитализма. Соответственно и власть в ней должна принадлежать буржуазии. Вот через сотню-полсотни лет, когда капитализм достигнет зрелости, вырастит своего могильщика, — вот тогда возникнут условия для социализма! А до тех пор социалистам участвовать во власти — это таскать каштаны из огня для буржуазии. (Ох, как изощрялся Керенский, то ли трудовик, то ли эсер, уламывая Совдеп позволить ему войти в «буржуазное» Временное правительство и не быть отлученным от социализма!)
Когда Ленин, прибыв в Россию (в апреле), провозгласил курс на захват власти Советами, с ним не согласилась даже большевистская «Правда»: «Схема т. Ленина представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит из признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в социалистическую».[520] Ленина такая реакция «товарищей» не обескуражила. От лозунга «Вся власть Советам!» он временно отказался, но по иным соображениям: в Советах доминировали «не те» социалисты — эсеры, меньшевики и прочие соглашатели. С его точки зрения они были большими врагами, что буржуазные партии: с теми всё было ясно, а эти маскировались, их надо было — разоблачать. Таскать каштаны из огня для социал-предателей он не собирался. По его мнению, «рабочие и крестьяне [были] во сто раз революционнее нашей партии» (как потом формулировал его позицию Троцкий[521]), на них он и решил опереться, понимая, что его партия пойдет за ним — никуда не денется.
«Буржуазное» Временное Правительство хотело вести войну до победного конца; решение коренных вопросов государственного устройства и прав собственности откладывалось до созыва Учредительного Собрания, с чем в основном соглашались и соглашатели. А бурлившие массы рабочих и солдат хотели мира и земли, и немедленно. Этого они требовали от своих представителей в Советах, но соглашатели (ох, как ненавидел их Ленин) стремились успокоить, утихомирить стихию, объяснить горячим головам, что надо подождать, ещё не время. Всего через два месяца после переворота Милюков был свидетелем сцены, которую описал скупо, но выразительно: лидера партии эсеров Чернова «застигли на крыльце, и какой-то рослый рабочий исступленно кричал ему, поднося кулак к лицу: „Принимай, сукин сын, власть, коли дают“».[522] Чернов понюхал кулак, но выстоял. Власти не принял.
Присутствие рядом царской семьи усугубляло общую нестабильность. Ненависть улицы к августейшему узнику кипела, а на охрану дворца нельзя было положиться. Угроза «революционной расправы» была нешуточной. Требования «более строгого» заключения царской семьи звучали со всех сторон.
Временное правительство торопилось сплавить августейшее семейство в Англию, но британские власти медлили, а потом и вовсе отказались приютить несчастных родственников своего короля (дабы не осложнять отношений с союзником, столь люто ненавидевшим своего недавнего повелителя).
Тогда Керенский приложил немало изощренных усилий, чтобы отправить семейство подальше от бурлившей столицы. На пути следования в Тобольск и в самом Тобольске августейших узников стерег сильный отряд из трехсот бойцов под руководством эсера (бывшего каторжанина) Панкратова, которому Керенский доверял. И тот с честью исполнял трудную миссию. Пало Временное правительство (и прекратилась выдача жалования ему и его бойцам); советская власть, совершив «победное шествие», утвердилась на Урале и в Сибири; отряды красногвардейцев — самостийные и присылаемые из «столицы красного Урала» Екатеринбурга — не раз пытались захватить Николая и расправиться с ним; но триста поблескивавших штыков Панкратова охлаждали их пыл.
Уполномоченный ВЦИК В. В. Яковлев (Мячин): вывез царскую семью из Тобольска, но вынужден был сдать ее Белобородову в Екатеринбурге
Только через полгода после Октябрьского переворота проверенный большевик В. В. Яковлев (Мячин) (впоследствии изменивший «делу революции» и кончивший дни на Соловках), с мандатом Ленина и Свердлова, прибыл в Тобольск, чтобы снять эсеровскую охрану и перевезти царскую семью в Центральную Россию. Труднейшая миссия была предпринята из опасения, что царь сбежит и станет «знаменем контрреволюции» или будет убит местными товарищами.
Ленину царь был нужен живым. Не из гуманных (упаси Боже!) соображений, а из далеко идущих революционных планов. Троцкий подал идею проведения показательного суда над тираном, и Ленин ухватился за нее. В январе 1918 года СНК принял постановление — начать следствие над бывшим царем.
Затея была столь же дерзкой, сколь и преступной, но таковы были все «революционные» начинания дорвавшихся до власти фанатиков. Не существовало закона, по которому можно было судить свергнутого самодержца. Но не правосудие интересовало большевистских вождей, а грандиозный пропагандистский спектакль — ведь к процессу было бы приковано внимание всего мира.
Следствие о преступлениях царского режима, как помнит читатель, было начато сразу же после Февраля, для чего Временное правительство создало Чрезвычайную следственную комиссию (её материалы мы не раз цитировали). Комиссия привлекла к ответу наиболее одиозных чинов высшей царской администрации, распутинскую клику, но не самого царя. Царская Россия (типичная восточная деспотия) имела формальный статус монархии, а монарх, по определению, людскому суду не подлежит.[523]
Ленин был юристом по образованию, да и Троцкий был достаточно образован, чтобы это понимать. Но юридические нормы их так же мало волновали, как и прочие «буржуазные предрассудки»; они признавали только «суд революционной совести». Потому они и прекратили следствие над высшими чинами царской администрации: зачем разбираться в тонкостях, когда арестованных можно прикончить без следствия и суда, «именем революции»? И прикончили многих, кто оказался в их власти — отнюдь не только царских министров и агентов охранки; среди убитых без следствия и суда — видные публицисты, политические деятели (в том числе, оппозиционные): от черносотенцев типа Меньшикова до ведущих деятелей партии кадетов Шингарева и Кокошкина.
Судилище над Николаем — другое дело. Оно было нужно не для выяснения истины, а для революционной пропаганды. Перед лицом потрясенного мира ему бы всё припомнили: от Ходынки до Распутина, от Кровавого Воскресенья до Ленского расстрела, от «столыпинских галстуков» до еврейских погромов, от японской войны до германской, и многое другое — что было и чего не было. Такую потрясающую возможность обличения «старого мира» Ильич не хотел упустить.
Если бы «революционный суд» состоялся, то в смертном приговоре не приходится сомневаться, так что Николай в любом случае был обречен. Возможно, и Александра Федоровна. Но дети их получили бы шанс на спасение: при публичности процесса и внимании к нему всего мира даже ленинская клика вряд ли решилась бы убить невинных детей.
Во главе Красного Урала. Слева направо: Толмачев, Белобородов, Сафаров, Голощекин
Однако Красный Урал после Брестского мира не доверял Кремлю и не хотел выпускать царскую семью из своих рук. Пытаясь обмануть уральских ультра-революционеров, «болевших левизной в коммунизме», В. В. Яковлев повез августейших узников обходным путем, но, узнав об этом, председатель Уральского Совдепа А. Г. Белобородов разослал по железным дорогам телеграмму: «Всем, всем, всем!» Яковлев объявлялся изменником, подлежащим аресту и расстрелу на месте. (Его чуть было и не расстреляли в Омске). Напряженные переговоры по прямому проводу Свердлова с Белобородовым и Яковлевым привели к компромиссу. Изменив первоначальный план, Кремль приказал Яковлеву доставить царскую семью в Екатеринбург; Белобородов в ответ обязался обеспечить надежную охрану, безопасность и относительно приличное содержание семьи, а Яковлева — отпустить подобру-поздорову.
Вскоре после того, как семья поселилась в Екатеринбурге в Доме Особого Назначения (доме Ипатьева), группа заговорщиков-монархистов стала готовить её побег. Царю тайно доставлялись письма на французском языке, в них излагался план побега и давались инструкции, как к нему подготовиться. Царя эти письма глубоко волновали, он на них отвечал по тем же каналам. И они прямехонько доставлялись в местную ЧК, где готовилась эта провокация.
Зачем она понадобилась Белобородову и его подручным? Историки сходятся во мнении, что глава Красного Урала не оставил мысли о «революционной расправе», но хотел заручиться алиби. Фиктивный побег готовился для того, чтобы прикончить семью, а затем доложить Кремлю, что это пришлось сделать «при попытке к бегству».
Приближение армии Колчака к Екатеринбургу и мятеж левых эсеров в Москве сделали эти предосторожности ненужными. После убийства чекистами-левоэсерами германского посла Мирбаха (при весьма подозрительной роли левого коммуниста Дзержинского) Германия потребовала пропустить в столицу батальон своих войск для защиты посольства.[524] Принять ультиматум было невозможно — это значило капитулировать перед «германским милитаризмом», в чем Ленина и его сторонников и без того упрекали левые эсеры и левые коммунисты (а ведь на это ещё накладывались недавние обвинения в его личном сотрудничестве с германским генштабом). Отклонение же ультиматума вело к возобновлению военных действий на почти оголённом Германском фронте, а Ленин ничего так не боялся, как «бронированного кулака Вильгельма». О том, что Германия находится при последнем издыхании и на возобновление войны не пойдет, в Москве не знали. В этих условиях перевозить царскую семью с Урала ближе к Москве стало столь же опасно, как оставить её в Екатеринбурге колчаковцам. Этим и воспользовался Белобородов, потребовав санкцию на ликвидацию царя, или же «я ни за что не отвечаю». Санкция была дана — Лениным через Свердлова…
Глава расстрельной команды Я. М. Юровский и его заместитель Григорий Никулин
Когда передовые части армии Колчака вошли в оставленный большевиками Екатеринбург, они сразу же бросились к Ипатьевскому дому, где и обнаружили следы недавнего побоища. Тут же среди офицеров, обрабатывавшихся черносотенной пропагандой, пошли разговоры, что царя порешили евреи. Бестолковые попытки найти трупы привели только к тому, что многие следы преступления были уничтожены. Следователь Наметкин — первый, кому было поручено официальное расследование, прежде всего, попытался поставить его на профессиональную ногу и удалить сильно возбужденных, но не знающих дела офицеров. Это вызвало такое негодование с их стороны, что уже через неделю Наметкин был отстранен — якобы из-за недостаточного рвения. Затем полгода расследование вел И. С. Сергеев. Он и добыл львиную долю наиболее ценных вещественных доказательств и свидетельских показаний. Но так как он искал преступников, а не евреев, то был тоже отстранен, как тайный еврей и чуть ли не большевистский агент (позднее был схвачен большевиками и расстрелян). Главную роль в этой перемене декораций сыграл генерал М. К. Дитерихс, которому И. С. Сергеев передал все материалы неоконченного следствия. Вскоре М. К. Дитерихс нашел «правильного» следователя, Н. А. Соколова, «настоящего русского патриота», который и направил следствие по «патриотическому» руслу.
«Патриотам» ведущая роль Белобородова мешала тогда и продолжает мешать до сих пор. Крайние из них пытались его объевреить, перелицевав фамилию в Вайсбарт (на идиш — Белая борода). Но это приобретение относительно недавнего времени.[525] Первопроходцы до этого не додумались. Первопроходцами я называю авторов трех первых книг о гибели царской семьи, располагавших материалами незавершенного следствия. Это британский журналист Роберт Уилтон,[526] генерал М. К. Дитерихс[527] и следователь Н. А. Соколов[528] (англичанин, чех и русский — полный черносотенный интернационал!) Пришлось им задвинуть Белобородова в тень Ф. И. Голощекина, о чьем еврейском происхождении у них имелись очень шаткие сведения. При поспешном бегстве с развалившейся армией Колчака каждый из них вывез по экземпляру следственных материалов (к тому моменту уже изрядно подтасованных).[529] Один из трёх экземпляров хранится в архиве Гарвардского университета — я его там просматривал. В нём имеются показания свидетеля, который в течение двадцати минут ехал с Голощёкиным в поезде. Этот свидетель показал, что у Голощёкина волнистые волосы с рыжеватым оттенком, из чего он вынес впечатление, что тот похож на еврея. Имея такую зацепку, три мифотворца и попытались передать Голощекину первую скрипку, а заодно наградили его еврейским именем. Но сговориться между собой они не смогли: у одного из них он — Исаак, у второго — Исай Исаакович, у третьего — Шая.[530]
Павел Медведев (слева) и Петр Ермаков: оба оспаривали у Юровского честь быть убийцами Николая II
Солженицын знает, что «Шая-Филипп Голощекин славы не искал, всю её перехватил долдон Белобородов»; и что «в 20-е годы так все и знали, что это он — главный убийца царя; даже в 1936 г. гастролируя в Ростове-на-Дону на какой-то партконференции, он еще похвалялся этим с трибуны. (Всего за год перед тем, как расстреляли его самого)». (т. II, стр. 92). Тем не менее, автор дилогии ролью закоперщика цареубийства наделяет Голощекина, восклицая по этому поводу: «О, как должен думать каждый человек, освещает ли он свою нацию лучиком добра или зашлёпывает чернью зла» (т. II, стр. 92).
Полагаю, что каждый человек должен, прежде всего, думать, освещает ли он добром или зашлёпывает злом самого себя. Если он об этом не думает, то о нации и подавно не озаботится. Да и не так всё однозначно в многоцветном нашем мире. Сплошь и рядом творящий зло считает, что делает добро. Белобородов гордился тем, что избавил народ от тирана! А между членами расстрельной команды даже разгорелась борьба — кому из них считаться прямым убийцей царя. Яков Юровский утверждал, что это он первым выстрелил в Николая, а Павел Медведев требовал эту честь себе. И у обоих её оспаривал Петр Ермаков. Вероятно, никто из них не считал екатеринбургское побоище грязным пятном на своей совести; напротив, считали его делом добрым и доблестным. До такой степени одичания дошло тогда российское общество.
Но и в другие времена, при иных нравах — не добрыми ли намерениями часто выстилается дорога в ад?
«Нерусская» революция
Солженицын уверяет: он не пытается «доказать, что революция была нерусской или „чужеродной“». Однако, вчитываясь в его книгу, убеждаешься снова и снова, что именно это он и доказывает. Обильно ссылаясь на «еврейские» источники, он верен своему селективному методу: из моря разливанного литературы отбираются не те источники, что первичны и более достоверны, а те, что его устраивают. А если устраивают не вполне, то из них вычленяются отдельные фразы. А если не устраивают целые фразы, то из этих фраз вычленяются лишь нужные кусочки.
«В „Книге о русском еврействе“, — пишет Солженицын, — читаем: „Нельзя не упомянуть о деятельности многочисленных евреев-большевиков, работавших на местах в качестве второстепенных агентов диктатуры и причинивших неисчислимые несчастья населению страны“, с добавлением: „в том числе и еврейскому“». Следует ссылка на статью Г. Аронсона «Еврейская общественность в России 1917–1918 годов»,[531] а затем и авторский вывод: «Из такого повсеместного присутствия евреев в большевиках в те страшные дни и месяцы — не могли не вытекать и самые жестокие последствия» (т. II, стр. 90). Однако в статье Г. Аронсона показано прямо противоположное, ибо, хотя к большевикам примкнуло заметное число евреев (в основном денационализированных, утративших связь с еврейством, подлинных отщепенцев), «еврейская общественность», отличавшаяся огромной пестротой группировок, партий, объединений, оказалась по другую сторону баррикад. «Большевистский переворот — это безумие», «солдатский заговор», «не имеет под собой никакой нравственной основы», «висевшая на краю пропасти Россия свалилась в бездну».[532] Такова, по Г. Аронсону, была типичная реакция еврейской печати на октябрьский переворот. Автор подчеркивает, что даже самая левая из еврейских социалистических партий, Бунд, была в жесткой оппозиции к большевикам. Позднее, под сокрушительными ударами красного террора, в ней произошел кризис; партия распалась, часть бывших бундовцев влилась в РКП(б). Но даже к 1926 году, то есть после девяти лет жестоких преследований, лидер переметнувшейся группы М. Рафес смог насчитать в большевиках 2463 бывших бундовца, тогда как всего их в 1917 году было около 30 тысяч. 27 с половиной тысяч «остались верными своим демократическим убеждениям, а впоследствии заплатили за них тяжелыми страданиями и кровавыми жертвами».[533]
Солженицын работу Аронсона знает. Но вывод делает противоположный, ссылаясь на И. Бикермана — одного из шести авторов столь выделяемого им сборника «Россия и евреи»: «Бунд, разыгрывавший роль представителя „еврейских рабочих масс“, присоединился большей и более активной своей частью к большевикам» (т. II, стр. 109).[534]
Этот мираж привиделся Бикерману в 1923 году — в экстазе национального самобичевания, теперь он оприходован Солженицыным, хотя Бикерман не приводил никаких конкретных данных и цифр: он их не знал. Цифры и факты есть у Аронсона, но Солженицына они не устраивают и в его книгу не попадают.
Ничего специфически еврейского в послереволюционном расколе Бунда не было: такая же участь постигла все социалистические партии России. К большевикам примкнула часть эсеров — сперва левых во главе с Марией Спиридоновой, а потом и вполне ортодоксальных. О провокаторской роли группы эсеров, якобы террористов, во главе с Г. Семеновым (Васильевым) на процессе-спектакле 1922 года мы говорили. Всем подсудимым был вынесен смертный приговор, но «террористы-убийцы» были тут же помилованы и — отправлены на партийную большевистскую работу. (Членам ЦК во главе с Абрамом Гоцем была уготована иная участь).[535]
Будущий генеральный прокурор РСФСР Андрей Вышинский — бывший меньшевик. Будущий нарком иностранных дел Литвинов — бывший меньшевик. Заместитель Дзержинского, а после его смерти — глава ОГПУ-НКВД Менжинский — бывший меньшевик. Это наиболее известные примеры перебежчиков из стана побежденных в стан победителей; безвестных было много больше. В их числе были и евреи, большинство евреями не были. Но в дилогии перечислены только еврейские имена.
С другой же стороны, десятки тысяч бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов — евреев и неевреев — к большевикам примыкать не хотели (или их не хотели — вспомним Суханова-Гиммера). Многие сумели «лечь на дно», участь остальных была горькой (вспомним того же Суханова). Факт в том, что разлом проходил не по пятому пункту. И не только по социалистическим партиям.
В кривом солженицынском зеркале всё это выглядит иначе.
«Большинство российских социалистов [не большевиков], а среди них было множество евреев, в Гражданской войне были, конечно, за Ленина, а не за Колчака, и многие из них прямо воевали за большевиков» (т. II стр. 135).
А. В. Колчак
Ирония состоит в том, что как раз у Колчака, в его коалиционном правительстве, министром юстиции был эсер Старынкевич. Поскольку фамилия звучит сходно с такими, как Рабинович и Пуришкевич, я затрудняюсь сказать, был ли он евреем или нет, но он заведомо не принадлежал к тем, для кого жестокость большевиков объяснялась засильем евреев. Именно ему следователь И. С. Сергеев еженедельно докладывал о ходе следствия по делу об убийстве царской семьи, и к нему в Омск (колчаковскую столицу) прибыла из Великобритании еврейская делегация, обеспокоенная распространявшимися в британской печати слухами о том, что убийство царя — дело рук евреев. Старынкевич заверил делегацию, что эти слухи ложны, и объяснил, что исходят они из офицерских кругов крайне правого толка, но к следствию эти круги непричастны. (Вот после этого опровержения давление на Колчака со стороны право-монархических кругов многократно возросло, Сергеев был удален, Старынкевич — тоже, а царским делом занялась тройка генерала Дитерихса).
Прямо за большевиков воевали шестьдесят тысяч царских офицеров (против сорока тысяч на стороне белых). Восемьдесят процентов высших офицеров генерального штаба воевало в Гражданскую войну на стороне Ленина и Троцкого, а не на стороне Колчака и Деникина. Впрочем, эти цифры условны, ибо не учитывают большого числа перебежчиков из одного лагеря в другой, что происходило многократно на разных уровнях, порой целыми полками и дивизиями. Не говорю о «батьках», таких, как Махно или Григорьев, которые воевали то за белых, то за красных, то против тех и других.
Гражданская война
Если «Декретом о мире» Ленин начал гражданскую войну, то «Декретом о земле» — больше, чем чем-либо иным, — он её выиграл. Большевистские лозунги совпадали с чаяниями основной массы народа — крестьянства. Это признавали не только «гнилые интеллигенты» вроде умеренного Родичева и весьма левого Максима Горького. Адмирал Колчак назвал «наиболее сильным фактором русской революции — крестьянское малоземелье».[536] С Колчаком был солидарен генерал Деникин. Относительно одного из проектов землеустройства, рассматривавшихся при его правлении, Деникин замечает:
А. И. Деникин
«Проект Билимовича-Челищева, при всех его спорных сторонах, представлял попытку проведения грандиозной социальной реформы и, если бы был осуществлен до войны и революции в порядке эволюционном, законным актом монарха, стал бы началом новой эры, без сомнения предотвратил бы революцию, обеспечил бы победу и мир и избавил бы страну от небывалого разорения».[537]
Предусматривалось ограничение максимальных размеров помещичьих хозяйств — от 150 до 400 десятин в разных районах. Владения сверх этого лимита должны были быть проданы по взаимному соглашению «лицам, занимающимся земледельческим трудом, преимущественно местным», то есть крестьянам. Для покупателей был тоже установлен лимит — от 9 до 45 десятин (видимо, для того, чтобы отдельные крепкие крестьяне не могли скупить слишком много — в ущерб другим). Устанавливался двухгодичный срок для полюбовных сделок, после чего избыточные земли помещиков должны были отчуждаться и продаваться крестьянам.
Подобные проекты, как мы помним, готовили еще при Витте, предлагали кадеты в Первой и Второй Государственной Думе. Был бы тогда принят и осуществлен такой закон о земле, то — прав Деникин! — не было бы в России революции или она была бы не столь радикальной и кровавой. Но Столыпин разогнал две Думы, устроил государственный переворот, покрыл страну виселицами, чтобы не допустить ущемления «священного права собственности» латифундистов. Массы малоземельных крестьян так и остались без земли. Получили они её — от Ленина. Хотя и не в собственность, но в вечное пользование. Зато безвозмездно. После этого умеренные реформы работать не могли: на практике они означали бы не наделение крестьян землей, а изъятие части уже захваченной ими земли и требование платы за неизъятую часть. Но и такая реформа при Деникине не прошла: он не смог одолеть сопротивление «национальных» сил, для которых спасение Великой и Неделимой сводилось к спасению их собственных (уже разоренных и потерянных!) поместий.
Белое движение объединяло широкий спектр политических и идеологических сил — от чёрной сотни на одном фланге, до социалистов разных мастей на другом, с консерваторами, либералами, умеренными реформаторами между этими полюсами. Лебедь, рак да щука. Никакой согласованной программы они выработать не могли.
Будущее устройство Российского государства — даже в самых общих чертах — не могло быть определено. Монархия или республика? Централизм или федерализм? Права меньшинств? Права рабочих? Права собственности вообще, и на землю в частности? Решения откладывались на потом. Называлось это непредрешенчеством.
Когда на территории, контролируемой красными, продотряды выгребали из амбаров всё до последнего зернышка, да еще пристреливали без следствия и суда «укрывателей» хлеба, и всяких там «буржуев», и «контриков», и «саботажников», и «спекулянтов», то реакция населения была вполне понятной. Белых ждали как спасителей, встречали хлебом-солью. Но когда приходили белые, то выяснялось, что им тоже нужен хлеб, и скот, и фураж, и солдаты. Снова шли реквизиции и мобилизации, тот же «грабеж награбленного». И расстрелы без следствия и суда по первому подозрению в сочувствии большевикам, да и без всякого подозрения. А земля, которую крестьяне уже поделили, засеяли, полили своим потом, — с ней, в лучшем случае, всё становилось неясно: непредрешенчество! (В худшем являлись бывшие хозяева — требовать землю назад, грозя расправой, а нередко и учиняя ее).
Солженицын правильно указывает на Тамбовское восстание и другие выступления крестьян против советской власти как на признак её враждебности народу, ибо крестьянство и составляло основную его массу. Но под властью белых крестьянское недовольство было ничуть не меньшим, и выступления против власти носили гораздо больший размах.
Участник и летописец движения «зеленых» в Причерноморье Н. В. Воронович рисует типичную картину, рассказывая о том, как население Сочинского района, натерпевшись лиха от большевиков, встретило приход Добровольческой армии как избавление; но не прошло нескольких недель, и новая власть «возбудила к себе жгучую ненависть крестьян».[538]
«Ненависть эта была вызвана, во-первых, назначением на административные посты старых полицейских взяточников, во-вторых, начавшимися реквизициями кукурузы, фуража, лошадей и повозок и, в-третьих, безобразным поведением новых властей и преследованием крестьян за пользование частновладельческими участками, хотя большинство этих участков было передано в пользование крестьянам учрежденным при Временном правительстве [то есть ещё до большевиков] земельным комитетом… Результатом всего этого явилось то, что через месяц после занятия добровольцами Сочинского округа население вспоминало с сожалением ушедших большевиков, а через полтора месяца крестьяне с оружием в руках восстали против новой власти». И дальше: «Толчком к восстанию послужил приказ о всеобщей мобилизации населения до сорокалетнего возраста. Крестьяне заявили, что проливать свою кровь за такую власть они не желают, так как мобилизованных солдат „кадеты“ пошлют усмирять таких же крестьян или драться с большевиками, которые, оказываются, ничуть не хуже добровольцев».[539]
Движение из Сочинского округа перекинулось в Туапсинский, Новороссийский «и распространилось затем по всему юго-востоку России». Воронович подчеркивает, что «подлинное „зеленое движение“ ничего общего не имеет с бандитизмом, с скрывающимися в горах и лесах шайками грабителей и с бело-зелеными партизанами. Подлинные „зеленые“ являлись и являются местными крестьянами, восстававшими и против добровольческих, и против большевистских властей».[540]
Деникинские карательные отряды, брошенные против «зеленых», пощады не знали, но вооруженный противник прятался или оказывал сопротивление, проводить операции против него было трудно и опасно. Отыгрывались на мирном населении: пороли всех шомполами, «не делая никакой разницы между мужчинами и женщинами, между взрослыми и детьми». Реквизировали всё, что можно увести или увезти. Мужчин «призывного возраста» уводили, а часть из них расстреливали на месте — в назидание другим. Полковник Петров, в селении «Третья рота», оцепив его со своим отрядом, объявил, что намерен расстрелять всех мужчин, но готов смягчить приговор — за «контрибуцию» в пять тысяч рублей плюс «угощение». Деньги были собраны, угощение — выставлено. Вволю попировав, полковник велел расстрелять не всех мужчин, а каждого десятого. Один из обреченных, 16-летний подросток, подбежал к офицеру, нацелившему на него винтовку, но еще не успевшему выстрелить, влепил ему пощечину и с разбега бросился в пропасть. Позднее, в феврале 1920 года полковник Петров был взят в плен крестьянским ополчением и узнан вдовой одного из казненных крестьян. Она дала знать другим женщинам (мужчин в селе уже не осталось). Вооружившись палками, топорами, бабы отбили полковника у конвоя и «буквально растерзали на куски».[541] (Замечу в скобках, что немногих карателей ждала такая же участь; большинство потом доживало свой век официантами или вышибалами в ресторанах Праги, Парижа, Белграда, скрежеща зубами на «жидов-комиссаров», которые обрекли их на жалкое эмигрантское существование; это не мешало им при случае вербоваться в сексоты к тем же комиссарам, чтобы выслужить «прощение родины»).
П. Н. Врангель
После краха Деникина и эвакуации остатков его армии в Крым вопрос о земле остро встал перед новым главнокомандующим, генералом Врангелем. Он образовал комиссию, поручив ей в трехдневный срок разработать земельную реформу. Князь В. Оболенский, бывший председатель Таврической земской управы, предложил законодательно закрепить статус-кво, чтобы крестьяне, по крайней мере, не боялись, что, в случае прихода белых, землю у них отберут и будут карать за захваты.
«Я настаивал на немедленном принудительном отчуждении от землевладельцев арендных земель и закреплении их за арендаторами там, где, как в Крыму, не было захватов, а там, где захваты произошли, — на санкционирование их, с закреплением земель за фактическими владельцами».[542]
Но — из всех членов комиссии за такой проект реформы проголосовал только сам Оболенский. Как он пишет в своих мемуарах, после созыва и разгона нескольких таких комиссий, генерал Врангель, своей властью главнокомандующего и диктатора, подписал закон «ещё более левый», чем тот, что предлагал Оболенский. «Я глубоко убежден и сейчас, — писал позднее Оболенский, — что если бы земельный закон, хотя бы в том виде, в каком он был издан генералом Врангелем 25 мая 1920 года, был бы издан генералом Деникиным 25 мая 1918 года, — результаты гражданской войны были бы совсем другие. Если без земельного закона, в атмосфере ненависти всей крестьянской массы, Добровольческая армия при помощи английских пушек и танков докатилась до Орла и Брянска, то с земельным законом, который привлек бы крестьянские массы на её сторону, она, наверное, дошла бы до Москвы».[543]
Прав ли Оболенский в этом суждении или нет, проверить невозможно: «история пошла другим путем». Но очевидно, что «правильное» решение, то есть такое, которое могло бы обеспечить белым поддержку широких масс народа, а не вызывать их ненависть, было принято слишком поздно, когда уже не было сил его осуществить.
Аналогичная картина наблюдалась на других театрах военных действий.
Адмирал Колчак был побежден не столько Красной Армией, с её Чапаевыми и Анками-пулеметчицами, сколько крестьянскими восстаниями в тылу, по всей Сибири.
На северо-западе «политический террор, экономическая политика и специальные репрессии против крестьянства, пассивно сопротивлявшегося большевистским опытам, — вот главные причины, заставившие крестьянскую массу с энтузиазмом встречать белых, — отмечал бывший министр земледелия в правительстве этой области П. А. Богданов. — Но страх перед ответственностью за революционные выступления, боязнь за землю, что перешла или должна была перейти в руки крестьянства, всплыли на другой день появления белых».[544]
Гражданские власти пытались использовать антибольшевистские настроения крестьян для налаживания отношений с ними; но подлинными хозяевами положения были военные, и они не признавали «дипломатических» ухищрений. «Вешали людей во всё время правления белых псковским краем», — констатирует белый (не красный!) летописец северо-западного фронта Василий Горн. В Пскове «атаман крестьянских и партизанских отрядов» подполковник Булак-Булахович лично проводил публичные казни — для устрашения. В центре Пскова, регулярно, среди бела дня, вешали людей на трёхгранных фонарях, сразу по трое, так что «трупы висели на фонаре гирляндами, иногда в течение всего дня». А по деревням в это время созывали волостные сходы и втолковывали крестьянам, что они «могут распоряжаться только своей землей, прочие земли могут попасть в руки мужика только при условии аренды или покупки её. В итоге ропот всего схода: „Опять помещика на шею нам посадите“. „Мы будем работать, а баре хлеб есть… Не бывать этому!“».[545]
Куда ни кинь, всё тот же клин. Хотя массы народа восставали против бесчинств военного коммунизма, диктатура большевиков всё-таки была для них меньшим злом, чем военная диктатура белых. Что и оказалось основным фактором, приносившим победу большевикам. Причем не только военную, но в значительной мере и моральную.
Н. В. Устрялов
Горячий поборник белого движения, колчаковец, считавший себя большим патриотом России, Николай Устрялов, оказавшись в эмиграции, очень скоро пришел к заключению, что «пульс России бился все эти годы [гражданской войны] в Москве и только в Москве, — а не в Омсках, Екатеринодарах и Севастополях.[546] Теперь это уже бесспорно. Разве лишь безнадежно слепым это остается недоступным…. Фундамент новой России закладывается Революцией, сжегшей старую Россию…. Это воссоздание [подорванных сил государства] идет ныне под знаком советской власти».[547]
У Устрялова в эмиграции оказалось большое число единомышленников. Они развернули движение «смены вех», за возвращение «в Каноссу» (как называлась одна из центральных статьей сборника «Смена вех»), то есть в большевистскую Россию, которую они объявили подлинным «выразителем национальных и государственных интересов России на данном этапе». В доказательство правоты этой точки зрения Устрялов приводил слова Ленина: «В народной массе мы [большевики] всё же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает» (курсив мой. — С.Р.).[548]
Вкусив горький хлеб чужбины, недавние белые офицеры, монархисты, правые кадеты, октябристы, — те, кто еще недавно спасал Единую и Неделимую от большевистско-еврейской скверны, вдруг «прозрели» и стали доказывать, что большевики-то Единую и Неделимую как раз и олицетворяют.
«Революционная утопия побеждала, покуда на неё ополчались элементы, русской историей обреченные на слом», — писал Н. Устрялов в ноябре 1921 года.[549] «Не инородцы революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами революционерами, внешне или внутренне приобщившимися „русского духу“ в его нынешнем состоянии» (Н. Устрялов).[550]
«Мы идем к вам в „Каноссу“ не столько потому, что считаем вас властью „рабоче-крестьянской“, сколько потому, что расцениваем вас как российскую государственную власть текущего периода», — объяснял большевикам другой ведущий сменовеховец, профессор Чахотин.[551]
«Правда» с победным ликованием откликнулась на выход в Праге сборника «Смена вех», а Устрялов откликнулся на этот отклик: «Ни один из её [„Смены вех“] авторов — не социалист. „Смена вех“ руководствуется, прежде всего, патриотической идеей».[552] Писалось это в то самое время, когда большевики цинично, на глазах всего мира, доламывали хребет своим ближайшим политическим противникам — эсерам, устроив судебный фарс, о котором мы уже упоминали.
В книге Солженицына движение сменовеховцев отсутствует, как и многое другое, что не укладывается в его схему. Зато можно найти такую сентенцию: «Назвать еврейскую эмиграцию пробольшевистской — нельзя. Но большевистский строй не был для неё главным врагом, а у многих сохранилась к нему и благосклонность» (т. II, стр. 179). Селективный метод в умелых руках снова творит чудеса. Так и получается, что в большевиках доминируют евреи; а из числа их противников — из тех, кто остался в стране, и из тех, кто эмигрировал, — к ним в «Каноссу» пошли тоже преимущественно евреи. В царстве кривых зеркал реальность преобразуется до полной неузнаваемости: показано не то, что адекватно действительности, а то, что автор хочет показать.
Погромы
Летом 1918 года Ленин наговорил на граммофон речь, озвучившую декрет Совнаркома о борьбе с «антисемитским движением». Солженицын подчеркивает, что декрет был принят «сразу за расстрелом царской семьи» — тонкий намек на толстые обстоятельства, но цитирует эти документы тоже с изъятиями. О том, что «погромщиков и ведущих погромную агитацию» декрет ставил «вне закона» (с разъяснением, что это означало — расстреливать), сообщает (т. II, стр. 94); о том, что «еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский рабочий нам брат», — нет. О том, что «прокламированная борьба [против погромщиков] не получила развития», из его книги тоже не узнать: об этом сообщает Г. Аронсон. «В частности, — пишет он, — нет никаких сведений о том, чтобы участники погромов подвергались где-либо судебным преследованиям».[553]
А внесудебным? На этот вопрос ответить труднее. Солженицын приводит только один пример расстрела на месте антисемита (не погромщика!), заимствуя его из воспоминаний известного прозаика А. Ремизова, которому довелось быть свидетелем такой сцены: «Тут недавно возле Академии ученье было, один красноармеец и говорит: „Товарищи, не пойдемте на фронт, все это мы из-за жидов деремся!“ А какой-то с портфелем: „Ты какого полку?“ А тот опять: „Товарищи, не пойдемте на фронт, это мы все за жидов!“ А с портфелем скомандовал: „Стреляйте в него!“ Тогда вышли два красноармейца, а тот побежал. Не успел и до угла добежать, они его настигли, да как выстрелят — мозги у него вывалились, и целая лужа крови» (т. II, стр. 135).[554]
Вряд ли можно сомневаться, что расстрелянный красноармеец был несомненным антисемитом. Но пулю он получил не за «жида», а за то, что подбивал товарищей не идти на фронт. Повторю: это единственный в книге Солженицына пример того, как на практике большевики расправлялись с антисемитами.
Несколько скупых упоминаний о расстрелах советскими властями погромщиков можно найти в «Багровой книге» С. Гусева-Оренбургского.[555] Но эти отдельные и крайне редкие случаи не идут в сравнение с массовостью и жестокостью погромов. Да и применялась «высшая мера» не за (или не только за) участие в погромах. Так, в Умани, несколько раз переходившей из рук в руки, два левых эсера, Штогрин и Клеменко, подняли восстание против советской власти, но оно было подавлено. Клеменко скрылся, Штогрин был схвачен и на допросе в ЧК признал, «что действительно звал крестьян на погром, ибо иначе поднять крестьян нельзя было. Он был застрелен».[556] Понятно, что расправились с Штогриным не за погромную агитацию как таковую, а за то, что он поднял крестьян против советской власти.
Антисоветская карикатура, распространявшаяся деникинской пропагандой. Использованы стандартные антисемитские клише: гора черепов, какие-то жалкие людишки, а над всем царит звероподобный Троцкий с пятиконечным магендовидом на косматой груди, вылезающий из-за кремлевской стены
Красные тогда продержалась в Умани недолго: в город ворвались повстанцы во главе с Клеменко. И на радостях, что «жидовска влада скинута», они три дня расправлялись с мирным еврейским населением, убили 400 человек. А когда город был снова взят красноармейцами, последовал красный погром, и длился он не три дня, а — полтора месяца! «Вооруженные люди с красными бантами, красными шарфами и перевязками, верхом на убранных красными ленточками лошадях, с нагайками, револьверами, шашками, ружьями и во многих случаях даже пулеметами, врывались в квартиры. Начав с какого-нибудь предлога, или просто без предлога, производили разгром и расхищение. Требовали: денег. Забирали ценности. Избивали… издевались… пытали. И убивали… Защиты никто не оказывал».[557] И дальше: «Было, правда, до десяти случаев расстрела бандитов, но они все принадлежали к составу [красноармейского] полка. Главные организаторы разгромов остались вполне безнаказанными, будучи хорошо известными высшим властям».[558] Так что и здесь расстреливали за нарушение воинской дисциплины.
Картина типичная. Врываясь в города и местечки, где еще накануне их прихода деникинцы (или петлюровцы, или банды какого-нибудь Тютюнника, Ангела, Зеленого) убивали и насиловали евреев, части Красной Армии не разыскивали погромщиков, а вместо этого не редко сами учиняли погром. Когда об этом докладывали «самому» Ильичу, он молча накладывал резолюцию — «В архив».
А позднее, после гражданской войны, — что сталось с теми погромщиками? История не зафиксировала судебных или внесудебных дел против них. Может быть, всем им удалось скрыться, раствориться, замести следы и тем избежать «национальной мести» со стороны большевистской власти, по Солженицыну, нашпигованной евреями?
Ответ находим там, где, казалось бы, меньше всего его ждешь — в отчете доктора Джозефа Розена — представителя американской еврейской благотворительной организации Агро-Джойнт. Советская власть, никогда не упускавшая случая поживиться на счет буржуазии (грабь награбленное!), затеяв создание еврейских сельскохозяйственных поселений, «согласилась» принять финансовую помощь Агро-Джойнта. Розен закупил и завез в Россию различную сельскохозяйственную технику, в том числе 86 тракторов, которые в первую же страду — 1922 года — вспахали 100 000 акров земли. Это были первые «железные кони» на российских полях. А поскольку власти объяснили Розену, что не политично оказывать помощь еврейским пахарям и не оказывать их соседям, то не менее половины из этих ста тысяч акров пришлось на земли русских и украинских крестьян. Объясняя всё это своему начальству в Вашингтоне, Розен уточнял: «Мы, однако, ввели за правило, что трактора не будут обрабатывать землю тех деревень, которые участвовали в погромах», и не без гордости добавлял, что это «правило» вызвало поток петиций из многих деревень: крестьяне слезно просили сменить гнев на милость, «выражая сожаление за преступные действия своих односельчан».[559]
Никуда, стало быть, погромщики не прятались — они были известны односельчанам, а, значит, и местным властям. Свирепые чекисты их не трогали, «революционная расправа» свелась к тому, что по настоянию доктора Розена на еврейские деньги не распахивали поля тех, чьи руки вымазаны еврейской кровью. Такова цена ленинского декрета, поставившего погромщиков «вне закона».
Из первого тома «Двухсот лет вместе» мы знаем, что Солженицын не одобряет еврейских погромов, случавшихся в царской России. Во втором томе он не одобряет и погромов периода гражданской войны. А на вопрос, чем они были вызваны, в обоих случаях отвечает сходно: до революции погромы были ответом (неразумным, неадекватным, но ответом) на «еврейскую эксплуатацию», а в гражданскую войну — ответом на участие евреев «в большевиках»: народ-де мстил за «жидов-комиссаров». Как и в других случаях, тезис подкрепляется высказываниями «самих евреев», а когда их недостает — В. В. Шульгина. (Он, кстати, тоже не одобрял погромов, хотя сам к ним подстрекал).
Вот как это выглядит в книге:
«„По пути своего наступления и, в особенности, отступления“, в жестоком последнем отступлении в ноябре-декабре 1919, белая армия учинила „длинный ряд еврейских погромов“ (признаваемых Деникиным), и, очевидно, не только с целью грабежа, но и — в месть. Однако, говорит Бикерман, „убийства, грабежи и насилия над женщинами не были неизменными спутниками [Белой] армии, как утверждают, преувеличивая ради своих целей и без того страшное, наши [еврейские] национал-социалисты“».[560] (т. II, стр. 150; курсив мой — С.Р.; пояснительные слова в квадратных скобках А. И. Солженицына).
Читаем дальше:
«Об этом же Пасманик: конечно, „все понимают, что ген. Деникин не желал погромов, но, когда я в апреле и мае 1919 г. был в Новороссийске и Екатеринодаре, т. е. еще до начала похода на север, я почувствовал сгущенную атмосферу антисемитизма, проникавшую повсюду“.[561] На той почве — на мщении ли, на попустительстве — и вспыхнули „белые“ погромы 1919 года». (т. II, стр. 151).
«О том же Шульгин: „Для подлинно Белой психологии дикая расправа с безоружным населением; убийство женщин и детей; грабеж чужого имущества; всё это — просто невозможно“. Итак, „подлинные Белые виновны в данном случае в попустительстве. Недостаточно властно осаживали мразь, затесавшуюся в Белый лагерь“».[562] (II, стр. 150)
И снова Бикерман: «По единогласному мнению людей, имевших несчастье пережить и те, и другие [петлюровские и белоармейские] погромы, петлюровцы больше всех других именно за жизнью еврея гнались, за его душой: они преимущественно убивали».[563] (II, стр. 151).
А вот что находим в работах авторов, которые не рассуждают, а приводят факты и описывают подлинные события, досконально зная, что и как происходило.
Согласно антисемитским мифам, в ЧК господствовали латыши и евреи. На снимке группа членов коллегии ВЧК в 1919 г. Слева направо: Уралов, Дзержинский, Валобуев, Васильев-Южин, Савинов, Ксенофонтов, Мороз
«Багровая книга» Гусева-Оренбургского «составлена по материалам помощи пострадавшим от погромов при Российском Красном Кресте в г. Киеве».[564] Она «писалась спешно, при Деникине в г. Киеве, под звуки обстрелов и гул погромов; заканчивалась в разгаре эвакуации в Ростове» и «преследовала цель абсолютно объективного исследования».[565] Автор-составитель — писатель и православный священник — старается быть предельно беспристрастным, хотя он человек, и человеческие чувства ему не чужды. Порой они прорываются в тексте — в основном в виде выражения сострадания к жертвам и негодования к палачам. Но — к палачам вообще, без стремления кого-то выгородить, а кого-то заклеймить. Автор даже не всегда фиксирует, кто устроил данный конкретный погром: белые, красные, петлюровцы, какие-то местные или пришлые группы. Не в этом его интерес. Похоже, что неясность такого рода в иных случаях — намеренная. Он создает образ звериной ненависти — вне зависимости от того, в какой ипостаси она проступает в отдельных ситуациях. Лишь в обобщающем «Прологе» он позволяет себе обозреть поле скорби с птичьего полета: «Проходит перед нашими глазами пятое по счету украинское массовое кровавое действо, — страшный кровавый разлив, оставивший за собой все ужасы протекших времен.[566] Никогда не падало такое количество жертв. Никогда евреи не были так одиноки. Никогда безысходность их положения не была так ужасающа».[567] Он суммирует: «На киевском плацдарме стали одновременно действовать: 1. Добровольцы. 2. Петлюровцы. 3. Советские отряды. 4. Банды. … Активными деятелями бывала иногда поочередно каждая из этих 4-х групп. Четыре главных молота и множество второстепенных стали подниматься и опускаться с силою и регулярностью паровых молотов чугунолитейного завода».[568]
Похороны жертв Проскуровского погрома, 1919 г.
Вот один из примеров попеременной работы этих молотов:
«В местечке Тальном произошло следующее: 1. — С уходом большевиков вошла банда Тютюнника и устроила резню еврейского населения, при которой убито 53 человека. 2. — Тютюнника вытеснил отряд Махно, шедший с обозом из нескольких тысяч подвод. Он ограничился грабежом и убил только трех стариков евреев. 3. — Махновцев вытеснили галичане, но они удовольствовались только реквизициями. 4. — Наконец пришли добровольческие казаки, которые ограбили местечко дочиста, изнасиловали многих женщин, убили нескольких человек и сожгли часть местечка».[569]
Порой охватывает досада от того, как мало в книге имен, хотя Гусеву они были известны или их легко было установить. Но автор-составитель книги — не прокурор и не адвокат, он хроникер. Тем сильнее звучит этот багровый реквием, предтеча «Черной книги», составленной по следам нацистских преступлений на той же земле. Разница в том, что «Черную книгу» создавал большой коллектив авторов при поддержке официальных советских властей (запретили её лишь на последнем этапе, когда она уже была подготовлена к печати), тогда как Гусев-Оренбургский составлял свою книгу один, на свой страх и риск. (Можно представить себе, чем кончилась бы для него эта работа, если бы деникинская контрразведка прознала о его деятельности).
Согласно его хронике, в той же Умани повстанцы под верховенством левого эсера Клеменко, вытеснив из города красных, поначалу ворвались в три квартиры евреев. Они требовали выдачи коммунистов и оружия, «не грабя и не убивая никого».[570] Но скоро начали рыскать по другим домам и квартирам, требовать также денег. Потом — только денег: о коммунистах вовсе забыли.
«Руководимые местными преступниками, [погромщики] направлялись в хорошо известные им квартиры богатых и зажиточных евреев… Случаи убийства целых семейств многочисленны. Был случай убийства целой семьи Богданиса, в которой был старик 95 лет, зять его, дочь, внук и правнук. Были случаи применения пытки и зверских мучений, отрезания рук, ног, ушей, носа, грудей у женщин. …Убили мужа и отца женщины, заслонившей их своим телом. Она сама при этом была ранена пулей в грудь. Женщина эта была беременна и на другой день родила мальчика, причем в квартире на полу лежали три трупа убитых, в том числе ее мужа и отца… Много изнасилованных…
Во дворе дома Когана было расстреляно 9 мужчин и одна молодая беременная женщина. Эта женщина бросилась спасать мужа и упала, сраженная пулей прямо в живот. Убийцы тотчас же стали выражать сожаление, что стреляли в эту молодую красивую женщину… Особенно один был потрясен добровольной и героической смертью этой женщины. Во многих домах, куда он врывался при дальнейших налетах, он хмуро, с сожалением говорил: „Ось убили мы у домi Когана гарну жидiвку. Як вона подивилась на мене перед смертью, то я вже очи той жидiвки николи не забуду“.
… Все трупы найдены голыми или полураздетыми. И в то время, как город постепенно превращался в обширное еврейское кладбище, христиане мирно жили в домах своих, благочестиво возжигая лампады перед иконами. Какому Богу они молились? Часто, когда в одной половине дома, у евреев, шел разгром и убийства, в другой половине христиане чувствовали себя спокойно, оклеив стены крестами и выставив на окнах образа… Случаи защиты так редки, но тем резче они стоят перед глазами. На торговой улице христианин офицер спас своим вмешательством целую улицу, в то время как в других случаях чиновники, интеллигенция вполне равнодушно наблюдали сцены погрома и убийств, не делая никаких попыток вмешательства…
Из домов и улиц сваливали на телеги тела и свозили их на еврейское кладбище, где предали земле в огромных трех общих ямах. Отдельных могил евреям копать не позволяли. Когда согнанные для уборки и похорон трупов евреи, в числе коих были отцы, матери, жены, братья, сестры и дети убитых, плача рыли яму, повстанцы всячески смеялись и издевались над ними. Передразнивали их. Не давали женщинам плакать, грозя оружием.
… Через несколько дней родственники убитых отправились на кладбище, чтобы разрыть братскую могилу и перенести трупы в отдельные могилы. Но толпа мещан, — в большинстве участники погромов, — преградили им дорогу и заявили, что не позволят беспокоить мертвецов.
— Нельзя их тревожить, а то они рассердятся и будут нам мстить».[571]
Гусев-Оренбургский сообщает, что в городе тем временем был созван селянский съезд: Клеменко рассчитывал «узаконить» на нем разбой. Но на съезде «многие украинцы говорили речи против погрома и в защиту евреев, причем съезд… принял и выслушал еврейскую делегацию. И съезд отрицательно отнесся к погрому и враждебно к городским мещанам, духовенству и чиновничеству, единственно виновным, по мнению съезда, в погроме. Крестьянство же, по мнению ораторов, не принимало никакого участия в этом злом деле, прикрытом лозунгом борьбы с большевиками». Автор книги итожит: «Доказано, что из числа убитых евреев не оказалось ни одного „коммуниста“. Было убито без суда и приказа, властью крестьян, два коммуниста, но оба убитых — христиане украинцы».[572] (Курсив мой. — С.Р.).
Жертвы погрома в Глубоковиче, Белоруссия (захоронены в Бобруйске), 1919 г.
Невозможно передать все ужасы, о которых рассказано в «Багровой книге», перемежаемые редкими проявлениями милосердия и благородства, а иногда и трагикомическими эпизодами, ибо, несмотря на густо-багровый туман озверения в повествование прорываются лучи света, самых разных цветов радуги. Чтобы передать эту палитру, пришлось бы цитировать всю книгу. Привожу лишь несколько отрывков из этого бесценного раритета.[573]
Вот бесхитростный рассказ сорокалетней торговки — ее имя не названо. Она плыла на пароходе, на который напали бандиты. Они тотчас отделили евреев от остальных пассажиров, затем мужчин от женщин. Мужчин расстреляли, а трех женщин сбросили за борт. Две из них, видимо, утонули, третью же течение, уже в беспамятстве, вынесло на отмель. Очнувшись и придя в себя, она, мокрая, едва передвигая ноги, забрела в монастырь, где сестра милосердия ее отогрела, обласкала, напоила молоком и… велела уйти, иначе «монастырь может постичь несчастье». Рассказчица спряталась в монастырском хлеву, но зашел мужик накормить свиней, увидел ее, не обидел, но — тоже велел уходить, «объяснив, что боится». «Так в течение 5–6 дней бродила я из хлева в хлев, из одной дыры в другую. Питалась сама не знаю чем, а если и знаю, то не могу этого назвать. В деревне всё время стоял сплошной гул: стреляли, играли на гармонике и до глубокой ночи пели веселые песни».[574]
Вот два фрагмента из главы «По глухим углам»:
«Парни села Шершни, где мы живем, заперли дверь нашего дома. А потом вломились к нам вооруженные люди. Они назвали себя соколовцами, хотели убить мою жену и требовали денег. Когда же она заявила, что денег нет, они стали кричать: „Вы коммунисты!“ Жена сказала, что мы не коммунисты. Но они закричали: „Вы жиды-коммунисты, сжигаете наши деревни!“ Они забрали всех нас, вместе с детьми, и повели к командиру на ту сторону реки. Туда же из других дворов свели еще евреев, всего человек 18. Всех поставили в ряд. Один крестьянин распорядился зарядить винтовки. Но хорошо заряжайте, заявил он, так, чтобы можно было сразу 8 человек уложить. Тогда моя дочь и невестка стали умолять о спасении, обещая отдать за это спрятанное во дворе золото. Их повели ко мне во двор. Отдали всё что имели, до двух тысяч рублей. Они ушли».[575]
Но «благополучные» концовки редки, более типично такое свидетельство:
«С криком: „Руки вверх!“ выстрелили в воздух. Начали грабить нас. Потом подошли к моему сыну Давиду. Выстрелили в него. Он упал тяжело раненый. Моя старуха жена, желая спасти другого сына, стала перед бандитами. Ее прокололи штыком. Застрелили другого моего сына. Жена моего старшего сына стала перед бандитами с ребенком на руках, надеясь спасти мужа своего, который еще жил, хрипел и просил дать пить и рукой он делал движение закрыть ребенка. Стали бить меня по голове поленом. Я упал окровавленный. Так из всей нашей семьи осталась только невестка с восьмимесячным ребенком, которая стала за мной ухаживать, но вскоре впала в полубезумное состояние. Она целовала руки у мужиков, просила о помощи. Но безумный вид этой несчастной женщины с распущенными волосами, с ребенком на руках, вызвал у них только смех».[576]
Еще один эпизод: «Мы жили на станции Турчинке, но петлюровцы всё ограбили у нас, а сами мы спаслись только чудом и переехали жить в Кутузово. Но там дороговизна была ужасная, и я вынуждена была послать своих двух мальчиков домой, в Турчинку, чтобы достать немного провизии. Утром мальчики ушли. И больше мы их не видели. Крестьяне убили их. Чтобы уменьшить число крестьянских поработителей, говорили они. Их убил, как „маленьких щенят“, мужик села Топорищ, который находился в повстанческом отряде, он снял с них одежду и бросил голые трупы в яму… В это время отступили петлюровцы, в село вошел 9-й красноармейский полк. Но он немного уступал своим предшественникам. Нет слов для описания лишений. Вынуждены были спать мы на голой, сырой земле… Питались одними сухарями. После ухода 9-го полка проведали свое добро. От имущества ничего не уцелело. Что было спрятано у крестьян, больше не было возвращено. Мы застали только обломки наших домов. Окна были внутри, мебель сожжена, крыши разрушены, осталось только плакать немного на развалинах когда-то родных и милых построек».[577]
Вот рассказ 9-летнего ребенка: «Мы все находились в доме: наш сосед, его жена, мама, сестричка, братик и я. К нам забежала другая соседка, у которой только что убили мужа, и стала просить отвести ее куда-нибудь. Наш сосед и я пошли к ней. Не успели мы еще открыть дверь, как ввалилась банда. „Куда идешь“, — спросил один. И два раза выстрелил. Сосед упал простреленный. Я убежал в одну комнату, наша соседка в другую. Там ее убили. Я все время сидел под кроватью и оттуда видел, как один, в форме матроса, расстреливал всех. Все солдаты молчали, не требовали денег, ничего не кричали. Пробыли они минут пять. Когда они ушли, я вылез из-под кровати и увидел, что все мертвые. Я выскочил из окна и бросился бежать. И прибежал на наш черкасский вокзал. Там я видел, как расстреливали евреев, слышал крики. Но я не плакал, я собирал патроны, как будто ничего не случилось, как будто маму не убили. Я совсем всё забыл. Что было на вокзале, рассказать не могу, это слишком страшная картина. Потом я бегал по городу, прибежал на берег. Ходил по берегу. Меня не трогали, думали, что я русский. Ко мне подошел какой-то солдат, дал мешок и сказал: „Иди грабь“».[578]
Вот изумительная новелла под названием «Страшный жених», комичная в своей трагедийности и трагическая в своем комизме. При всем желании экономить место привожу ее без сокращений:
«Мне 19 лет, живу при родителях. 7-го апреля ночью, когда мы узнали о кровавых расправах с евреями у нас в Чернобыле, вся семья наша спряталась на чердаке. Квартиру мы оставили открытой и в нее, по каким-то неясным соображениям, вызванным очевидно растерянностью от ужаса, перебрался с семьей наш сосед еврей. Сидя на чердаке, мы слышали, как ночью в дом наш вошли солдаты. Они о чем-то грозно кричали и три раза выстрелили. Повозившись еще некоторое время, ушли. Потом опять был слышен шум и треск, явились другие солдаты… притихло и опять солдаты… Так в течение всей ночи. Мы поняли, что в нашем доме происходит что-то ужасное, но, опасаясь за свою жизнь, не решились покинуть своего убежища.
Утром я осмелилась спуститься с чердака. Сосед лежал раненый, и почти все наше имущество было расхищено и попорчено. Днем вошел к нам в сопровождении двух солдат знакомый военный, русский. „Саша“, — позвала я его. Он мне чрезвычайно обрадовался. Спросил о моих родных и, когда я ему сказала, что они, испуганные происходящим в нашем городе, боятся показываться, успокоил меня и сказал, что мне и родным нечего тревожиться, так как он нам выдаст расписку, обеспечивающую жизнь и остатки имущества. Он выдал такую записку: „Прошу этого еврея больше не тревожить“.
По моей просьбе он остался у нас на квартире. Он у нас спал, ел, выпивал и отлучался лишь по своим „военным надобностям“. Он знал меня еще с первых дней пребывания Лазнюка в нашем городе. Он находился тогда в числе других рядовых солдат, бывших на постое в нашем доме. Он был тогда оборван, буквально бос, и вернулся лишь недавно из австрийского плена. Родом он крестьянин, лет 30-ти, высокий, полный, колоссальной физической силы. В одном лишь нашем городе ему приписывают свыше 10 убийств, совершенных им собственноручно. Еще при Лазнюке он проявлял нескрываемую ко мне симпатию и часто оскорблял меня своими нежностями и вниманием. Уехав с отрядом Лазнюка, он присылал мне любовные письма, которые, понятно, оставались безответными. Теперь он вернулся прекрасно одетым и состоял командиром 11-го батальона. Он почти всегда носил на плечах пулемет.
Желая ему угождать, мы готовили ему самые изысканные блюда, доставали в городе спиртные напитки, и „бутылка“ обязательно не должна была сходить со стола. Я сама подавала ему пищу. Сама должна была сначала пробовать ее. Обязательно должна была пить с ним. Он мне предложил выйти за него замуж. Когда я указала на разницу религий, он авторитетно заявил: „Религия чепуха“. Когда я пробовала приводить другие мотивы, препятствующие нашей женитьбе, он однажды так разозлился, что я буквально была на волосок от смерти. Приходилось его уверять в моей любви к нему. Я говорила: я выйду за тебя, как только мои родители оправятся от пережитого.
Бандиты с требованием денег и угрозами в наш дом больше не являлись и даже не показывались на нашей улице. В доме наших соседей тоже поселился командир струковских повстанцев и завел роман с дочерью хозяина, молодой девушкой, которая имела на него большое влияние, благодаря искусно разыгранной преданности и влюбленности.
По вечерам почти все еврейские молодые девушки, живущие на нашей улице, собирались в нашем доме или в доме соседа. Здесь проводили вечера в обществе обоих командиров. Ужинали, выпивали, танцевали и пели. Все девушки себя держали так, как будто все влюбленные в этих героев, стараются отбивать их друг у друга, страшно ревнуют. Это умиляло командиров. Они всецело были в нашем распоряжении.
Когда на нашей или прилегающей улице врывались бандиты в еврейские дома, мы при помощи „женихов“ наших прогоняли их. Когда они пьяные засыпали, мы дежурили всю ночь напролет на улице: может быть, появятся бандиты, может быть, где-нибудь поблизости будет произведено насилие над евреями, чтобы быть всегда готовыми разбудить главарей и при их помощи рассеять буйствующих. Наша улица, населенная исключительно евреями и при том состоятельными, исключая ночи на 8-е апреля, почти не пострадала. Командиры своеобразно гордились этим. Назвали нас „бабий штаб“. А Саша даже требовал, чтобы улица была названа его именем.
Поздно ночью, когда при зловещей тишине слышны были отдаленные выстрелы, и мы всем содрогающимся существом своим понимали, что это прервалась после издевательств и пыток жизнь еврея, — на нашей улице слышалось пение, вынужденный хохот, звуки мандолины. Это мы забавляли „женихов“. Чтобы упрочить их расположение, мы им вышивали шелковые пояса, рубахи; выдумывали именины, чтобы преподнести им торты с поздравлениями: называли их уменьшительными именами. Они относились к нам нежно. Смотрели как на своих будущих жен. Но… „От своей природы не уйдешь“. Раз, когда моему „жениху“ не понравился обед, он грубо прогнал меня и потребовал от моего отца серьезно, угрожая револьвером, 5000 рублей. А однажды, став атаманом, позвал меня: „Бронька, сними мне сапоги. Я стал атаманом“».[579]
Комитет помощи пострадавшим, чьими материалами располагал Гусев-Оренбургский, зарегистрировал 35 тысяч убитых, но, как подчеркивает Гусев, в эту цифру «не вошли те многочисленные жертвы, которые пали в пунктах еще не зарегистрированных, потому что по сию пору отрезаны от нас и не доступны обследованию… Не вошли сюда безвестные еврейские семьи, истребленные до последнего человека в бесчисленных деревнях и селах. Не вошли жертвы, погибшие по дороге во время бегства из своих пепелищ, во время странствования из одного местечка в другое, вытащенные для расстрела из поездов, утопленные на пароходах, убитые в лесах и на проселочных дорогах. Не вошли очень многие, скончавшиеся от полученных ран и умершие от заразных и всяких других болезней, нажитых ими, когда их по неделям держали взаперти в смрадных помещениях без пищи, воды и одежды».[580]
Исходя из всех этих соображений, Гусев полагает, что «число погибших от погромов никоим образом нельзя исчислить меньше чем — в 200 000 человек».[581] Оговариваясь, что располагает неполными данными, он перечисляет 402 погромленных города и населенных пункта, а общее число погромов оценивает в восемьсот (во многих местах они происходили многократно). Как и предполагал автор, его данные занижены. Современный исследователь Ю. Финкельштейн суммирует: «За время гражданской войны деникинцы совершили 213 погромов, красные — 106, петлюровцы — около тысячи».[582]
В отличие от Гусева-Оренбургского, Ю. Финкельштейн не выделяет в особую категорию «банды». Опираясь на материалы французского суда над убийцей Симона Петлюры Шломо Шварцбардом, он показывает, что большинство «батек» не было автономно от Верховного атамана, а потому он разделяет ответственность за кровавые оргии банд, как и остальных петлюровских войск.
Но если погромы петлюровцев и «батек» носили скорее хаотичный, нежели планомерный характер, то в действиях деникинцев была система,[583] причем по уровню жестокости и беспощадности Добровольческая армия, безусловно, держала первенство. Белогвардейский автор Н. И. Штиф показывает, что весь путь Добровольческой армии был отмечен особо зверскими погромами. «Разгромом и уничтожением» неизбежно сопровождалось каждое «непосредственное военное занятие Добровольческой армией какого-либо пункта».[584] Если некоторые «пункты» избежали погромов, то только потому, что «при усиленном стремлении командования Добровольческой армии броском и наскоком достигнуть возможно скорее центра России, Москвы», добровольцы в этих «пунктах» не появлялись.
Начав с «тихих погромов», когда главной целью был «легкий грабеж (денег, драгоценностей, легко уносимых вещей)», деникинцы затем вступили в период «массовых погромов», когда «у всего еврейского населения отбирается всё, до одежды и обуви на теле, основательно очищаются еврейские квартиры, до пианино и кухонной утвари», когда имеют место «частичные поджоги и отдельные убийства», а «изнасилования принимают массовый характер»; и, наконец, наступил период «кровавых погромов и резни», которыми сопровождалась агония Добровольческой армии.[585]
«Грабеж и избиения, чинимые солдатами Добровольческой армии, одними комиссарами-евреями не объяснишь», — признает Солженицын (т. II, стр. 149), но тут же себя опровергает: «Не Добровольческая армия начала погромы — но она их продолжила, питаясь ложным убеждением, что все евреи — за большевиков» (т. II, стр. 151).
Не было такого убеждения, хотя бы и ложного! Пропаганда его насаждала, но жизнь ежедневно и ежечасно опровергала. Н. И. Штиф подчеркивает, что, пережив множество петлюровских погромов, немало выстрадав от бесчинств ЧК и от красноармейских погромов, еврейское население видело в Добровольческой армии избавителя, «оплот „права и порядка“». Во многих городах и местечках при приближении Добровольческих частей еврейские делегации выходили к ним навстречу с хлебом-солью, с всякими подношениями и изъявлением неподдельной радости. «Известные круги еврейского населения, принадлежавшие к торгово-промышленному и посредническому классу, склонны были, после советского коммунистического режима видеть во власти Добровольческой армии свой режим, несущий с собой начала незыблемой частной собственности и свободной торговли», — пишет белогвардейский автор.[586]
Группа погромщиков из банды атамана Струка
Но — «погромы при власти Добровольческой армии носят чисто военный характер, возникают по почину воинских частей и выполняются почти исключительно силами этих последних: Добровольческая армия монополизирует погромное дело».[587] Автор выделяет четыре особенности Добровольческих погромов: их чисто военный характер; массовые изнасилования женщин; особая жестокость, пытки; крайняя разрушительность, искоренение целых общин.[588]
«Массовое изнасилование еврейских женщин является самой резкой чертой, отличающей погромы Добровольческой армии от всех предшествующих… Массовое изнасилование имеет место решительно везде, даже при „тихих“ погромах и в крупных центрах (в Екатеринославе называют цифру не менее 1000 еврейских женщин). В местечках количество изнасилованных исчисляется сотнями, доходя до половины и больше всего еврейского женского населения… Это делалось открыто, на глазах у мужей, братьев, родителей, посторонних; не щадили ни возраст, ни состояние здоровья. Повсюду эти ужасы касались как малолетних детей (от 8 лет), так и глубоких старух… В Корсуни (Киевская губ.) зарегистрировано два случая изнасилования 70-летних старух, то же и в Россаве (случай изнасилования 75-летней старухи на глазах у мужа и дочери), в Томашполе и в других местах. В Кременчуге шестью казаками изнасилована больная возвратным тифом, в Корсуни — агонизировавшая женщина, которая тут же скончалась. В Нежине, Россаве изнасилованы родильницы, только что перенесшие роды, в Прилуках — беременные женщины… Еврейские девушки и женщины массами уводятся из домов родных, чтобы никогда больше не возвратиться туда, выталкиваются из вагонов. Большинство жертв заражено самыми отвратительными венерическими болезнями. Многие жертвы насилия убивались тут же, иные лишались рассудка, другие вымаливали себе, как милость, смерть, предпочитая ее позору, и много жертв кровью принесло еврейское население, мужественно, но безнадежно защищая родных от позора».[589]
Не знаю, был ли белогвардеец Н. И. Штиф евреем. Если был, то это не тот «еврейский источник», который цитирует Солженицын. Он держит себя на голодном пайке всё того же сборника «Революция и евреи», из которого старательно выписывает: «Д. О. Линский, сам служивший в Белой армии, с большой силой чувства пишет: „Еврейству открывался, может быть, неповторимый случай биться так за русскую землю, чтобы раз навсегда исчезло из уст клеветников утверждение, что Россия для евреев — география, а не отчизна“». (II, стр. 152). И дальше выписка из того же Линского: «Еврейство должно было вложиться целиком в русское дело, отдать ему свои жизни и средства… Надо было сквозь темные пятна белых риз узреть чистую душу Белого движения… В рядах той армии, где было бы много еврейских юношей, в составе армии, которая бы опиралась на широкую материальную поддержку еврейства, антисемитизм задохнулся бы, и погромное движение встретило бы внутренние силы противодействия. Еврейство должно было поддержать русскую армию, которая шла на бессмертный подвиг за русскую землю… Еврейство отстраняли от подвига участия в русском деле, но еврейство обязано было отстранить отстраняющих»[590] (II, стр. 152).
По этой логике, для борьбы с погромами евреи должны были массами вливаться в погромное войско! Правда, их туда не брали, но всё равно, они должны были вливаться могучим потоком, смывая с пути все преграды. Кстати, непонятно — как же самому Линскому это удалось? Либо скрыл свое еврейство, либо приписал себе боевую биографию задним числом. Третьего-то не дано, о чем говорят взятые А. И. Солженицыным из того же сборника сетования другого деникинца, доктора Пасманика: «Добровольческая армия систематически отказывалась принимать в свои ряды еврейских прапорщиков и юнкеров, даже тех, которые в октябре 1917 г. храбро сражались с большевиками. Это был нравственный удар русскому еврейству». — «Никогда не забуду картину, — пишет он, — 11 прапорщиков-евреев, пришедших ко мне в Симферополе жаловаться, что их выделили из строевых частей и откомандировали… кашеварами в тыл»[591] (т. II, стр. 152–153).
Вот такой нравственный удар был нанесен евреям нечуткими командирами Белого движения! Такая страшная обида: не допускали в окопы, под шашки красных конников, под пули тачанок-растачанок; не удостоили чести проливать кровь за святое белое дело, приставили вместо этого к кастрюлям и котлам. Что в сравнении с таким несмываемым оскорблением — братские могилы, наполненные горами изувеченных тел, тысячи изнасилованных женщин, молящих о смерти как о великой милости!
Воистину, бумага всё терпит; та бумага, на которую когда-то изливали свои претензии Линский с Пасмаником, и та, на которую их теперь перенес А. И. Солженицын, пытающийся если не оправдать, то объяснить погромную вакханалию тем, что-де были евреи в большевиках.
Чтобы завершить эту тему, приведу бесхитростное свидетельство одного такого «большевика», сохраненное для нас Гусевым-Оренбургским:
«Несколько солдат слезло с лошадей. Зарядили винтовки. Нас поставили в ряд, чтобы было удобнее расстреливать. Стоя в ряду перед лицом смерти, один из нас, Константиновский, лишился ума и стал истерически громко смеяться. Другой из приговоренных, Подольский, почему-то глубоко засунул руки в карманы и не в состоянии был их высвободить; или в нем погасло сознание, так как на приказание политкома вынуть из карманов руки Подольский остался неподвижен и бессмысленно глядел перед собою вдаль. Это „неисполненное приказание“ привело политкома в такое бешенство, что, обнажив шашку, он ударил его несколько раз по голове так сильно, что разбил ему череп… и мозги вывалились наружу. Подольский упал. Моя смерть была неотвратима. И я, уже коснеющим языком, с последними искрами потухшего сознания, снова принялся быстро, быстро говорить. Я говорил о моей преданности большевикам и борьбе рабочего класса за свое освобождение. Мои слова были бессвязны. Но в них была искренность уходящего от жизни. В мою пользу сказал один из конвоиров: „Этот жид сам явился“. Политком разрешил мне отойти в сторону. Я отошел. Около меня очутился и единственный нееврей, бывший в нашей группе обреченных. Раздалась дробь винтовок. Упали мои товарищи по несчастью…
Нас ввели, после целого ряда встреч и неизбежных угроз, на мироновскую телеграфную станцию, где находилась какая-то канцелярия. Здесь нас стал допрашивать политком пятого полка, молодой человек лет двадцати. Он начал свой допрос с того, что поставил меня и товарища к стенке. И стал в нас целиться из револьвера. Но источник слов моих был, по-видимому, неиссякаем. Я с несвойственной мне горячностью стал почти что не просить, а требовать. Я стал требовать суда и следствия. „Ибо мне смерть не страшна, говорил я, а ужасает то, что погибаю от рук своих же идейных товарищей, что умираю позорной смертью врага революции. А мне дороже жизни имя честного революционера, которое сохраню в глазах моих товарищей“. Слова мои подействовали на политкома. Он спросил меня: „Вы еврей?“ Я ответил: „Я не еврей, а солдат армии труда и революции“. Это мое заявление окончательно расположило политкома в мою пользу. После минутного совещания со своими приближенными политком объявил мне: „Вы оправданы и можете идти“».[592]
ЧАСТЬ IV
Богоборчество
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» был принят советской властью 23 января 1918 года — через две недели после разгона Учредительного Собрания. Последствия этого акта мало кто мог предвидеть: ведь в нормальной стране такой закон служит обеспечению религиозной свободы. В тоталитарном обществе большевиков государству, в конечном счете, принадлежит все. Потому отделение церкви от государства означало не свободу религии, а тотальную войну против нее до победного конца.
Маркс, как хорошо известно, назвал религию «опиумом народа»,[593] что неоднократно повторяли Ленин, Бухарин, Луначарский и другие главари большевизма, «теоретически» обосновывая богоборчество компартии и советской власти. «Бога жалко!! Сволочь идеалистическая!!»,[594] — негодовал Ленин на Гегеля.
За теорией следовала практика; как разъяснял «любимец партии» Николай Бухарин, «коммунизм несовместим с религиозной верой и на практике. Тактика коммунистической партии предписывает своим членам определенный образ действий. Мораль каждой из религий также предписывает верующим определенное поведение (например, христианская мораль: „Если кто ударит тебя по одной щеке, подставь другую“). Между директивами коммунистической тактики и заповедями религии в огромном большинстве оказывается непримиримое противоречие».[595]
Процесс поначалу шел туго. В 1921 году в директивной статье «Правды» «ответственным коммунистам» категорически запрещались «все расширительные толкования как самой религии („религия де частное дело каждого“), так и хотя бы „пассивного“ участия (например, присутствие на похоронах)».[596]
Любопытно, однако, что такое требование тогда еще не распространялось на рядовых партийцев: им еще разрешалось быть «несознательными», то есть все-таки присутствовать на похоронах отца, матери, брата — даже если, уважая волю или образ жизни покойного, на них присутствовал священник или раввин. Исключение из партии за такое «мракобесие» рядовым коммунистам еще не грозило. Однако «Правда» предписывала искоренять такие «предрассудки», неустанно промывая мозги всем коммунистам и беспартийному населению. «В рядах обывательских масс» не должно было быть «спутанности понятий о задачах, преследуемых партией в религиозном вопросе», дабы не возникло «превратного взгляда, [что] якобы коммунизм в его целом признает религию и ее служителей».[597]
Цель революции состояла в создании «нового человека», и, как формулировал тот же Бухарин, «Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная от расстрела и кончая трудовой повинностью, является, как это ни парадоксально звучит, методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи».[598] Ленин в секретном письме Молотову от 19 марта 1922 года инструктировал: сопротивление духовенства изъятию церковных ценностей (якобы для помощи голодающим Поволжья) следует подавить «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».[599] Как же эта линия партии проводилась в жизнь «на еврейской улице»?
В 1921 году, в канун еврейского религиозного праздника Рош-Ашана (еврейский Новый Год), в Киевском городском суде слушалось дело еврейской религии.
Первой показания давала очень решительная женщина. На вопрос о том, почему она отдала своих детей в хедер — еврейскую религиозную школу, а не в государственную школу, она ответила, что происходит из почтенной семьи раввинов и моэлов,[600] а не из каких-то там сапожников, а потому не отдаст своих детей коммунистам.
Затем появился густобородый раввин — с пейсами, в традиционной одежде и традиционном головном уборе. Ему был задан вопрос — почему он отравляет молодежь религиозными небылицами и шовинистическими бреднями?
— Я это делаю сознательно, чтобы держать народные массы в невежестве и в повиновении буржуазии, — отчеканил раввин.
— Что сказано в вашем Талмуде?
— Сказано: лучшего из гоев убей.
По залу прокатывается волна негодования, кто-то выкрикивает: «Ты невежда и клеветник!» Крикуна тотчас выводят из зала, его имя и дальнейшая судьба неизвестны.
Еще один «свидетель» — стройный мужчина в дорогом костюме, увешанный золотыми цепочками и брелками, на пальцах золотые кольца с крупными бриллиантами. Он рассказывает суду, как еврейская буржуазия с помощью религии держит массы в рабстве и темноте, подчиняя их игу капитала.
В зале поднимается учитель древнееврейского языка Моше Розенблат и с негодованием говорит:
— Восемь лет назад в этом самом зале проходил процесс Бейлиса. На нем еврейская религия подвергалась такому же поношению, как сегодня. Черносотенный суд пытался очернить еврейскую религию, Тору, Талмуд — всё, что дорого евреям. Теперь вы, как истые антисемиты и ненавистники евреев, повторяете те же наветы на еврейскую религию и духовные ценности нашего народа.[601]
Аудитория взрывается аплодисментами. Учителя выводят из зала, он арестован. Дальнейшая его судьба неизвестна.
В обвинительной речи «прокурор» потребовал приговорить иудаизм к смертной казни. «Суд» удалился на совещание и вернулся с требуемым «вердиктом».[602]
Зал синагоги после разгрома коммунистами
Источники не сообщают о том, каким образом предполагалось привести приговор в исполнение — расстрелом, повешением или утоплением баржи с раввинами и меламедами (что чекисты применяли по отношению к пленным белым, заложникам и иной контре). Но на практике использовался более древний способ — четвертование. Иудейская религия была подвергнута медленному умерщвлению путем расчленения ее живого тела.
В Витебске «общественный суд» над религиозными школами (хедерами) был затеян еще раньше. Он был назначен на 8 января 1921 года, в семь часов вечера, в кинотеатре «Рекорд», однако к назначенному времени перед кинотеатром собралось более пяти тысяч евреев, угрожавших разнести его в щепы, если позорное действо не будет отменено. «Суд» был отложен, как плохо организованный. Но через несколько недель все-таки состоялся. Хедер был приговорен к ликвидации. Власти поспешили закрепить победу, приступив к конфискации синагог.
Синагога ставшая рабочим клубом
Около половины населения Витебска было еврейским, и в городе действовало 77 синагог. Под предлогом, что большинство из них пустует, а для светских школ не хватает помещений, местные власти предложили еврейской общине добровольно уступить несколько синагог, но «понимания» такое предложение не встретило. Тогда коммунисты стали врываться в синагоги и изымать свитки Торы, молитвенники, ритуальные принадлежности. Опустошенные таким образом синагоги попытались закрыть, но снова натолкнулись на сопротивление стихийно собравшейся толпы. Спешно вызванный красноармейский отряд был встречен градом камней и комьями грязи. Только присланный для подкрепления кавалерийский эскадрон смог разогнать толпу. Часть синагог была закрыта, а затем превращена в клубы, склады, в одной был открыт «коммунистический университет».
Кампания по закрытию синагог прокатилась по городам и весям; почти везде верующие оказывали сопротивление и кое-где добивались временного успеха. Партийная еврейская газета «Дер Эмес» [ «Правда»] назвала эту кампанию «военной операцией: грандиозным наступлением на лагерь древнего врага, своего рода национальным движением еврейского пролетариата против еврейской буржуазии».[603] (Все беззакония коммунистический режим творил от имени пролетариата!)
Сцена из антирелигиозного спектакля под названием «Хедер». Постановка Белорусского Государственного Еврейского Театра, режиссер М. Рафальский. Три буквы, которыми «украшены» актеры, складываются в слово «кошер»
Проводились кампании против религиозных праздников, против субботнего отдыха, против соблюдения правил кошерной пищи, против выпечки мацы на Пасху. Устраивались шествия, спектакли, антирелигиозные праздники, во всё это вовлекалась молодежь, ведущую роль играл комсомол. Борьба с религией «на еврейской улице» была одной из важнейших задач евкомов и евсекций, созданных после октябрьского переворота — сначала в Центре, а затем и на местах.
В рамках наркомата национальностей, во главе которого стоял Сталин, были образованы комиссариаты по делам отдельных национальностей, в том числе Еврейский комиссариат, который возглавил Семен Диманштейн. По его инициативе, но несколько позднее (из-за сопротивления Свердлова) была создана Еврейская секция РКП(б). Возглавил ее тот же Диманштейн. Других кандидатов на эти должности не было.
Всего в большевиках на момент революции насчитывалось менее тысячи евреев.[604] При этом все видные большевики еврейского происхождения были из ассимилированных в русской культуре семей. Еврейского языка они не знали, ни малейшего интереса к еврейской жизни у них не было. Ситуация была гротескной. Тогда как противники большевизма из крайне правых кругов усиленно распространяли версию о том, будто октябрьский переворот — это осуществленный еврейский заговор,[605] сами большевики, задумав издавать газету на идиш, не могли найти редактора, который бы знал этот язык и хотел бы с ними сотрудничать. В конце концов, появились два вернувшихся из эмиграции (из Лондона) анархиста. Один из них не знал русского языка, второй не знал идиш; им дали словари и велели готовить первый номер газеты, а когда был создан Еврейский комиссариат, «пристегнули» к нему и новорожденную газету.[606]
Семен Диманштейн — глава евсекции
В руководящем слое партии Семен Диманштейн был чуть ли не единственным «настоящим» евреем. Выходец из бедной семьи, он рос в обстановке еврейской учености и глубокого почитания традиций — благодаря тому, что семья жила в одном доме с раввином. Учась с большим прилежанием, даже с одержимостью, в хедере, а затем в двух очень престижных ешивах, он получил диплом раввина, причем высокий уровень его познаний и глубокая преданность иудаизму были письменно удостоверены двумя очень авторитетными раввинами Вильно. Но внезапно его приоритеты переменились, он поступил в гимназию и скоро примкнул к революционному социал-демократическому кружку.
Первым его партийным заданием был перевод программы партии на идиш и на иврит, что он и выполнил в 1904 году. Этим большевистская работа среди еврейского пролетариата и ограничилась: революционно настроенная часть рабочих находилась в основном под влиянием Бунда, который вел пропаганду на понятном языке (идиш) и включал в свою программу культурно-национальную автономию для евреев. Бунд считал себя частью российской социал-демократии и активно сотрудничал с ее меньшевистским крылом. С большевиками же контакта не получалось, потому что Ленин был яростным противником бундовского «национализма и оппортунизма». «Бескомпромиссная» линия означала, что среди евреев, в том числе и пролетариев, большевики не имели никакого влияния. После октябрьского переворота, когда партии срочно потребовалась практическая работа в еврейской среде, вести ее было некому: на всех и всё был один Диманштейн.
Что касается газеты «Ди Вархайт», позднее переименованной в «Дер Эмес» («Правда»), то выходила она нерегулярно, с грубейшими языковыми ошибками и нелепостями. Впрочем, основная часть населения, читавшего на идиш, находилась под немецкой оккупацией; доставлять туда газету можно было лишь нелегально, в считанном числе экземпляров. Какое-то количество экземпляров расклеивали на тумбах в Петрограде и Москве, но часто — вверх ногами: нанятые для этого мальчишки не знали, где верх и низ газетной страницы, а проследить за ними было некому. Большую часть пятитысячного тиража сотрудники редакции уносили по домам — на растопку печей.
Работа советской власти среди еврейского населения стала оживляться только после того, как был раздавлен Бунд и другие еврейские партии, а небольшая часть их бывших активистов примкнула к большевикам. Тогда и газета «Дер Эмес» обрела грамотного редактора — в лице бывшего бундовца М. Литвакова. Поначалу, оправдывая такую «смену вех», бывшие бундовцы хорохорились, объясняя себе и другим, что не изменяют делу «еврейского пролетариата», а идут в большевики, чтобы представлять и отстаивать особые интересы еврейских масс перед лицом новой власти. Но от них ожидалось прямо противоположное. На конференции евсекций и евкомов в октябре 1920 года Диманштейн настоял на принятии резолюции о том, что «в нашей жизни больше нет места учреждениям, которые до сих пор заправляли всеми делами на еврейской улице, и нет места еврейским представительным органам, избираемым всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. В период острой борьбы не может быть никакого компромисса с буржуазией; все такие учреждения подрывают интересы еврейских трудящихся масс, усыпляя их сладкими речами о так называемых демократических принципах».[607] То есть евсекциям и евкомам вменялось представлять не массы в партийном и советском руководстве, а партийное руководство — в массах.
«Наш девиз всегда таков: долой раввинов и попов!» — скандировали воинствующие безбожники, причем еврейские активисты проявляли особую бдительность, следя за тем, чтобы не возникало ни малейшего подозрения, что «раввинам» достается на орехи меньше, чем «попам».
«Вы не понимаете, в какой опасности находятся евреи, — теоретизировала ведущая воительница на „религиозном фронте“ из числа бывших бундовцев Эстер Фрумкина. — Если русский народ начнет чувствовать, что мы попустительствуем евреям, это причинит им вред. Ради самих евреев мы должны одинаково обращаться с духовенством — еврейским и нееврейским. Опасность состоит в том, что массы могут подумать, что иудаизм исключен из числа объектов антирелигиозной пропаганды. Вот почему коммунисты-евреи должны быть более жесткими к раввинам, чем коммунисты неевреи — к [православным] священникам».[608]
Однако «буржуазии» на еврейской улице было во много раз больше, чем пролетариата. Представители крупной буржуазии за годы гражданской войны либо эмигрировали, либо были уничтожены. Но мелкие торговцы, ремесленники, балагулы (извозчики), «продавцы воздуха», перебивавшиеся случайными заработками, — весь этот полуголодный местечковый люд по «научной» марксистской классификации тоже причислялся к буржуазии. То, что народ был изувечен и разграблен гражданской войной и недавними погромами, а затем военным коммунизмом, который запретил частную торговлю и лишил основную массу этих мелких буржуйчиков всех средств к существованию, дела не меняло. Этот люд составлял 70–80 процентов еврейского населения, так что, от имени пролетариата была фактически начата война против основной массы народа.
«Воинствующие безбожники» устраивали «живые синагоги» (по примеру «живой церкви»); в Минске создали «Красную общину» во главе с «красным раввином». Учитывая особое значение в череде еврейских религиозных праздников дня покаяния и поста (Йом-Киппур), «безбожники» с особым размахом устраивали свои «йомкипурники»: громкие шествия и демонстрации перед окнами синагог, переполненных молящимися, под революционные песни и антирелигиозные лозунги.
В Одессе в день поста и молитвы комсомольцы ворвались в Бродскую синагогу (основанную выходцами из местечка Броды), разогнали молящихся и демонстративно стали есть хлеб. В другой синагоге молящиеся дали отпор, началась драка, вмешалась милиция, арестовавшая, конечно, не хулиганов, а молящихся.
Хедеры повсеместно закрывались, детей заставляли учиться только в государственных школах, и они все чаще возвращались с занятий настроенными против «мракобесов-родителей». Десятки, сотни, тысячи трагедий, вызванных конфликтом отцов и детей, искусственно создаваемым новой властью, вошли в еврейские семьи — как, конечно, и в русские.
В 1923 году была конфискована хоральная синагога в Харькове, чему предшествовала долгая пропагандистская кампания; так же в Минске, Одессе и многих других городах и местечках. В Киеве конфискация синагоги сопровождалась демонстрацией. «Безбожники» несли транспаранты: «Долой религию! Да здравствует пролетарская культура!» Синагога была отдана под клуб «еврейским трудящимся, празднующим победу над клерикализмом».[609] В Москве тоже пытались закрыть хоральную синагогу как «центр клерикализма» — разумеется, «по требованию рабочих». Однако петицию подписало всего… восемь рабочих, тогда как протестовали против закрытия тысячи верующих и неверующих евреев. Синагогу удалось отстоять.
В Херсоне сравнительно тихо закрыли пять из шести синагог, но когда посягнули на последнюю, в центр была направлена петиция протеста, подписанная двумя тысячами верующих. Евсеки доказывали, что по воле еврейских масс синагогу необходимо превратить в рабочий клуб. Евреев-пролетариев в городе, видимо, не оказалось, поэтому пришлось опереться на ремесленников, то есть на «мелкую буржуазию». Но опора оказалась хлипкой. Для обсуждения резолюции удалось собрать три сотни ремесленников, но проголосовали за нее только восемьдесят. Синагогу удалось отстоять.
Однако некоторые временные уступки властей не меняли общего вектора наступления на религию.
В 1924 году в Минске побывал американский раввин Глезер. Вернувшись, он опубликовал статью об увиденном: раввины ютятся по чужим углам, так как их квартиры реквизированы; синагоги превращены в клубы; еврейские кладбища — в парки.
Реакция на эту статью была четкой: в Минске арестовали тридцать евреев — раввинов и просто верующих; их обвинили в том, что по их наущению в Америке ведется антисоветская пропаганда.[610]
В рамках антирелигиозной кампании непрерывной чередой проводились митинги, лекции, дискуссии; газеты наводнялись тысячами публикаций, атаковавших религию вообще и иудаизм в частности. Для тех, кто не готов был полностью отказаться от веры, ее профанировали, модернизировали и «коммунизировали». В 1927 году на идиш была издана пасхальная «Агада для верующих и неверующих». Текст написал активный в те годы пропагандист «революции на еврейской улице» Мордехай Альтшулер, а иллюстрировал книгу первоклассный художник А. Тышлер — в последующие годы близкий сотрудник Соломона Михоэлса, оформитель многих спектаклей ГОСЕТа.
«Агада для верующих и неверующих» предназначалась для чтения за праздничным пасхальным столом вместо традиционной Агады. Праздник весны и свободы, которым евреи более трех тысяч лет отмечают избавление от рабства, в «революционной» Агаде был представлен как «средство порабощения масс» и даже — «внушения им ненависти к неевреям».[611]
Верующие должны были читать вслух:
«Пусть всех аристократов, буржуев и их пособников — меньшевиков, эсеров, кадетов, бундистов, сионистов и других контрреволюционеров поглотит огонь революции. Пусть те, кто в ней сгорит, никогда не возродится из пепла. А оставшихся мы выявим и сдадим в ГПУ».
Обряд омовения рук сопровождал текст:
«Смойте с себя, рабочие и крестьяне, все буржуазные предрассудки, смойте пыль столетий и произнесите — не благословение — а проклятье: пусть будут уничтожены все устаревшие раввинские законы и обычаи, ешивы и хедеры, которые туманят сознание и порабощают народ».
И дальше: «За кусок хлеба каждый капиталист покупает нашу кровь и пот. Гонимые голодом, мы становимся добровольными рабами капитала. Наш еврейский характер, сформированный традициями и раввинами, учит нас терпению и смирению. Они хотят нас уверить, что мы голодны и одиноки только потому, что мы живем в рассеянии. Они превратили религиозные праздники в средство закабаления народа».
Вот, может быть, самый экстравагантный пассаж, обращенный к Всевышнему: «Соедини Второй Интернационал с Лигой Наций, между ними помести сионизм и скажи: Пусть их пожрет всемирное революционное восстание пролетариата».
И — торжественная Песня-Псалом: «Пойте Интернационал и говорите: / Долой предрассудки столетий! / Долой клерикальные националистические праздники! / Да здравствуют революционные праздники рабочих!»[612]
В период гонений на «космополитов» и ликвидации остатков еврейской культуры А. Тышлер был многажды бит за декадентство, формализм и национализм, но уцелел. Сознавал ли он, что сам раздувал огонь, который испепелил почти всех его друзей и только чудом обошел его самого?.. Достойно упоминания и то, что в 1970 году автор профанированной «Агады» М. Альтшулер критиковал «вытравливание всякого еврейского своеобразия» из современной советской еврейской литературы (на идиш); по его словам, это сказывалось даже на переводах более ранних произведений (надо полагать, еще не полностью лишенных национального колорита). При переводе детских стихов Льва Квитко, возмущался критик, еврейские имена детей заменяются русскими, так что ничего еврейского в стихах не остается.[613]
Посеявший ветер пожинал бурю? Но «Красными Агадами» и другими подобными акциями активисты-безбожники 1920-х годов как раз сеяли бурю, крушившую все на своем пути. По сравнению с этим, замена еврейских имен в стихах Квитко — это детские забавы. «Климу Ворошилову письмо я написал / Товарищ Ворошилов, народный комиссар!» Право же, не вижу разницы, сказано ли это от имени пионера Пети или октябренка Пинхуса. Это даже не ветер после рассеянной бури, а ласковый бриз, слегка вспенивающий волну над затонувшей (утопленной!) Атлантидой еврейской культуры.
В ходе кампании по созданию «на еврейской улице» нового человека были арестованы и отправлены в ГУЛАГ тысячи раввинов, меламедов, моэлов, резников, просто верующих — из тех, что предпочитали традиционную «Агаду» — пролетарской.
Наибольшую известность приобрел арест в Ленинграде в 1927 году духовного лидера Любавического движения Хабад Ребе Иосифа-Ицхака Шнеерсона, рельефно описавшего испытания, выпавшие на его долю.[614] Допросы Ребе вел начальник следственного отдела ленинградского ГПУ Дегтярев — при помощи мелкого и невероятно злобного сотрудника-еврея Лулова. (Шнеерсон принципиально отказывался отвечать по-русски, Лулов переводил).
Перечень обвинений, предъявленных Ребе, был внушителен: «поддержка реакции в СССР»; «контрреволюция»; «лидер мракобесов»; религиозные евреи видят в нем высший авторитет; его влияние распространяется на часть нерелигиозных евреев; он «организовал по всему Советскому Союзу сеть [подпольных] хедеров, ешив и прочих религиозных учреждений»; связи с заграницей; оказывает влияние на «американскую буржуазию»; получает из-за рубежа «огромные суммы денег», которые идут «на поддержание и распространение религии в Советском Союзе, а также на борьбу против советского правительства».[615]
Сломить арестованного не удавалось никакими запугиваниями и издевательствами. Шнеерсон отказывался отвечать на вопросы и даже принимать пищу до тех пор, пока ему не были возвращены изъятые молитвенные принадлежности. Он выставлял и другие требования, доводившие тюремщиков до бешенства: например, чтобы для него кипятили воду в особой посуде, так как кипяток из общего котла мог быть некошерным. Только добившись всего этого, он стал отвечать на вопросы следователя. Он отверг обвинения в антисоветской деятельности, но признал все то, что касалось собственно религии:
«Не буду спорить, евреи действительно видят во мне авторитет, но я никогда не использовал его в антисоветских целях. Кроме того, не забывайте, этот авторитет чисто нравственный, моральный. Я никого не принуждал и не принуждаю, никто из евреев не находится в какой-то зависимости от меня. По вашим представлениям, я властвую над людьми, но это и неверно, и невозможно. Власть и принуждение противоречат самой сути учения Хабад. Главенство у хасидов — означает духовное величие, означает первенство в стремлении достичь цельности, в стремлении усовершенствовать себя настолько, чтобы и другие следовали тем же путем. Нетрудно понять, что подобного авторитета невозможно добиться принуждением и силой власти хотя бы потому, что каждый хасид волен учиться или не учиться у своего руководителя — Ребе».[616]
Но — всякая религиозная деятельность, согласно коммунистической доктрине, считалась антисоветской, Шнеерсон был виноват, так сказать, по определению.
Следствие длилось недолго, чекистский приговор был неумолим: к высшей мере.[617] К счастью, друзья и последователи Ребе сумели быстро и широко оповестить о его аресте. Особая заслуга в этом принадлежала его зятю Шмарьяху Гурарье. На следующий день он выехал в Москву, сумел незамеченным войти в германское посольство и рассказать о случившемся. Так об опасности, нависшей над Ребе Шнеерсоном, узнал Запад. В самом Советском Союзе тоже были подняты на ноги высокопоставленные лица — все, до кого удалось достучаться.
Протесты внутри страны, давление из-за рубежа и «тихая дипломатия» Екатерины Павловны Пешковой[618] позволили добиться отмены смертного приговора, который был заменен десятилетним заключением на Соловках; затем — заменой соловецкой каторги трехлетней ссылкой в Кострому. Но едва Ребе приехал в Кострому, была отменена и ссылка. Шнеерсон с семьей поселился в Малаховке под Москвой: возвращение в Ленинград ему было заказано.
Особую роль в освобождении Ребе сыграли многократные обращения Е. П. Пешковой к председателю ОГПУ Менжинскому, а сильнее всех сопротивлялся смягчению приговора глава Ленинградского ГПУ Мессинг.
Д. А. Гуревич, подготовивший к печати книгу Ребе, включил в нее разговор Мессинга с заместителем Е. К. Пешковой по Международному Красному Кресту, которого та послала в Ленинград, надеясь урезонить грозного чекиста. Но тот наотрез отказался изменить свою позицию, а в качестве довода выставил… возможную вспышку антисемитизма.
«Вы, конечно, знаете, — пояснил Мессинг, — что в тюрьмах и ссылке сколько угодно служителей культа: попов и пасторов, ксендзов, мулл… Но их не выпускают. Представьте теперь, что начнется, если освободят раввина. Из каждой щели завопят черносотенцы: „Ага, что мы говорили! Это жидовская власть!“ [Словно „сколько угодно“ раввинов не находилось в ссылках и лагерях вместе с попами и муллами.]
— Хочу вас заранее предупредить, — закончил Мессинг короткую беседу. — Если даже Москва выпустит Ребе, мы немедленно найдем повод снова упрятать его за решетку».[619]
Этот палач, развращенный безграничной властью над жизнью и смертью людей, похоже, не забывал о своем еврейском происхождении и именно поэтому был особенно непреклонен к евреям. Интересно бы узнать, что он думал через десять лет, когда сам оказался в камере смертников: считал ли свой смертный приговор актом антисемитизма или посчитал бы таковым помилование? Ведь если бы его вдруг помиловали, у черносотенцев появилось бы еще одна возможность кричать, что жидовская власть держит сторону евреев!
В деле Шнеерсона Мессинг проиграл, но уже на следующий день после освобождения Ребе газета «Эмес» вышла под шапкой: «Раввина Шнеерсона — в Соловки или в Сибирь!» Травля усиливалась с каждым днем. «Почему не арестовывают раввина-мракобеса?», «Кто победитель: революция или Шнеерсон?»
Дело шло к новому аресту; друзья Ребе стали настаивать на его отъезде за границу, чего, в конце концов, удалось добиться — благодаря новым ходатайствам Е. П. Пешковой и давлению из-за рубежа. А точнее, Ребе был продан: за его выезд власти получили выгодный торговый договор с Латвией, который прежде латвийский парламент отказывался ратифицировать. В таких делах советская власть никогда не проигрывала.
Вероятно, для того, чтобы «милость», оказанная раввину Шнеерсону, не вызвала вспышки антисемитизма, Мессинг приказал арестовать другого ленинградского раввина, Лазарова. Лазарову удалось добиться разрешения на ввоз в Советский Союз из-за границы партии мацы, что давно уже было запрещено: велено было обходиться собственными силами. Но в 1929 году собственными силами обойтись оказалось невозможно. Благодаря ударным темпам коллективизации год в стране был голодным, муку стали выдавать по карточкам, для выпечки мацы дефицитная мука не предназначалась. Импорт пасхального хлеба (к тому же бесплатного — маца пеклась и ввозилась на пожертвования заграничных евреев) позволил хоть немного смягчить продовольственный кризис, почему Лазарову и пошли навстречу. Операция удалась: раввин Лазаров был арестован как польский шпион, сослан и вернулся из ссылки тяжело больным и сломленным человеком.[620]
В 1928-32 годах проводились особенно интенсивные репрессии против служителей иудаизма. Бредень был закинут очень широко. Гребли раввинов, моэлов, резников, меламедов, рыская по городам и местечкам черты оседлости и по всей стране. Служителям культа предъявляли абсурдные обвинения — в троцкизме, саботаже, даже в подрыве колхозного строя.[621]
В 1929 году в Москве было обнаружено тайное религиозное общество студентов и рабочих, возглавлявшееся любавическим раввином Яковом Ландау. Девиз общества: «Будь полноценным евреем у себя дома и будь полноценным евреем в мире». То был полемический парафраз формулы еврейского поэта XIX века Я. Л. Гордона, представителя движения гаскала: «Будь человеком в мире и евреем у себя дома». Для хасидов такой «оппортунизм» был неприемлем. Члены общества Якова Ландау ежедневно изучали Тору, Талмуд, хасидизм, соблюдали все религиозные предписания и запреты, не думая о том, как на это реагируют окружающие. Входившие в общество не афишировали, но и не скрывали своего образа жизни; студенты, например, отказывались сдавать экзамены в субботу. «Тайная» организация, действовавшая вполне явно, скоро была обнаружена всевидящим ГПУ. Ее звенья были раскрыты также в Ленинграде, Минске, Смоленске, Полтаве. Ее тотчас прихлопнули, хотя кое-где позднее делались попытки ее возродить.[622]
О судьбе участников этого движения я никаких сведений не нашел, но судьба Любавической общины в целом известна: в Советском Союзе от нее почти ничего не осталось, возродилась она в США благодаря усилиям и авторитету эмигрировавшего Ребе. Сейчас любавическое присутствие снова ощущается в России, но уже постсоветской, не богоборческой. Некогда «экспортированное» на Запад, оно теперь импортируется с Запада.
К 1930 году Евсекция свою миссию выполнила и была ликвидирована, следом закрыли евсекции на местах. В 1938 году Семен Диманштейн был арестован и расстрелян. Арестованы и расстреляны либо отправлены в ГУЛАГ почти все ведущие деятели бывших евсекций и евкомов: Литваков, Рафес, С. Агурский, Эстер Фрумкина, сотни других. Для дальнейшей переплавки евреев в «человека коммунистической эпохи» они уже стали помехой: изничтожая «буржуазную» еврейскую жизнь, они противопоставляли ей «пролетарскую», но тоже еврейскую. А партия, под мудрым руководством товарища Сталина, взяла курс на полную ликвидацию еврейства. Подводя итог бесчинствам евсекций «на еврейской улице», Джошуа Ротенберг справедливо замечает, что хотя они были только орудием макиавеллевской политики советской власти, это не умаляет их собственных грехов: если преступные приказы исходят от хозяина, это не снижает вины исполнителя.[623]
В конце тридцатых годов в Москве была разгромлена «еврейская контрреволюционная группа», в которую входили «религиозные авторитеты» во главе с раввином Медалье, о чем победно сообщила «Правда». Преступления их состояли в выпечке мацы, ее продаже и содержании на выручаемые деньги сети нелегальных хедеров и ешив (легально они уже давно не существовали). Обвинения против раввинов и религиозных евреев становились все более абсурдными, вплоть до шпионажа в пользу нацистской Германии. Раввин Медалье был арестован и бесследно исчез. Только в 1964 году его жена получила официальную справку о «реабилитации». В ней говорилось, что в годы «культа личности» ее муж был отправлен в Сибирь и казнен; его дело пересмотрено, он признан невиновным.[624]
* * *
Все до сих пор рассказанное в этой главе Солженицын обходит молчанием. Богоборчеству большевистской власти он дает специфическую окраску: по его мнению, «самым неразумным образом евреи-активисты вливались в общебольшевистскую настойчивую ярость в травле православия (в сравнении с другими религиями), в преследовании священников, в печатном глумлении над Христом. Тут и русские перья расстарались: Демьян Бедный (Ефим Придворов), и не он один. Но евреям постоять бы в стороне» (т. II, стр. 96).
Чтобы показать, что евреи не стояли в стороне, Солженицын даже радикально выходит за пределы своего обычного круга источников. К бичеванию и самобичеванию авторов сборника «Россия и евреи», остающемуся скрепляющей арматурой его аргументации, тут добавлено несколько новых, в их числе весомых голосов.
Но подход к историческим материалам остается прежним: они служат чему угодно, но не выяснению истины — она ведь и без того давно и бесповоротно известна автору. Остановимся на этом вливании «свежей крови» чуть подробнее.
В декабре 1917 года (со времени Октябрьского переворота прошло полтора месяца, почти никто еще толком не понимает, что же именно произошло!) в Кронштадте строительные рабочие вдруг возмущаются «назначением православных священников на очередное дежурство милиционеров», хотя «ни один еврейский раввин, магометанский мулла, римско-католический ксендз и немецкий пастор» назначен не был; а все потому, что «весь Исполнительный Комитет состоит исключительно из иноверцев…» (т. II, стр. 96).[625]
Документ этот не новый. Он не раз цитировался историками, но всегда как пример неумной черносотенной пропаганды. Нельзя же всерьез поверить, что Исполком совета в Кронштадте — цитадели матросов Железняков — был исключительно инородческий. Это так же абсурдно, как и то, что Совет накладывал повинности на духовенство одних исповеданий, но не других. Скорее всего, ни одного муллы или раввина в Кронштадте не было, а если и был один раввин, то нес ту же повинность, как миленький — разве что был освобожден от нее по старческой немощи или болезни.
Но Солженицын верит в цитируемую резолюцию, как в священное писание: для него это доказательство, что коммунисты преследовали попов и благоволили к раввинам.
Письмо Патриарха Тихона от 9 августа 1920 года на имя предсовнаркома Ленина, копия председателю ВЦИК Калинину, — заслуживает большего внимания. В нем изложена просьба (или требование) — отстранить от следствия по его делу сотрудника министерства юстиции Шпицберга «как лицо, производящее следствие и допросы „с пристрастием“, что ярко выяснилось из предыдущих церковных процессов». По словам Патриарха, это «человек, публично оскорбляющий религиозные верования, открыто глумящийся над религиозно-обрядовыми действиями, печатно в предисловии к книге „Религиозная язва“ (1919 г.) называющий Иисуса Христа ужасными именами» (т. II, стр. 96). Солженицын сообщает, что ходатайство Тихона было рассмотрено Малым Совнаркомом и отклонено; однако М. И. Калинин все же приватно посоветовал наркому юстиции Красикову заменить Шпицберга кем-то другим, дабы «лишить „духовные круги… возможности главного довода насчет национальной мести и проч.“».[626] (т. II, стр. 97).
О чем говорят эти документы? О том, что осмотрительные представители власти, такие, как М. И. Калинин, задумывались о последствиях грубых антирелигиозных акций, понимая, что они могут давать повод к контрпропаганде националистического толка, особенно если в акциях против православия будут участвовать лица неправославного происхождения, и наоборот. Но большого значению этому, видимо, не придавалось, почему Шпицберг оказывался причастным к делу Патриарха Тихона, а Дегтярев — к делу раввина Шнеерсона. Полагаю, что никакого иного корректного вывода из этих материалов не извлечешь. Солженицын, однако, склонен к более грандиозным обобщениям, из-за чего возникает неловкое ощущение, что гора рождает мышь, или, напротив, из мухи делается слон. По Солженицыну, из предостережения Калинина о нежелательности участия еврея в деле Патриарха «очевидно, что представление о национальной мести со стороны евреев-большевиков было развито в русском сознании уже и к 1920 году» (т. II, стр. 98).
Такую же мысль он находит у эмигранта-эсера С. С. Маслова, который комментирует антирелигиозную кампанию по «вскрытию мощей»: «„Разве бы русские, православные на такое дело пошли?“ Говорят по России, „это всё жиды подстроили. Жидам что: они самого Христа распяли“.» (т. II, стр. 97).
Какую именно кампанию имел в виду С. С. Маслов из солженицынского изложения не понять, но, похоже, что это кампания 1919 года, описанная в брошюре «Мощи» некоего И. Ломакина. Вот что пишет на основании этой брошюры современный автор:
«И. Ломакин информирует публику о результате „осмотра мощей советскими представителями, рабочими, в присутствии духовенства, монашества и народа“. Оказывается, церковники долгое время обманывали верующих: „вместо нетленных останков в раке Александра Свирского оказалась восковая кукла, закутанная в парчу и марлю. В раке Артемия праведного обнаружены только кирпич и гвозди, обмотанные парчой… В Калязине, в раке преподобного Макария, — кости, наполовину истлевшие, проложенные ватой в количестве 5 фунтов, и свежие сосновые стружки“ и т. д. (стр. 3–4). Далее следует разъяснение, что „ни в Евангелии, ни в апостольских писаниях мы не находим ни одного слова о мощах и почитании их. И понятно почему: потому, что почитание мощей есть идолопоклонство“, приводятся подходящие цитаты из Писания».[627]
Коли так, то данная конкретная кампания была направлена не против православия, а против шарлатанов, ввергавших доверчивую паству в идолопоклонство! Вполне можно допустить, что после этого кто-то и говорил в толпе: «Это всё жиды подстроили» (а не шарлатаны в рясах). Удивляться этому не приходится: антисемитские предрассудки, десятилетиями внедрявшиеся в сознание необразованного и легковерного народа, не могли исчезнуть по мановению волшебной палочки. Отсюда и обилие желающих играть на этих предрассудках, наживать на них политический капитал. О том же говорит и «воззыв рабочих Архангельска „к сознательным русским рабочим и крестьянам“», который, как сообщает Солженицын, «в саму „Правду“ прорвался (напечатали под насмешливым заголовком „Бей жидов!“)». «Повсюду „поруганы, опоганены, разграблены“ — „только русские православные церкви, а не еврейские синагоги, — цитирует Солженицын. — Смерть от голода и болезней уносит сотни тысяч ни в чем неповинных русских жизней“, а „евреи не умирают от голода и болезней“» (т. II, стр. 96).
Позвольте, но ведь это напечатано летом 1919 года! По всей бывшей черте оседлости и повсюду, где имеется заметное скопление евреев, грабят, рушат, жгут именно еврейские синагоги; смерть уносит тысячи еврейских жизней — женщин, стариков, детей; не только голод и болезни тому причиной, но и пули, штыки, топоры, шашки, колья, вилы и прочие орудия погрома. А у самого Белого моря, в городе, где едва ли насчитывался десяток-другой евреев, у «сознательных рабочих» горит душа оттого, что синагог не рушат, и евреи не голодают, и никакая зараза их не берет!
Неужто этот документ и впрямь вышел из глубины рабочего сердца? Я заглянул в указанный источник, и всё стало ясно. В Архангельске-то в то время советской власти не было: британский морской десант вышиб оттуда большевиков в августе 1918-го, а во главе гражданской администрации поставил некоего эсера Н. В. Чайковского; панегириком этому халифу на час и является «воззыв рабочих Архангельска». Сам ли Чайковский его сочинил, или кто-то из его приближенных, не суть важно. Вот выписки из него, которые не приводит Солженицын: «Ваше правительство в лице Ленина, Троцкого и K°. составлено большей частью из евреев, и этому правительству вы позволяете управлять собою! Во главе нашего правительства стоит старый революционер Н. В. Чайковский». — «Мы жили и под советской властью, живем теперь и при новом строе, а вы знаете только первую, поэтому нам легче судить, какая власть лучше».[628]
Что ж, может быть, и лучше жилось в Архангельске под мудрым водительством эсера Чайковского, чем при Советах; но вот аргументы в пользу того, что его режим «лучше», таковы, что «Правда» их напечатала почти без комментариев. «Ваши жены и сестры преданы позору, — взывают „рабочие Архангельска“. — Документально установлено, что большевики повсюду проводят национализацию женщин по купонам (!)» (Надо ли было это комментировать?). И далее то, что выписал Солженицын: «Церкви поруганы, опоганены, разграблены. Только русские православные церкви, а не еврейские синагоги, — заметьте это!.. Смерть от голода и болезней уносит сотни тысяч ни в чем неповинных русских жизней. Евреи не умирают от голода и болезней».
Правдист А. Меньшой, приводящий этот документ, лишь саркастично роняет: «Как вам нравится это противопоставление „старого революционера“ евреям?».[629]
Немногим более высокого уровня и «аргументы», почерпнутые Александром Исаевичем у религиозного философа Сергея Булгакова: «„Гонение на христианство здесь хоть и вытекало из идеологической и практической программы большевизма вообще, без различия национальностей, однако естественно находило наибольшее осуществление со стороны еврейских „комиссаров“ безбожия“, — как возглавление Губельманом-Ярославским Союза воинствующих безбожников „перед лицом всего православного русского народа есть акт… религиозного нахальства“.» (т. II, стр. 97–98).[630]
Но и на счет «еврейского комиссара безбожия» Александр Исаевич заблуждается, причем сразу по двум параметрам.
Е. Ярославский
Во-первых, потому, что Емельян Ярославский (Миней Губельман) был евреем только по крови. Если стоять на расистской точке зрения, то состав крови все и решает; но Солженицын, кажется, придерживается той точки зрения, что национальная принадлежность — даже и «отщепенцев» — определяется «по духу». Так вот, по духу, то есть по воспитанию, образованию, среде, в которой вырабатывались его представления о жизни, Емельян Ярославский выпестован русским подпольем (в том смысле, какой вкладывал в это понятие Достоевский) и волею судьбы и революции катапультирован из грязи в князи.
Родился он в 1878 году в Чите, в семье ссыльнопоселенца (то есть еще его отец был человеком подполья — либо уголовником, либо революционером), так что от еврейской среды он был бесконечно далек с самого рождения. Окончил трехклассное городское училище, а позднее, поработав переплетчиком в типографии и кем-то в аптекарском магазине, сдал экзамены за четыре класса гимназии. Этим его образование и завершилось. Не знаю, что он потом указывал в советских анкетах, но если заполнял их честно, то в графе «образование» должен был писать: «начальное». Кое-какие знания он добирал в тюрьмах и ссылках, как это было принято у революционеров, но там налегали на «Готскую программу», да на «Капитал», да на «Призрак бродит по Европе» — даже для гимназического курса узковато (не говоря об университетском).
Революционной деятельностью «старый большевик» Ярославский занялся в своей родной Чите в 1898 году, с этого года и числил свой партийный стаж — в большевистской табели о рангах это имело огромное значение.[631]
Ярославский — участник революции 1905 года в Петербурге, один из руководителей октябрьского переворота в Москве. Затем впал в ересь «левизны в коммунизме» (был против Брестского мира), но ошибки свои осознал, был прощен и в дальнейшем ни в каких отклонениях от генеральной линии не замечался. В 1920-30-е годы занимал высокие партийно-государственные посты, был недолго секретарем ЦК и очень долго — членом президиума ЦКК (Центральной контрольной комиссии), то есть проводил чистки партийных рядов. На партийных съездах и конференциях отчитывался в том, сколько человек было вычищено из партии за уклоны, сколько за сокрытие «буржуазного» происхождения, сколько за пассивность и т. п. А насчитывались тысячи. Такая у него была боевая работа! Трудная. Но выполнял он ее хорошо.
Входил он и в редколлегию «Правды», и журнала «Большевик», был академиком и лауреатом — не за научные, конечно, заслуги, ибо таковых за ним не числилось. Зато числились книги о Ленине и, что особенно важно, о Сталине. Он участвовал в составлении «Краткого курса истории ВКП(б)» и во всей кампании по фальсификации истории партии, дабы задним числом поднять в ней роль Сталина и заклеймить его оппонентов — Троцкого, Зиновьева, Бухарина и их сторонников как раскольников, двурушников, предателей и т. п.
Ярославский рано ощутил, куда дует ветер, и подставил под него паруса. В 1931 году он обратился к Сталину за разрешением написать книгу «Сталин». Сталин ответил, что для книги «Сталин» еще не пришло время. На XVII съезде партии (1934) Ярославский пропел звонкую песню о «великом друге и вожде»: «Товарищ Сталин был наиболее зорким, наиболее далеко видел, неуклонно вел партию по правильному, ленинскому пути». Вскоре после съезда он обратился к заведующему агитпропом ЦК Александру Ивановичу Стецкому (через три года расстрелянному, а тогда могущественному функционеру) с еще более проникновенной песней:
«Тов. Стецкий, посылая вам копию моего письма тов. Сталину, я хочу Вам сказать то, что неудобно мне писать тов. Сталину. Надо во всех учебниках дать больше о Сталине, о его роли в строительстве партии, в руководстве ею, в разработке ее идеологии, ее организации, ее тактики. Вы знаете, что я над этим работаю и буду работать, чтобы дать книгу о тов. Сталине. Это крайне необходимо для всех компартий. Учебники по истории партии надо, по возможности, насытить материалом о тов. Сталине не только в период после (SIC!) смерти В. И. Ленина. В особенности же надо показать роль тов. Сталина после смерти В. И. Ленина, — то, что он поднял учение Ленина на новую ступень».[632] Песни эти были услышаны. Тогда как направо и налево летели головы второго слоя партийной элиты, к которому он принадлежал, и особенно густо головы евреев по крови, Ярославский-Губельман благополучно умер в своей постели (1943), похоронен с почетом у Кремлевской стены. Словом, по критериям самого Солженицына, в евреи Ярославский не очень подходит.
Теперь второе. Союз воинствующих безбожников, во главе которого партия поставила Ярославского, был лишь одним из многих ее «приводных ремней». Богоборчество входило в задачи комсомола и пионерии, профсоюзов, Академии Наук и Академии педагогических наук, средней и высшей школы, системы политпросвещения, Союза Писателей и остальных творческих союзов, Политуправления армии и флота, ЧК-ГПУ-НКВД, Главлита, всей советской печати, книгоиздательств. Все звенья тоталитарного государства работали над созданием нового человека из материала старой эпохи. Союз воинствующих безбожников занимал в общем строю видное место (одно название чего стоило!), но не главное и далеко не самое воинствующее. Да и возникла эта организация только в 1925 году, а беспощадные акции против церкви начались значительно раньше.
Партия долго скрывала, и лишь на излете своего господства обнародовала директивное письмо от 19 марта 1922 года, в котором Ленин (по Солженицыну, «русский отщепенец») инструктировал Молотова (еще одного «русского отщепенца») по поводу судебного фарса над ведущими иерархами церкви: «Чем больше представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно сейчас проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».[633]
Тут уместно заметить, что намерение Ленина было тогда исполнено далеко не в полном объеме, а воспрепятствовало этому мужественное выступление на Московской конференции РКП(б) Д. Б. Рязанова, с которым большевистская верхушка до поры до времени вынуждена была считаться из-за его высокого авторитета в партии как крупнейшего знатока и исследователя наследия Маркса и Энгельса. Так вот, Рязанов, «опираясь на факты, доказал надуманность обвинений, выдвинутых против священнослужителей, на юридическую несостоятельность процесса и приговора, призвал к амнистии. Шестерых из десяти приговоренных Рязанову удалось спасти».[634] Большевик Рязанов, понятно, тоже был «отщепенец». Уроженец Одессы по фамилии Гольденбах. (Нам придется еще вернуться к этой личности).
Что же касается Общества воинствующих безбожников во главе с Емельяном Ярославским, то деятельность его была направлена против религии вообще, в том числе и против иудаизма, о чем говорит хотя бы то, что наряду с общим журналом «Безбожник» он издавал и отдельный журнал на идиш, «Апекойрес». На Союзе лежали преимущественно «просветительские» функции. Для карательных функций эта аморфная организация была не очень приспособлена, тут действовали более крутые органы.
Партия регулировала напор антирелигиозной работы, бдительно следила за ее интенсивностью и эффективностью, принимала срочные меры при признаках ее увядания, устраивала выволочки за перегибы. В зловещем 1937 году Первый секретарь ЦК комсомола А. В. Косарев (вскоре расстрелянный) счел нужным проявить особую бдительность на «религиозном фронте»: «Представление о том, что все реакционные пережитки, все древние предрассудки в человеческом сознании рассосутся сами собой, отразились, в частности, на состоянии антирелигиозной пропаганды в стране. Незачем скрывать, что ни одна наша общественная организация — профсоюзы, комсомол, союз воинствующих безбожников — не отличаются сейчас особой антирелигиозной активностью. Даже советы союза воинственных безбожников заняты подчас не столько пропагандой атеизма, сколько „изучением отмирания религии у трудящихся“ и умиленными восторгами по этому поводу… Между тем, попы и не думают свертывать свою „духовную деятельность“. Наоборот, налицо все признаки оживления церковного и сектантского мракобесия».[635]
Критиковали Союз безбожников и на более высоком уровне, от чего по спине Емельяна не раз, должно быть, пробегал мертвящий холодок. Он был тертый калач и знал, что лучший способ обезвредить критику — это ответить на нее боевой самокритикой: «На последнем пленуме ЦК ВКП(б) т. Жданов очень резко характеризовал деятельность Союза воинствующих безбожников, вообще деятельность безбожников. Он правильно сказал, что многие безбожники из воинствующих превратились в мирных безбожников, и спрашивал: не заключили ли они какого-то договора с богом?».[636] От такой критики один шаг оставался до того, чтобы стереть Емельяна в порошок. Ему требовалось немало ловкости, чтобы удерживать равновесие. Он это умел. Но представлять его полководцем армии, штурмовавшей небо, — значит, не сознавать всей мощи этого штурма. Ярославский, в лучшем случае, командовал батальоном, тогда как армия состояла из многих дивизий и родов войск.
Все это хорошо известно А. И. Солженицыну, он сам жил в то время, что подчеркивает по иным поводам. Но в его книге в «комиссары безбожия» возведен Ярославский, и только потому, что он — Губельман. При этом под безбожием Ярославского понимается, главным образом, вражда к православию, что еще менее соответствует действительности.
Основной антирелигиозный «труд» Е. Ярославского, «Библия для верующих и неверующих», выдержавшая 12 изданий, состоит из пяти частей; вот их названия: «Сотворение мира», «Книга Бытия», «Книга Исхода», «Книга Левит», «Книга Чисел, Второзаконие и другие». Другие — это «Книга Иисуса Навина», «Книга Судей», «Книга Руфи», «Первая Книга Царств». Как видим, Губельман атакует еврейскую Библию — Танах, иначе Ветхий Завет. К православию эти атаки имеют отношение лишь постольку, поскольку христианское вероучение включает Ветхий Завет в свой канон. Однако хорошо известно амбивалентное (скажем так) отношение христианства к Ветхому Завету. Современный исследователь указывает на «противоречивость отношения христианства к Танаху… Оно колеблется в диапазоне от полного отрицания Танаха и открытой враждебности к нему до признания его важности, но в основном как предтечи, подготовительного этапа Нового Завета».[637] Разоблачая библейские сказания о сотворении мира и человека как антинаучные, а библейские заповеди — как аморальные, Ярославский-Губельман бил в основном по иудаизму. Да и в целом советское государство и все его учреждения, включая и Союз безбожников, преследовали иудаизм и еврейство ничуть не меньше, чем православие. Да что там — не меньше, гораздо больше!
В годы Второй мировой войны Сталин, как известно, пошел на мировую с церковью, рассчитывая на ее содействие в деле мобилизации патриотических чувств народа. Был создан Совет по делам религиозных культов как связующее звено между культами и властью. Было заключено формальное соглашение между властью и православной церковью (но не с другими религиозными группами), так что Православие вновь получило статус привилегированной религии. Правда, кое-что перепало с барского стола и иудеям. В Средней Азии, куда во время войны было эвакуировано заметное число евреев из оккупированных и прифронтовых районов, две хасидские общины, Хабад и Браслав, открыли подпольные молитвенные дома, и власти их не трогали, хотя легко могли разгромить. Очевидно, имели указание из Москвы. Спасибо товарищу Сталину!
Но религиозная оттепель длилась недолго. Кончилась война, и железная метла заискрила по мостовой с новой, прежде невиданной энергией, причем с особой суровостью выскабливался иудаизм. Итожа полувековой антирелигиозный разбой большевиков в Советской России, Гершон Свет приводит сопоставительные данные, относящиеся к 1967 году:
«На 40 миллионов православных насчитывается в стране 20 000 церквей, 35 000 священников и около 70 монастырей. На 3 миллиона баптистов приходится 6 000 приходов и пасторов, — по одному приходу и пастору на каждые 500 верующих. Лютеранские церкви Латвии и Эстонии насчитывают 100 церквей и 150 пасторов. На миллион, если не больше, верующих и верных традициям евреев в Советском Союзе приходится всего 60–70 синагог, — по одной синагоге и одному раввину на примерно 15 000 верующих. Православная церковь в СССР имеет две духовные академии и 5 семинарий для подготовки священников. Мусульмане имеют Медрассу для подготовки мулл. Несколько студентов из Медрассы обучаются в Каире, а молодые семинаристы-баптисты — в духовных академиях Англии и Канады. Но на протяжении 40 лет не было во всей России ни одного раввинского семинара».[638]
В 1957-м году, в разгар хрущевской оттепели, усилиями московского раввина Соломона Шлифера удалось открыть ешиву при Большой синагоге в Москве. Вскоре он умер, школу возглавил его преемник раввин Юда-Лейб Левин. Первоначально в ешиве обучалось 35 студентов, приехавших из разных мест Союза, в основном с Кавказа и Средней Азии, но власти тут же повели наступление на «гнездо клерикализма». Иногородним студентам отказывали в московской прописке, и большинство из них не смогло вернуться после каникул. К 1960 году в ешиве осталось 20 студентов, затем 11, затем 6, в 1965 году оставалось 4.[639] Окончили курс и получили дипломы раввинов двое. К середине 1960-х годов на весь Советский Союз, по данным Гершона Света, оставалось 60–70 раввинов, а по данным Леонарда Шапиро, — около 40. Средний их возраст достигал 70–80 лет.[640] Не напрасно в семидесятые-восьмидесятые годы ходила шутка по интеллигентской (отнюдь не религиозной и не только еврейской!) Москве: никак-де не могут найти раввина для синагоги, кто ни придет наниматься, — либо еврей, либо беспартийный.
А. Шаевич
А вот уже совсем нешуточные свидетельства «последнего» советского раввина (а ныне одного из двух «главных» раввинов России) Адольфа Шаевича.
Прежде всего — как он стал раввином? Оказывается, вот как:
«Я, инженер-механик по строительно-дорожным машинам, приехал [в 1972 году в Москву из Биробиджана, откуда родом], чтобы поступить на работу по специальности. Но никто меня не брал, многие даже не стеснялись: ты, мол, еврей, евреи уезжают [эмигрируют из страны], зачем нам неприятности… Меня привели в синагогу случайные люди. Подвернулся [?] американский раввин, у него были связи с венгерскими раввинами и с нашим послом в США Дубининым [очевидная оговорка, речь идет о А. Ф. Добрынине]. И нас послали учиться в Будапешт. Старые раввины умирали, школ не было. Семь лет учился — все мои коллеги бросили. В 1983 году я оказался единственным дипломированным раввином в СССР».
А первым учителем Шаевича (надо понимать, до поездки Будапешт) был раввин Лев Гурвич, который «получил диплом в 1917 году и ни дня раввином не работал. Началась революция, он поступил в университет, получил инженерную специальность и до пенсии работал в авиации. А уже на пенсии его пригласили работать в синагогу».
В каких же условиях пришлось работать «единственному дипломированному раввину» после возвращения из Будапешта? Он свидетельствует: «Мы жили под тяжестью такого наблюдения, что гвоздь в стену нельзя было вбить, покупку на 15 рублей надо было согласовать. Опека была плотной и постоянной, хотя в самой религии никто не разбирался — специалистов там не было».
Там — это в надсматривающих инстанциях.
«К нам приходили из Совета по делам религий, из райисполкома. Представляется: „Иван Иванович“ — все ясно, объяснений не требовалось. Спрашивает, кто ходит, что говорят, что делают? Обычно приглашали меня к себе, а перед праздниками сами являлись. „Говорят, там у тебя отказник работает?“ — „Да, взяли уборщиком“. — „Завтра чтобы не было“. Ясно, что кто-то доложил им. Недели не проходило, чтобы после моей субботней проповеди не приглашали в Совет. „Что ты там разводишь сионистскую пропаганду“… Мы ездили с делегациями по миру. Руководителем делегации был, допустим, митрополит Филарет или Ювеналий. Собирались и вместе писали отчет для Совета — с кем встречались, о чем нас спрашивали, что отвечали».[641]
И ведь это он спокойно, без зазрения совести рассказывает — не винясь, не прося прощения у Бога, у доверявшихся ему людей, у зарубежных коллег. Православные его коллеги были не лучше, и тоже не слышно, чтобы хоть один из них покаялся.
В 1925 году, в первом номере журнала «Безбожник», Н. И. Бухарин, находившийся тогда в зените власти и влияния, формулировал боевые задачи партии на фронте борьбы с религией: «Отмена самодержавия на небесах; отмена всех чинов, орденов, венцов и прочего; выселение богов из храмов и перевод их в подвалы (а злостных — в концентрационные лагери); передача главных богов как виновников всех несчастий суду пролетарского трибунала».[642] (Ясно видно, как «любимец партии» упивается собственным лихим остроумием!) Но это была только программа-минимум. Им же сформулированная программа-максимум — по выработке коммунистического человека из материала капиталистической эпохи всеми методами, начиная от расстрелов, — выполнялась, как мы видим, не менее успешно. Вплоть до выработки вполне коммунистических «раввинов и попов».
«Реакционный» язык
Следующие две главы этих «заметок на полях» — наиболее для меня трудные, так как основная часть первоисточников мне недоступна: они на иврите и идиш, которыми я не владею. Я вынужден использовать русcко- и англоязычные источники, в основном вторичные, которые я часто не могу проверить. Разумеется, я опираюсь только на надежные исследования специалистов, потративших десятки лет на изучение предмета и не имеющих, как кажется, никаких посторонних целей, кроме приращения знаний и установления истины. Тем не менее, приходится быть осторожным, тщательно отслаивая фактический материал, представленный в этих работах, от оценочных высказываний самих авторов, которые могут быть субъективными, даже если авторы пытаются этого избежать.
Приходится учитывать, что западная гуманитарная наука, при всем разнообразии школ и направлений, в целом прихрамывает на левую ногу. Это сказывается в работах даже наиболее знающих и добросовестных исследователей. Только один пример.
Профессор Нора Левин, автор самого обстоятельного и превосходно документированного труда по истории советского еврейства, указывая на относительную творческую свободу писателей и деятелей искусства в 1920-е годы (по сравнению с более поздним временем), видит в этом отражение взглядов Ленина на искусство. Ленин, по ее мнению, «не хотел надеть на искусство смирительную рубашку идеологии», он считал, что искусство «не является оружием партии или класса, но „принадлежит народу“, „должно быть понятно для масс и любимо ими“».[643]
Увы, автор двухтомного труда заблуждается. Странно, но она то ли не знала, то ли не придавала значения основной работе Ленина на данную тему — «Партийная организация и партийная литература», хотя в Советском Союзе ее обязан был знать каждый школьник. В ней вождь большевизма утверждал, что литературы, свободной от идеологии, не бывает; литература всегда выражает идеологию какого-то класса, и если она не служит пролетариату, то служит его врагам. И потому, придя к власти, Ленин именно хотел надеть на литературу и искусство намордник «пролетарской», то есть большевистской идеологии. Под «массами» он понимал не совокупность всех слоев народа, а тот же «пролетариат и трудовое крестьянство» — это им искусство должно быть понятно и ими любимо. А что понятно и любимо «массами», определял «авангард», то есть партия. Если в первые годы господства коммунистической системы власть еще не полностью подмяла под себя искусство, литературу, культуру, то только потому, что тоталитарный режим находился в стадии становления, он не мог сразу же подчинить себе всех и вся.
До революции культура и литература на языке Библии набрала в России немалую мощь. Хотя народ говорил в основном на идиш, иврит был широко распространен: на нем велись религиозные службы, на нем были написаны религиозные книги, а затем стала появляться и светская литература — художественная, педагогическая, историческая, философская, научная.
Хаим-Нахман Бялик
Центром иврита была Одесса, где жил и работал «почти гениальный» (по оценке М. Горького) поэт Хаим-Нахман Бялик. Некоторые его произведения были известны всей читающей России — благодаря превосходным переводам В. Жаботинского.[644]
Вокруг Бялика группировались прозаики, поэты, педагоги, энтузиасты иврита. Бялик руководил издательством, выпускавшим на иврите самую разнообразную литературу для детей и взрослых. Активно работали ассоциация учителей иврита, культурно-просветительское общество «Тарбут». В 1917 году, в короткий период свободы между Февралем и Октябрем, возник ряд журналов, периодических литературных сборников. Энергичный деятель культуры Аврам Стейбел начал издавать в переводах на иврит произведения мировой классики — Толстого, Ромена Роллана, Тургенева, Оскара Уальда, Флобера, Золя. Летом 1917 года в Одессе появилась еженедельная газета «Ха-Ам», затем ставшая ежедневной. Ее редактор Бенцион Кац, кстати сказать, быстро распознал суть нового режима и уже в декабре 1917 года в редакционной статье писал: «Русская революция превзошла своей дикостью все отрицательные проявления Французской революции… Нам осталась лишь надежда, что власть новой инквизиции продлится недолго».[645]
Режим оказался живучим, а вот газета просуществовала только до июля 1918 года.
В январе 1920 года, когда коммунисты окончательно утвердились в Одессе, все издания на иврите были закрыты. Просьба разрешить хотя бы один литературный журнал, совершенно аполитичный, была отклонена.
Началось наступление на школы с преподаванием на иврите — как на религиозные, так и на светские.
1 декабря 1918 года Народный комиссариат просвещения обнародовал декрет о школах для национальных меньшинств. Согласно декрету, в любой местности, где набиралось не менее 25 учащихся, желавших учиться на национальном языке, для них создавалась национальная школа. Для кочевых и малых племен, не имевших письменности, в ударном порядке создавалась письменность, записывались и издавались народные песни, сказки, легенды, писались учебники, готовились учителя. Только один язык — из двухсот! — оказался под фактическим запретом: самый древний, несший в себе печать четырех тысяч лет развития цивилизации, необычайно музыкальный, богатый лексически, дававший возможности выражения тончайших оттенков мыслей и чувств.
Борьба с ивритом стала одним из обязательных элементов «культурной» политики большевистской власти. А «впереди планеты всей» в центре и на местах шествовали евкомы и евсекции.
Евсекция объявила родным языком еврейских «трудящихся масс» — идиш. А потому еврейские школы — это школы на идиш, еврейская поэзия и проза — это поэзия и проза на идиш, еврейский театр — это театр на идиш, еврейская публицистика, журналистика, философия, литературная критика, политпросвещение и просто просвещение — только на идиш. Газета «Дер Эмес» объявила иврит языком классового врага — раввинов, капиталистов, сионистов — в противоположность идиш, языку «новой пролетарской культуры».
В Москве, на митинге протеста против дискриминации иврита с горячей речью выступил московский раввин Яков Мазе. Блестящий оратор, не только религиозно, но и светски образованный (окончил юридический факультет), он пользовался огромным авторитетом и был одним из самых активных ходатаев по делам, касающимся евреев. Вся страна помнила яркое, темпераментное, глубоко обоснованное выступление раввина Мазе на процессе Бейлиса, приглашенного в качестве одного из экспертов по религиозным вопросам, так что он был широко известен не только евреям; известность нередко открывала перед ним двери, закрытые для других.[646]
Яков Мазе добился приема у наркома просвещения А. В. Луначарского, который назначил ему встречу почему-то в Ярославле. В ожидании приема Мазе просматривал местную газету и узнал из нее, что накануне Луначарский выступил с речью, в которой назвал пророка Амоса и других библейских пророков первыми в истории коммунистами.
Разговор Мазе начал с этой речи, сказав, что многие идеи, которые сейчас называют коммунистическими, действительно восходят к Библии, а, стало быть, впервые были высказаны на иврите. Он стал объяснять значение библейского языка для мировой цивилизации. Он сказал, что пришел к наркому по поручению учителей, учеников и родителей из города Гомеля, где закрыта школа на иврите, хотя в ней учились в основном дети бедняков.
Луначарский сочувственно выслушал раввина.
— Никто не оспаривает ценности иврита кроме ваших же соплеменников — идишистов. Они утверждают, что иврит — язык буржуазии. Мне интересна ваша оценка иврита как языка пролетариата. Для меня это ново. Припоминаю, что у вас есть поэт, Бялик — он вырос в бедной семье?
Можно представить себе, как поразила Мазе вульгарная постановка вопроса, но, к счастью, Бялик действительно был из бедной семьи, и Мазе ответил:
— В беднейшей! И то же самое можно сказать почти обо всех значимых писателях на иврите.[647]
Луначарский обещал помочь, и поскольку он обладал практически неограниченной властью в сфере образования, казалось, что вопрос решен. Но нарком не пошевелил пальцем для защиты иврита, хотя к нему обращались многие. Профессор Соломон Цейтлин (оставивший воспоминания) объяснил наркому, что идишисты непримиримы к ивриту просто из конкуренции; называть иврит языком буржуазии — это абсурд.
Луначарский ответил, что считает иврит таким же языком, как и все остальные. Он добавил, что ничего не имеет против преподавания иврита в школах, но инициатива должна исходить с мест. Если к нему обратятся с просьбами об организации школ на иврите, он их удовлетворит. (Как будто к нему не обращались!) Профессор ушел обнадеженный, а через несколько дней прочитал в газете публичную речь наркома просвещения, в которой иврит был назван языком клерикалов и эксплуататоров.[648]
Чем объяснить лицемерие наркома? Не тем ли, что «эта сволочь Луначарский», как обозвал его Ленин за «богоискательство» и иные идейные шатания, должен был постоянно доказывать партийным верхам свою пролетарскую несгибаемость, но, будучи главным связующим звеном между властью и интеллигенцией, не хотел прослыть держимордой?
В 1917 году, между Февралем и Октябрем, в Москве появился Наум Цемах, преподаватель иврита, лелеявший мечту — создать театр на языке Библии.
Собственно, театр он создал еще в 1912 году в Белостоке, а через год уже выезжал с ним в Вену — выступать перед делегатами 11-го сионистского конгресса. Успех был огромный, но безденежный, не набралось даже на обратный проезд. Цемаху пришлось уехать одному, чтобы раздобыть деньги и выслать актерам на билеты. Провинциальные гастроли труппы проходили с неизменным успехом, тоже безденежным, а война в конец разорила труппу, она распалась. Но мечту свою Цемах не оставил. В Москве он собрал восемь неопытных, но одержимых энтузиазмом молодых людей, и стал готовить спектакль, по ходу обучая их основам актерской техники. Его театр-студия называлась «Габима» («Сцена»).
Первую зиму студийцы прозанимались в нетопленом помещении, в шубах и валенках. Но Цемаху удалось заинтересовать своим начинанием Станиславского и Горького, которые склонили в пользу театра Луначарского. Появилось помещение; Станиславский отрядил для обучения студийцев и режиссуры своего талантливейшего ученика Евгения Вахтангова.
Успех первого спектакля «Габимы» в Москве («Вечный Жид» Давида Пинского) был огромным, но ведомство Семена Диманштейна объявило театр на языке Библии националистическим и антисоветским. В ответ властям было направлено письмо, подписанное Станиславским, Немировичем-Данченко, Шаляпиным, другими самыми крупными деятелями сценического искусства. В нем говорилось:
«В своеобразии и многокрасочности художественных форм главное обаяние и притягательная сила искусства. Язык не может быть ни буржуазным, ни пролетарским, ни реакционным или прогрессивным. Язык — средство выражения человеческих мыслей. Нельзя заставить актера играть на языке, не созвучном его душе, не гармонирующем с персонажем, которого актер воплощает. Важно, чтобы игра и сценическое воплощение нашли отклик в душах зрителей, и этого „Габима“ достигает».[649]
Письмо было доложено Ленину, и он распорядился не трогать «Габиму».
Шломо Ан-ский (Раппопорт) — писатель, композитор, ученый-этнограф, многолетний глава Еврейской этнографической комиссии, автор пьесы «Диббук».
Особый успех выпал на спектакль «Диббук» по пьесе С. Ан-ского[650] в переводе Х. Н. Бялика. (Пьеса была написана по-русски для Художественного театра, но Станиславский щедро подарил ее «Габиме»). Вахтангов был в восторге от пьесы и вложил в постановку весь свой замечательный талант. На премьере присутствовали Станиславский, Качалов, Москвин, Мейерхольд, Михаил Чехов, Шаляпин, Горький, Шагал. Она стала театральной сенсацией.
Попытки евсекции и газеты «Дер Эмес» возобновить травлю «Габимы» первоначально успеха не имели, но со временем давление усиливалось, а защита ослабевала. Ранняя смерть Вахтангова поставила театр в трудное положение в чисто творческом плане, но еще хуже было все нараставшее политическое давление. В 1926 году, уехав на заграничные гастроли, театр в Советскую Россию не вернулся.[651] Возвращаться, собственно, было некуда, так как иврит к тому времени фактически стал запретным языком, а вся культура на этом языке — сплошное пепелище.
Ивритские типографии были национализированы еще в 1919 году и переданы евсекциям для издания литературы на идиш. Многие писатели и преподаватели иврита пытались покинуть Россию, но запрет на эмиграцию сделал и это почти невозможным. Только личное вмешательство Горького, которого большевистская власть, после недолгой ссоры, усиленно приручала, позволило семьям Бялика и еще одиннадцати писателей выехать из страны. (Дальнейшая творческая деятельность поэта протекала в Палестине, где он и умер в 1934 году).
С отъездом Бялика еврейская культура на иврите в России осиротела, но не прекратила борьбы за выживание. Подросла новая поросль писателей. Некоторые из них были искренне преданы советской власти и писали вполне «партийные» произведения — «национальные по форме, социалистические по содержанию». Табу, наложенное на иврит, в их глазах было временным недоразумением или даже вредительством классового врага (представления вполне в духе времени!) Один из наивных поэтов, Й. Саарони, вспоминал через двадцать лет свою первую реакцию: «Запретить иврит? Это решение было столь нелепым, таким анти-Октябрьским».[652] Другой поэт, Яков Борухин, подчеркивал свою преданность советскому строю тем, что, подписывая свои произведения, рядом со своим именем неизменно писал: «Красный солдат ГПУ».
Все это не помогало, хотя, пользуясь некоторыми вольностями нэпа, частным образом удалось выпустить два-три коллективных сборника. Все они были подвергнуты грубому политическому разносу в «Дер Эмес».
Обращения к властям с просьбой разрешить иврит либо оставались без ответа, либо следовал ответ, что закона, запрещающего иврит, нет, а потому нет надобности и в законе, его разрешающем.
Сопротивление — с каждым годом все более безнадежное — продолжалось еще долго с поразительным, порой геройским упорством. В 1924-25 годах была проведена удивительная по дерзости и масштабу петиционная кампания. Из разных городов и местечек властям были направлены сотни писем от школьников, просивших ввести преподавание иврита в их школах. Молодежная сионистская организация размножила эти письма и широко распространила их в самиздате. Ответом стала еще более агрессивная кампания против «языка раввинов и буржуазии». Детей исключали из школ, активистов арестовывали, книги на иврите изымали из библиотек.
В 1928 году стало известно, что Максим Горький, после нескольких лет эмиграции, возвращается в Россию. Евреи, хорошо помнившие его эмоциональные выступления против антисемитских гонений, восприняли это известие с большой надеждой. В середине июня 1928 года тысячи энтузиастов иврита собрались на тайную сходку в лесу под Тверью, чтобы составить коллективное письмо М. Горькому.
«Трехмиллионная еврейская община России, — говорилось в письме, — не имеет ни одной газеты, еженедельника или ежемесячного журнала на иврите, ни одного книжного издательства. Каждый, кто захочет взять книгу на иврите в библиотеке, должен получить разрешение евсекции, но такие разрешения даются в очень редких случаях. Во всей Советской России нет ни одной школы, в которой изучали бы иврит. Дети и взрослые, которые берут частные уроки иврита, подлежат наказанию. Все наши просьбы и требования — глас вопиющего в пустыне. Мы обращаемся к Вам, дорогой и мужественный борец за свободу культуры для всех народов. Возвысьте Ваш голос протеста против подавления нашей древней культуры».[653]
Хаим Ленский
Профессор Нора Левин высказывает предположение, что Горький либо не получил это письмо, либо его ответ не был доставлен адресату. То и другое не исключено, но возможно и третье: Горький письмо получил, но пальцем о палец не ударил и отвечать на него не стал. Ведь это был уже не тот Горький! Ивритский поэт Хаим Ленский, арестованный в конце 1934 года, тоже пытался воззвать к Буревестнику: «Моя единственная вина состоит в том, что я пишу на языке Библии и Бялика».[654] (Он знал, как высоко Горький отзывался о Библии, как памятнике культуры, и о поэзии Бялика). Возможно, Горький и этого письма не получил, но не исключено, что просто выбросил его или оно еще отыщется в его необъятном архиве. Ленскому он не ответил и ничем не помог. Поэт умер в заключении в 1942 году; чудом уцелевшая (сохраненная другом-зэком) тетрадка с его лагерными стихами была издана в Израиле только в конце пятидесятых. Но это лишь малая часть его творческого наследия. Большая часть пропала, по-видимому, навсегда. Рукописи горят…
Но борьба продолжалась. Так, в 1930 году, в Москве, поэт Абрам Криворучко (Карив) основал подпольную учительскую семинарию. В ней училось 12 студентов, занятия проводились в квартире, снятой у одного крестьянина: группа якобы собиралась для совместной подготовки к поступлению на Рабфак. Школа просуществовала полтора года, пока не была раскрыта чекистами. Понятно, что все 12 студентов (десять мужчин и две женщины) вместе с учителем были арестованы. Но в 1934 году Криворучко удалось вырваться из советского рая в Палестину.
Подпольные школы и кружки существовали во многих городах, в них бесплатно преподавали старые энтузиасты иврита — писатели и педагоги. Все они жили в большой бедности и лишениях, под постоянным страхом быть раскрытыми и арестованными. Но энтузиазм их не иссякал. Они передавали друг другу уцелевшие в личных библиотеках книги и журналы. Иногда удавалось получать какие-то новинки из Палестины. Иногда — отправлять туда свои произведения.
В числе наиболее значительных прозаиков исследователи называют Абрама Фримана, автора многотомной эпопеи под названием «1919». В романе показана жизнь евреев на Украине в разгар гражданской войны. Главный герой романа — Соломон, организатор отряда еврейской самообороны, пытающийся противостоять погромщикам всех мастей. Ребята знают, что их ждет гибель, их девиз: «Продадим свою жизнь подороже». Роман писался в двадцатые-тридцатые годы, но в Советской России не мог быть опубликован. В Палестине вышло три тома, они принесли автору премию Бялика. Задуманы были еще один или два тома, но были ли они написаны, и если да, то какова их судьба, неизвестно.
Фриман не раз пытался уехать из Советского Союза, но его не выпускали. Арестовывали, освобождали, снова арестовывали, а в 1936 году упекли в лагерь на десять лет. Он отсидел от звонка до звонка, выжил, умер в декабре 1953-го.
Поразительна судьба поэта Элиши Родина. Его дарование, по оценкам специалистов, было скромным, и сам поэт это сознавал. Он говорил: «Я не принес с собой сюрпризов, но я принес свое сердце».
Ему пришлось вести войну на два фронта. Один фронт был там, где сражались все приверженцы иврита. Революции и советскому режиму Родин не мог простить профанацию Библии, как и то, что ее надо прятать: говоря его словами, обертывать «Правдой», чтобы «уберечь от дурного глаза». Но не менее важным для него был второй фронт, который проходил по сердцу его единственного сына, Гриши. Каждый день, когда мальчик возвращался из школы, отец садился с ним в запертой комнате и читал ему главы из Библии, чтобы «проветрить его мозги», набиваемые в течение дня «пятилеткой и надругательством над Богом, иудаизмом, человечностью». Борьба была неравная: «их много, а я один». Поэт боялся, что из сына вырастет советский монстр, еще один Павлик Морозов. Драма усугублялась тем, что жена не поддерживала поэта. Она хотела жить как все, и чтобы сын ее был как все, и чтобы муж выкинул из головы дурь: жил, как все, и зарабатывал, как все. Его не раз тягали в НКВД для зловеще-душещипательных бесед. Его упрямство пугало жену: она боялась угодить в лагерь. В конце концов, она ушла и забрала сына.
Парадоксально, но разлука отца с сыном их сблизила. Повзрослевший мальчик сам писал стихи — не на иврите, конечно, а на русском, но в них слышались отцовские мотивы. Когда разразилась война, Грише было шестнадцать лет, но он добровольцем пошел на фронт, вероятно, накинув себе годы; в марте 1942 года погиб под Калинином. Потрясенный отец написал поэму о сыне и послал ее в …военную цензуру. Вот его сопроводительное письмо (в обратном переводе с английского):
«Уважаемые товарищи из военной цензуры!
Посылаемые при сем стихи — о моем сыне Родине Григории Абрамовиче,[655] который добровольно пошел на фронт и погиб под Калинином 14 марта 1942 года. Стихи написаны на языке Библии. Это язык моего детства, язык моего народа, это мой музыкальный инструмент, потому что только на этом языке я умею выражать свои чувства. Я прошу показать их человеку, достаточно знакомому с языком, честному и никак лично не причастному к еврейским национальным устремлениям в Палестине. Я убежден, что точный и честный перевод моих стихов позволит вам без промедления направить их в Палестину, потому что они служат нашей общей цели: победе над Гитлером. В память о моем сыне, который незадолго до гибели выражал удовлетворение тем, что я о нем пишу, я прошу отнестись к моим стихам с должным вниманием и отправить их в Палестину, где публикуются мои работы».[656]
Чем было вызван этот отчаянный демарш? Прежде Родин переправлял свои произведения в Палестину, не спрашивая разрешения властей. Может быть, война перекрыла его каналы связи? Или то была последняя попытка вразумить властвующих варваров, что язык Библии пригоден для вполне «пролетарских», «патриотических» писаний? Безумство храбрых!..
Самое поразительное то, что оно привело к успеху.
Чье-то каменное партийно-бюрократическое сердце на минуту размякло. Не поднялась рука запретить отцу, отдавшему родине несовершеннолетнего сына, воспеть его на том языке, на каком он только и умел. В 1943 году в Тель-Авиве была издана книжка Элиши Родина под названием «Сыну». В нее, кроме стихов, вошло письмо дивизионного комиссара, сообщавшего об обстоятельствах геройской гибели Гриши, и письмо автора в цензуру.
Счастливый конец тяжелой драмы? Это было бы не по-советски.
Авторский экземпляр книги Родина был послан из Тель-Авива на адрес Еврейского антифашистского комитета, где поэт внештатно подрабатывал. Но бандероль из логова «сионизма и клерикализма» всполошила партийных надзирателей, которыми был нашпигован Комитет. Адресату пакет не отдали, а само его поступление — скрыли. Поэт скончался в Москве в 1947 году, так и не «воссоединившись» с собственной книгой, может быть, даже не зная о ее выходе в свет. Уже то хорошо, что «умер в своей постели». Проживи он еще пару лет, такой конец был бы менее вероятен.
Так была утоплена Атлантида, под названием «Ивритская культура в СССР».
Какое отношение ко всему этому имеет книга А. И. Солженицына? Очень небольшое. В пятисотстраничной толще его второго тома, посвященного тому, как русские и евреи жили вместе под красным стягом, уничтожению ивритской культуры посвящено несколько скупых фраз в разных местах, общим объемом едва ли более половины страницы. Подробности опущены, людские судьбы автору не интересны, названо вскользь только одно имя — Бялик. Но чего автор не забывает, так это подчеркнуть, что «по настоянию Евсекции Еврейский комиссариат объявил иврит „реакционным языком“» (т. II, стр. 253), словно Евсекция и Евком были не инструментами большевистской власти, а самой властью. Создается впечатление, что евреи сами громили свою культуру — не вместе с русскими большевиками, а отдельно.
При большой скупости в освещении разгрома еврейской культуры Солженицын довольно щедро повествует о том, как в те же 20-е годы досужие эмигранты, русские и евреи, собирались вместе в уютных парижских кафе — потолковать о росте в Советской России антисемитизма. Причина этого роста объяснялась тем, что «„долго угнетенное [при царизме] русское еврейство, получив свободу [!], ринулось завоевывать позиции, до сих пор ему недоступные“, что и раздражает русских» (т. II, стр. 195). Держась «средней линии», Солженицын не забывает сообщить, что не все русско-еврейские парижане соглашались с такими трактовками, некоторые категорически возражали против того, чтобы сажать еврейский народ на скамью подсудимых. Но никто, похоже, не называл истинную причину роста антисемитских настроений: проводимую властью политику культурного геноцида евреев. Кажется, очевидно, что политический курс власти не может не влиять на подвластное население. Но завсегдатаи парижских кафе не замечали этой очевидности. Так, во всяком случае, получается — по Солженицыну.
Интерес к ивриту стал оживать лишь в семидесятые годы — в узком кругу евреев-отказников. Но это не было возрождением ивритской культуры в стране. Отказники были нацелены на эмиграцию и ставили перед собой утилитарную задачу: осваивать язык страны своего будущего проживания. Но даже этому невинному занятию власти препятствовали, как только могли.
В Советской России частное преподавание не было запрещено. Требовалось только зарегистрироваться, отчитываться в получаемых доходах и платить налоги. Преподавать можно было математику, физику, биологию, литературу, русский и иностранные языки. Но не язык «клерикалов, эксплуататоров и сионистов». Преподавателям иврита отказывали в регистрации, «строго предупреждали», а затем преследовали за тунеядство. Иосифу Бегуну такое «тунеядство» стоило нескольких обвинительных приговоров и десяти лет тюрем, лагерей, ссылок и пересылок.
Вот такую свободу получили евреи от большевиков.
«Прогрессивный» язык
«Культуру на идише ждала судьба гораздо оживленнее», пишет Солженицын (т. II, стр. 253), в чем, несомненно, прав. Взяв с первых же лет, даже месяцев советской власти курс на искоренение «реакционного» языка, большевики активно противопоставляли ему «прогрессивный» идиш — бытовой язык основной массы еврейского населения России. По сравнению с ивритом это был язык сравнительно молодой, не универсальный (на нем говорили евреи Восточной Европы, но не «сефарды», бухарские, горские и другие) и, так сказать, заемный: производный от немецкого.
После изгнания из Испании (конец XV века), значительные массы евреев осели в германских государствах, где и переняли разговорный язык местного населения, пополняя его гебраизмами — для обозначения некоторых особенностей внутренней жизни еврейских общин. Для письменных сношений использовали древнееврейский алфавит и некоторые правила письма (справа налево). Так образовался идиш. Мигрируя дальше на восток, в славянские земли, евреи (ашкенази) продолжали пользоваться этим языком, хотя его словарь постепенно пополнялся славянизмами.
Ревнители библейского языка смотрели на идиш свысока, именовали его «жаргоном» (испорченным немецким), считали языком плебеев и невежд. Когда началось сионистское движение, то вопросов об официальном языке будущего еврейского государства не возникало — им, конечно, должен был стать иврит. Зато противники сионизма, предпочитая синицу в руке журавлю в небе, то есть считая, что еврейские массы должны добиваться равных прав и лучших условий жизни в самой России (Германии, Австро-Венгрии, Румынии и т. д.), были поборниками идиша.
Борьба между двумя направлениями была не только неизбежной, но и плодотворной: она способствовала осовремениванию иврита и культурному обогащению идиша. То, что в конце XIX — начале XX века наступил расцвет литературы на иврите (Бялик) и на идише (Шолом-Алейхем), видимо, не в последнюю очередь стало результатом соперничества между двумя ветвями еврейской культуры.
Все резко изменилось, когда большевики стали наводить революционный порядок «на еврейской улице». Ополчившись против иврита, они должны были искать опору в идише. В местах компактного проживания евреев, то есть в основном в местечках бывшей черты оседлости создавались даже еврейские советы, все делопроизводство в них велось на идише. По данным Норы Левин, к 1927 году таких советов было 130, а к 1932 году — 168. Избирались в них, как повсюду в СССР, «кандидаты блока коммунистов и беспартийных» — советские выборы без выборов. Но и в этом «празднике жизни» могло участвовать только 11 процентов еврейского населения. Остальные 89 процентов либо проживали не компактно, либо не имели права голоса. Нора Левин подсчитала, что в местечках, из десяти лишенцев восемь были евреями, так что говорить о том, будто эти советы в какой-то мере «представляли» еврейское население можно с очень большой натяжкой. Их задача состояла в том, чтобы проводить в жизнь директивы вышестоящих властей на понятном населению языке.
На Украине, в Белоруссии и западных областях Российской Федерации (бывшая черта оседлости) создавались еврейские школы, техникумы, исследовательские учреждения, отделения в некоторых педагогических вузах и университетах. Издавались на идише газеты, журналы, работали книгоиздательства, театры.
В 1921 году в Москве был открыт Еврейский камерный театр, скоро ставший Государственным Еврейским театром (ГОСЕТ). Его основатель и художественный руководитель Александр Грановский был профессионалом высокого класса, учеником выдающегося немецкого режиссера Макса Рейнхарда. Его красочные, музыкальные, феерические спектакли пользовались большой популярностью, театр уверенно вошел в обойму ведущих театров Москвы, его посещали не только евреи. Правда, Грановский доверия властей не оправдал. В 1928 году театр отправился в длительные зарубежные гастроли, после чего руководитель труппы на родину не вернулся.
Советские власти немало потрудились над тем, чтобы помочь Грановскому стать «невозвращенцем». Триумфальный успех театра в Европе не на шутку их всполошил. О гастрольных спектаклях ГОСЕТа с восторгом отзывались виднейшие интеллектуалы Европы, о нем наперебой писали газеты самых разных направлений — как «буржуазные», так и коммунистические, тогда как советская пресса хранила молчание. А затем в «Вечерней Москве» от 6 октября 1928 года (гастроли начались в марте!) появилась очень двусмысленная статья наркома просвещения А. В. Луначарского. Он писал о заграничном турне ГОСЕТа: «Успех его можно назвать смешанным. С одной стороны, нет никакого сомнения, что и пресса, и очень значительная часть публики всюду, где появляется этот театр, приветствует его тонкое и острое искусство, с другой стороны, некоторые газеты — часть буржуазной и даже эмигрантской печати — всячески стараются ослабить политическое значение этого успеха, заявляя, что в театре нет и следа какой-либо советской идеологии, что этот театр чужеродный у нас и непоказательный для подлинного лица нашего театра. К сожалению, руководители Еврейского театра, по-видимому, не сделали всего, что предписывал им прямой советский долг для того, чтобы резко опровергнуть такого рода ложные суждения и подчеркнуть свою коренную принадлежность именно к советскому театру, о чем мы так часто слышали от них здесь, в Москве».[657]
Возможно, опасаясь того, что ГОСЕТ последует примеру «Габимы», Москва приказала театру прервать гастроли и вернуться. Грановский к этому времени успел заключить годовой контракт на осуществление нескольких постановок в Берлинском театре и, то ли под этим предлогом, то ли по этой причине, задержался на Западе. В Москве тотчас распространились слухи, что он навсегда остался за границей, порвал с СССР, с ГОСЕТом. Грановский опроверг их письмом в «Известия». Такие же наветы опровергал Соломон Михоэлс, ставший временным (так казалось ему и другим) художественным руководителем театра. По мнению биографа Михоэлса, «кампания, поднятая в печати против Грановского, была спланированной, целенаправленной»,[658] так что Грановский побоялся вернуться.
При всех успехах ГОСЕТа театр подвергался все более жестким проработкам. Чтобы спасти театр, нужно было «повернуться лицом к современности», то есть ставить «идейные», хотя и слабые пьесы. Такие и были поставлены под руководством Михоэлса, чем он выторговал себе право на создание «Короля Лира» и ряда других спектаклей, которые обессмертили его имя и утвердили славу ГОСЕТа как театра мирового класса. Платить за это приходилось дорого. В том числе публично отмежевываться от своего учителя (чем ему уже нельзя было повредить), петь хвалу товарищу Сталину, словом проводить партийную линию.
Выдающийся талант артиста, помноженный на личное обаяние, общественный темперамент и на умение ладить с властями, определили то уникальное положение, какое занял Михоэлс в культурно-общественной жизни на излете 1930 годов. Оно стало еще более значимым и весомым в годы войны, когда он возглавлял Еврейский антифашистский комитет. Когда его хоронили (1948), «среди сотен венков было [только] четыре еврейских». Об этом напомнил его преемник и ближайший сподвижник Вениамин Зускин на Неправедном суде над еврейской культурой. Зускин пытался напомнить судьям, что «буржуазный националист» Михоэлс отнюдь не замыкался в среде евреев.[659]
Общественная роль, которую играл Михоэлс почти два десятилетия, была столь же трагична, как лучшая его сценическая роль. Пожалуй, еще трагичнее. Ибо если король Лир отказался от королевства по собственной прихоти и высокомерию, то королевство Михоэлса таяло и сжималось, как шагреневая кожа. То была роль хранителя неумолимо гаснущего (гасимого!) очага.
Аналогичной была роль его сподвижников — ведущих мастеров культуры на идише, хотя большинство из них осознали это с опозданием.
Гражданская войны и политика военного коммунизма заставили ряд еврейских писателей (писавших на идише) покинули страну. Но во второй половине 20-х годов некоторые стали возвращаться. Их захватила волна сменовеховства: если не вместе с русскими коллегами, то параллельно с ними они двинулись назад, в «Каноссу».
Из русских писателей, вернувшихся из эмиграции, наиболее известны Алексей Толстой, Илья Эренбург; позднее — Александр Куприн (похоже, желавший только умереть на родине) и Марина Цветаева (которая умирать не хотела, но жить не смогла); тем же потоком оказались захвачены Давид Гофштейн, Дер Нистер, Перец Маркиш, Лев Квитко, Давид Бергельсон. Того, что писатели-гебраисты в те самые годы пытались выбраться из России, они не могли не знать. Не исключено, что на каких-то пограничных пунктах им доводилось встречаться с беглецами. Не трудно представить себе, как усмешливо глядели они друг на друга, вертя у виска указательным пальцем — как в известном анекдоте.
Наслышанные о «безграничных возможностях» для развития еврейской культуры на идише в Стране Советов, писатели возвращались окрыленными. Однако действительность очень скоро стала подрезать им крылья. Прежде всего, оказалось, что хотя более 70 процентов евреев считали своим родным языком идиш,[660] в школах на этом языке училось не больше 20–25 процентов еврейских детей, главным образом, из-за нехватки учителей. Старые квалифицированные учителя были на подозрении — если не в прямой контрреволюции, то в недостаточной пролетарской сознательности, в отсутствии боевитости по отношению к религии, в «идишизме» (как бы дико это не звучало, но в еврейских шкалах это считалось грехом!). Доверить им юное поколение строителей коммунизма советская власть не хотела, а учителей рабоче-крестьянского происхождения и образа мыслей готовить не успевала.
Что касается еврейских «масс», то к советизированным еврейским школам, они относились, мягко говоря, с прохладцей. В этих школах велась массированная атака на иудаизм, причем в самой вульгарной форме. Подвергались поношению традиционные еврейские праздники, правила кошерной пищи, субботний отдых, сложившиеся веками обычаи и обряды. Большинство родителей — даже неверующих — не хотели расставаться с традициями, составлявшими важную часть жизни еврейской семьи. Они предпочитали отдавать детей в русские или украинские школы. Там тоже велась антирелигиозная пропаганда, но более общего характера: в ней не было целевой анти-иудейской направленности. Если ребенок не приходил на занятия в субботу или в день религиозного праздника, то в русской школе на это смотрели как на обычный прогул, в еврейских же школах родителей требовали к ответу.
Но для того, чтобы еврейский ребенок был принят в русскую школу, одного желания было мало: детей записывали только в еврейскую школу, если таковая имелась в наличии, хотя — кроме языка — ничему еврейскому в них не учили. Не только религия была под запретом, но и еврейская история (вместо нее преподавали предмет «классовая борьба у евреев»), и история еврейской литературы (разрешалось знакомить детей с творчеством только трех дореволюционных писателей Шолом-Алейхема, Менделе Мойхер Сворима и Ицхока Переца — и ни одного из живших за пределами СССР). Сам язык преподавался на примитивном уровне: это был реформированный и советизированный идиш. Из него изгонялись слова древнееврейского происхождения, их заменяли славянизмами (в основном русизмами). Написание слов было изменено на фонетическое, благодаря чему слова древнееврейского происхождения, которые не удалось вовсе изгнать из идиша, писались иначе, чем на иврите. Даже сам алфавит подвергся ревизии: из него убрали пять «лишних» букв. Во благо ли была реформа алфавита или во вред, я не берусь судить (русский алфавит тоже освободили от нескольких букв — вроде бы без заметного ущерба). Важнее то, что любое несогласие с «революционными» новшествами клеймилось как «националистический уклон, чуждый пролетарских идей». Хорошо хоть «не делали серьезных попыток вообще отказаться от древнееврейского алфавита и перейти на латиницу или кириллицу, что проделывали с некоторыми другими языками».[661] А ведь могли бы. Так что — спасибо партии за это!
Учителю отводилась ключевая роль не только в школе, но и во всей жизни местечка. Ему надлежало вести просветительскую работу среди населения — выступать с докладами, лекциями, устраивать «красные уголки», развешивать плакаты и прочую наглядную агитацию. Во многих случаях учитель был в местечке единственным интеллигентом, проводившим партийную линию. Директор Бюро образования центральной Евсекции Михаил Левитан уже в 1923 году докладывал, что советская еврейская школа стала «революционизирующим фактором» еврейской жизни.[662]
Еврейская школа создавалась для быстрейшей «советизации» подрастающего поколения, а не для приобщения его к ценностям национальной культуры, потому и долговременных перспектив для ее развития не было.
Революция и гражданская война более чем вдвое сократили еврейское население страны: граница Советской России разрезала бывшую черту оседлости на две неравные половины, большая ее часть оказалась за кордоном (Польша с Западными областями Украины и Белоруссии, Бессарабия, отошедшая к Румынии, Прибалтийские страны). Затем число советских евреев, читавших и говоривших на идише, продолжало сокращаться, а без читателей не может быть и писателей. Но пока писатели были, между ними шла грызня — точно такая же, как и в большой, русской литературе.
В обеих литературах группы писателей объединялись в два основных лагеря: «пролетарских писателей» и «попутчиков». Даже названия изданий, вокруг которых концентрировались представители двух лагерей, были сходными. У пролетарских русских писателей был журнал «Октябрь»; пролетарские еврейские писатели издали коллективный сборник «Октябрь». Главным журналом русских попутчиков была «Красная новь», и на идише был выпущен сборник с похожим названием «Найерд». Позднее каждая из групп смогла издавать свой журнал: в Минске пролетарский ежемесячник «Дер штерн» («Звезда»), в Харькове ежемесячник «Ди роте вельт» («Красный мир»). «„Октябрь“ — наш, „Найерд“ — с нами» — так пролетарская критика проводила различие между двумя лагерями. Лишь не зная обстановку тех лет, можно считать его несущественным.
Среди попутчиков было немало талантливых прозаиков и поэтов; но, в силу непролетарского происхождения и интеллигентских шатаний, они то и дело впадали в какую-нибудь буржуазную ересь. Израильский исследователь советской литературы на идише Хаим Шмерук приводит документ, в котором пролетарский критик классифицировал ереси попутчиков.
Писатели отделяют себя от реальной жизни. Замыкаются в индивидуализме и символизме. — Дер Нистер, Л. Резник.
Идеализация уходящих классов, эмоциональная вовлеченность в их жизнь. — Н. Лурье.
Пассивное отношение к жизни. — Й. Кипнис.
Эпикурейство, преувеличение ценности уходящему мгновению. — З. Аксельрод.
Отсутствие собственной позиции, нейтральность, отстраненность — общее зло.[663]
Шмерук добавляет, что список грехов и грешников легко можно было бы пополнить: постоянному клеймению подвергались «еврейский шовинизм» и «национализм», в чем обвинялись Перец Маркиш, Самуил Галкин, Эзра Фининберг, С. Розин, Л. Квитко, А. Каган.[664]
Во главе пролетарской критики стоял Моше Литваков, главный редактор главной партийной газеты «Дер Эмес» («Правда»). Литваков был одним из нескольких большевистских функционеров относительно высокого ранга, кто, как Семен Диманштейн, получил традиционное еврейское образование. Он превосходно владел ивритом, разбирался в религиозной литературе, в молодости даже слыл выдающимся талмудистом. Он получил и светское образование: живя в эмиграции в Париже, окончил Сорбонну. До революции он состоял в партии сионистов-социалистов, то есть, по большевистским понятиям, был буржуазным националистом. Октябрь и последующие события помогли ему изжить «заблуждения». В 1921 году он вступил в компартию и стал видным деятелем Евсекции, где остро не хватало людей, знакомых с еврейской культурой. Как главный редактор «Дер Эмес», Литваков фактически возглавил всю большевистскую печать на идише. Ведя войну с ивритом, он не оставлял в покое и писателей-идишистов, бдительно выискивая у них всевозможные «уклоны».
В 1929 году были изданы две книги Переца Маркиша — роман «Из века в век» и поэма «Братья». Они были восприняты как большой успех еврейской литературы. Но на их презентации (как теперь бы сказали) Литваков обвинил автора в узко национальном подходе к революции, в воспевании жертвенности, в том, что все революционеры в его романе — евреи, а русских и украинцев нет. Маркиш возразил, заметив, что в романах русских писателей, как правило, действуют только русские революционеры и это считается нормальным; почему же в еврейском романе не могут быть выведены только еврейские революционеры? Газета «Дер Эмес» назвала вылазку попутчика «ужасом ада».
Но внимание партийных надсмотрщиков переключилось на другого еретика, Лейба Квитко. В его книге сатирических стихов высмеивался сам Литваков — «каркающая птица» (буквально «вонючая птица»), которая мельничным жерновом повисла на шее еврейской литературы.
Смелость поэта объяснялась тем, что партия проводила кампанию «критики и самокритики, не взирая на лица», так что Квитко просто выполнил социальный заказ. Но…
Партийная инквизиция как раз снимала стружку с Бориса Пильняка, чья повесть «Красное дерево» была забракована цензурой, но вышла в Германии. Спустить такую «антисоветскую» акцию власти не могли. Пильняк должен был уйти с поста председателя Всероссийского союза писателей и с тех пор (вплоть до гибели в чекистском застенке) оставался в опале. В малой еврейской литературе требовалось найти козла отпущения, дабы в бдительности не уступать старшему брату. Квитко и выпала роль еврейского Пильняка. Его стихотворение было расценено как контрреволюционный акт. Ситуация обострилась еще сильнее, когда Давид Гофштейн написал письмо в защиту Квитко. Он привел выдержки из скулодробительных статей Литвакова, показав, что проводимая им линия ведет к деградации еврейской литературы. Не имея возможности опубликовать свое письмо, Гофштейн разослал его многим видным писателям и литературным надсмотрщикам. Литваков поднял перчатку и разгромил вылазку еще одного «классового врага».
Все это совпало с нападками на ГОСЕТ после его гастролей и невозвращенчества Грановского, что еще больше сгустило тучи над еврейской культурой. Но вдруг «пролетарская диктатура» Литвакова оборвалась: ему был нанесен удар с тыла, откуда он меньше всего мог его ожидать. Своей мощной фигурой Литваков заслонял дорогу молодым пролетарским критикам, и они давно уже вострили когти. Случай представился, когда Литваков похвально отозвался о поэтическом сборнике Самуила Галкина, одного из самых талантливых, хотя и не громких, еврейских поэтов. Образный строй поэзии Самуила Галкина восходил к традиционной еврейской лирике, к библейским мотивам; «светлое будущее» еврейской культуры в стране социализма ему представлялось мрачным. Для партийных ортодоксов это были страшные преступления, но даже на Литвакова подействовала проникновенная лирика поэта.[665]
В эту ахиллесову пяту и впились стрелы «молодых пролетарских критиков». У Литвакова обнаружили тайное почитание иврита и тайный национализм. Заодно в тайном национализме было обвинено все руководство Евсекции, вскоре ликвидированной. Литваков был арестован в 1937 году — вместе с Диманштейном и другими бывшими руководителями Евсекции. В том же году он умер в застенке, вероятно, не выдержав пыток. Гонимые им поэты и писатели к тому времени уже не числились в попутчиках, а, напротив, вошли в фавор и пользовались привилегиями элиты, платя за это обязательную партийно-патриотическую дань.
«Пролетарские критики» не только блюли идеологическую чистоту, но становились законодателями эстетических норм. Все более обязательным становилось фанфарное воспевание «социалистического строительства города и деревни». Положительными героями могли быть только строители коммунизма с правильным классовым сознанием; а отрицательными — враги социализма, лишенные каких-либо симпатичных черт. Никакой символики, никаких подтекстов, сложных ассоциаций, никакого «национализма» (этот ярлык наклеивался на все еврейское).
«Следует подчеркнуть, что многие произведения, признанные непригодными для печати, до нас не дошли. Мы также не располагаем оригинальными текстами произведений, „исправлявшихся“ различными цензорами», — отмечает Х. Шмерук, указывая, что первым цензором своих произведений должен был быть сам писатель.[666]
О том же Юдель Марк:
«Литература находилась как бы в обручах. Чистая лирика почиталась контрреволюцией. Национальные эмоции — до [Второй мировой] войны — находились под табу. Писатель мог описывать только настоящее или недавнее прошлое. За это духовное закрепощение писатель получал свою „порцию мяса“. Он принадлежал к привилегированным в советском обществе. Материально он был обеспечен, но, с другой стороны, у него возрастал страх за завтрашний день — как бы не провиниться и не утратить все привилегии, а может быть, как в период чисток в 30 годах, и самую жизнь. В таких условиях почти невозможно знать, — что в данном произведении написано в соответствии с побуждениями писателя, а что продиктовано страхом или погоней за специальным вознаграждением».[667]
Одним из самых даровитых писателей был Дер Нистор (Пинхус Каганович), но он не умел и не хотел подлаживаться под партийные директивы. До революции он сделал себе имя как тонкий стилист-символист. Но в советские годы ему приходилось зарабатывать на жизнь репортерством и иной поденщиной. В отчаянии он обратился к брату, жившему в Париже, за материальной поддержкой, без чего он не мог бы написать давно задуманный роман. Его письмо позволяет проникнуть в ту тяжелую атмосферу, в которой задыхалась еврейская литература под железной пятой пролетарской диктатуры.
«Если ты меня спросишь, почему мне пришлось заниматься технической работой, а не творческой, я отвечаю тебе, что то, что я писал до сих пор, вызывало в моей стране жесткую оппозицию. Этот товар не пользуется спросом. Символизму нет места в Советской России, а как ты знаешь, я всегда был и остаюсь символистом. Очень трудно такому человеку, как я, который с такими усилиями оттачивал свой метод и свою манеру письма, перейти к реализму. Это не вопрос технических навыков. Тут надо заново родиться. Надо вывернуть наизнанку свою душу. Я проделывал над собой некоторые эксперименты. Сначала ничего не получалось. Теперь, кажется, я нашел путь. Я начал писать книгу, которую я и мои близкие друзья считают важной. Я хочу весь отдаться этой книге. Она о моем поколении, обо всем, что я видел, и воображал. До сих пор почти невозможно было ею заниматься, потому что все мое время уходило на то, чтобы зарабатывать на жизнь. За мои прежние произведения я не мог получить ни копейки… Но я обязан написать эту книгу, если не напишу, мое внутреннее „я“ погибнет. Если я этого не сделаю, я буду вычеркнут из литературы и из жизни, потому что не мне тебе объяснять, что для писателя жить — значит писать, а если он не пишет, то и не живет».[668]
В 1939 году увидел свет первый том дилогии Дер Нистера «Семья Машбер» (в 1947 году — второй том). «Во вступлении автор еще платит кой-какую дань властям, но не в самом романе, где дано описание Бердичева с семидесятых годов прошлого столетия. С большой симпатией изображаются в нем талмудисты и хасиды, особенно верные ученики реб Нахмана из Брацлава. Перед нами встают незабываемые образы верующих евреев. Этот роман — самое несоветское и внутренне самое свободное произведение еврейской прозы в Советском Союзе. Дер Нистор остался верен самому себе также в рассказах военных лет. Его три рассказа „Жертвы“ — подлинные жемчужины».[669]
Как такие произведения могли увидеть свет? Вероятно, в этом одно из многих чудес страны чудес. Если бы все партийные доктрины в области культуры, как и в хозяйственной жизни и вообще в жизни, проводились с железной непреклонностью, то страна просто вымерла бы.
Как выжить, как удержаться на плаву и не утратить свое творческое лицо, свое неповторимое видение мира? Перед такой дилеммой постоянно находился Михоэлс, его театр, каждый одаренный писатель. Но не каждый был Дер Нистором. Как в русской литературе не каждый был Михаилом Булгаковым, или Осипом Мандельштамом, или Анной Ахматовой, или Михаилом Зощенкой. Впрочем, и Булгаков пытался «реабилитироваться» пьесой о Сталине, и Ахматова пела осанну вождю («И благодарного народа / Он слышит голос: „Мы пришли / Сказать — где Сталин, там свобода, / Мир и величие Земли“»), и Зощенко писал слащавые рассказы о Ленине, участвовал в сборнике о Беломорканале. Все были вместе — в одной лодке. Всех одинаково трясло, хотя и не одинаково тошнило. Давид Бергельсон, тонкий прозаик, стал писать «соцреалистические» романы. Лейб Квитко, зализав раны, нашел свою нишу в сочинительстве детских стишков, на каковом поприще стяжал невероятную для этнического поэта популярность. Его пионерские стихи, легкие, как считалки, и в то же время очень «идейные», «тимуровские», переводились на русский и многие другие языки, издавались миллионными тиражами, входили в школьные учебники и хрестоматии. Но когда дошло до награждения писателей орденами (1939), единственный орден Ленина, выделенный для еврейской литературы, достался не Квитко, а Маркишу, хотя, по свидетельству его супруги, «многие поглядывали на Маркиша, как на обреченного. Трудно установить сегодня, отчего Маркиш остался в то время на свободе».[670] (Но она тут же дает правдоподобное объяснение: «Одна из версий сводится к тому, что Сталин в беседе с Александром Фадеевым говорил о Маркише как о прекрасном поэте. Могущественный Фадеев поспешил принять это к сведению, и Маркиш до времени избежал судьбы многих своих коллег».[671]
Вероятно, самыми страшными для культуры (еврейской, русской и всех культур, «национальных по форме и социалистических по содержанию») были не «колодки, в которые власть загоняла литературное творчество» (Ю. Марк), а то, что писатели сами загоняли себя в эти колодки. («Не носите, евреи, ливреи, / Не ходить вам в камергерах, евреи», — поколением позже подведет грустный итог Александр Галич).
«Мне вспоминается очень тяжелый разговор в доме наших друзей, — читаем у Эстер Маркиш, — разговор очень откровенный и по тем временам [тот же конец 1930-х гг. ] смертельно опасный. Все вещи назывались своими именами, говорили о Сталине и о терроре. Маркиш не выдержал, рванул ворот рубахи, закричал: „Хватит! Я не могу больше!“ — и выбежал вон. На улице он сказал мне: „Если я перестану верить, я не смогу написать больше ни строчки!“» Маркиш, объясняет его жена, «был „подкован политически“ в той мере, в какой требовалось, но продумать политическую ситуацию до конца и сделать выводы он не умел. А может быть, и не хотел, потому что, продумав и сделав выводы… надо было покончить с собой или, по малой мере, перестать писать, а перестать писать было бы для Маркиша тоже смертью».[672]
В большей или меньшей мере это замечание можно отнести к любому из лучших писателей эпохи (о худших не говорим).
Со второй половины 1930-х годов партия взяла курс на ликвидацию культуры на идише. Еврейские школы были закрыты, издания стали сворачиваться, волна репрессий унесла некоторых еврейских писателей. Процесс был заторможен нападением Гитлера на Советский Союз. То есть многократно ускорен, но инициатива «окончательного решения» перешла в руки нацистов. А поскольку «враг моего врага мой друг», то Сталин сообразил, что евреи могут еще пригодиться.
При Совинформбюро был создан Еврейский антифашистский комитет (ЕАК). Одновременно были созданы антифашистские комитеты ученых, женщин, молодежи, но, похоже, что наиболее эффективным оказался именно ЕАК. Он готовил тысячи статей, очерков и различных материалов — о зверствах нацистов и о героической борьбе против них Советского Союза. Пройдя советскую цензуру, эти материалы направлялись в зарубежные издания — еврейские и общие, и производили нужное партии и правительству впечатление.
Триумфальная поездка в Америку в 1943 году Соломона Михоэлса и приставленного к нему в качестве политкомиссара Ицика Фефера (пролетарского поэта и негласного агента НКВД) позволила собрать огромные средства и принести политические дивиденды.
После победы Сталин снова взял дело «окончательного решения» в свои руки, а поскольку ЕАК стал помехой для осуществления его планов, его решили ликвидировать вместе с активом.
В ноябре 1947 года в ГОСЕТе до глубокой ночи шли репетиции спектакля к 30-летию революции. В одну из таких ночей, уже в три часа утра, когда актеры стали расходиться, Михоэлс попросил своего ближайшего сподвижника Вениамина Зускина задержаться.
«Он пригласил меня к себе в кабинет и показал мне театральным жестом Короля Лира место в своем кресле. „Скоро ты будешь сидеть вот на этом месте“. Я ему сказал, что я меньше всего желаю занимать это место. Далее Михоэлс вынимает из кармана анонимное письмо и читает мне. Содержание этого письма: „Жидовская образина, ты больно высоко взлетел, как бы головка не слетела“. Это было письмо, которое он мне показал и о существовании которого я никому не говорил, даже собственной жене. После этого Михоэлс разорвал это письмо и бросил. Это было при мне. Вот как было дело до 1948 года».[673]
Через три месяца Зускин занял место убитого Михоэлса, но дни театра уже были сочтены.
Вслед за арестом ведущих деятелей еврейской культуры было ликвидировано еврейское отделение Союза писателей, закрыты еврейские театры по всей стране, закрыты газеты, издательства. Даже сам шрифт был вывезен и исчез. Идиш стал таким же запретным языком, как и иврит. Вторую ветвь еврейской культуры постигла та же участь, что и первую — со сдвигом в полтора десятка лет. В 1952 году вышел 15-й том второго издания БСЭ; в статье «Евреи» сказано: «в прошлом на идиш[е] говорили е[вреи] России» (курсив мой. — С.Р.).[674] В прошлом — не в настоящем!
Правда, сталинские соколы несколько опережали события: по переписи населения 1959 года, 25 процентов евреев назвали своим родным языком идиш. (Впрочем, большинство из них — жители или выходцы из Прибалтики, Молдавии, западных областей Украины и Белоруссии, куда советская власть пришла — и процесс насильственной денационализации начался — на двадцать лет позже). Но если вспомнить, что по переписи 1926 года таких было более 70 процентов, то «прогресс» впечатляющий. В 1970-м говорящих на идише оставалось чуть больше десяти процентов, а к середине 1990-х годов — два процента (и один процент — на иврите).[675] Так что тенденция в БСЭ была определена верно.
Глубина и эффективность разгрома еврейской культуры на идише раскрылась мне задолго до знакомства с цифрами. В конце 1970-х годов мой школьный товарищ познакомил меня со своим родственником Борисом Гершманом, скромным и мало известным, но много помнившим человеком.
В 30-е годы Борис Гершман окончил театральный техникум при ГОСЕТе и был принят в театр. На войне потерял ногу, после чего не мог выступать на сцене. Михоэлс взял его обратно в театр — на административную должность. В январе 1948 года, когда в театр позвонили из Минска, трубку поднял Борис Гершман. Он первым услышал страшную весть о гибели Михоэлса «в автомобильной катастрофе».
После закрытия театра Гершман успел поработать корректором в издательстве «Дер Эмес». Он рассказал, как нагрянул отряд НКВД, выгнал сотрудников и опечатал помещение.
О Гершмане вспомнили через десять лет, когда, в связи с приближением столетнего юбилея Шолом-Алейхема, которое отмечалось во всем мире по программе ЮНЕСКО, власти посчитали полезным издать на языке оригинала его однотомник. Гершмана просили помочь отыскать типографский еврейский шрифт. Бывший корректор припомнил обрывки давних разговоров — о том, что при закрытии издательства «Дер Эмес» шрифт вывезли, кажется, в типографию «Известий». Там, в подвале, он и был найден. Его разобрали, промыли бензином. Гершману пришлось набирать книгу, а затем вычитывать корректуру. Он рассказывал, как у него дрожали руки от волнения и страха: десять лет он не видел еврейского текста, подзабыл правописание и боялся наделать ошибок. Он показал мне этот небольшой томик. Я повертел его в руках, но прочитать не мог даже названия. Для моего поколения идиш был столь же далек, как египетские иероглифы.
В 1961 году в Москве был открыт журнал «Советиш геймланд» («Советская родина»). Главным редактором стал Арон Вергелис, еврейский поэт советской формации, идиш знал потому, что учился в еврейской школе в Биробиджане. Его официальная карьера началась с того, что он сменил Переца Маркиша на посту директором радиопрограмм на идише, когда тот — незадолго до ареста — был смещен. В то время, когда ведущие деятели еврейской культуры проходили круги лубянского ада, и даже после их расстрела Вергелис, должным образом инструктированный, выезжая в Европу, заверял западных коллег, что слухи об исчезновении еврейских писателей вздорны. Они живы-здоровы, благоденствуют на курортах Крыма, где и творят свои новые произведения.[676]
Но у лжи короткие ноги; после того, как таить правду стало невозможно, Вергелису на Западе не подавали руки, подвергали обструкции. При всем том Нора Левин считает, что в деятельности Вергелиса была и положительная сторона: он старался содействовать оживлению еврейской культуры и еврейского самосознания. Она указывает на то, что в журнале «Советиш геймланд», наряду с пропагандистской дребеденью, публиковались и вполне достойные произведения; редакция служила центром притяжения для людей, не утративших интереса к еврейской культуре.
Должен сказать, что в 1980 или 81 году я пару раз бывал на вечерах в редакции «Советиш геймланд». Запомнилось выступление Михаила Членова — этнографа, серьезно интересовавшегося историей еврейской культуры. Но из разговоров с сотрудниками редакции (в их числе был мой друг Лев Фрухтман, ныне живущий в Израиле) я вынес убеждение, что Арон Вергелис вынужденно терпел эти сборища и боялся их как огня: как бы не прозвучало чего-то недозволенного.
Году в 1976 мне довелось побывать в Биробиджане. Местная газета издавалась на двух языках: «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер Штерн». Я заглянул в редакцию и был сердечно встречен двумя самыми молодыми сотрудниками газеты на идише — Леонидом Школьником и Романом Шойхетом (одному тогда было под сорок, другому за сорок). Они меня поводили по городу и рассказали, что почти весь тираж газеты уходит заграницу: в самом Биробиджане читать ее некому. Все сотрудники редакции кроме них двоих давно перешагнули пенсионный возраст, пополнения не предвидится, газете предстоит умереть естественной смертью. Они показали мне местную синагогу — маленький покосившийся сарайчик с амбарным замком на двери. Вспомнили о том, как несколькими годами раньше, под Первомай, в Биробиджан приезжал американский журналист Генри Шапиро и как специально для него (и его фотоаппарата!) был срочно намалеван транспарант на идише. Те, кто его нес в колонне демонстрантов, не могли его прочитать.[677]
Судьбе советской культуры на идише автор «Двухсот лет вместе» уделяет несколько больше места (точнее, несколько мест), чем ивритской. Но в толще пятисотстраничного тома эти крохотные вкрапления выглядят чем-то побочным: не затронуть нельзя, а углубляться — нет желания. Впрочем, автор охотно сообщает, что «„Книга о русском еврействе“ дает отнюдь не мрачную оценку еврейской культурной ситуации в СССР в раннесоветские годы» (т. II, стр. 255); что Еврейский театр «процветал в Москве с 1921 года, на государственном содержании» (т. II, стр. 256) (словно другие театры содержало не государство); что в 30-е годы «еще не проявлялось официальное недоброжелательство к евреям» (т. II, стр. 310); что когда «катилось по всей стране закрытие православных храмов и уничтожение многих из них», еврейскую религию — «теснили» (т. II, стр. 314); что «советские притеснения традиционной еврейской культуры или сионистов легко исчезали под общим на тот день впечатлением, что советская власть евреев не угнетает, и даже, наоборот, сохраняет многих у рычагов власти» (т. II, стр. 280). (Курсив везде мой. — С.Р.)
Ну, общим такое впечатление не было ни на тот, ни на какой-либо другой день.
Коренилось оно лишь в узких псевдо-патриотических кругах эмиграции, которые (в отличие от сменовеховцев) ничего не забыли и ничему не научились. Ведомые своими вожаками типа Маркова Второго или Шульгина, они не хотели смириться с реальностью и понять, что их отверг русский народ, а коммунисты, захватившие власть в России, — не мифические сионские мудрецы, а такие же враги культуры (в том числе и еврейской), как и они сами, но только более решительные и жестокие.
Антисионизм
В мае 1917 года — впервые после отмены антиеврейских ограничений — в Петрограде состоялся Общероссийский съезд сионистов. На него съехалось 552 делегата от семисот местных организаций, объединявших 140 тысяч «шекеледателей» — то есть активных членов сионистских организаций, плативших членские взносы.[678] Если вспомнить, что в большевиках в начале 1917 года насчитывалось около одной тысячи евреев, а в Бунде — около 30 тысяч, то станет понятно, каковы были настроения широких масс еврейского населения в канун прихода большевиков к власти.
Еще более массовым движение сионистов стало после октябрьского переворота, когда — в ноябре 1917 года — была обнародована декларация лорда Бальфура. Правительство Великобритании официально объявляло о поддержке создания еврейского национального очага в Палестине. Мировая война вступила в заключительную фазу, и все более реальным становился распад Оттоманской империи (в чей состав входила Палестина), так что неожиданная поддержка Великобритании превращала туманную мечту сионистов в реальную возможность.
Вряд ли многие евреи в России рассуждали таким или подобным образом, но декларация Бальфура вызвала в их среде огромный энтузиазм. Число «шекеледателей» возросло до трехсот тысяч (более чем вдвое), а число сионистских организаций — до тысячи двухсот. Во многих местах прошли демонстрации в поддержку декларации Бальфура, сионистские лидеры приветствовали ее, как начало международного признания будущего еврейского государства в Палестине.
Мы помним, с какими трудностями столкнулись большевики, когда пытались открыть первую газету на идише, но не могли найти грамотного редактора ни в своих собственных рядах, ни среди тех, кто хотел бы с ними сотрудничать. У сионистов таких проблем не было. В сентябре 1917 года в России издавалось 39 сионистских газет и журналов на идише, десять на иврите и три на русском языке. Культурно-просветительное общество Тарбут имело 250 школ и других учреждений на иврите.
На Украине в конце 1917 — начале 1918 года прошли выборы делегатов Всероссийского еврейского конгресса. Сионисты набрали больше голосов, чем четыре противостоявшие им партии вместе. В июле 1918 года в Москве состоялась конференция еврейских общин центральной России. На нее съехалось 149 делегатов от 40 общин, и снова большинство составили сионисты.[679]
Чтобы не осложнять отношений с новым режимом, сионистская конференция, созванная в мае 1918 года в Москве, приняла резолюцию о нейтралитете во внутрироссийских делах — в надежде на то, что советская власть ответит тем же. Конечно, это была иллюзия. Большевики, как известно, исходили из принципа: «Кто не с нами, тот против нас». И поскольку сионисты были не с большевиками, то невольно оказывались против. При создании Еврейских комиссариатов (Евкомов) и Еврейских секций ВКП (б) (Евсекций) перед ними была поставлена боевая задача: установить «диктатуру пролетариата на еврейской улице». Диманштейн и его команда тотчас стали действовать.
Буквально через месяц после провозглашения сионистами одностороннего нейтралитета появилась брошюра некоего З. Гринберга на идише под названием «Убрать сионистов с еврейской улицы» («Ди Сионистен ойф дер Идишер Гасс»). Автор клеймил сионизм как «цитадель реакции», концентрацию «мелкобуржуазных элементов» и «средостение между еврейскими массами и российской революцией».[680]
Пока шла гражданская война, преследования сионистов происходили спорадически, в отдельных местах. Наиболее авторитетные исследователи (Нора Левин, И. Шехтман, Б. Пинкус, Цви Гителман) не усматривают в них системы. Конференция районных евсекций и евкомов в Москве в июне 1919 года приняла грозную резолюцию, объявлявшую сионистов «контрреволюционной, клерикальной и националистической» партией, «орудием в руках империализма Антанты в ее борьбе против пролетарской революции».[681] Опасаясь тяжелых последствий, ЦК сионистской организации направил во ВЦИК просьбу об официальной легализации. Ответ был макиавельный: поскольку ни ВЦИК, ни Совнарком не запрещали сионистскую партию, не объявляли ее контрреволюционной, то и официальной легализации не требуется. Это означало, что запрета на сионистскую деятельность нет, но и разрешения нет; произвол на местах усиливался.
В поисках защиты один из ведущих сионистов Петрограда Соломон Гепштейн обратился к Максиму Горькому.
Горький к тому времени осознал, что советский режим, вопреки его прогнозам, не рухнет в ближайшие недели и месяцы, и пошел на мировую с большевиками. В ответ большевистские лидеры стали приваживать Буревестника революции, дабы он больше не вылезал со своими «несвоевременными мыслями». Помириться с режимом, не потеряв лица, Горькому было непросто, но скоро определилась его новая миссия: ходатая по делам культуры и отдельных ее деятелей. Имея прямой контакт с Лениным, Горький выторговывал поблажки некоторым интеллектуалам, имевшим несчастье привлечь к себе внимание ЧК или погибавших от голода и болезней. Благодаря этому некоторые ученые, писатели, художники, общественные деятели были спасены от тюрьмы, расстрела, стали получать лекарства и продовольственные пайки, кое-кто получал разрешение на выезд заграницу.
Когда Ленин не хотел удовлетворить просьбу, то он избегал прямых отказов: просто выяснялось, что ходатайство «опоздало» (а порой и вправду опаздывало). Но стоило Буревестнику замолвить слово за сионистов, Ильич резко его оборвал и прочитал ему лекцию о «реакционной сущности» сионизма и еврейского национализма.[682]
Ильич был верен себе. Со времен ранних столкновений с Бундом он занял непримиримую позицию. В желании еврейских социал-демократов образовать унию с РСДРП, но не раствориться в ней без остатка, он усмотрел реакционный оппортунизм и буржуазный национализм. Он не признавал, что у трудящихся евреев — кроме классовых — могут быть национальные интересы.
На унию с Бундом охотно соглашались меньшевики, но для «партии нового типа» это было неприемлемо. По Ленину, «сама идея еврейской „национальности“ носит явно реакционный характер не только у последовательных сторонников ее (сионистов), но и у тех, кто пытается совместить ее с идеями социал-демократии (бундовцы)».[683] Он считал, что враждебность к евреям может быть устранена только их «полным слиянием с общей массой населения… и вот, этому единственно возможному решению противодействует Бунд [и тем более сионисты], не устраняя, а усиливая и узаконивая еврейскую обособленность».[684]
Таким образом, единственным способом уничтожения антисемитизма Ленин считал уничтожение евреев как этнической общности. Средство действительно радикальное: хочешь ликвидировать болезнь — убей больного! Если это не геноцид, то этноцид. Вполне, впрочем, укладывавшийся в марксистское учение о нации — исторической категории, которая возникает на определенном этапе развития общества, при капитализме, а при коммунизме — исчезает. Потому тот, кто противится возникновению нации при капитализме или ее исчезновению при социализме — махровый реакционер; «пролетариат» должен вести с ним беспощадную борьбу. Это он очевидно и втолковывал Максиму Горькому в своей импровизированной «лекции».
За словом последовало дело. Вскоре чекисты нагрянули на штаб-квартиру сионисткой организации в Петрограде, конфисковали бумаги, деньги, арестовали руководителей, в их числе и Гептштейна. Ему были предъявлены нешуточные обвинения, хотя и походившие на дурную шутку: «Нам известно, что вы ежедневно из своего погреба передаете военную информацию в Лондон». (Гепштейн не имел доступа к военной информации, не знал ни слова по-английски и в его доме не было погреба).[685]
Аресты были произведены в Москве, затем в Витебске, Саратове и других городах. Это уже не походило на местную самодеятельность — то была спланированная централизованная операция. Правда, через некоторое время арестованных выпустили, вернули деньги и часть изъятых документов. Деятельность сионистских организаций в России могла возобновиться.
Но — набирали обороты гонения на Украине, совсем недавно занятой красными войсками. В то самое время, когда, согласно деникинской и петлюровской пропаганде, на Украине свирепствовали «жиды-комиссары», комиссары-большевики производили массовые аресты сионистов и требовали от них письменного отказа от сионистской деятельности. В противном случае им грозил суд революционного трибунала.
Репрессивные акции проводились в Киеве, Одессе, Харькове и повсюду на Украине, где на штыках красных конников был водворен большевистский режим. Недавний глава левого крыла Бунда, переметнувшийся к коммунистам, М. Рафес «с чувством законной гордости» заявлял, что репрессии против сионистов — это проявление «еврейской гражданской войны и осуществление диктатуры пролетариата на еврейской улице». Только когда войска Деникина выбили коммунистов из Украины, преследования сионистов прекратились. Их программа вполне устраивала идеологов Белого движения, как и жовто-блакитного: чем больше евреев уберется из России-Украины, тем лучше. В начале 1920 года советская власть вновь утвердилась на Украине, и тотчас возобновилась «еврейская гражданская война». Газета «Дер Штерн» («Звезда») требовала «решительных действий, а не бумажных резолюций» против сионистов.[686]
В апреле 1920 года в Москве собрался третий всероссийский сионистский съезд, но на третий день его работы 75 из 109 участников были арестованы. В тюрьму они двинулись строем, под пение сионистского гимна «Хатиква». Один из главарей ЧК Мартин Лацис предъявил им обвинения в наличии компрометирующих документов, в симпатиях к Англии, в сотрудничестве с американскими сионистами, даже в помощи Колчаку и в общей поддержке всех антисоветских элементов.
Впрочем, участники съезда вскоре были освобождены. Председатель ЦК сионисткой партии, крупный экономист Ю. Д. Бруцкус через два года окажется в числе двухсот интеллектуалов, высланных по приказу Ленина из Советской России.
Однако, все это не мешало наркому иностранных дел Г. Чичерину убеждать британского министра и видного сиониста (в Англии одно другому не мешало) Дэвида Эдера, что в Советской России сионизм не подвергается преследованиям; отдельные сионисты сидят в тюрьмах как буржуазные, контрреволюционные элементы, совершившие преступления против советской власти.
И. Шехтман интерпретирует заверения наркома как свидетельство терпимого отношения советской власти к сионистам: с ними-де воевали только евсеки, их извечные соперники. Но Нора Левин замечает: «Евсекция хорошо служила правительству, представляя дело так, что все нападки на сионизм носят стихийный характер и выражают недовольство „прогрессивного общественного мнения самих евреев“». Играть в игру доброго-злого полицейского властям было нужно для воздействия на западное общественное мнение, в особенности на американских евреев, от которых шло финансирование программы землеустройства, чему советская власть придавала тогда большое значение.[687]
Игра продолжалась до середины, а в какой-то части до конца 1920-х годов. За каждым пряником следовал удар кнута. Так, в 1923 году, когда в Москве была открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, в качестве иностранных участников были приглашены земледельческие хозяйства Палестины. Палестинский павильон стал одной из сенсаций выставки. Летом 1924 года, когда в Москву приехали представители палестинских профсоюзов Давид Ремез и Давид Бен Гурион (будущий первый премьер-министр Израиля), их принимали с должным почетом. Переговоры с ними вел председатель Профинтерна Соломон Лозовский — будущий директор Совинформбюро и заместитель министра иностранных дел (а затем «враг народа», главный обвиняемый на процессе Еврейского Антифашистского Комитета — расстрелян 12 августа 1952 года). На вопрос гостей, как советские власти оценивают позицию компартии Палестины, выступающей против иммиграции евреев, Лозовский ответил: «Это антикоммунистическая позиция». Гости уехали окрыленные, полагая, что уладили большое недоразумение и что надо срочно готовиться к приему в Палестине потока иммигрантов из СССР. А через месяц после их отъезда, в одну ночь, по всей стране были проведены массовые аресты сионистов. Несколько тысяч их были отправлены в ГУЛАГ или в ссылку: на Соловки, в Сибирь, в Среднюю Азию.
Вскоре после этого сионистам удалось организовать массовые демонстрации детей. Дети маршировали вокруг синагог, пели сионистский гимн Хатиква, скандировали сионистские лозунги. Так как большинство пожилых и взрослых сионистов были уже арестованы или скрывались, то во главе ячеек (давно уже нелегальных) встали подростки 14–15 лет. Эта юная поросль не только противостояла натиску властей, но порой предпринимала очень чувствительные ответные акции. В 1924 году на Украине сионистам удалось нелегально отпечатать и распространить сто тысяч экземпляров брошюры, в которой выдвигались широкие демократические требования: свободные выборы в еврейские советы, обеспечение подлинной власти трудящихся, создание свободных и добровольных сельскохозяйственных кооперативов, поддержание связей с Палестиной, свобода эмиграции. Бедственное положение в местечках объяснялось неспособностью советского режима решить экономические проблемы еврейского населения.
Об организованности и мощи сионистского сопротивления произволу большевиков сообщает высокопоставленный большевистский агитатор Юрий Ларин: «Три года назад [то есть в 1926-м] в один и тот же день в 27 городах нашей страны, главным образом на Украине, были распространены нелегальные (тайно напечатанные) на русском языке прокламации (воззвания). В Одессе их разбрасывали с галерки театра, в других городах их расклеивали на улицах и т. п., - это было по вопросу о перевыборах советов. Сионисты агитировали среди еврейских рабочих — не верьте в советы, несите высоко знамя сионизма и т. д.».[688]
Развернулась война между сионистским молодежным подпольем и комсомолом, причем, по утверждению Норы Левин, явный перевес был на стороне сионистов: им удавалось внедряться в комсомольские организации и осведомлять товарищей о готовящихся против них акциях. Газета «Дер Эмес» писала: «Большая нужда, в которой находится еврейское население местечек, создает плодотворную почву для развития сионизма, чье влияние на мелкобуржуазную [!?] еврейскую молодежь очень велико».[689]
В октябре 1924 года на Всеукраинской конференции Евсекций признавалось, что «еврейская местечковая молодежь не в наших руках», да и в больших городах «сионисты проникли в наши школы».
25 мая 1925 года крупному большевистскому функционеру Петру Смидовичу, временно занимавшему пост председателя ВЦИК, был послан меморандум с требованием: прекратить преследования сионистов и разрешить свободный выезд в Палестину всем желающим. Играя всю ту же игру в доброго-злого полицейского, власти собрали внеочередное заседание ВЦИК; петиция была рассмотрена благожелательно. Сионистам предложили войти с конкретным проектом создания легального эмиграционного общества. Проект тотчас был представлен. Но параллельно от имени Евсекции был направлен меморандум, требующий отвергнуть предложение сионистов. Смидович развел руками: ваши же люди чинят препятствия.
Однако приближался очередной Всемирный сионистский конгресс, который мог бы привлечь внимание Запада к преследованиям их единомышленников в «передовой стране социализма». Обеспокоенные власти уведомили лидеров сионистского движения, еще остававшихся на свободе, что им могут позволить направить делегацию на Конгресс, но при условии, что она заявит: советская власть обеспечивает евреям все права. Кроме того, от делегации требовалось призвать евреев Запада к поддержке еврейских сельскохозяйственных поселений в Крыму. В обмен на это власти обещали легализовать эмиграцию, вновь разрешить Тарбут и школы с преподаванием на иврите.
Лидеры сионистов готовы были пойти на «сделку с дьяволом», но выставили еще одно условие — освобождение из ссылок и лагерей их сотоварищей. Переговоры, напоминавшие игру кошки с мышкой, длились шесть месяцев, пока власти не поняли, что с этими упрямцами кашу не сваришь. 16 марта 1926 года в Москве было арестовано более ста сионистов. Каждого из них без лишнего шума приговорили к трем годам ссылки в Казахстан (удивительно мягкие приговоры, но сроки, как правило, продлевались), а нескольких выслали в Палестину. Сионистский Конгресс «не заметил» отсутствия делегации из СССР, американская организация «Джойнт» поддерживать переселение евреев «на землю», ассигнуя на эти цели миллионы долларов.
После этого только одна сионистская организация, Гехалуц, могла еще действовать открыто, хотя и очень недолго. Это была молодежная организация, одухотворенная идеями сионистского социализма. Ее члены готовились к физическому (в основном крестьянскому) труду в будущем еврейском государстве, которое они хотели строить на принципах свободы и социальной справедливости.
Общество было создано Иосифом Трумпельдором, легендарной личностью, героем русско-японской войны, в которой он потерял руку, но вернулся в строй и продолжал сражаться. Он был награжден солдатским Георгием, произведен в офицеры (редчайшее исключение из правил!), принят и обласкан государем. На солдата-еврея, проявившего такой героизм и патриотизм в самой непопулярной за всю историю России войне, смотрели как на диковинную птицу. Человек действия, Трумпельдор в погромную волну 1905 года стал организатором еврейских отрядов самообороны. В Гражданскую войну он тоже создавал такие отряды, и там, где они действовали, погромов не было или погромщики встречали отпор. В сионистском движении Трумпельдор занимал особое место: всегда окруженный молодежью, он не теоретизировал, а действовал.
Эмигрировав в Палестину в 1920 году, Трумпельдор перенес туда то, что начал в России. Тип пионера-поселенца, идущего за плугом, с винтовкой в руках, возник не в последнюю очередь благодаря Трумпельдору. В Израиле он стал легендарным национальным героем. Рискну предположить, что внутренней мотивацией всех его действий, — может быть, неосознанной — было стремление противостоять шаблонам антисемитских представлений, которые полвека спустя, вычеканил в стихах Борис Слуцкий: «Евреи хлеба не сеют. / Евреи в лавках торгуют. / Евреи рано лысеют. / Евреи больше воруют. / Евреи люди лихие, они солдаты плохие: / Иван воюет в окопе, / Абрам торгует в райкопе…».
Трумпельдор посвятил жизнь тому, чтобы доказать, что евреи могут быть и солдатами, и пахарями; тем же была одержима окружавшая его молодежь. После его эмиграции общество Гехалуц продолжало набирать силу. К концу 1923 года в нем было 75 групп, 3000 человек. Созданные им хозяйства имелись в Белоруссии, на Украине, в Крыму. Евсекция не раз пыталась добиться запрета Гехалуца, однако более высокие власти имели иные виды. Обществу был предложен легальный статус в расчете использовать его опыт и энтузиазм в проектах по землеустройству евреев. Но когда проекты начали осуществляться, Гехалуц стал не нужен, и был ликвидирован. В 1926 году была закрыта газета «Гехалуц», просуществовавшая два года, многие члены общества были арестованы, а 1 марта 1928 года был издан официальный указ о его роспуске.[690]
В книге «Двести лет вместе» Солженицын едва упоминает Гехалуц, а всей деятельности сионистов в раннесоветский период отводит две страницы текста, наполненные преимущественно выдержками из тех же селективно подобранных «еврейских» источников. Д. Пасманик, оказывается, сетовал в 1924 году: «Сионисты, ортодоксы и национальные евреи должны были бы быть в первых рядах борющихся с советской властью и большевистским миросозерцанием» (т. II, стр. 259). Думаю, я показал, насколько неуместно это сослагательное наклонение: ведь в первых рядах они и были. Однако Солженицын итожит: «Не состоялось ни такого союза, ни такого первого ряда» (т. II, стр. 259). Но такого мнения он держался не всегда. «Живой и боевой партией в 20-е годы были сионисты-социалисты с их энергичной юношеской организацией „Гашемер“ и легальной организацией „Гехалуц“, создававшей земледельческие еврейские коммуны в Крыму. В 1926-м посадили все их ЦК, а в 1927-м мальчишек и девчонок до 15–16 лет взяли из Крыма в ссылку. Давали им Турткуль и другие строгие места. Это была действительно партия — спаянная, настойчивая, уверенная в правоте. Но добивались они не общей цели, а своей частной: жить как нация, жить своею Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в других потерпеть узкого национализма». Так написано в «Архипелаге ГУЛАГ».[691] Тот ли это Солженицын писал?!
Ликвидация в 1930 году Евсекции нисколько не улучшила положение сионистского движения, уже едва дышавшего. Давление на него и расправы приняли тотальный характер. Году к тридцать пятому — тридцать седьмому сионистская деятельность была задавлена практически полностью.[692] Правда, после заключения пакта Риббентроп-Молотов Москва присоединила к себе три прибалтийские страны, часть Польши и Бессарабию. То были территории с большим еврейским населением и — активным сионистским движением. Но импульс оно получило очень ненадолго. Активистов перехватали и отправили в ГУЛАГ. В число узников попали М. Бегин (будущий премьер-министр Израиля), Ю. Марголин, крупный писатель, автор одной из самых ярких книг о ГУЛАГе (написанной почти за двадцать лет до Солженицына).[693] В лагерях Дальнего Севера Юлий Марголин встречал сионистов, которые провели в заключении уже по 16–17 и более лет. Там они только и сохранялись — как мамонты, вцементированные в вечную мерзлоту. В более теплой зоне сталинской (и послесталинской) России они существовать не могли, а само слово «сионизм» почти исчезло из советского лексикона.
Когда было создано государство Израиль, и на него двинулись армии пяти арабских стран, Советский Союз оказал ему решительную поддержку. В «Правде» публиковались статьи, требовавшие прекратить агрессию, в противном случае арабам грозили «опасными последствиями».[694]
Американский политолог Роберт Фридман, исследовавший динамику советско-израильских отношений, указывает на важные стратегические причины, побудившие Сталина занять такую позицию. Арабские страны в послевоенные годы оказались в сфере влияния Великобритании, она имела на арабском востоке сеть военных баз, которые могли быть использованы против Советского Союза. Желая угодить арабским друзьям, Британия всячески ограничивала приток евреев в Палестину и — вопреки декларации Бальфура — противилась созданию еврейского государства.
Уничтожение шести миллионов евреев в Европе стало важным аргументом Москвы в пользу того, что евреи заслужили право на свое государство-убежище. В ООН эту позицию озвучивал А. А. Громыко, о том же активно писала советская пресса.[695] Под влиянием всего этого в Советском Союзе возникла широкая симпатия к молодому еврейскому государству — не только среди евреев. От недавних солдат и офицеров Советской армии стали поступать тысячи заявлений с просьбой направить добровольцами в Палестину. Приезд в Москву первого посла Израиля Голды Меир вызвал взрыв энтузиазма. В этой манифестации симпатий к Израилю не было и следа нелояльности к Советскому Союзу; советские евреи понятия не имели, что бросают вызов режиму. Они не сомневались, что выполняют интернациональный и патриотический долг советских граждан — именно в том смысле, как трактовались эти понятия.
Но Сталин, «желая помочь государству Израиль, не желал никакого проявления национальных чувств евреев внутри советских границ».[696] Многих из них «интернациональная солидарность» привела в ГУЛАГ. Им шили разные преступления, но, как правило, не сионизм.
Даже в деле Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) это слово почти не фигурировало: подсудимые обвинялись в «еврейском национализме», в «антисоветской националистической деятельности», в произнесении «антисоветских националистических речей» и во многом подобном. Согласно приговору, «ЕОК превратился в шпионский и националистический центр». Слово «национализм» и производные от него в приговоре повторяются несчетное число раз, тогда как «сионизм» в стенограмме процесса едва упоминается — в основном применительно к одному из обвиняемых, Давиду Гофштейну, который в 1920-е годы действительно примыкал к сионистам и около двух лет жил в Палестине (1925-27). В вину, однако, и ему ставился не «сионизм», а то, что он «выступал… в реакционной еврейской печати с националистическими произведениями».[697]
Теперь, когда материалы дела ЕАК стали доступными, можно не сомневаться, что сталинские соколы готовили открытый показательный процесс — по примеру бухаринского и зиновьевского, но несговорчивость подсудимых сорвала эти планы. Пришлось процесс сделать тайным и покрыть его тяжелой могильной плитой, расстреляв всех обвиняемых (кроме академика Лины Штерн, получившей пять лет ссылки по неожиданной милости Сталина). Однако от идеи грандиозного открытого процесса, который должен был перещеголять и дело Бейлиса, и дело Дрейфуса, и средневековые судилища над евреями и, возможно, стать детонатором «окончательного решения», Сталин не отказался.
В сообщении ТАСС об «убийцах в белых халатах» от 13 января 1953 года, говорится: «Большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией „Джойнт“, созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву „об истреблении руководящих кадров СССР“ из США от организации „Джойнт“ через врача в Москве Шимелиовича [расстрелянного по делу ЕАК] и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса».[698]
Слово «сионизм» и здесь не фигурирует. Появляется оно только в сопроводительной редакционной статье «Правды»: «Они были завербованы филиалом американской разведки — международной еврейской буржуазно-националистической организацией „Джойнт“. Грязное лицо этой шпионской сионистской [!] организации, прикрывающей свою подлую деятельность под маской благотворительности, полностью разоблачено. Опираясь на группу растленных еврейских буржуазных националистов, профессиональные шпионы и террористы „Джойнт“, по заданию и под руководством американской разведки, развернули свою подрывную деятельность и на территории Советского Союза». И дальше: «Разоблачение шайки врачей-отравителей является ударом по международной еврейской сионистской организации. Теперь все могут видеть, какие „благотворители“ и „друзья мира“ скрываются под вывеской „Джойнт“».[699]
Тут «Джойнт» хоть и называется сионистской организацией, но как бы сквозь зубы. А 4 апреля ТАСС сообщил об освобождении врачей и аресте тех, кто сфабриковал это дело. Тем автоматически реабилитировалась и «сионистская» организация «Джойнт».
В последующие годы советская пропаганда вспоминала о сионизме лишь в связи с обострениями арабо-израильского конфликта. То была сфера внешней политики. О «сионизме» внутри СССР и вообще о какой-либо нелояльности евреев советскому режиму после провала «дела врачей» говорить не решались, по крайней мере, публично. Антисемитизм процветал на административном уровне, но не на идеологическом.
Одиозная попытка нарушить это табу была сделана в 1963 году, когда в Киеве, в издательстве Украинской академии наук, была опубликована книга Трофима Кичко «Иудаизм без прикрас». Иудаизм в ней объявлялся духовной основой сионизма, а сионизм политической реализацией иудаизма. Иудаизм, в интерпретации Кичко, проповедует не смирение, как другие религии, а превосходство евреев над всеми народами. Он поощряет захватывать их имущество, эксплуатировать их, порабощать, а для этого «проникать» в их общественные и государственные структуры и всеми правдами и неправдами захватывать руководящее положение, что и осуществляют сионисты.
Что такое сионизм?
Правоверный марксист и непримиримый враг сионизма Ю. Ларин в свое время разъяснял: «Теперь, говорят сионисты, надо подумать о том, чтобы восстановить свое царство. Надо для этого евреям съехаться в Палестину, поселиться вокруг этой горы Сион и восстановить свое самостоятельное национальное бытие».[700]
Не то говорит Кичко. Создание и укрепление государства Израиль — это лишь ближайшая цель сионизма, конечная же цель — порабощение других государств, в первую очередь стран социализма, с использованием евреев этих стран в качестве пятой колонны. Автор, в сущности, перепевал «Протоколы сионских мудрецов», «разоблачая» мифический сионизм, созданный его воспаленным воображением.
Понятно, что книга не могла появиться самостийно, без одобрения в верхах. По всей вероятности, это была только затравка большой кампании. Но ее зачинатели перестарались. Книга была изданы с иллюстрациями, и они мало отличились от антисемитских карикатур нацистских изданий; опознать ее суть можно было не читая. Посыпались запросы из-за границы, причем не только из «буржуазных» кругов, которые советские власти привыкли игнорировать, но и от коммунистов. Остро критическая статья появилась в парижской «Юманите», а в журнале «Франс новелл» было опубликовано резкое письмо генерального секретаря компартии Мориса Тореза. Аналогичной была реакция итальянских, британских и других коммунистов.[701]
Москва сочла за лучшее отмежеваться от книги Кичко, признав ее неудачной. Она стала сигнальным выстрелом, за которым не последовало ожидаемой атаки. Ядовитое семя дало всходы только через шесть лет. В 1968 году, когда советские танки раздавили Пражскую весну, с еврокоммунистами уже можно было не считаться: с ними произошел полный разрыв. Между тем, Кремль должен был объяснить собственному народу, почему так опасен эксперимент чехословацких товарищей, возмечтавших о «социализме с человеческим лицом». Тут то и пришло на подмогу спасительное слово — сионизм.
Советскую прессу наводнили статьи, преподносившие чехословацкие события как «сионистский переворот». В 1969 году уже была издана (и через год переиздана; общий тираж 350 тысяч экземпляров) книга партаппартчика из ЦК КПСС Юрия Иванова «Осторожно, сионизм!»
В небольшой книжице нашлось место всему: и «контрреволюции» основателей сионизма; и «израильскому варианту апартеида»; и «реальной власти верхушки ВСО» [Всемирной сионистской организации], которая «гарантируется не числом американских сионистов, а чековыми книжками американских и связанных с ними западноевропейских, южноафриканских и прочих мультимиллионеров»; и «специфической деятельности сионистской разведки»; и «исключительности еврейства»; и «маневру чисто расистского толка, заключающемуся в искусном, зачастую осуществляемом чужими руками насаждении идеи о „незаурядных“, „выдающихся“, „граничащих с гениальностью особенностях“ всех евреев по сравнению с другими народами»; и «„беженцам“ из ЧССР, направленным венским сионистским разведцентром в Израиль для обучения и дальнейшего использования в качестве сионистских агентов и шпионов в странах Западной Европы и ЧССР», которые якобы и совершили переворот в этой стране. Есть в книге место и советским евреям, поставляющим то ли шпионскую, то ли клеветническую информации сотрудникам израильского посольства.
Суммируя свои «изыскания», автор делал выводы:
«Итак, не возникновение и существование государства Израиль — первооснова сионистской проповеди: „еврейство превыше всего“, а более чем семидесятилетняя по возрасту цель подчинения мирового еврейства любыми средствами воле проимпериалистического сионистского центра».
«Капитальной целью международного сионистского концерна было и остается обогащение всеми средствами, гарантирующее в рамках империализма власть и паразитарное благоденствие; установление идейного и политического контроля над населением еврейского происхождения, которому в необозримом будущем обещана роль пастырей человечества, было и остается в сионистских прожектах реализации этой цели, одним из главных средств… главным объектом устремлений и подрывной деятельности международного сионистского концерна… были и остаются Советский Союз, все социалистические страны, международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение.
Поход против социалистического содружества, и в особенности против Советского Союза, проводится под потрепанным знаменем „защиты евреев“…».[702]
Книга Юрия Иванова стала тем детонатором, каким раньше не стала книга Кичко. Следом возникло целое направление в публицистике, пропаганде, появилась даже новая «наука» — сионология, не исследующая сионизм, а творящая его из древних антисемитских и недавних нацистских мифов, облекаемых в наукообразный камуфляж. Перекрашивание красной идеологии в коричневую оказалось хлебной профессией. В нее ринулись полчища маляров, получавших ученые степени, должности в научных учреждениях и на университетских кафедрах, членство в творческих союзах. «Разоблачение международного сионизма» стало предметом сотен диссертаций, книг, коллективных сборников, десятков тысяч статей в периодике, пьес и киносценариев, поэм и романов, предметом бесчисленного числа лекций, семинаров, учебных курсов, оно стало ведущей составной частью военно-патриотического воспитания молодежи, политической подготовки солдат и офицеров. При всеобщей воинской повинности через школу ненависти в обязательном порядке было проведено почти все мужское население страны.[703]
Можно услышать суждение, что антисионистская вакханалия была развязана для того, чтобы противостоять эмиграции евреев из СССР. Я убежден, что, если тут есть связь, то обратная: число стремящихся уехать росло с нарастанием этой травли, ибо все большему числу евреев (и неевреев) становилось ясно, что «выхода нет, а есть исход». Как ни опасно было обнаружить свое «сионистское нутро», подавая документы на выезд, оставаться в стране было еще опаснее. Не случайно по Москве ходила популярная шутка: «смелые евреи уезжают, а самые смелые остаются». Все это было известно властям, но травля «сионистов» только нарастала.
В 1983 году, был создан Антисионистский комитет советской общественности — в основном из «полезных» евреев, во главе с дважды героем Советского Союза генерал-полковником Давидом Драгунским. О том, как он удостоился этой чести, он рассказал своему биографу Ф. Д. Свердлову.
«Весной 1983 года Драгунского пригласили в отдел пропаганды ЦК КПСС. Здесь он услышал: „ЕСТЬ МНЕНИЕ — НАЗНАЧИТЬ ВАС ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЗДАВАЕМОГО Антисионистского комитета…“. „Ни в каком, самом скоротечном бою, — рассказывал мне Давид Абрамович в 1988 году, когда мы близко познакомились, — мне не нужно было так быстро принимать решение. Ведь слова „есть мнение“ тогда означали решение Политбюро… Отказаться — можно попасть и в лагерь, согласиться — не все поймут, но будут средства. Наряду с неясной еще борьбой с сионизмом, — можно будет оказывать помощь нуждающимся евреям… Я согласился“.».[704]
Можно удивляться наивности автора очерка, но не его героя. Никакой лагерь Д. А. Драгунскому в 1983 году не грозил. Необходимости принимать решение «быстрее, чем в быстротечном бою», не было. И никакой неясности относительно борьбы с сионизмом у него быть не могло: он сам был ее давним и весьма активным участником, причем «не только вел пропаганду против сионистов, но учил их убивать».[705] (Генерал Драгунский был начальником военной академии «Выстрел», где проходили подготовку офицеры стран третьего мира, в их числе террористы ООП).
В 1979 году, когда «Воениздат», уверенно державший первенство в публикации антисионистских наветов, издал роман Юрия Колесникова «Занавес приподнят» (о тайном сговоре и совместных преступлениях сионистов и германских нацистов), то даже самые сионологические издания о нем промолчали — настолько дикими и кощунственными были инсинуации автора. Единственная рецензия появилась в «Правде» — за подписью генерала Д. А. Драгунского. Авторитетом дважды героя и военачальника высокого ранга он подтверждал историческую достоверность творения Ю. Колесникова, а заодно и восхвалял выдающиеся художественные достоинства романа. Подводя «теоретическую базу» под фантасмагорию красно-коричневого романиста, генерал-полковник глубокомысленно рассуждал о родстве нацизма и сионизма: якобы обе идеологии выше всего на свете ставили чистоту расы.[706] (О героическом участии сионистов в организации восстания в Варшавском гетто и вообще в европейском сопротивлении, о еврейском палестинском батальоне, сражавшемся против Гитлера в составе британской армии, рецензент, конечно, не вспомнил).
Эта рецензия долгое время оставалась единственным печатным отзывов на роман Ю. Колесникова: критиковать его было нельзя, а хвалить невозможно. Но когда был образован Антисионистский Комитет, и генерал-председатель сделал писателя Ю. Колесникова своим заместителем, вспомнили и о романе.
Как выяснилось гораздо позднее, Юрий Антонович Колесников — еврей, родом из Бессарабии; прежде чем стать писателем, был профессиональным разведчиком. Когда разразилась война, его забросили в тыл врага, где он провел 32 месяца и совершил немало подвигов, своевременно не оцененных. Звезду Героя России ему вручил уже Ельцин, через сорок лет после победы. Трагический парадокс видится в том, что такие люди, как Драгунский и Колесников, героически сражавшиеся против коричневой чумы, по первому зову партии и правительства подхватили знамя, ими же выбитое из рук фюрера.
Вице-председатель Антисионистского комитета, Юрий Колесников на многочисленных митингах и пресс-конференциях возводил на сионистов те же кровавые поклепы, что и в романе.[707] В награду за усердие его произведение было перепечатано в роман-газете,[708] поставлявшей «патриотическое» чтиво для массового полуинтеллигентного читателя. Издательство «Прогресс» выпустило его в переводах на нескольких иностранных языках — на экспорт. Общий тираж романа превысил пять миллионов экземпляров. Рецензент «Огонька» Валентина Мальми в неумеренных восхвалениях этого кровавого навета превзошла генерала Драгунского. Основное достоинство романа она видела в том, что в нем показано, как «и в итальянском фашизме, и в германском нацизме, и в румынском национализме, и везде, везде, везде обнаруживаются умело замаскированные кровавые следы сионизма».[709]
Апофеозом деятельности Антисионистского комитета (советского юденрата, по меткому замечанию американского исследователя Уильяма Кори) стало издание «Белой книги» — совместно с Ассоциацией советских юристов.[710] Из предисловия к ней Д. А. Драгунского и обер-юриста А. Я. Сухарева можно узнать, что:
«Сионизм — это проповедь воинствующего шовинизма и расовой нетерпимости».
«Сионизм — это культ вседозволенности и безнаказанности в политике».
«Сионизм — это открытая ставка на индивидуальный и государственный террор».
«Сионизм — это непрекращающаяся война».
«Сионизм — это целенаправленная поддержка наиболее оголтелых кругов международного империализма и реакции».
«Сионизм — это оголтелая реакция, воинствующий антикоммунизм и антисоветизм».
«Советский народ всегда относился и относится к сионизму как к идеологии, которая концентрирует в себе апологию национальной исключительности, „избранности одного народа“, следовательно, как к идеологии шовинистической и расистской».
«Сегодня борьба против сионизма — его идеологии и политической практики — веление времени. Вот почему советские люди готовы дать достойный отпор сионистским провокаторам».[711]
«Белая книга» появилась на свет уже при М. С. Горбачеве и вполне отражала его «новое мышление». Соавтор Драгунского А. Я. Сухарев стал министром юстиции (позднее был смещен, но не за сионологию, а за то, что оказался негодным администратором).
«Четыре пятилетки застоя», как потом назвали эпоху Брежнева-Андропова-Черненко, были четырьмя пятилетками нацификации общественного сознания путем нагнетания ненависти к «сионизму»; в этом деле застоя не было. Коэффициент полезного действия красно-коричневой пропаганды не был высоким (люди перестали верить официозу), но не нулевым. Как только вожжи стали выскальзывать из ослабевших рук власти, «посев научный дал всходы на ниве народной». Навстречу насаждавшейся сверху сионологии жадно потянулась митинговая поросль «национально-патриотического» общества «Память», «Русское национальное единство» Баркашова. Того же происхождения национал-большевизм Зюганова-Макашова и не примкнувшего к ним Лимонова, «либерализм» Жириновского. Книжные лотки и прилавки густо усеяли, словно грибы после хорошего дождичка, бессчетные переиздания «Протоколов сионских мудрецов», гитлеровской «Майн кампф», «Записки о ритуальных убийствах», газета «Завтра» и сотни похожих изданий. Незащищенное сознание россиян отравляют мегатонны печатной продукции типа, к примеру, брошюры под названием «Страшен гитлеризм, но сионизм страшнее».[712] Правозащитников и антифашистов, запугивают на интернет-сайтах Национал-Державной Партии и других подобных организаций, а тех, кого не удается запугать, убивают — при полной глухоте и слепоте правоохранительных органов, «расследующих» преступления ненависти.[713]
В книге А. И. Солженицына тема сионологии и того, как она калечила и продолжает калечить души евреев, русских и представителей всех других национальностей России, не затронута. Автор избавил себя от этого сюжета, передвинув хронологически рамки повествования. Им был обещан труд, охватывающий двести лет российской истории; на обложке первого тома точно обозначены сроки: 1795–1995. Но во втором томе повествование доведено до 1972 года, а даты на обложке не обозначены. В интервью Солженицына газете «Московские новости» сдвиг хронологических рамок объяснен тем, что писать историю современности невозможно. Мягко говоря, это не звучит убедительно. В самой книге объяснение иное, но еще более шаткое:
«Я не сразу оценил тот отчетливый исторический рубеж, который положила широкая эмиграция евреев из СССР, начавшаяся в 70-х годах XX века, — как раз к 200-летию пребывания евреев в России, — и ставшая вполне свободной к 1987. Этот рубеж впервые отменил недобровольность состояния российских евреев: они более не прикреплены к жизни здесь, их ждет Израиль, им доступны все страны мира. Ясно обозначившийся этот рубеж внес поправку в мой план довести повествование до середины 90-х годов — ибо замысел книги исчерпан: с момента Исхода исчезает и уникальность русско-еврейской переплетенности» (т. II, стр. 522).
Если так, то не за чем было Александру Исаевичу писать весь первый том дилогии: чему-чему, а выезду евреев из России царская власть не препятствовала, напротив, всячески поощряла и понуждала. Как формулировал К. П. Победоносцев, раскинувший крыла над двумя последними царствованиями, «западная граница для евреев открыта». Ненужным оказывается и добрая треть второго тома: первые четыре главы в нем охватывают времена революции и гражданской войны, когда евреев не только не удерживали, но половину их оставили за кордоном; а пятая глава и вовсе посвящена зарубежью, где русско-еврейская переплетенность, разумеется, сохранялась, но не из-за отсутствия добровольности.
Выходит, что две трети двухтомника посвящены тому, о чем, по поздней переоценке автором собственного замысла, вообще не надо было писать. Зато «недобровольное пребывание евреев в России» им произвольно укорочено на два десятка лет: ведь период «недобровольности» завершился не в начале 1970-х годов, а в конце 1980-х (даже в начале 1990-х). Сам Солженицын называет рубежным 1987-й год, что тоже несколько преждевременно: в том году из СССР выехало чуть больше восьми тысяч евреев, а в следующем, 1988, меньше девятнадцати тысяч,[714] — ничтожная доля по сравнению с сотнями тысяч, которые рвались уехать. И в 1989 году (падение Берлинской стены и бархатные революции в Восточной Европе) ворота открылись еще не настежь. Свобода эмиграции пришла после провала ГКЧП и падения коммунистического режима. Но тогда не только евреи, а все граждане России обрели свободу ее покидать и возвращаться в нее.
А в 1970-80-е годы, незаслуженно обиженные Солженицыным, свободы эмиграции не было, а была борьба за свободу эмиграции и вообще за права человека. О том, как протекала эта борьба, напоминает самолетное дело с двумя смертными приговорами; «шпионское» дело Щаранского; тюрьмы, ссылки, лагеря, через которые прошли преподаватели иврита и многие другие активисты-отказники. Еще были котельные и дворничные, куда правдами и неправдами устраивались на работу доктора наук (часто по поддельным документам), чтобы не умереть с голоду или не получить срок за «тунеядство». Были демонстрации протеста и домашние аресты, тайные собрания в лесу и научные семинары на квартирах, был еврейский самиздат, голодовки, подслушивание и отключение телефонов, сидения в приемной Верховного Совета. Было глумление и произвол чиновников ОВИРов, надрессированных на травле евреев, обирание отъезжающих на таможне. Были разорванные семьи, оставленные могилы близких, разрывы с друзьями. Не один Александр Солженицын бодался с дубом советской системы, а среди тех, кто бодался, евреи были представлены куда гуще, чем во власти. (Хотя во власти и около власти их тоже хватало). Именно в этот период судьба русских и евреев переплелась особенно туго, причем в обоих лагерях — гонимых и гонителей. Одни отправлялись в лагеря или в эмиграцию, а вторые — в Антисионистские комитеты.
Обо всем этом у Солженицына ни полслова. Повествование оборвано, как недопетая песня.
«Бывшие»
Читаем у Солженицына: «„Светлые“ Двадцатые годы — ох как нуждаются в трезвой оценке. Они наполнены были ожесточенными преследованиями и по классовому признаку, в том числе неповинных детей за прошлую, даже не виданную ими жизнь их родителей, но тогда: не евреи были те дети, не евреи были те родители» (т. II, стр. 274).
Трезвая оценка? Касательно преследований по классовому признаку — безусловно. Сама советская власть не скрывала этих преследований, напротив, бравировала ими — вплоть до декабря 1936 года, когда в стране тотального бесправия, под фанфары и барабанный бой, Великая Сталинская Конституция для показухи «наделила» всех граждан равными и гарантированными правами. Вот тогда и запели хриплые репродукторы: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» А перед тем никто и не претендовал на то, что в стране пролетарской диктатуры человеку вольно дышится. Народ был разделен на классы — передовые, менее передовые, которые надлежало «подтянуть», и реакционные, подлежавшие ликвидации. По Солженицыну, евреи из дележа на чистых и нечистых по классовому признаку выпадали: «Еврейскую буржуазию не вымаривали сплошь, как русскую. Купец-еврей несравненно реже становился проклятым „бывшим“, находились свои заступники и выручатели. Родственники или сочувственные из советского аппарата то полегчали в поборах, то предупреждали о грозящей конфискации или аресте. Если теряли, то — капиталы, не жизни. Тогда содействие оказывалось и полуофициально, Еврейским комиссариатом при Совете Народных Комиссаров: ведь еврейская нация доселе была угнетенная, а, значит, теперь, естественно, нуждается в помощи» (т. II, стр. 203).
Сходны представления и некоторых оппонентов Солженицына. Аркадий Ваксберг так определяет суть своей книги «Из ада в рай и обратно»: «В начале века евреи бежали из России от гонений и погромов (из „ада“)… потом интернационалистическая революция (читай: государственный переворот) соблазнила их созданием райских условий жизни (какое-то время, имея в виду действительно упраздненную дискриминацию, так оно и было — без всяких кавычек), а вскоре Сталин снова загнал евреев в ад, не чета прежнему».[715]
Увы, в «рай без кавычек» после революции попал лишь небольшой слой в основном денационализированных евреев в ливреях, влившихся в партийно-государственную элиту. Об изгнании их из коммунистического рая Сталиным Ваксберг написал с присущим ему публицистическим талантом.[716] А массы еврейского населения, с которых власть срывала дореволюционные лапсердаки, часто вместе с кожей, им остались незамеченными. Как и Солженицыным.
Наиболее многочисленный слой еврейского населения и до революции прозябал на грани нищеты: предложение услуг со стороны мелких торговцев и ремесленников в черте оседлости в несколько раз превышало спрос, занятость была очень низкой, шла жестокая конкуренция за каждую копейку и кусок хлеба. (В маленьких городках и посадах вне еврейской черты на душу населения приходилось в три-четыре раза меньше ремесленников и торговцев, но их посреднических услуг вполне хватало). Военный коммунизм, отменив торговлю, поставил массу этого полунищего населения на грань гибели. Выживали те, кто нелегально все-таки торговал, рискуя быть расстрелянным без следствия и суда. Бессудный расстрел в Полтаве двух «спекулянтов» в 1920 году широко известен из писем В. Г. Короленко А. В. Луначарскому. Названы имена этих несчастных: Миркин и Аронов.[717] Тысячи таких же «спекулянтов» ушли из жизни безымянными. Какой процент из них составляли евреи, неизвестно, но можно не сомневаться, что очень большой. Крестьяне имели шанс припрятать часть хлеба; рабочие в городах, не говоря о партийно-советской элите, получали хоть какие-то продовольственные пайки. Местечковая «буржуазия» могла добывать хлеб только путем купли-продажи, а это автоматически делало ее «врагом революции». То есть врагом революции становился каждый, кто ел хлеб! Если бы военный коммунизм продлился еще два-три года, то весь этот слой населения просто бы вымер или был уничтожен.
В период нэпа частная торговля была легализована, но обороты были ничтожными по сравнению даже с дореволюционным уровнем. В реальной жизни это означало вот что:
«До революции экономическая жизнь местечка [Любавичи — исторический центр хасидизма] базировалась на двух факторах — лен, который здесь перерабатывался и отправлялся по железной дороге, и резиденция Ребе Шнеерсона. Он притягивал к себе хасидов со всего света, в их числе купцов, которые завозили сюда товары, нужные местному населению. Благодаря этому процветали ремесла, несмотря на презрительное [?] отношение к таким занятиям со стороны Ребе и его клики. Империалистическая и гражданская война подорвали экономический фундамент деревни. Лен не появился на рынке. Двор Ребе и гнездо хасидизма разорены. Большинство населения лишилось прежних источников существования. Началось обнищание населения».[718] В этой же справке местного большевистского функционера сообщается, что еврейская часть населения Любавичей за четыре года (1921-25) сократилась с 1302 до 967 человек, хотя нееврейское население росло.
То, что происходило в Любавичах, происходило повсюду. Большевистский функционер Юрий Ларин, считавшийся экономистом, свидетельствует:
«Для „лишних“ сотен тысяч людей, живущих еще в „доиндустриальном периоде“, остается одно из двух: или постепенно вымирать, или перейти к обработке пустующих земель [об этом ниже]… Постепенное вырождение местечкового еврейского населения действительно имеет место уже ряд лет… значительное уменьшение рождаемости среди евреев сравнительно с дореволюционным временем. Причиной служит, конечно, не какое-либо желание уменьшением семьи устранить дробление наследств (ибо у полунищей массы и наследовать нечего), а физическая невозможность хоть кое-как прокормить детей» (курсив Ю. Ларина. — С.Р.).[719]
Касаясь социального состава евреев России к моменту революции, Ларин приводит, по-видимому, вполне объективные данные.
«Из всего еврейского населения на помещиков, банкиров, фабрикантов, заводчиков и купцов первой гильдии с их семьями приходился всего один процент». «Собственно фабричного пролетариата было небольшое количество. Это те евреи, которые были заняты на фабриках в Минске, Гомеле, Витебске и других местах западной полосы. Их было всего 23 тысячи, а вместе с членами своих семей они составляли несколько более 2 % тогдашнего еврейского населения».[720] Еще два процента населения, указывает Ларин (точнее 2,2 процента), составляли крестьяне (потомки тех немногих, что удержались на земле в результате переселенческих экспериментов Николая Первого).
Из остальных 95 процентов еврейского населения 42 процента было занято в торговле, причем из них 34 процента были собственно торговцами и 8 процентов — служащими торговых заведений: приказчики, бухгалтеры и т. п., часто члены семьи или родственники хозяина. То есть это были мелкие торговцы, большинство из них не имели ни одного наемного работника или помощника, а остальные — не более одного-двух. 36 процентов были ремесленники — портные, сапожники, скорняки, жестянщики, печники, плотники, мебельщики. Две трети из них (23 процента) тоже были хозяевами и одна треть — подмастерья, по большей части члены семьи или родственники мастеров. 14 процентов составляли представители свободных профессий, причем к этой группе Ларин относил весьма разношерстную публику, от врачей, адвокатов, писателей до нищих, приютских [?], проституток, арестантов. (Три процента не учтены его статистикой).
Стараясь как-то закамуфлировать почти полное отсутствие «атакующего класса» среди евреев, Ларин, явно не по-марксистски, записывает в одну группу с промышленными рабочими всех работавших по найму: то есть торговых и конторских служащих, подмастерьев и прочих. С такой натяжкой ему удается отнести к категории «трудящихся и их семей» четверть еврейского населения. Впрочем, своя логика в этом была. «Трудовые элементы» — это те, кто после революции и гражданской войны мог вернуться к прежним профессиям и роду занятий. Для некоторых из них даже открылись дополнительные возможности: государственная служба, которая до революции была закрыта. Остальные же 75 процентов — «буржуазия». Мелкая, полуголодная, но абсолютно не пригодная к вступлению в светлое будущее, уготованное народу большевиками. Из этого «человеческого материал капиталистической эпохи» и предстояло «выработать коммунистического человека» методами «пролетарского принуждения во всех его формах, начиная от расстрела и кончая трудовой повинностью».[721]
К 1929 году в обработке «материала» были достигнуты грандиозные успехи. Понятно, что слой богачей был ликвидирован сразу же: тут расстрелом начинали и кончали. (Спаслись те, кто успел эмигрировать или скрыть свое прошлое). Но не этим достижением советской власти гордится Ларин: один процент — это такая малость, что не стоит и говорить. Подлинный успех состоял в том, что число рабочих и служащих среди евреев возросло почти вдвое (до 47 процентов вместо 25-ти), а число евреев-крестьян даже вчетверо — от двух до восьми процентов.
По великому закону, открытому Михайлой Ломоносовым, если что-то где прибавляется, то в другом месте должно убавиться. Именно это и происходило с евреями путем «пролетарского принуждения». «Доля самостоятельных торговцев», торжествовал Ларин, понизилась втрое — до 12 процентов, а группа «свободных профессий» усохла почти на треть — до 10 процентов (надо надеяться, не за счет врачей и писателей, но, увы, — и не за счет арестантов). Только в группе ремесленников успехи оказались относительно скромными — с 23 процентов их число сократилось до 20,8 процента. Недовыполнение плана было вызвано растерянностью большевистских идеологов перед этим специфическим слоем «человеческого материала». В кондовые марксистские мерки он не укладывался — какой-то кентавр: голова вроде бы вполне пролетарская, а туловище — заправского буржуя. Или наоборот. Ведь этот «человеческий материал» шил, кроил, строгал, красил своими мозолистыми руками — чем не пролетарий? Но — он сам договаривался с заказчиком; и инструмент у него был свой; и сырьем обеспечивал себя сам, добывая его черт знает откуда, то есть орудовал как заправский буржуин. От этой кентаврости «пролетарское принуждение» шло не столько по линии искоренения, сколько по линии сгона в артели и всякие кооперативы — для лучшего надзора и воспитания коллективистского начала.
Наиболее впечатляющие «сдвиги» больших слоев еврейское населения происходили в пространстве. С начала революции по 1928 год, сообщает Ларин, было «расселено» около миллиона евреев, а в следующее десятилетие предстояло «расселить» еще 600 тысяч. При общей численности в два с половиной — три миллиона речь шла о великом переселении народа! «Планов наших громадье» Ларин переводил на сухой язык экономиста-пропагандиста.
«Для хозяйственного развития СССР в целом такое расселение является выгодным. Уничтожается очаг хозяйственного застоя, нищеты и разложения, какими были западные города, искусственно переполненные людьми свыше потребности соответствующих районов. Перестанут пропадать бесплодно полезные навыки ремесленников и служащих обмена. Нуждающиеся в квалифицированных работниках местности СССР, поскольку не имеют готовых, смогут получить их без затраты многих лет и средств на подготовку. Больше будет в государстве производиться сельскохозяйственных продуктов (поскольку бывшие еврейские торговцы превратятся в земледельцев) и других полезных изделий, — вместо того, чтобы те же самые люди бесплодно толклись на одном месте „впятером около одной селедочной головы“, как сказано в одном рассказе» (курсив Ю. Ларина — С. Р.).[722]
Для хозяйственного развития было бы куда выгоднее развивать экономику тех самых городков и местечек бывшей черты оседлости, где томилась бездельем квалифицированная рабочая сила. Швейные, обувные, мебельные и подобные им фабрики могли бы поглотить значительную ее часть, не перегоняя за тысячи километров, где людей надо было обеспечивать хотя бы самым примитивным жильем, транспортом, школами, больницами, торговыми точками… Но тогда труднее было бы выжигать из сердец и умов привязанность к привычному укладу жизни, к национальным традициям, праздникам, к языку Библии, а, значит, и создавать из этого бросового материала «коммунистического человека». О том, как это делать, в России знали со времен николаевской рекрутчины. Опыт вполне пригодился, хотя и в подновленном виде.
«Хотя сейчас в России люди не умирают от голода прямо на улицах, как 1921-22 году, но в еврейских городках и местечках тысячи и тысячи семей медленно гибнут от физического и духовного истощения из-за нищеты и вынужденного безделья, без каких-либо надежд на будущее».[723]
Так в 1925 году было сказано в отчете Джозефа Розена, представителя в России американской благотворительной организации «Джойнт». (Отчет не был ни просоветским, ни антисоветским; он был составлен с сугубо практической целью: ознакомить руководство организации с положением дел, чтобы оно могло решить, как наиболее эффективно использовать пожертвования американских евреев).
Люди молодые и предприимчивые с надеждой переезжали в города (хотя бы это теперь стало возможным!), пристраивались на возрождавшихся заводах, фабриках, в учреждениях, ремесленных училищах и общеобразовательных школах, вузах, а некоторые открывали частные предприятия, что при нэпе тоже стало возможным. Но уже через год после введения нэпа «пролетарское принуждение» навалилось на частника непосильными налогами. Выжить он мог только при сокрытии доходов. Фининспектор стал грозой нэпмана — он был страшнее ГПУ, хотя и ГПУ не дремало. Любого нэпмана можно было схватить и судить по уголовной статье, он просто не мог не нарушать каких-то законов. Если нарушений найти не могли, статью все равно находили. Например, отец Эстер Маркиш Ефим Лазебников, вернувшийся при нэпе в Баку и открывший красильное предприятие, был арестован и осужден за дачу взятки в пять рублей![724]
Частники и их дети третировались как «деклассированные» элементы, лишенцы. Они были лишены избирательных прав (даже призрачных, советских), а вместе с ними — всех человеческих прав. Кто не помнит сарказма Ильфа и Петрова: «Пиво только членам профсоюза». Если бы только пиво! Лишенцев и их детей в последнюю очередь зачисляли в школы, в вузах для «бывших» была установлена норма: пять процентов при условии полной оплаты обучения. Их в последнюю очередь принимали на работу. Деклассированных евреев из местечек выжимали в города, но не предоставляли жилья, а коренных горожан, имевших квартиры, «уплотняли». Даже в больницы лишенцев клали в последнюю очередь — при наличии свободных мест (а их никогда не было). Медицинские показания значения не имели: жить или умереть без медицинской помощи — это решало клеймо социального происхождения.
«Мелкие торговцы в черте оседлости вряд ли заслуживали звание „деклассированных элементов“, так как большинство из них влачило полуголодное существование, но новый режим не проводил четких разграничений, — пишет Нора Левин. — Они числились „эксплуататорами“, как и евреи-ремесленники, которым приходилось не только изготовлять свою продукцию, но и продавать ее, а вдобавок, часть ремесленников работала не в одиночку, им помогали „эксплуатируемые“ члены семьи».[725]
В переписи населения 1926 года Нора Левин обращает внимание на то, чего Ларин «не замечает». В некоторых городках черты оседлости лишенцами были 60 процентов евреев. При выборах местечковых советов на Украине в 1926 году 81,5 процента лишенцев составляли евреи, а при выборах городских советов — 68,8 процента. Всего насчитывалось 830 тысяч лишенцев-евреев, то есть треть всего еврейского населения. (В среднем по стране лишенцев было шесть процентов).
Вопреки мнению Солженицына, что евреи получали поблажки и преимущества, как представители «бывшей угнетенной нации», ничего подобного не было. Эстер Маркиш вспоминает, как ее брат в 18 лет уехал из Баку в Москву «зарабатывать пролетарское происхождение». Он хотел стать журналистом, но должен был устроиться рабочим на фабрику для «официального перевоспитания», ибо «без „пролетарского настоящего“ нашего Шуру просто не стали бы печатать».[726]
Шуре повезло. В двадцатые годы из-за высокого уровня безработицы устроиться на фабрику было трудно даже пролетариям, а сыну бывшего коммерсанта — тем более. Правда, в Москве это было легче, чем в провинции. Джозеф Розен писал в отчете 1926 года:
«Теперь имеются реальные возможности, при содействии комиссариата труда и некоторых наших ремесленных училищ, устроить несколько тысяч еврейских рабочих на разные предприятия, обучив их на кратковременных курсах профессиям механиков, электриков, сантехников, печатников и т. п. Эти курсы также позволят повысить квалификацию рабочих, уже работающих на фабриках, давая им возможность роста и освобождая места для других».[727]
Розен называет Тулу, Калугу, Воронеж, Самару, Саратов, Казань, и указывает, что местные еврейские общины готовы организовать помощь мигрантам. Однако, по его словам, возможности для устройства в малых и средних городах были очень ограничены, «было бы неразумно стимулировать значительный приток в них евреев, хотя движение это заслуживает пристального внимания».[728]
Возможности были ограничены и другими причинами.
В Петрограде, в Военно-медицинской академии, расхвалив на ученом совете молодого физиолога Е. М. Крепса, одного из лучших учеников академика И. П. Павлова, его кандидатуру на оставление при кафедре проваливают тайным голосованием.[729] В Академии Наук академик С. Жебелев отказывает своему ученику Соломону Лурье пользоваться библиотекой, а за его спиной шепчет — тихо, но так, чтобы тот слышал: «Все мы виноваты в революции. Вот и я тоже — оставил еврея при университете».[730]
В Московском университете студентка куда-то засунула учебник политэкономии французского ученого Шарля Жида и говорит в сердцах: «Ну и растяпа же я! Куда это я дела моего Жида — никак не могу найти!» И тотчас насмешливая реплика: «Жида потеряла? А ты обернись вокруг — у нас в Москве жид на каждом углу». Это слышит студентка-еврейка Эстер Лазебникова. Ее реакция: «Мне оставалось возмущаться только „про себя“: университетское начальство не позволило бы устроить общественный суд над антисемитом».[731]
Это — на уровне яйцеголовых.
А вот как происходило по-простому, по-рабочему.
Поселок «Новка»: «Работницу еврейку Гиндину систематически преследовали в течение двух лет… На то место, куда она садилась, мастера часто клали расплавленное стекло, потешаясь над тем, как корчится Гиндина от невыносимой боли. Однажды ее опрокинули вниз головой в ящик, заголили тело и пустили на нее сильную струю воды… один из них [мастеров] — Забавленко — заставил Гиндину отвезти себя верхом в уборную и обратно».[732]
Городок Боровичи, обувная фабрика. «Несколько человек повалили [рабочего еврея] Гольбрайха на пол и пытались вымазать скипидаром его половые органы».[733]
«Рабочие строительства деревообделочного комбината Цивилько и Петрович бросили в глаза рабочему еврею Нейману кусок извести. Спустя короткое время Нейман ослеп».[734]
Комсомолец Ягуда Моисеев был чистильщиком сапог в Ташкенте, потом приобрел строительную специальность, работал в Коканде. «Помимо словесной травли хулиган Курчуев незаметно подкрался к Моисееву и поджег на нем рубашку. Никто из присутствовавших не пришел ему на помощь… Прошин и Никифоров стащили у Моисеева плащ и испражнялись на нем… Однажды Головин схватил Моисеева за волосы и потянул к себе через верстак. От боли Моисеев потерял сознание, а в руках Головина остался клок волос… Начальник района узрел в этом только взаимную драку и оштрафовал обоих по 2 рубля за нарушение общественной тишины».[735]
Астрахань. «В начале апреля 1929 года Астраханский суд вскрыл жуткую картину преследования двух рабочих-евреев на гортрамвае рабочими и служащими этого предприятия… комсомольцы Лавров, Кирпичников и Нестеров избивали своего товарища-еврея Падунского и плевали ему в лицо. Член партии Швецов кричал в пивной: „Жидовская рожа, плати!“ Коммунистка Мокеева заявила во всеуслышание в билетном отделе, где собралось много рабочих: „Вот насадили везде жидов, они и властвуют“ (всего в трампарке среди 600 рабочих — 4 еврея). Приговор суда (начиная от 1 г[ода] и 2 м[есяцев] заключения и ниже в отношении Швецова (член партии) и Писарева смягчили, учитывая их „революционные заслуги“».[736]
Автор цитируемой статьи подчеркивает, что приводит примеры, «случайно выхваченные из сотен подобных за один только месяц [1929 года]».
Учебные заведения Ленинграда. «Сообщения об антисемитских инцидентах поступали из Областного торгово-промышленного техникума, из Института коммунального хозяйства, из Ленинградских реставрационных мастерских, из Политехнического института, Химико-фармацевтического техникума, из Художественно-промышленного техникума при Академии художеств. В последнем студенты керамического отделения травили студента Левитана. Когда показательный суд выгнал из техникума двух братьев-зачинщиков, все их сокурсники, а так же другие студенты, подписали заявление с просьбой восстановить хулиганов».[737]
В одной из школ учительница обществоведения заявляет на уроке:
— Факт употребления евреями христианской крови в мацу можно считать установленным. Примером может служить дело Бейлиса.
— Но Бейлиса оправдали, — возражает кто-то из учеников.
— Присяжные были подкуплены.
Учительницу не поставили «вне закона», не упекли на Соловки. Вместо обществоведения ее нарядили преподавать литературу.[738]
А вот и питерский пролетариат, главная опора большевизма и пролетарского интернационализма: «Оскорбления и травля евреев, избиения на антисемитской почве стали, судя по прессе, обычными явлениями на заводах… Попытки добиться общественного осуждения антисемитов часто наталкивались на сопротивление. Когда хулиганов, избивших до потери сознания еврея-студента, вызвали в администрацию, на их защиту пришел весь курс. Административные меры наказания за антисемитизм на производстве общественной поддержкой не пользовались. Другое дело — антисемитский дебош, устроенный посреди улицы одиноким алкоголиком; в этом случае суд мог без проблем засадить дебошира в тюрьму и затем выслать на три года из Ленинграда».[739]
Вне Ленинграда, но в пределах губернии:
«В машинной школе Кронштадта партийные и комсомольские организаторы называли учащихся евреев не иначе как „жидовская морда“, на лесопильном заводе коммунист и бывший комсомольский руководитель Новиков откровенничал: „Евреи — самая вредная нация. Если бы я мог, я бы их сам собственными руками передушил до одного. На польском фронте я 900 евреев перестрелял“».[740] (Воевал, надо полагать, за красных; иначе трудно было бы ему стать коммунистом и комсомольским вожаком).
В Пскове, в рабочем общежитии завода «Металлист», 17-летний комсомолец Трофимов садистски измывался над своим соседом по комнате Леонидом Большеминниковым — при молчаливом одобрении остальных обитателей комнаты. Леонид старался приходить попозже и тотчас юркал в постель, закутывался в одеяло и молча сносил оскорбления, что, видимо, только распаляло юдофоба. После того, как Леонид пожаловался в заводоуправление, Трофимов пригрозил: «Убью!». Поздно вечером, когда Леонид, как обычно, юркнул в постель, Трофимов схватил топор и с криком «Убью!» два раза рубанул по одеялу. Увидев, что жертва еще шевелится, ударил третий раз. Затем спокойно умылся, переоделся и отправился в клуб — на танцы. При задержании объяснил: «Я его убил за то, что он жид».
Попытка использовать дело Трофимова для кампании против антисемитизма, провалилась. Выступавшие на митингах ерничали, предлагали наградить убийцу премией в тысячу рублей. Группа школьниц писала узнику нежные письма, посылала посылки. Девочки раздобыли фотографию героя и размножили ее, чтобы у каждой перед глазами был его лик. Вместо «вышки», положенной по закону, Трофимов был осужден на 10 лет лишения свободы, но «под давлением общественности» срок тут же был сокращен вдвое.[741]
О «райских условиях жизни» красноречиво повествует стихотворение В. Маяковского «Жид». Опубликованное в «Комсомольской правде» 15 июня 1928 года, оно перечитано заново В. Порудоминским, который отслоил пропагандистскую риторику от фактографической основы этого произведения, не блистающего артистизмом, но интересного для понимания духа времени.[742]
«Это слово [жид] слесарню набило доверха, / в день, когда деловито и чинно / чуть не насмерть „жиденка“ Бейраха / загоняла пьяная мастеровщина», — цитирует В. Порудоминский и, «припадая воспаленной губой к реке по имени „Факт“», поясняет: «Весть о „деле Бейраха“ выплеснулась на газетные полосы из Иванова-Вознесенска. Там, на одной из фабрик шесть мастеров-электриков долго, с садистской жестокостью измывались над 15-летним учеником-„жиденком“. Статья об этом в „Комсомольской правде“ от 22 февраля 1927 года так и называлась — „Жиденок“. „Бейраха, — цитирую одно из тогдашних изданий, — били руками, иногда драли ремнем, а потом стали раздевать и прижигать индуктором. Когда же он кричал и плакал, негодяи гоготали и пинали его сапогами. В стакан с чаем бросали окурки и требовали, чтобы „жиденок лакал“. Заколачивали ящик с инструментом дюймовыми гвоздями, клещи убирали, и, под раскатистый хохот, разбирая в кровь руки и обрывая ногти, Бейрах вручную должен был отдирать доски“… Кончилось тем, что мальчика едва не забили до смерти».[743]
Вот еще один перечитанный заново фрагмент: «Это слово [жид] шипело над вузовцем Райхелем, / царских дней подымая пыльцу, / когда „христиане“-вузовцы ахали / грязной галошей „жида“ по лицу».
«В строках о „вузовце Райхеле“ Маяковский допускает поэтическую вольность», — уточняет В. Порудоминский и поясняет, что галошей по лицу, чтобы не марать рук, «ахали» студентов-евреев в Харьковском геодезическом институте; а Аркадий Райхель учился в музыкальном техникуме, его «ахали» просто кулаками, под руководством секретаря парторганизации, который не терпел белоручек.[744]
Подробности автор работы (а в свое время — В. Маяковский) почерпнул из статьи в той же «Комсомолке»: «Письма с Украины. Антисемитизм в вузах». «Здесь находим весьма впечатляющую картину травли евреев-студентов. Мучители из числа молодых людей, устремленных к обретению высшего образования, поочередно сменяясь, не дают жиду спать, с каковой целью обливают его в постели холодной водой, будят ударами линейки по голове, колют пятки иглой кронциркуля. Беременную студентку-жидовку „расстреливают“ ударами футбольного мяча по животу».[745]
Как писал составитель сборника «Неодоленный враг» В. Вешнев, «антисемитизм в нашей стране — одно из позорнейших пережитков прошлого. К сожалению, у нас еще много темноты, бескультурья, в атмосфере которых держатся как это, так и другие уродливые явления: алкоголизм, хулиганство, религиозные предрассудки и проч. Со всеми ими мы ведем беспощадную борьбу».[746]
Но «беспощадная борьба» не давала эффекта, ибо власть осуждала преследование евреев на словах и насаждала на деле (как, кстати, и алкоголизм). «В ходе ликвидации НЭПа [и раньше, но в ходе ликвидации кампания усилилась] на скамью подсудимых то и дело попадали многочисленные петроградские [и московские, одесские, и т. д. ] евреи — торговцы, нэпманы, советские хозяйственники, о чем подробно сообщали газеты. Два месяца, с января по март 1927 г., в Губсуде слушалось дело „шоколадных фабрикантов“ Маггида и Рывкина, обвинявшихся в даче взятки банковскому служащему Шапиро и в сокрытии доходов. Некий Иоффе, председатель трудартели, был посажен за растрату. Правление артели, состоявшее из жен репрессированных „торгашей и нэпманов“, было разогнано».[747]
Митингов в защиту Маггидов и Рывкиных никто не устраивал, смягчения приговоров не требовал. «Многочисленные газетные материалы о „плохих“ евреях только подливали масла в огонь антисемитизма», — констатирует исследователь.[748]
Н. И. Бухарин, выступая в 1927 году на 24-й Ленинградской губернской партконференции, особо остановился на росте антисемитизма в стране.[749] Население Москвы и Ленинграда «не видит еврейских бедняков и рабочих, заполняющих западные губернии, а знакомо только с теми евреями, кто преуспел более других и вырвался в крупные города, то есть с нэпманами и интеллигенцией. Конкуренция в бизнесе, на рынке труда и в интеллигентских профессиях — вот что порождало антисемитизм, по словам Бухарина».[750]
Вполне марксистское объяснение, но очень далекое от реальности: хотя среди нэпманов было много евреев, лишь небольшая часть евреев была нэпманами. Их травили в газетах, воспроизводя снова и снова клишированный образ «жида» — жулика и стяжателя, а галошей по лицу «ахали» Райхилей и Бейрахов в рабочих и студенческих общежитиях, поджигали на них рубахи в трамвайных депо, сыпали известь в глаза на стройках. Такая «райская» жизнь «вместе» не многих устраивала. Их тянуло подальше от этого рая, «отдельно».
Землеустройство
Недолгий период военного коммунизма в советской России завершился тотальным голодом 1921 года. Принято считать, что голод поразил Поволжье из-за небывалой засухи; но засуха лишь усугубила разорение гражданской войны и продразверстки. Поволжье стало эпицентром голода, но откуда он расползся по всей стране.
«Никаким пером невозможно описать, что значит голод, с которым сталкиваешься в таком городе, как Одесса, где прямо на улицах валялись трупы — много человеческих тел, буквально умерщвленных голодом», — говорится в отчете, подытожившем первые результаты деятельности в России американской еврейской благотворительной организации «Джойнт».[751]
Организация «Джойнт» была создана в начале Первой Мировой войны — для помощи ее жертвам. Это была «организация евреев, собиравшая пожертвования среди евреев для помощи пострадавшим евреям».[752] Так определялся ее характер и задачи. Но когда Герберт Гувер, будущий президент США, а в то время министр торговли, отозвавшись на призыв Максима Горького, пригласил к участию частные благотворительные организации, в числе отозвавшихся был «Джойнт». В ассоциацию АРА (American Relief Association) вошло 12 благотворительных организаций. Каждая из них направила в Россию своего представителя, чтобы на месте следить за распределением грузов и средств. От «Джойнта» приехал доктор Джозеф Розен, высококвалифицированный агроном, человек с редкой деловой хваткой и высокими душевных качествами.
Розен был выходцем из России. Семья его эмигрировала в Америку в конце XIX века, когда он был еще подростком. Он получил превосходное образование, стал крупным бизнесменом и администратором; его ждали блестящая карьера, богатство, высокое общественное положение. Отказавшись от всего этого, оставив семью, он отправился — спасать людей.
С августа 1921 года по январь 1923-го «Джойнт» направил в Россию деньги и гуманитарные грузы на сумму более восьми миллионов долларов — огромная по тем временам сумма! Розену пришлось не только следить за тем, чтобы грузы и деньги шли по назначению, но, как агроному, заняться, пожалуй, наиболее ответственным делом — надо было не допустить повторения бедствия не следующий год. Угроза была реальной: посевной материал был съеден, пять миллионов акров земли (два миллиона гектаров) могли остаться незасеянными.
Узким местом оказалась разруха на транспорте. За остававшийся короткий срок завезти необходимое количество семян пшеницы — основной культуры Поволжья — было невозможно. Розен предложил дерзкий план, который оказался спасительным. Идея состояла в том, чтобы традиционные для Поволжья зерновые культуры по возможности заменить кукурузой. Кукурузу можно было сеять по май включительно, а не по март, как пшеницу, так что посевная страда удлинялась на два месяца, давая время для завоза семян. Да и самих семян кукурузы требовалось в несколько раз меньше по сравнению с пшеницей; это означало уменьшение поставок на 200 тысяч тонн. План был одобрен крупнейшим специалистом по семеноводству профессором В. В. Талановым (сподвижником Н. И. Вавилова) из Отдела прикладной ботаники и проведен в жизнь.
Когда основная миссия АРА завершилась, ее сотрудники вернулись домой, но Джозеф Розен остался в России. Он успел ознакомиться с положением еврейского населения бывшей черты оседлости и понял, что нельзя бросить его на произвол судьбы и большевистской власти.
Скромный и непритязательный человек, Розен не афишировал своей деятельности. Он неутомимо колесил по стране, терпя все сопутствующие лишения: холод, грязь, переполненные вокзалы, тысячи километров на попутных машинах и телегах, ночевки в степи — то в стогу, то в каком-то сарае, а то и под открытым небом. Скверное питание, клопы, вши, постоянная опасность заразиться тифом или подцепить другую инфекцию, и все это — по собственной доброй воле, без «пролетарского принуждения». Он заводил связи среди коммунистических бонз в центре и на местах, проявлял такт и дипломатическое чутье, чтобы преодолевать подозрительность и прямую злобу к козням «американского империализма».
Не располагая точными цифрами, которыми позднее оперировал Ю. Ларин, Розен гораздо яснее обрисовал социально-демографическое состояние еврейского населения. В 1925 году он указывал, что примерно пять процентов евреев занято в сельском хозяйстве; 10 процентов — специалисты, включая государственных служащих, 15 процентов — рабочие, ремесленники; и 70 процентов — торговцы, кустари, «продавцы воздуха».
Об ужасном экономическом положении еврейского населения власти хорошо знали. Вот что говорил «вице-президент Советской республики» П. Г. Смидович представителю «Джойнта» Дэвиду Брауну, посетившему его в 1924 году.
«За все годы, что еврей подвергался ограничениям в [царской] России, у него не было возможности заниматься чем-либо, кроме посредничества; с приходом революции еврей сразу лишился и возможности заниматься своим делом, и средств к существованию; правительство само занимается производством товаров первой необходимости и торговлей ими. Правительство России сознает, что на данном этапе эта его деятельность приносит большие лишения [еврею], и готово помочь изменить нынешнее ненормальное экономическое положение еврея».[753]
Заметив, что Смидович — не еврей, Браун называет свою встречу с ним исторической. Историчность этой и подобных встреч разъясняет Розен:
«Нынешнее земельное законодательство в России точно определяет категории граждан, имеющих право на получение земельных наделов от государства. К первой категории относятся крестьяне, а бывшие торговцы — к самой последней. Это автоматически лишило бы подавляющее большинство евреев возможности когда-либо получить землю. По представлению Комзета[754] правительство издало особое постановление, касающееся только евреев, в котором специально указывалось, что при царском режиме евреям не разрешалось селиться на земле, и они не могли иметь в своей среде класса крестьян; потому еврейские торговцы и ремесленники, которые полны желания взять земельные наделы для их культивирования силами собственных семей, при наделении их земельными участками приравниваются к категории крестьян».[755]
Иначе говоря, удалось добиться того, что при «окрестьянивании» евреев они в правовом отношении приравнивались к крестьянам. Вот и все «привилегии» бывшей угнетенной нации!
Розен сосредоточил основные усилия именно на «окрестьянивании» — не только потому, что сельское хозяйство было его стихией. Он объяснял:
«Процесс индустриальной реконструкции в России в настоящее время состоит в основном в открытии фабрик и заводов, которые были закрыты в годы гражданской войны и революции. Естественно, что когда эти фабрики открывают, предпочтение отдается тем, кто раньше на них работал».[756] То есть основной массе евреев при этом светило немного (а в какую мясорубку попадали те, кто все-таки устраивался на заводы, фабрики, стройки, мы видели).
Иное дело — земля. Говоря о преимуществах земледелия перед другими видами занятий, Розен указывал на целый ряд факторов. Первый, и главный: никакой или почти никакой зависимости от рынка. (Что такое «социалистический» рынок, он уже хорошо представлял). Главное, чего хочет семья, это прокормиться, а удастся ли ей продать излишки урожая, и по какой цене — это вопрос вторичный. Другое важное преимущество: поселенцы сами создают для себя рабочие места, они в этом отношении ни от кого не зависят. В-третьих, из деклассированных лишенцев, отбросов общества, они становятся полноправными гражданами — в той мере, в какой можно было говорить о праве в стране бесправия. И, наконец, советское правительство, поддерживало проект. Оно предоставляло землю, льготные железнодорожные тарифы для переезда и перевозки скарба, даже небольшие денежные кредиты, хотя львиную долю их давал «Джойнт».
Что же до наличия потенциальных переселенцев, то Розен опасался, что волна желающих его захлестнет. Он должен был принять меры, чтобы ее сдержать. Было объявлено, что каждая семья должна внести по триста-четыреста рублей своих собственных денег. Розен знал, что это несправедливо: ведь таким образом отсекались самые обездоленные. Но иного выхода не было. Да и необходимо было поставить заслон людям несерьезным — готовым попробовать, а затем сбежать при первых трудностях или неудачах.
Откуда взялась земля для еврейской колонизации?
Розен объясняет, что надо отдельно рассматривать Западную и Восточную часть тогдашнего юга России-Украины. На западе — Киевщина, Подолия, Волыния — плотность населения высокая; крестьяне малоземельны, рабочих рук избыток, поэтому помещичью землю исторически обрабатывали местные крестьяне (веками как крепостные, а затем — как наемные рабочие). В революцию они расхватали и поделили всю помещичью землю. Что касается восточной части — Херсонщина, Днепропетровская (Екатеринославская) область, Северный Крым, — то там сельское население редкое, местных рабочих рук мало, поэтому в страду помещики, владевшие большими массивами земли, завозили сезонников из других мест. После революции местные крестьяне и здесь разобрали помещичью землю, но не всю, а сколько кто способен был обработать. Значительная часть земли осталась бесхозной и уже ряд лет не обрабатывалась. Советская власть хотела поскорей пустить ее в оборот, но, по возможности, не за свой счет!
Розен призывал руководство «Джойнта» не медлить и не скупиться, так как с каждым годом свободной земли оставалось меньше. Он говорил о переселении за три года 20–30 тысяч семей, то есть 100–150 тысяч человек, что, по его оценке, составляло примерно 15 процентов всех деклассированных евреев бывшей черты оседлости.
«Агро-Джойнт», как стала называться организация Розена, развернул огромную работу. Надо было обследовать землю на предмет ее пригодности и определения очередности заселения. Надо было выявить наличие питьевой воды (одно из узких мест) и приступить к рытью колодцев. Надо было определить юридический статус земельных участков, поступавших в бесплатное пользование поселенцев, но остававшихся собственностью государства; провести четкое размежевание участков, во избежание будущих тяжб между соседями; функции товариществ по совместной обработке земли и отношения между ними и индивидуальными хозяйствами.[757] Были созданы учебные животноводческие фермы, курсы механизаторов. Надо было прокладывать дороги, рыть землянки для пионеров, а затем строить дома для их семей, завозить лесоматериалы. Новым поселениям нужны были школы, больницы, какие-то культурные заведения.
Как бы то ни было, а результат был ощутимый. Если сразу после революции крестьянствовало два процента евреев, то на 1925 год Розен называет пять процентов, а на 1929 Ларин дает цифру 8 процентов, 200 тысяч человек. Солженицын ставит эту цифру под сомнение, но она неплохо согласуется с данными Розена. Близки и данные американского исследователя Цви Гительмана: на 1928 года число евреев-крестьян достигло 220 тысяч, после чего стало снижаться.[758]
«Программа еврейского земледелия осталась практически безуспешной», — считает Солженицын, а причины неудачи видит в том, что «для многих поселенцев не было побуждений оставаться. Ведь само переселение (и постройка домов) производилось по приказу сверху и за счет западных организаций» (т. II, стр. 46).
Это не совсем верно, если не сказать — совсем неверно. Переселение, безусловно, было принудительным, но не по приказу сверху, а из-за голодных, бесправных и бесперспективных условий существования, которые власть намеренно усугубляла. Потому побуждения переселяться и оставаться «на земле» были очень велики. Кто-то, конечно, не выдерживал, но массового оттока до коллективизации не было.
«Планов громадье» предусматривало распашку 100 тысяч гектаров земли, поселение на ней 500 тысяч евреев и создание на территории Северного Крыма и Днепровских плавней Еврейской Автономной Республики. Предусматривалось даже осушение Сиваша для новых поселений. Кроме всего прочего, Еврейская республика в Крыму выставлялась как советский противовес сионизму.
Но в конце 1920-х годов Крыму был противопоставлен Биробиджан.
До причин этой «смены вех» нелегко докопаться, но главное можно обозначить. Один из факторов — антисемитская пропаганда, без конца муссировавшая то, что «жидовская власть» отдает евреям «лучшие земли», а те обрабатывают ее не сами, а нанимая батраков. То и другое было ложью, ибо лучшие и самые удобные земли разобрали местные крестьяне, а за тем, чтобы наемного труда в еврейских колониях не использовалось, власти следили с особой бдительностью: каждый «сигнал» проверялся грозными ревизиями и никогда не подтверждался. Но слухи нервировали власть, о чем говорит хотя бы то, как решительно и подробно они опровергались в книге Ю. Ларина и в советской печати того времени.
Второй фактор выявляется ретроспективно: товарищ Сталин не одобрял идею еврейского Крыма, хотя до поры до времени помалкивал, наблюдая за ходом событий.
Третий фактор — стратегические соображения. Южная часть Восточной Сибири представляла собой совершенно незащитимую территорию — леса и болота, с очень редким населением, без дорог и опорных пунктов. Тогда как по китайскую сторону границы территория была густо заселена, освоена, контролировалась японскими войсками, и «самураи» не шибко таили своих намерений «перейти границу у реки».
Огромная научная экспедиция — 180 ученых разных специальностей! — обследовала Северный Кавказ, целинные земли северного Казахстана, район Аральского моря. Все эти земли были более пригодны для сельскохозяйственного освоения, чем болотистая тайга Сибири, с сорокоградусными морозами зимой, наводнениями летом, и гнусом, способным замучить до смерти человека и лошадь. Тем не менее, выбор пал на Биробиджан, что активно поддержал наркомат обороны.[759]
Касаясь стратегических соображений, Солженицын указывает еще на один мотив, тайный: «вклинить советско-верное население во враждебном казачьем краю» (т. II, стр. 247). Он убежден, что лишенцы из умирающих еврейских местечек были преданы советской власти больше всех остальных групп населения! Мне кажется, что когда Александр Исаевич сам был предан советской власти, он думал об этом прямо противоположным образом.[760]
Энтузиасты крымского проекта встретили новое начинание в штыки, но их обвинили в левом уклоне и в национализме. М. И. Калинин, недавний энтузиаст крымского проекта, стал еще большим энтузиастом Биробиджана. Советский противовес сионизму перемещался на Дальний Восток. Именно там предстояло создать очаг еврейской государственности: Еврейскую автономную область (провозглашенную в 1934 году), а в перспективе — автономную республику. Под бойкими перьями пропагандистов речка Бира наполнилась млеком, Биджан — медом, а их слияние обрело черты горы Сион с сияющим храмом на вершине.
Пропаганда велась по всему миру, и дала некоторый эффект. Уверовав в социализм с человеческим еврейским лицом, в Биробиджан приехали молодые энтузиасты из многих стран — несколько сот, может быть пара тысяч человек. Большинство из тех, кто не успел убраться восвояси, потом загремели в ГУЛАГ. Но не все. В 1978 году, когда я был в Биробиджане, мне порекомендовали встретиться с местной достопримечательностью — колхозным бригадиром, Героем Социалистического Труда, тогда уже пенсионером. Это был бодрый и энергичный старик. Я не запомнил его имени, но то, что он рассказал, помню хорошо. Он приехал из Аргентины в 1931 году. Со своей выдающейся бригадой он ставил рекорды — то ли надоев, то ли урожаев, за что был удостоен всевозможных наград и званий. Он рассказал, между прочим, о том, что недавно ездил к себе на родину, в Аргентину, провел там полгода, неся благую весть о том, как хорошо в стране советской жить. В общем, правильный был человек. Дважды еврей Советского Союза, как называли таких уникумов остряки.
В Биробиджан ежегодно прибывало в восемь-десять раз меньше переселенцев, чем планировалось властями. Прибывали они целыми семьями, с немощными стариками и малыми детьми на руках.[761] Их негде было селить; из-за нехватки инструмента и общей неразберихи — нечем занять. («Агро-Джойнт» в проекте не участвовал).
Переселенцы везли и скот, если у кого была коза или лошадь, но в первую же зиму почти весь скот погиб от сапа. Люди жестоко страдали от холода, дизентерии, других болезней. 20–30 процентов (по некоторым данным больше пятидесяти) уезжало в первый же год; в иные годы уезжало больше людей, чем приезжало. В 1937 году стали брать евреев из руководящего слоя области. Это побудило бежать тех, за кем еще не успели придти. Столь шумно начатая кампания заглохла, приток евреев практически прекратился. Он несколько оживился после войны, когда евреи, избежавшие Холокоста, но потерявшие своих близких, свои жилища, и нередко, при возвращении на пепелища, враждебно встречаемые бывшими соседями, от полной безысходности ехали в Биробиджан. Поток этот был небольшим и скоро иссяк.
Когда я впервые познакомился с материалами о еврейской «автономии», а потом там побывал, то был удивлен, что Биробиджан все-таки существует, что это не фикция. Там были улица Шолом-Алейхема, двухэтажные дома грязно-зеленого цвета, учреждения, редакция газеты, гостиница, в которой я смог переночевать на чистой простыне благодаря звонку из этой редакции, а наутро, в окно, выходившее на базарную площадь, увидел маленькую согбенную еврейку, продававшую курицу старику-еврею. Оба не торопились разойтись, вели задушевную беседу…
Проект переселения евреев на землю окончательно загубила сплошная коллективизация. Судя по книге Ю. Ларина, изданной в год великого перелома, даже он (уж насколько осведомленный человек) не подозревал о том, что грядет. Евсекция тоже была застигнута врасплох. Не разобравшись в ситуации, С. Диманштейн заикнулся о том, что в «национальных сельхозрайонах» следовало бы повременить со сплошной коллективизацией, за что был обвинен в национализме. Вероятно, то была последняя капля, побудившая Сталина разогнать Евсекцию, а затем ликвидировать ее бывшее руководство.
Еврейские поселенцы испытали на себе все то, что принесла коллективизация крестьянству. «Многие евреи-фермеры отказывались вступать в колхозы, отказывались выращивать урожай, зная, что государство его заберет. Скот резали, чтобы не сдавать его в колхоз. Начался значительный отток населения из колоний, ставших колхозами. Вместе с коллективизацией проводилась „интернационализация“. Еврейские и нееврейские колхозы насильственно объединяли — поощряли переселение не евреев в еврейские поселения и наоборот».[762] По оценке Цви Гителмана, к началу войны число евреев-крестьян уменьшилось более чем вдвое. Все же евреи-крестьяне не исчезли полностью; в конце 1960-х мне довелось навестить дальних родственников в «еврейском» колхозе в Джанкое.
Одновременно с ликвидацией единоличных крестьянских хозяйств был ликвидирован НЭП. Деклассированные, лишенные прав нэпманы стали «бывшими» и из ведения фининспектора полностью перешли под опеку ГПУ. Началась «золотуха».
«Исследователи, потрясенные бессовестным, кровавым концом НЭПа, почти упустили из виду окончательную расправу над ним — „золотуху“, — вспоминала Эстер Маркиш. — Всех не успевших умереть собственной смертью или быть убитыми нэпманов решено было вновь посадить и „трясти“ до тех пор, пока они не отдадут утаенное в прошлом золото, ценности или деньги».[763]
Кампания охватила всю страну, тысячи, десятки тысяч «лишенцев» и нэпманов похватали и «трясли». О масштабе этой акции живо говорит хотя бы описание того, как Эстер Маркиш искала арестованного отца: «Площадь перед тюрьмой была черна от народа — словно бы праздник какой здесь проводили или ярмарку, или устроили центр черного рынка». Эстер Маркиш вспоминает, как ГПУшник требовал от нее:
«— Твой отец во всем признался! Он сказал — у него вот такие мешки с золотом! Где империалы? Ты привезла империалы?
— Ах, так! — закричала я и почти в истерике. — Если мой отец скрывал свое золото от семьи — ведите его сюда! У нас есть только рояль, мамино кольцо и золотые часы…
У мамы была еще нитка орлеанского жемчуга, но я про эту нитку ничего не сказала — она мне очень нравилась.
— А нитка орлеанского жемчуга!.. Что же ты ничего нам о нем не рассказываешь? Нитка на тридцать зерен!».[764]
Вопреки А. И. Солженицыну, среди тех детей и тех родителей, которых советская власть «трясла» в двадцатые годы, евреи были представлены очень густо — во много раз гуще, чем в советском руководстве. И то же было в тридцатые годы. И в сороковые. И во все остальные — до самого скончания советской власти, вырабатывавшей «коммунистического человека из материала капиталистической эпохи». Евреи оказались для этого наименее пригодными, потому и подвергались наиболее жесткой обработке, «начиная от расстрелов». А когда пошел попятный ход — к капитализму, — козлами отпущения снова стали евреи. Подтверждений тому много, самых разных. В числе других — книга А. И. Солженицына «Двести лет вместе».
Евреи в ливреях
По Солженицыну, евреи доминировали в большевистском руководстве, и особенно — в карательных органах советской власти, «густо окрашивая» все репрессивные кампании. Особенно этим полны две главы — 18-я («Двадцатые годы») (т. II, стр. 198–277) и 19-я («В тридцатые годы») (т. II, стр. 278–328). Вместе они охватывают 130 страниц, то есть четвертую часть второго тома. В них мелькают сотни еврейских имен — целыми проскрипционными списками. Только расстрелянных или доведенных до смерти и самоубийства высокопоставленных чекистов в конце тридцатых годов, то есть в годы Великого террора, перечислено полсотни (т. II, стр. 295–296). За ними следует вдвое больший список репрессированных партийных, военных, дипломатических, хозяйственных деятелей, который автор называет «мартирологом многих и многих евреев на верхах» (т. II. стр. 300–301). При этом подчеркивается, что сталинские чистки не носили антиеврейского характера: евреев оказалось так много среди репрессированных, потому что до этого их было слишком много в руководящем аппарате. Они-де двадцать лет терзали Россию, а потом и сами поплатились. За что боролись, на то и напоролись.
Картина действительно жуткая. И только мелким шрифтом, без логической связи с основным текстом, прорывается удивительная статистика. Оказывается, во все 30-е годы, «по недавно опубликованным данным, в местных органах госбезопасности, без ГУГБ [Главного управления ГБ], служило 1776 евреев (7,4 %)» (т. II, стр. 293). (Следует ссылка отнюдь не на «еврейский» источник).[765]
Но 1930-м годам предшествовали 1920-е. Как обстояло дело в первое советское десятилетие?
«Отсутствие квалифицированных специалистов в карательных органах создавало на всем протяжении 1920-х годов особые проблемы в ВЧК-ОГПУ», — отмечает автор наиболее полного исследования этого вопроса Л. Кричевский, указывая, что одна из «особых» проблем — «отсутствие необходимого количества лиц, преданных революции и одновременно имеющих достаточный уровень хотя бы общего образования».[766]
Приводя выписки из художественной и мемуарной литературы, Л. Кричевский показывает, насколько широко было распространено мнение о господстве в карательных органах инородцев — особенно латышей, в меньшей мере евреев и поляков. Он цитирует поэму Сергея Есенина «Страна негодяев», в которой главным «негодяем» выведен комиссар Чекистов, чья настоящая фамилия — Лейбман.
«Горький, вообще считавшийся юдофилом, — продолжает автор исследования, — очень болезненно воспринимал рост антисемитских настроений в послереволюционной России и одну из причин этого видел в сотрудничестве евреев в органах ЧК. В мае 1922 г., в интервью корреспонденту нью-йоркской социалистической газете „Форвертс“ Якову Лещинскому Горький сказал: „Я верю, что назначение евреев на опаснейшие и ответственнейшие посты часто можно объяснить провокацией, так как в ЧК удалось пролезть многим черносотенцам,… реакционные должностные лица постарались, чтобы евреи были назначены на опаснейшие и неприятнейшие посты“».[767]
Буревестник тут явно «загнул». Его теория черносотенного заговора, по которой евреев намеренно заставляли чинить расправу над русским народом, чтобы вызвать антисемитизм, вполне достойна теории жидо-масонского заговора. Тем более что тайные черносотенцы, якобы пробравшиеся в руководство ЧК, до сих пор не обнаружены.
В свете приведенных мнений Л. Кричевский озадачен тем, что «большое участие евреев в органах ЧК» не нашло заметного отражения в мемуарах тех, кто побывал в их лапах, но вырвался из них. Таковы известные нам историки и публицисты Г. Аронсон, С. Мельгунов, его жена П. Мельгунова-Степанова. Она даже особо отмечала, что органы «захватили» латыши, и евреям туда путь перекрыт. Л. Кричевский не доверяет таким сведениям, полагая, что «антибольшевистски настроенные социалисты, члены партий с весьма заметным членством еврейской интеллигенции»[768] занижали участие евреев в карательных органах, так как в их среде «подобное обращение к „еврейской теме“, вполне вероятно, могло вызвать „непонимание“».[769]
А подобное обращение к «латышской теме» вызывало понимание?
Теория тоже странная, показывающая, как трудно избавляться от шор стереотипных представлений. Поэтому, не доверяя теориям, слухам, воображению поэтов, пристрастной памяти мемуаристов, обратиться к цифрам, благо в исследовании Л. Кричевского их предостаточно. Мне эта статистика не кажется скучной — надеюсь, она не утомит и читателя.
Вот данные на сентябрь 1918 года. В аппарате ВЧК в Москве 781 сотрудник. Евреев 29, то есть 3,7 процента, латышей 278 — действительно многовато для маленького народца, оставшегося за пределами советской территории. Но значительно больше половины — русские.
Правда, в руководящем слое карателей инородцев больше половины: 116 латышей, 19 поляков и 19 евреев — из общего числа 220. Объясняется это низким образовательным уровнем рабоче-крестьянской России. Не могли же занимать руководящие должности те, кто едва мог расписываться. Впрочем, и в этом слое евреи составляли только 8,6 процента — в три раза меньше, чем русские и в шесть раз меньше, чем латыши.
Статистика показывает, что в дальнейшем довольно долгое время относительная численность карателей «правильной национальности» неизменно росла, число латышей убывало, а число евреев оставалось примерно одинаковым. Вот сводные данные по 32-м губерниям на лето 1920 года: общее число чекистов 1805, из них русских 1357 (75,2 процента), латышей 137 (7,6 процента), евреев 102 (5,6 процента). В конце того же года русских 77,3 процента, евреев 9,1 процента.
На 15 ноября 1923 года в руководстве ОГПУ — русских 54, евреев 15, латышей 12. При этом 14 евреев (почти все!) имеют среднее и высшее образование, из русских же таких 28, то есть чуть больше половины. Очевидно, что предпочтение при продвижении наверх отдавалось братьям-славянам. Аналогичны данные по более поздним годам. На первое мая 1924 года в составе центрального Аппарата ОГПУ русских 1670 — почти 70 процентов общего числа, а вместе с украинцами и белорусами — больше трех четвертей; евреев же 204, то есть 8,5 процента (общее число — 2402).
Несколько иными были пропорции в руководстве центрального аппарата после преобразования ОГПУ в НКВД. Справочник «Кто руководил НКВД. 1934–1941»[770] содержит почти исчерпывающие данные об этом, — правда, очень небольшом — слое аппарата карательной системы. За семь лет его численность удвоилась — с 95 до 184 человек, — и одновременно происходили изменения его возрастного, социального, национального состава, образовательного ценза и т. п. Проследить за этой динамикой — значит многое понять.
Число евреев от 37 человек в 1934 году сократилось до 10, зато число русских возросло с 30 до 118, украинцев — от 5 до 28, грузин — от 3 до 12-ти. Как видим, утверждение Солженицына о том, что чистки не имели антиеврейской направленности, не подтверждается, хотя пятый пункт был не единственным критерием обновления аппарата.
Другими критериями были неудачное (не рабоче-крестьянское) происхождение, принадлежность в прошлом к другим партиям; очищался аппарат также от коммунистов с дореволюционным и ранним послереволюционным стажем. Даже долгий опыт работы в ЧК-ОГПУ был негативным фактором: старых опытных чекистов заменяли новичками. В целом же руководство НКВД интенсивно освобождалось от ненадежных, по советско-сталинским понятиям, элементов, а заменяли их молодыми рабоче-крестьянскими кадрами преимущественно славянского племени.
Не последнюю, но и не ведущую роль в этом процессе играл уровень образования. Он был удручающе низок. В 1934 году из 95 руководящих (!) работников НКВД 39 имели начальное и еще 40 — среднее и незаконченное среднее образование. Только 15 человек окончило вузы или поучилось в высшей школе два-три года. К 1941 году число лиц с начальным образованием уменьшилось ненамного: из 39 осталось 35. (Видимо, этот слой имел безукоризненное пролетарское происхождение, недавний партийный стаж и — правильную национальность). Но относительно их количество сократилось серьезно: ведь общая численность аппарата удвоилась. Значит, при пополнении состава предпочтение отдавалось более образованным кадрам.
Уместно напомнить, что, как ни жестоко обращалась советская власть с народом, но одного у нее не отнимешь — стремления вывести массы из вековой темноты и невежества. Как нам уже приходилось указывать, до революции подавляющее большинство русских крестьян и рабочих не умело ни читать, ни писать, ни расписываться. Линия на всеобщую грамотность, затем на всеобщее семилетнее, десятилетнее образование советская власть проводила в жизнь не так успешно, как о том трубили в победных реляциях, но — проводила. Число вузов тоже увеличивалось, и прием в них расширялся — конечно, не за счет лишенцев, а за счет рабоче-крестьянской молодежи. Для подготовки ее к учебе в вузах действовали рабфаки. К концу тридцатых годов власть уже могла себе позволить при наборе карателей учитывать и уровень образования.
Итожа, можно сказать, что в первые два десятилетия советской власти участие евреев в карательных органах примерно соответствовало или было несколько ниже их процента в городском населении страны (восемь процентов), из которого преимущественно черпались кадры чекистов; в руководящем слое численность евреев была более высокой, примерно соответствуя их пропорции в слое людей с высшим и средним образованием — в среднем около 15 процентов. Только когда НКВД возглавлял Генрих Ягода (1934–1936), число евреев в руководстве зловещего ведомства перешагнуло 30 процентов. Этот период длился всего два года. На смену ему пришла ежовщина, при которой размах террора достиг апогея, и большая часть вчерашних палачей сама стала жертвами. Ягоду пристегнули к «правотроцкистскому блоку» Бухарина. Он должен был «признаваться» не в тех реальных преступлениях, которые творил по указке Сталина (да, видать, не слишком усердно), а в мнимых — в отравлении Менжинского, Куйбышева, Горького, в других самых фантастических злодействах.
К 1941 году евреев в руководящем слое НКВД осталось немного: 10 из 184. В дальнейшем, за единичными исключениями, они уже больше там не появлялись. Но и в течение всех лет советской власти, при большем или меньшем участии евреев, латышей, поляков, грузин, иных инородцев, доминирующее положение в карательном аппарате занимали русские.
Сказанное о карательных органах в большей или меньшей степени приложимо к верхнему слою всего государственного и общественного организма. Доминирующее или главенствующее участие в нем евреев — это фикция, в равной мере оскорбительная и для русских, и для евреев. Доминировали, конечно, русские. Но и евреев в ливреях было более чем достаточно. Обусловливалось это двумя основными факторами, уже не раз отмечавшимися: высоким уровнем урбанизации еврейского населения в аграрной стране и относительно высоким уровнем образования в стране почти сплошной безграмотности и малограмотности. В Белоруссии, например, евреи в 1930 году составляли около девяти процентов населения, но 36 процентов рабочих (это отмечает и Солженицын). Высокий уровень образования, накладываясь на традиционно более интенсивное стремление к образованию, определял значительную долю евреев в партийно-государственном аппарате, в слое так называемых хозяйственников, в науке, технике, литературе, искусстве, в других интеллигентских профессиях. Природная или освященная вековой традицией склонность к некоторым видам деятельности обусловливала относительно большую концентрацию в этих сферах и меньшую — в других. Среди врачей евреев было больше, чем среди агрономов, среди экономистов — больше чем среди военных, портных и сапожников — больше, чем металлистов, шахматистов больше чем футболистов; среди музыкантов евреев всегда было значительно больше, чем среди живописцев.
Как оценить их деятельность в условиях ленинско-сталинской диктатуры? Все, что делали евреи и не евреи «в ливреях», так или иначе, шло на укрепление режима. Но под режимом-то корчились и страдали живые люди, с реальными потребностями: жить, работать, растить и учить детей, и даже — петь «песни советских композиторов», пока иных песен ни сочинять, ни петь не дозволялось. Евреи и не евреи «в ливреях» спасали народ от тифа и дифтерии, поднимали из руин промышленность, разрабатывали проекты электростанций и линий электропередач, строили жилье, прокладывали дороги, выводили продуктивные сорта сельскохозяйственных растений и скота, создавали научные школы, осваивали Крайний Север и Дальний Восток — и при этом клеймили «врагов народа», развивали «самое передовое учение», славили «великого вождя и учителя», использовали рабский труд зэков.
Мудро была устроена советская тоталитарная система! Ни в какой сфере деятельности ни одна личность, особенно творческая, не могла даже частично реализовать себя, не идя на какие-то сделки с системой. Где пролегает черта между нравственно допустимыми уступками «диктатуре пролетариата» и обрывом в лакейство, подлость, доносительство, соучастие в кровавых преступлениях? Картина неоднозначная, многоцветная, дальтонику ее не разглядеть, тем более — не нарисовать.
Деятелям культуры Солженицын особенно не дает спуску, выдергивая, как обычно, евреев из общего ряда. Словно популярные песни И. Дунаевского писались не на стихи В. Лебедева-Кумача, и словно не такие же агитки сочиняли Новиков, Захаров, даже Шостакович. С В. П. Соловьевым-Седым у Солженицына вышел даже конфуз. Борис Кушнер, превосходный знаток музыкальной культуры (в частности, и советской песенной), замечает:
«Не угодил Василий Павлович [Соловьев-Седой] Александру Исаевичу и оказался таки в евреях! Во втором томе „200 лет вместе“, перечисляя еврейских композиторов-песенников (Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, братья Даниил и Дмитрий Покрассы, Оскар Фельцман, Ян Френкель, Владимир Шаинский — неплохая компания) поминает Солженицын не тихим и не добрым словом и Соловьёва-Седого (стр. 321): „А ведь помимо песен талантливых — сколько ж они все настукали оглушительных советских агиток в оморачивание и оглупление массового сознания, — и начиняя головы ложью, и коверкая чувства и вкус?“ Что же — был и такой грех, на ком греха нет, при преступном тоталитарном режиме особенно. Пусть г-н Солженицын в Душу свою заглянет — без греха ли сам? Может быть, и, наверное, поменьше тех, кого он уничтожает словесно, но да разве вовсе уж без греха? Да ведь жили вместе и грешили вместе! А здесь на позор стотысячного тиража одна еврейская половина выведена. Когда думаю я о Шостаковиче, то ведь не „Над Родиной нашей Солнце сияет“ и не „Родина слышит, Родина знает“[771] вспоминаю… И Анатолий Новиков не „Гимном демократической молодёжи“[772] и не „Маршем коммунистических бригад“[773] (кстати, обе „агитки“ талантливо написаны) мне дорог. Сколько слёз пролито было над удивительной его песней „Эх, дороги…“.[774] А „Смуглянка“,[775] „Вася-Василёк“?[776] Как любили их фронтовики, как любят ветераны… Огромного таланта был Мастер. А „Соловьи“ Соловьёва-Седого?[777] Песню „Калина Красная“ многие считают народной. А в ней только слова народные, музыка же — Яна Френкеля… Евгений Светланов посвятил памяти В. Шукшина симфоническую поэму „Калина красная“, в которой разрабатывается мелодия Френкеля. И — уже из недавних лет — от детей моих — вопрос Солженицыну: чем не угодил ему Крокодил Гена, поющий по Шаинскому[778] Акцент у крокодила не тот?»[779]
Как это ни удивительно (а, по сути, очень логично), но даже диссидент Александр Галич пришелся не по нраву Александру Исаевичу. Хоть и признает он, что песни Галича принесли «несомненную общественную пользу, раскачку общественного настроения» (т. II, стр. 449), но выволочку поэту устраивает великую. И псевдонимом посмел выбрать «имя древнего русского города, из глубинного славянского запаса» (т. II, стр. 448). И неправильно «осознавал свое прошлое, свое многолетнее участие в публичной советской лжи» (т. II, стр. 450). И память коротка у Галича на «те 20 лет, когда не в Соловках сидело советское еврейство — а во множестве щеголяло „в камергерах и в Сенате“!» (т. II, стр. 452). И в том, что «сочинил свою агностическую формулу, свои воистину знаменитые, затрепанные потом в цитатах и столько вреда принесшие строки: „Не бойтесь пекла и ада, / А бойтесь единственно только того, / Кто скажет: „Я знаю, как надо!““ Но как надо — и учил нас Христос…» (т. II, стр. 451). (Не могу не заметить в скобках, что именно Солженицын — творениями последних лет в особенности — демонстрирует, насколько опасны те, кто уверен, что «знает, как надо!»; черпают ли они свое «знание» у Христа, Магомета, или Ленина-Сталина — не суть важно). Ну, а главный грех Галича, оказывается, в том, что его сатира «обрушивалась на русских, на всяких там Климов Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость досталась им в подчеркнутом „русопятском“ звучании, образах и подробностях, — вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц — больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением (которого мы-то и достойны, увы!)» (т. II, стр. 452).
По всем статьям проштрафился Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) перед Александром Исаевичем Солженицыным: посильнее, чем Михаил Зощенко и Анна Ахматова перед Андреем Андреевичем Ждановым. Их, по крайней мере, не обвиняли в русофобии и прикрытии еврейских фамилий глубинным славянским ресурсом!
Но вернемся к карательной системе ленинско-сталинской диктатуры — с нею все гораздо яснее, чем с неоднозначным творчеством Соловьева-Седого или Блантера, или поэтов, на чьи стихи они писали свои песни. «Железные Феликсы» не дали народу ничего, кроме миллионов загубленных жизней. Все прямые участники чекистских злодеяний должны быть названы поименно, и мера вины каждого должна быть определена с возможной полнотой. Поздно уже судить их уголовным судом, но суд истории не знает срока давности. Судить надо всех — без дискриминации по национальному или какому-либо иному признаку. Только тогда можно надеяться на то, что подобное не повторится.
Не таким путем идет Солженицын. Из тысяч и тысяч преступников он выковыривает исключительно еврейские имена. Прекрасно зная, что репрессии обрушивались на евреев в такой же, а в иные периоды и в гораздо большей степени, чем на не евреев, он, тем не менее, вяжет весь еврейский народ круговой порукой, возлагая на него вину за всех карателей.
В тюремных бушлатах
Ну, а как на счет караемых — тех, кто вместе с самим Солженицыным прошел через мясорубку ГУЛАГа, чему в его книге посвящена отдельная, правда, не очень объемная глава? (т. II, стр. 330–342). Вот ее зачин.
«Если бы я там не был — не написать бы мне этой главы.
До лагерей и я так думал: „наций не надо замечать“, никаких наций вообще нет, есть человечество.
А в лагерь присылаешься и узнаешь: если у тебя удачная нация — ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил! Если общая нация — не обижайся.
Ибо национальность — едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный корпус придурков. Всякий лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что национальные соотношения среди придурков далеко не соответствовали национальным соотношениям в лагерном населении. Именно прибалтийцев в придурках почти совсем не найдешь, сколько бы ни было их в лагере (а их было много); русские были, конечно, всегда, но по пропорции несомненно меньше, чем их в лагере (а нередко — лишь по отбору из партийных ортодоксов); зато отметно сгущены евреи, грузины, армяне; с повышенной плотностью устраиваются и азербайджанцы, и отчасти кавказские горцы». (т. II, стр. 330, курсив автора).
А. И. Солженицын. Лагерное фото
Солженицын в лагерной теме первый авторитет, но все-таки ведь не единственный. О советских тюрьмах и концлагерях целая библиотека написана, но не встречал я таких «придурочных» наблюдений ни у Варлама Шаламова, ни у Евгении Гинзбург, ни у Льва Разгона, ни, например, у Михаила Розанова, автора двухтомного исследования о Соловках,[780] ни даже у Ивана Солоневича,[781] одного из пионеров этой темы и — воинственного антисемита. У самого Солженицына в трехтомном «Архипелаге» — книге, несомненно, великой, но неровной, — содержится много всякого, в том числе такие пассажи о евреях, которые ныне с энтузиазмом цитирует американский расист Дэвид Дюк, новоявленный разоблачитель всемирного еврейского заговора.[782] В Америке его книгу не замечают как бред сумасшедшего, а в России она стала бестселлером, вошла в основной поток (main stream) общественного сознания (что немало говорит о состоянии этого сознания). Но даже Дюк не отыскал в «Архипелаге ГУЛАГ» ни малейшего намека на то, что «спасительный корпус придурков» отбирался по национальному признаку, — а то не преминул бы процитировать.
Более 20 лет я знаком с Семеном Юльевичем Бадашом, живущим в Германии врачом и журналистом, бывшим зэком, автором небольшой, но очень содержательной книги «Колыма ты моя, Колыма…». В ней, между прочим, читаем: «В бригаде Панина ходил зэк-нормировщик, постоянно с папочкой нормативных справочников, — это был Саша Солженицын».[783]
В то время как еврей Бадаш вместе с другими зэками на сорокаградусном морозе долбил окаменевшую глину и лопатами, в две-три перекидки, выбрасывал ее из котлована, Александр Исаевич в теплой конторке вел учет этой работе. Нормировщик он, видимо, был хороший, потому что скоро был произведен в бригадиры.
С. Ю. Бадаш
А С. Ю. Бадаш, человек редкой скромности, был не просто лагерником, а активным участником лагерного сопротивления. В Экибастузе он был одним из организаторов забастовки и голодовки зэков, за что мог бы быть и прикончен, но был «всего лишь» этапирован в Норильск. Там снова участвовал в восстании заключенных, снова чуть не погиб, но был «только» этапирован на Колыму. Вот что написал мне Семен Юльевич (в добавление к тому, что опубликовано в его книге) в электронном послании от 7 января 2003 года:
«В Степлаге, в Экибастузе, придурком был Дмитрий Панин — бригадиром, который пристроил прибывшего А. С[олженицына] на должность нормировщика. К моменту нашей забастовки и голодовки зимой 1951/1952 года А. С. был уже на придурочной должности бригадира. (Об этом он признавался в своем „АГ“). Последний год его пребывания в Экибастузе мне неизвестен из-за этапирования в Норильск. Помимо обоих русских: Панина и Солженицына, был еще русский бригадир (придурок) по фамилии Генералов. Придурком был русский врач Панченко [позднее С.Ю. уточнил, что фамилия врача была Янченко] в санчасти, который якобы должен был его [Солженицына] оперировать по поводу „рака“. Были еще другие русские на придурочных работах, в процентном отношении [это] соответствовало их численности в лагере. Ибо от 60 до 75 % во всех Особых лагерях были западные украинцы, которые принципиально не шли на придурочные работы. Евреи были тоже на придурочных работах, но в соответствии с их общей численностью в лагере — 1 %. Всегда и везде этот 1 % — и в Экибастузе, и в Норильске, и на Колыме.[784]
В Экибастузе было два „повторника“, отсидевших в 30-е годы свои сроки и взятые повторно, — евреи: Матвей Адаскин, нарядчик, и Гиндлин в КВЧ. Был еще в придурках Яша Готман — зубной врач, инвалид войны, который начал работу после того, как моя мама, по моей просьбе, из Москвы прислала ему весь полагающийся для работы зубоврачебный инструмент. Ни одного бригадира-еврея не было. Два барака заселяли одни русские, с отличительными номерами на одежде КТР — каторжане, имевшие все сроки по 20 лет каторги по указу В[ерховного] С[совета] от 1943 года за прислужничество оккупантам: [бывшие] полицаи, бургомистры. У них были свои бригадиры из русских. Остальные русские с обычными четырьмя номерами составляли русские власовцы или служившие в плену в эсэсовцах (у них в подмышке были полагающиеся в СС татуировки с группой крови)».[785]
Это письмо С. Ю. Бадаша было написано, а мною процитировано еще до того, как он (и я) ознакомились с полным текстом второго тома,[786] а потому мы понятия не имели, что Семен Юльевич как раз и выведен Солженицыным в качестве характерного лагерного придурка-еврея.
Читаем во втором томе:
«Экибастузский мой солагерник Семен Бадаш, в своих воспоминаниях рассказывает, как он устроился — позже, в норильском лагере — в санчасть: Макс Минц просил за него рентгенолога Ласло Нусбаума просить вольного начальника санчасти. Взяли. Но Бадаш, по крайней мере, кончил на воле три курса медицинского института.[787] А рядом с ним остальной младший медперсонал: Генкин, Горелик, Гуревич (как и мой приятель Л. Копелев, Унжлаг) — и не касались той медицины никогда прежде» (т. II, стр. 331).[788]
Так как я давно и хорошо знаю книгу С. Ю. Бадаша, то, прочитав это, я не поверил своим глазам. Все могут короли — это понятно, но зачем же так подставляться? У Бадаша говорится:
«Ткачуки связываются с хирургом Омельчуком, имеющим вес у начальника санчасти вольной Евгении Александровны Яровой, и просят повлиять на нее, чтобы меня взяли на работу в больницу, как своего из казахстанских бунтовщиков. Одновременно и Макс Минц через рентгенолога Ласло Нусбаума просит поговорить обо мне с начальницей. Через месяц я получаю разрешение на работу в санчасть в 4-м лагпункте. Среди медперсонала, кроме Омельчука и Нусбаума, — Генкин, Раймасте, Горелик, Гуревич».[789]
Как видим, черным по белому написано: поступить в санчасть еврею Бадашу помогли три украинца Николай и Петр Ткачуки и Омельчук, а окончательно решила вопрос Яровая, скорее всего, тоже украинка. Помогло ли ходатайство еще и Минца-Нусбаума, неизвестно, хорошо, что не повредило. Именно на этот отрывок ссылается Солженицын, но препарирует его на свой лад.
Как старатели промывают песок, уносимый потоком воды, чтобы собрать выпавшие в осадок крупицы золота, так и Солженицын промывает текст своего солагерника, дабы избавиться от пустой нееврейской породы. Таким методом написаны все тысяча сто страниц его историко-научного труда, но здесь этот метод предельно обнажен.
Прием работает не только по отношению к самому Бадашу, но и к остальному норильскому медперсоналу. Откуда Солженицыну известно, что перечисленные им придурки-евреи к медицине отношения не имели и пристроились в санчасть исключительно по протекции других евреев? В книге Бадаша ничего подобного не говорится, а другими источниками Александр Исаевич не располагает. Бадаш написал мне об этом «цитировании»:
«Я перечислил в своих воспоминаниях и ряд работавших в больнице зэков. Омельчук — украинец, блестящий хирург, после освобождения начальство Норильского комбината просило его остаться на работе в Норильске. Реймастэ — эстонец, старый опытный фтизиатр, кончивший много лет назад Тартуский университет. Рентгенолог пожилой Ласло Нусбаум — венгерский еврей, в Будапеште имел большую практику. Горелик — не еврей, а чех, из города Простеев. Саша Гуревич — еврей — киевлянин, специалист по рентгенотехнике (работал с Нусбаумом). Генкин — московский врач, еврей, по специальности гинеколог, но за отсутствием женщин работал общим врачом на амбулаторных приемах».[790]
Солженицын не только вытравил из цитируемого текста все нееврейские фамилии и объевреил чеха, — он опозорил всех названных им лиц, хотя ничего о них ему неизвестно. На поверку-то выходит, что все они имели медицинское образование и опыт работы и, вероятно, многим зэкам спасли жизнь! Откуда же такая злоба к людям, которых он никогда не встречал, не видел и не слышал? Они провинились только одним — своими еврейскими фамилиями.[791]
В книге Бадаша о медицине и медперсонале много говорится именно в главе об Экибастузе, но ее Солженицын полностью обошел, хотя он сам там был, ему и карты в руки. Бадаш пишет, что мечтал работать по своей будущей специальности, но медперсонал встретил его в штыки, как возможного конкурента. В результате он стал «санинструктором», то есть, работая в бригаде зэков киркой и лопатой, имел при себе чемоданчик с медицинским набором для оказания первой помощи. Так же и два врача, Корнфельд и Петров, вкалывали на общих работах и носили чемоданчики с красным крестом. А прием больных вел некто Шубартовский — «не медик, а ксендз», который, «зная латынь и будучи человеком грамотным, устроился в амбулаторию».[792]
Солженицыну все эти люди и обстоятельства известны; если бы в тексте Бадаша было хоть слово неправды, он бы ему не спустил. Но об этом — гробовое молчание. По книге Бадаша, соответственно ее препарируя, он строит нужные ему умозаключения о Норильском лагере!
Ну, а если сопоставить нынешний текст Солженицына с тем, что раньше писал он сам?
«С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые все-таки нет-нет, да держатся же какого-то писаного закона. Тут владеют вами — придурки пересылки. Тот хмурый банщик, который придет за вашим этапом: „Ну, пошли мыться, господа фашисты!“; и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет; и тот выбритый, но с чубиком воспитатель, который газеткой скрученной себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки; и еще другие неизвестные вам пересылочные придурки, которые рентгеновскими глазищами так и простигают ваши чемоданы, — до чего ж они друг на друга похожи! и где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? — не таких чистеньких, не таких приумытых, но таких же скотин мордатых с безжалостным оскалом?
Ба-а-а! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утесовские УРКИ! Это же опять Женька Жоголь, Серега-Зверь и Димка-Кишкеня, только они уже не за решеткой, умылись, оделись в доверенных лиц государства и С ПОНТОМ наблюдают за дисциплиной — уже нашей. Если с воображением всматриваться в эти морды, то можно даже представить, что они — русского нашего корня, когда-то были деревенские ребята, и отцы их звались Климы, Прохоры, Гурии, и у них даже устройство на нас похожее: две ноздри, два радужных ободочка в глазах, розовый язык, чтобы заглатывать пищу и выговаривать некоторые русские звуки, только складываемые в совсем новые слова» (курсив мой. — С.Р.).[793]
Может быть, это про специфический тип лагерей — пересыльные?
Но вот и они самые, истребительно-трудовые:
«Особенным образом подбираются те зонные придурки, от кого зависит питание и одежда. Чтоб добыть те посты, нужны пробойность, хитрость, подмазывание: чтоб удержаться на них, — бессердечие, глухость к совести (и чаще всего еще быть стукачом)… Неслучайно именно сюда назначаются начальством все бывшие свои люди, то есть посаженные гебисты и эмведешники. Если уж посажен начальник МВД Шахтинского округа, то он не будет валить леса, а выплывет нарядчиком на комендантском ОЛПе УсольЛага. Если уж посажен эмведешник Борис Гуганава („как снял я один раз крест с церкви, так с тех пор мне в жизни счастья не было“) — он будет на станции Решеты заведующим лагерной кухней. Но к этой группе легко примыкает и совсем казалось бы другая масть. Русский следователь в Краснодоне, который при немцах вел дело молодогвардейцев, был почетным уважаемым нарядчиком в одном из отделений Озерлага. Саша Сидоренко, в прошлом разведчик, попавший сразу к немцам, а у немцев сразу же ставший работать на них, теперь в Кенгире был завкаптеркой и очень любил на немцах отыгрываться за свою судьбу. Усталые от дня работы, едва они после проверки засыпали, он приходил к ним под пьянцой и поднимал истошным криком: „Немцы! Achtung! Я — ваш бог! Пойте мне!“».[794]
Густо, я бы даже сказал, сгущенно представлена тема придурков в «Архипелаге». Но писана — совсем другими красками. Что произошло с глазом, с палитрой художника? Каким образом мордовороты «русского нашего корня» и прочие Саши Сидоренки преобразились в евреев? Или секрет в том, что «Архипелаг ГУЛАГ» — это художественное исследование, а «Двести лет вместе» — научное?
Присмотримся же еще к этой науке. С. Ю. Бадаш пишет:
«Прибыли мы в Норильск осенью 1952 года. Организованное нами восстание [в Норильске „придурок“ Бадаш участвовал еще в одном бунте зэков!] было в мае 1953 года. Потом этап „норильских повстанцев“ на Колыму. В Магадан в трюме парохода мы прибыли в августе 1953. Следовательно, в больнице в Норильске я работал всего не более 7–8 месяцев [из семи лет в ГУЛАГе]».[795]
А Солженицын?
«Архипелаг — это мир без дипломов, мир, где аттестуются саморассказом. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать? … Я при перегоне меня в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву, — с порога же, прямо на вахте, соврал, что я нормировщик… Младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун… исподлобным взглядом оценил… мое галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо мое с прямодышащей готовностью тянуть службу, задал пару вопросов о нормировании (мне казалось — я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня Невежин с двух слов) — и уже с утра я за зону не вышел — значит, одержал победу. Прошло два дня, и назначил он меня… не нормировщиком, нет, хватай выше! — „заведующим производством“, то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров!».[796]
Хватка у автора «Архипелага» была железная. Значительную часть своего тюремного срока он сумел продержаться в круге первом ГУЛАГовского ада, в шарашке, где зэки выполняли относительно непыльную, то есть придурочную (на лагерном жаргоне) работу. Попал он туда, потому что развесил чернуху не хуже того ксендза: школьный учитель математики выдал себя за ученого, физика-атомщика. Чтобы удержаться подольше, он и в сексоты записался — под кличкой Ветров (хотя пишет, что ни на кого не настучал, чему нет причин не верить). А когда все-таки не удержался, соскользнул в Экибастуз, то и там сумел недурно (придурно!) зацепиться: нормировщиком, бригадиром, даже раковым больным.
Об этих штрихах своей лагерной биографии Солженицын рассказал сам, я напоминаю о них здесь не для того, чтобы ставить ему лыко в строку. Есть любители это делать — я не из их числа. Переходить в полемике на «личности» — последнее дело: не этично и не профессионально. Да и какое у меня право попрекать каторжника тем, что онвыжил в таких условиях, какие мне разве что снились в кошмарных снах — под впечатлением от его же книг!
Но он атакует личности, много личностей. Указующим перстом буравит своих бывших друзей, знакомых и незнакомых, живых и мертвых, нередко возводя и заведомую напраслину на людей одной с ним судьбы, а часто более тяжкой, потому что многие из них отбывали более долгие сроки, в куда более трудных условиях, и вели себя куда менее придурно. У них он со страстью золотоискателя выискивает каждую соринку в глазу, не видя оглобли в собственном.
Как же это осенило А. И. Солженицына сортировать и лагерных придурков по пятому пункту — через столько-то лет и после тысяч им же написанных на данную тему страниц!? И не слишком ли кстати поставлены в ряд с евреями кавказские народы («кавказцы», по сегодняшней терминологии). Неужели мало той ненависти к кавказцам, какая и без того сейчас разлита по России — чуть ли не в большей степени, чем к евреям!
Однако не всех зэков-евреев Солженицын гребет под придурочную гребенку! Он признает, что бывали в лагерях и «хорошие» евреи. Для них припасен не только кнут, но и пряник. Повезло «генетику Владимиру Эфроимсону, который из 36 месяцев своего заключения (одного из своих сроков, у него было два) провел 13 на общих, и тоже из принципа (он имел возможность устроиться). Полагаясь на посылки из дому (но в этом нет укора) [нет укора! — С.Р.], он взял тачку именно потому, что в Джезказгане было немало евреев-москвичей, и они хорошо устраивались, а Эфроимсон хотел развеять недоброжелательство к евреям, которое естественно возникало. И как же бригада оценила его поведение? — „Да он просто выродок еврейского народа; разве настоящий еврей будет тачку катать?“ Смеялись над ним и евреи-придурки (да и досадовали, что „выставляется“ в укор им)» (т. II, стр. 337).
Не разомлеешь от такой ласки! Невольно вспоминается: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»
В. П. Эфроимсон
Покойного В. П. Эфроимсона я знал: общался с ним с перерывами почти двадцать лет. Он принадлежал к той редкой породе людей, которые до старости сохраняют наивное, детское восприятие мира.
Мы ведь жили в искалеченном обществе, состоявшем сплошь из придурков, — они были не только в лагерях, но и в Большой Зоне. Все мы придуривались — кто больше, кто меньше; одни нехотя и с отвращением, другие с энтузиазмом, но все жили по лжи. «Сосед ученый Галилея был Галилея не глупее: он знал, что вертится Земля. Но у него была семья» (Е. Евтушенко). Была семья! Да и без семьи — многим ли была охота лезть на рожон! Тех, кому в какой-то момент придуриваться становилось невмоготу, ждали тюрьма, психушка или эмиграция.
Так вот, в этом обществе придурков Эфроимсон сохранял абсолютное нравственное и психологическое здоровье. С колоссальной энергией этот большой ребенок боролся за возрождение генетики, загубленной лысенковщиной. Казалось, что он не понимал, в каком обществе живет, и уж точно не принимал придурочных правил игры. Он наивно верил в то, что все беды — от незнания. Надо только объяснить, раскрыть людям глаза, просветить их, и все станет на место.
Впервые я его увидел, думаю, году в 1961-62-м, в Доме журналистов, на дискуссии о молекулярной биологии (эвфемизм, заменявший крамольное слово «генетика»). После первого или второго оратора на сцену выскочил и забегал по ней невысокий, очень энергичный очкарик с ярко выраженной еврейской внешностью и, сильно горячась, заговорил о колоссальном вреде, который лысенковщина наносит науке, медицине и сельскому хозяйству. Он говорил о мировом опыте, который игнорируется, об инициативе, которая подавляется, о подтасовках и фальсификациях, которые не дают публично разоблачить.
Когда отведенные по регламенту десять минут истекли, председательствовавший Михаил Васильевич Хвастунов (он возглавлял отдел науки «Комсомольской правды» и был председателем секции научной журналистики в Союзе журналистов), поднялся во весь свой могучий рост, но Эфроимсон продолжал бегать по сцене, не замечая его. Постукивание по графину тоже не произвело никакого действия, и тогда Хвастунов остановил оратора.
Владимир Павлович от неожиданности опешил, прервался на полуслове и, оглядывая зал с какой-то чисто детской просительной надеждой, сказал, что он только начал говорить. МихВас развел руками: регламент есть регламент! Но тут раздался из зала голос сидевшего рядом со мной Ярослава Голованова:
— Дайте же человеку сказать, он двадцать лет молчал!
Застывший от напряжения зал грохнул. Хвастунов постоял еще пару секунд, улыбаясь, и сел, а Эфроимсон продолжал бегать по сцене и выкладывать свои разоблачения еще минут двадцать.
В «Комсомолке» была подготовлена полоса о художествах Лысенко, она была одобрена и вот-вот должна была появиться. Голованов предвкушал, как прямо ночью поедет в академический дом, где жил Лысенко, и опустит свежий номер газеты в его почтовый ящик. Но… Были приняты контрмеры, полоса не появилась, а в каком-то супер-партийном журнале, то ли «Коммунист», то ли «Партийная жизнь», появилась скулодробительная статья о поднявших голову «формальных генетиках», подрывающих единственно правильное мичуринское учение. Назывались имена Ж. А. Медведева, В. П. Эфроимсона и, кажется, еще В. С. Кирпичникова.
Владимир Павлович, с которым мы иногда пересекались в Ленинке (я собирал материалы для книги о Н. И. Вавилове, а он, если не ошибаюсь, для своего — потом ставшего классическим — труда «Введение в медицинскую генетику»), говорил:
— Понимаете, мы работаем по четырнадцать часов в сутки, а они все это время заняты интригами. Как же мы можем их победить!
Когда лысенковщина пала, он не стал закрепляться на отвоеванном плацдарме, как другие генетики, а снова пошел против официоза — своими еретическими, бросающими вызов марксизму публикациями о генетической обусловленности социального поведения, этики, эстетики и т. п. Помню бурное обсуждение одной из его статей на эти неудобные темы, кажется, в Малом зале ЦДЛ, и чисто эфроимсоновский ответ на вопрос из зала — вполне доброжелательный: являются ли его взгляды общепризнанными в науке, или это только гипотезы? Подумав несколько секунд, Владимир Павлович сверкнул сквозь очки своими выразительными глазами и, пристукнув рукой по трибуне, победным голосом сказал:
— Значит, так! Намордник на меня пока не надели!
Одна из наших последних встреч была года за два до моего отъезда из страны. Он позвонил и попросил приехать для важного разговора. Он жил у станции метро «Проспект Вернадского», в хорошей квартире, но в ней царил фантастический беспорядок. У него недавно умерла жена, он чувствовал себя одиноко и скверно. В этот вечер впервые в наших с ним разговорах всплыла на минуту еврейская тема — в своеобразном, чисто эфроимсоновском аспекте. Он сказал возмущенно:
— Представляете, обо мне распускают слухи, что я собираюсь уехать в Израиль! И мне известно, что это исходит не из лысенковских кругов! А что мне делать в Израиле? Там есть прекрасные генетики!
(Его травила группа академика Н. П. Дубинина, крупного ученого, но ловкого политикана. После Лысенко он захватил монопольное положение в генетике, с чем Эфроимсон не мог мириться).
Несмотря на плохое самочувствие, во Владимире Павловиче клокотала энергия:
— Я двигаю пять проектов! Главный — «Генетика и педагогика». Если такую книгу я напишу сам, ее прочтут десять тысяч. А если ее напишете вы, прочтут сто тысяч.
Он предлагал мне соавторство, считая, что я смогу подать его идеи в более популярной и занимательной форме, чем он сам. Я уже отошел от проблем биологии, писал исторический роман о Кишиневском погроме («Кровавая карусель»), но отказывать Владимиру Павловичу не хотелось. Договорились, что я прочту его черновую рукопись, и после этого дам ответ. Мы засиделись до половины третьего ночи. Не прерывая разговора, Владимир Павлович все это время энергично рылся в бумагах. Но нужную папку так и не нашел!..
Был бы это другой человек, я мог бы заподозрить, что он зазвал меня к себе для разговора под благовидным предлогом, страдая долгими вечерами от одиночества. Но от Эфроимсона даже такой невинной хитрости ожидать было невозможно. Он был наивен и беззащитен, как состарившийся ребенок.
И вот Солженицын отдает ему должное — переводит из евреев-придурков в евреи-выродки! Это не хлыст, а пряник! Это средняя линия. Шаг вправо, шаг влево, считается побег, конвой стреляет без предупреждения…
На войне как на войне
Символом непримиримости СССР к гитлеровской Германии и всем фашистским режимам в 30-е годы служил «ливрейный» еврей, нарком иностранных дел Максим Литвинов (Макс Валах). (Правда, сам себя он евреем не считал). С трибуны Лиги Наций и при всякой возможности он разносил нацизм и фашизм, не давая спуску и западным демократиям за их бесхребетность, готовность к уступкам и сговору. Он, конечно, лишь озвучивал политику партии и правительства во главе с товарищем Сталиным, не подозревая, что за его спиной как раз и готовится смертоносный сговор красных с коричневыми.
Литвинов был удален, чтобы стало возможным расстелить ковровую дорожку перед Риббентропом. Опального наркома хотя бы не тронуло ведомство Берии. С командой его, в которой евреи были представлены гуще, чем в других ведомствах, церемонились меньше. Приняв портфель, Молотов заявил, что разгонит «эту синагогу», после чего многие дипломаты из высоких наркоминделовских кабинетов были спущены в подвалы Лубянки. Чистка дипломатического корпуса была необходима, чтобы Риббентроп почувствовал себя в Кремле, «как в кругу старых партийных товарищей».
Договорились в считанные часы.
Гитлеру была отдана на съедение западная часть Польши, Сталину — восточная. И еще три прибалтийские страны. И Бесарабия, которую «добровольно» должна была уступить Румыния. И Финляндия. (Ею красный диктатор поперхнулся — но тут уж не Гитлера и Риббентропа была вина). При этом Гитлер ввязывался в Большую Войну против западных союзников Польши, а Сталин оставался в стороне. Словом, выгодная была сделка «для диктатуры пролетариата» — с какой стороны не погляди. Не понял кремлевский горец лишь того, какого страшного джинна выпустил из бутылки. При его прикрытии с тыла Гитлер расколошматил западных союзников, овладел большей частью Европы и всей этой мощью обрушился на кремлевских товарищей, поправ только что заключенное соглашение.
В России до сих пор мало осознается, что Вторая Мировая война была начата не 22 июня 1941 года, ровно в четыре часа, а почти на два года раньше, ровно через неделю после подписания пакта Риббентроп-Молотов, включая секретные протоколы, наличие коих Москва потом отрицала полвека. Таким образом, прямую ответственность за развязывание самой кровопролитной войны в истории человечества Москва почти поровну делит с Берлином. В войне участвовала 61 страна с населением 1,7 миллиарда человек и с общей численностью вооруженных сил — 110 миллионов, среднее «мобилизационное напряжение» составляло 6,5 процента. В воюющих странах тогда проживало 15–15,5 миллионов евреев, а в армиях служило 1 миллион 685 тысяч, или 11–12 процентов еврейского населения. Это значит, что в пересчете на сто тысяч жителей евреев воевало почти вдвое больше, чем не евреев.
Эти данные мною почерпнуты из статьи И. Подрабинника и источников, на которые он ссылается.[797] Ф. Д. Свердлов, приводит несколько меньшие, но близкие цифры. По его данным, в войсках стран антигитлеровской коалиции воевало 1 миллион 400 тысяч евреев, но в это число не включены десятки тысяч бойцов сопротивления в союзных Гитлеру и оккупированных им странах.[798]
Советско-германский театр войны был, конечно, самым напряженным. По данным М. Штейнберга и цитирующего его Подрабинника, в Советской армии сражалось 34 миллиона 477 тысяч человек из 200-миллионного населения, то есть 17 процентов. Но так как огромные территории были захвачены врагом до проведения мобилизации, то реальное «мобилизационное напряжение» следует раскладывать не на все 200 миллионов жителей СССР, а на меньшее число. М. Штейнберг оценивает его в 20 процентов. То есть воевал каждый пятый житель не оккупированной части страны.
Такую же методику подсчета М. Штейнберг применил к еврейскому населению СССР. По его данным, в советских войсках служила 501 тысяча евреев (167 тысяч офицеров и 334 тысячи солдат). Общая численность еврейского населения, включая только что приобретенные территории, составляла 4,8 миллиона, но половина его осталась погибать под нацистской оккупацией. Те, кому удалось уйти или остаться вне зоны досягаемости врага, составляли 2,4 миллиона — из них и было мобилизовано полмиллиона, то есть несколько больше 20 процентов.
А. И. Солженицын признает, что цифра в 500 тысяч воинов-евреев является «общеупотребительной», но оспаривает ее достоверность (т. II, стр. 362). Для него высший авторитет — это «Военная энциклопедия» (пиетет к энциклопедиям красной нитью проходит через двухтомник). Она оценивает число воевавших евреев в 434 тысячи. Но общее число советских участников войны, согласно этому источнику, — 30,3 миллиона человек, а не 34,5 миллиона, так что пропорция примерно такая же (т. II, стр. 363).
Общее число погибших советских воинов — 8 миллионов 668 тысяч: 25 процентов личного состава. А из пятисот тысяч евреев погибло 198 тысяч — почти сорок процентов. Это по данным Подрабинника-Штейнберга. По данным Ф. Д. Свердлова, воевало меньше евреев — 430 тысяч, а погибло больше — 205 тысяч, то есть почти каждый второй.
Наиболее полные данные об отличившихся в боях собраны Ф. Д. Свердловым. Общее число награжденных за боевые заслуги составило 9 284 199 солдат, офицеров и генералов. В их числе русских — 6 миллионов 173 тысячи. Украинцев — 1 миллион 171 тысяча, белорусов — 311 тысяч, евреев — 161 тысяча. «Возьмем калькулятор и определим, сколько же награждено на 100 тысяч человек каждой национальности, — пишет Ф. Д. Свердлов. — Подсчитал — и глазам не поверил. Евреев — 7 тысяч, русских 5415, украинцев 4624, белорусов 3936. Представителей всех остальных национальностей гораздо меньше».[799] Обработав отдельно данные о Героях Советского Союза, исследователь получил такие результаты: русских — 8736, украинцев — 2176, белорусов — 331, евреев — 157; а при пересчете на сто тысяч населения: русских — 7,66; евреев — 6,83; украинцев — 5,88; белорусов — 4,19. Евреи на втором месте, лишь очень немного уступая «коренной нации».[800]
Между тем, Сталин еще в 1941 году жаловался, что «евреи — плохие солдаты». А в начале 1943-го начальник Главного Политуправления А. С. Щербаков (он же кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС, заместитель министра обороны, один из застрельщиков антисемитской политики) не постеснялся инструктировать: «Награждать представителей всех национальностей, но евреев — ограниченно».[801] Понятно, как такие сигналы отражались на составлении наградных списков и на их продвижении по инстанциям.
27 июня 1941 года — пятый день войны на советском фронте. Летчик Исаак Зиновьевич Прейсазен направил свой подбитый самолет на вражескую танковую колонну и уничтожил большое скопление живой силы и техники немцев. Сам, конечно, погиб. Накануне такой же подвиг совершил Николай Гастелло, но Прейсазен еще не мог о нем знать и вдохновляться его примером, то есть действовал совершенно самостоятельно. Был представлен посмертно к золотой звезде Героя. Наградной лист был подписан командующим фронтом, но дальше дело не пошло. Подвиг Пресайзена замалчивали 50 лет. Только в 1991 он был отмечен орденом Отечественной Войны.
Всего за войну 11 евреев совершили такой подвиг. Награждали их «ограниченно»: пятерым дали звание Героя, шестерым — нет. (Одного из шестерки «перевели» в Герои с опозданием тоже почти на полвека, в 1990 году). Никто из одиннадцати не был воспет в бесчисленных, очерках, поэмах, песнях советских композиторов.
Скажут: Гастелло был первым, вот и достались ему все лавры!
Так, да не совсем так.
«5 сентября сорок первого года редакция [газеты „Красная звезда“] получила краткое сообщение своего корреспондента по Западному фронту, которое было опубликовано под шапкой на всю страницу: „Родина никогда не забудет бессмертного подвига летчиков Сковородина, Ветлужских и Черкашина“ — они повторили подвиг капитана Гастелло. На второй день газета выступила с передовой статьей на эту же тему, а под передовой были заверстаны стихи Михаила Голодного „Богатыри“. И все же мы чувствовали, что нужны еще какие-то особые сильные слова о героях. И мы обратились к [Алексею] Толстому. Толстой написал небольшую статью „Бессмертие“. В ней были те же факты, что и в сообщении корреспондента, и в передовой, но изложенные по-своему, с присущей писателю страстностью».[802]
Так «раскручивали» русских богатырей в главной армейской газете, чего они, безусловно, заслуживали. Но когда у богатыря оказывалась еврейская фамилия, включался стоп-кран.
Рядовой Абрам Левин «повторил» подвиг Александра Матросова за год до него самого. Матросов воспет как былинный герой. Ему и романтическую довоенную биографию сочинили, дабы лучше соответствовала образу «русского богатыря» (по некоторым сведениям, реальный Сашка Матросов был мелким уголовником). Подвиг Абрама Левина остался незамеченным, «награда нашла героя» через четверть века после его гибели — в 1967 году, когда уж и кости его успели истлеть. Да и тут родина поскупилась: звездой Героя обнесла, Абраму достаточен орден Отечественной войны. И на том спасибо. Еще три еврея совершили такой же подвиг (один чудом остался жив). Итог: двое стали Героями, двое — нет. Имена всех четырех почти никому не известны. Награждали ограниченно, а прославляли еще ограниченнее.
26 октября 1941 года в Минске была повешена 17-летняя Маша Брускина, студентка Медицинского института, одна из организаторов и наиболее отважных участниц сопротивления в Минском гетто. Она нелегально проникала в лагерь военнопленных — лечила больных и раненых, переправляла в лес к партизанам здоровых. Она знала явки, тайники, в ее руках были многие связи. Гестаповцы ее схватили, пытали всю ночь. Она не произнесла ни слова, молча взошла на эшафот. Награды не удостоена. Через месяц аналогичный подвиг совершила ее ровесница Зоя Космодемьянская. Ее имя тотчас прогремело на всю страну. «Народная героиня» — так назывался первый сборник материалов о ее подвиге. «Ей посвящены многие произведения советских поэтов, писателей, драматургов, художников, скульпторов; ее именем названы улицы многих городов СССР, на Минском шоссе, близ деревни Петрищево поставлен памятник (скульпторы О. А. Иконников и В. А. Федоров). С 1942 года могила К. находится на Новодевичьем кладбище в Москве; на месте первоначального захоронения К. в деревне Петрищево установлена мемориальная плита».[803] Так русская комсомолка Зоя Космодемьянская стала символом доблести, геройства, патриотизма. (Мать «Зои и Шуры» десятилетиями паразитировала на подвигах своих детей; снова и снова переиздавалась ее насквозь лживая книга; она выступала в огромных аудиториях, как заправская актриса, имитировала искренность, боль; произносила она всегда одну и ту же отрепетированную речь; ее голос изредка прерывался — в одних и тех же местах — якобы от душивших ее рыданий; перед выступлением она деловито инструктировала принимавших ее начальничков: «После таких-то слов я сделаю паузу, вы начинайте хлопать — зал вас поддержит»).
Артиллерист Роман Маркович Куперштейн прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, от лейтенанта до майора. Четыре раза его представляли к званию Героя Советского Союза, но так и не удостоили. В январе 1945 года, во время боев на Одере, Куперштейн, в составе небольшой группы бойцов, форсировал реку в районе города Киниц и закрепился на крохотном плацдарме. Группа попала под ураганный огонь, но плацдарм нужно было удержать любой ценой, чтобы обеспечить переправу основных сил. Куперштейн заменил выбывшего из строя командира батальона, вызвал огонь на себя, плацдарм был удержан. За этот подвиг Куперштейн был представлен к званию Героя в третий раз, но получил только орден Красного Знамени. В четвертый раз он был представлен к Золотой звезде в Берлине: при штурме Силезского вокзала, когда, под жестоким огнем, он выкатил свое орудие прямо на площадь, сам стал на место наводчика и бил прямой наводкой до тех пор, пока не подавил огневые точки противника, обеспечив успех операции. Вместо звезды Героя — снова Красное Знамя.
Таких примеров можно приводить очень много, я ограничусь еще одним.
Трижды представляли к звезде Героя Иосифа Абрамовича Рапопорта, выдающегося генетика: еще до войны он заложил новое направление в науке — химический мутагенез. Первый раз капитан Рапопорт был представлен к званию Героя осенью 1943 года — за блестящую операцию по форсированию Днепра. (Он был тогда начальником штаба полка). В 1944 году Рапопорт — командир стрелково-десантного батальона — был представлен к Золотой Звезде за героические действия при проведении воздушно-десантной операции у озера Балатон в Венгрии. Третий раз к Герою его представили в самом конце войны, когда он, снова штабист (но не из тех, кто носит бумаги из кабинета в кабинет), лично возглавил передовой отряд, прорвал укрепленную оборону противника, захватил стратегически важный район, множество пленных и боевой техники. Он был тяжело ранен, потерял глаз. Звание Героя ни в одном случае ему присуждено не было.
Попутно должен сказать о послевоенном подвиге И. А. Рапопорта, требовавшем не меньшего героизма. Иосиф Абрамович был одним из главных действующих лиц знаменитой Сессии ВАСХНИЛ 1948 года, на которой Лысенко и его сподвижники давали последний и решительный бой «менделизму-морганизму». На Рапопорта нападали с особой остервенелостью, беспардонно издевались над его увечьем: мол никаких генов люди с нормальным зрением их не видят, а менделист-морганист видит их одним глазом. В последний день Сессии, когда было официально объявлено, что погром генетики одобрен ЦК партии (то есть Сталиным), некоторые ученые выступили с покаянными речами. Рапопорт тоже попросил слова. От него ждали покаяния, как и от других, но он заявил, что ни от чего не отказывается, а прошедшую Сессию сравнил со средневековой охотой на ведьм. Понятно, что в опубликованную стенограмму Сессии ВАСХНИЛ это выступление не попало.[804] К научной работе Рапопорт смог вернуться почти через десять лет — благодаря поддержке нобелевского лауреата Н. Н. Семенова, создавшего в своем институте химической физики биологическую лабораторию, которую и возглавил Иосиф Абрамович. Его выдающиеся заслуги были признаны во всем мире, с опозданием — и в своей стране. В 1990 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Звезды Героя войны он так и не удостоился.
Из правила бывали исключения. В число «счастливчиков» посмертно попал Израиль Фисанович. Он командовал подводной лодкой, а потом дивизионом подлодок. Им потоплено 13 (!) крупных вражеских кораблей, тысячи (!) солдат, огромное количество техники пущено на дно. Он погиб в конце 1943 года, когда его подлодка была атакована с воздуха и потоплена. Солженицын указывает, что «широко во всем СССР продавались открытки с изображением отличившегося командира подводной лодки Израиля Фисановича» (т. II, стр. 358). Этот пример приводится для того, чтобы показать, что военные подвиги евреев не очень-то и замалчивались. Но этот редчайший случай лишь подтверждает правило. Да и если опросить, скажем, десять тысяч россиян, слышали ли они когда-нибудь имя героя войны Фисановича, — вряд ли хотя бы один ответит утвердительно.
Из научных и историко-публицистических трудов последних лет[805] можно узнать не только о том, как на самом деле воевали евреи, но и о том, как создавалось, внушалось народу лживая легенда об «Иване в окопе, Абраме в рабкоопе».
В американской биографии И. Эренбурга рассказано о столкновении героя книги с М. А. Шолоховым в ноябре 1941 года, в Куйбышеве (куда была эвакуирована газета «Красная звезда»). Будущий нобелевский лауреат по литературе, желая, видимо, польстить коллеге, сказал ему: «Вы-то сражаетесь, но Абрам обделывает дела в Ташкенте», на что Эренбург закричал, что «не может сидеть за одним столом с погромщиком». Там же приведено письмо Василия Гроссмана с фронта Эренбургу: «Я думаю об антисемитской клевете Шолохова с болью и возмущением. Здесь, на юго-западном фронте, воюют тысячи, десятки тысяч евреев. С автоматами на перевес, в снежную вьюгу, они врываются в города, захваченные немцами, гибнут в боях. Я все это видел. Я видел блестящего командира Первой гвардейской дивизии Когана, танкистов, разведчиков. Если Шолохов в Куйбышеве, скажите ему, что товарищи на фронте знают, о чем он говорит. Пусть ему будет стыдно».[806]
В монографии Г. Костырченко цитируется обнаруженное в архиве письмо писателя А. Степанова, автора широко известного романа «Порт-Артур», посланное в мае 1943 года главному редактору «Красной звезды» Д. Ортенбергу. А. Степанов, находившийся в эвакуации во Фрунзе, делился такими наблюдениями: «Демобилизованные из армии раненые являются главными его [антисемитизма] распространителями. Они открыто говорят, что евреи уклоняются от войны, сидят по тылам на тепленьких местечках. Я был свидетелем, как евреев выгоняли из очередей, избивали даже женщин те же безногие калеки. Раненые в отпусках часто возглавляют такие хулиганские выходки. Со стороны милиции по отношению к таким проступкам проявляется преступная мягкость, граничащая с прямым попустительством». Дальше Г. Костырченко сообщает: «Д. Ортенберг переслал письмо в ЦК партии, а вскоре А. С. Щербаков вызвал его к себе и объявил о снятии с работы. Размышляя впоследствии о причинах своего смещения, Ортенберг вспомнил, как за несколько месяцев до этого Щербаков также вдруг вызвал его и без объяснений потребовал очистить центральную армейскую газету от евреев».[807]
«Красная звезда» была самой популярной газетой во время войны, и в ней действительно печаталось немало писателей и журналистов-евреев. В их числе, кроме Эренбурга и Гроссмана, Самуил Маршак, Перец Маркиш, Михаил Светлов, Маргарита Алигер и многие другие. «Очистить» от них газету было просто невозможно. Но писать о доблестях солдат и офицеров с еврейскими фамилиями они практически не могли, разве что очень «ограниченно». То, что Гроссман сообщал в личном письме Эренбургу, в печати не появлялось. На то были негласные и, вероятно, неофициальные, но четкие установки.
О том, как это отражалось на общественном сознании страны, Илья Эренбург рассказал на заседании Еврейского Антифашистского Комитета в 1943 году. «Вы все, наверное, слышали о евреях, которых „не видно на передовой“. Многие из тех, которые воевали, не чувствовали до определенного времени, что они евреи. Они это почувствовали лишь тогда, когда стали получать от эвакуированных в тыл родных и близких письма, в которых выражалось недоумение по поводу распространявшихся разговоров о том, что евреев не видно на фронте, что евреи не воюют». В качестве противоядия Эренбург предлагал издать книгу о подвигах евреев в войне — «не для хвастовства, а в интересах нашего общего дела — чем скорее уничтожить фашизм… Одной статистики мало. Нужны живые рассказы, живые портреты. Нужен сборник о евреях-героях, участниках Великой Отечественной Войны. Необходимо рассказать правду, чистую правду. И этого будет достаточно».[808]
Нечего и говорить, что сборника не появилось. Да и само выступление Эренбурга было опубликовано только в переводе на идиш (газета «Эйникайт», 15 марта 1943 года), так сказать, для внутриеврейского потребления. А в «Звездочке», где почти ежедневно появлялись его знаменитые подвалы, из-за которых нацистская пресса возвела его в ранг «сталинского военного корреспондента номер один», он писал про «хорошее русское лицо, крупные черты, как бы вылепленные, густой, напряженный взгляд» генерала Л. Говорова, который представлялся ему «воплощением спокойного русского отпора».[809] (Курсив мой. — С.Р.) Для того, чтобы показать во всей красе «неприметный, простой и трижды благословенный героизм русского человека», ни Эренбург, ни другие авторы «Звездочки» не жалели слов.[810] (Курсив мой. — С.Р.). Нечего и говорить, что даже если иногда и проскакивала заметка о подвигах еврея, то ни одному автору или редактору даже в голову не могло прийти, что у него «хорошее еврейское лицо» или что он «воплощает героизм еврейского народа». Национальность такого героя не обозначалась, а часто и не угадывалась.[811]
«Нельзя сказать, что внутренняя советская пресса молчала о немецких изуверствах, — считает Солженицын. — Илье Эренбургу, еще и другим, например журналисту Кригеру, дано было „добро“ сквозь всю войну поддерживать и распалять ненависть к немцам — не без упоминания жгучей и выстраданной ими еврейской темы, но и без специальной акцентировки ее» (т. II, стр. 349).
Без акцентировки — это точно!
Шла ли речь о евреях, сражавшихся с врагом, или о поголовном уничтожении еврейского населения в оккупированных районах, или о том, каким «густым» было соучастие в нацистских преступлениях представителей «коренного народа», акцентировка не допускалась.
В 1943 году, во время пребывания Михоэлса и Фефера в Соединенных Штатах, в ходе их встреч с Эйнштейном и некоторыми другими возникла идея «Черной книги» — сборника очерков и документов о геноциде евреев. Предполагалось, что она выйдет одновременно в СССР, США, Англии, Палестине, затем и на других языках. Советские власти официально одобрили идею, но тут же началось ее удушение. Только весной 1944 года при ЕАК была основана Литературная комиссия под председательством И. Эренбурга. Он и В. Гроссман были утверждены редакторами советской части издания, хотя начали работать над ним еще раньше. Эренбург представил властям проспект книги, но вразумительного ответа добиться не мог. Первое заседание возглавляемой им литературной комиссии (13 октября 1944 года) он открыл драматическим заявлением: «В течение долгого времени не прояснено, будет ли санкционировано издание нашего тома. Даже теперь я не уверен, как надо понимать официальную формулировку… Мне сообщили через ЕАК, что мы должны составить книгу, и если она будет хорошей, ее издадут. Поскольку авторы этой книги не мы, а немцы, и ее цель очевидна, то я не пониманию, что значат слова „если это будет хорошая книга“. Это же не роман, содержание которого нельзя знать заранее».[812]
Эренбург предупреждал привлекаемых авторов: не надо никаких обобщений — только конкретные эпизоды, судьбы, живые сцены. А вот о коллаборационистах, помогавших нацистам выявлять и уничтожать евреев, наоборот — ничего конкретного: пособники нацистов не должны иметь человеческих лиц, а главное национальности. Не было среди них ни русских, ни украинцев, ни литовцев. Пусть будут они все полицаи: и так понятно, о ком идет речь.
Василий Гроссман, более прямой по характеру и меньше разбиравшийся в закулисной возне, язвил: зачем же их называть полицаями? Тогда уж давайте называть их просто предателями, врагами, а еще лучше иудами!
Председатель Совинформбюро Соломон Лозовский — главный партийный надсмотрщик над ЕАК и всеми его начинаниями, предлагал шире привлекать к участию в «Черной книге» писателей — не евреев, что сделало бы ее более приемлемой для власти. Эренбург и Гроссман обратились к самым знаменитым — Фадееву, Федину, Симонову. Принял участие только Андрей Платонов — в хвост и в гриву гонимый. Константин Симонов, правда, тоже согласился. Он и Василий Гроссман были первыми писателями, посетившими нацистский лагерь Майданек после освобождения. Очерк поручили писать Симонову, и он написал — ярко, жестко, с множеством леденящих подробностей. Но то, что «производственным сырьем» для фабрики смерти служили в основном евреи, в очерке «не акцентировалось». Теперь ему предоставлялась возможность написать всю правду о Майданеке. Гроссман торопил. Но Симонов был «занят». Надо полагать, ему «не советовали» торопиться. «Черная книга» была завершена без очерка о Майданеке.[813]
Эренбург, понявший безнадежность проекта, устранился. Завершил книгу Василий Гроссман. Она была набрана, сверстана и — запрещена. Набор был рассыпан, хотя книгу ждал мир, варварскую акцию нельзя было утаить. Антисемитские эмоции в Кремле взяли верх над соображениями международного престижа, к чему советские власти всегда были сверхчувствительны.[814]
О том, насколько «ограниченно» в годы войны дозволялось затрагивать «жгучую и выстраданную еврейскую тему» даже Эренбургу (а ему дозволялось больше, чем другим), через двадцать лет ярко продемонстрировал официозный критик Д. Стариков, когда потребовалось осадить «молодого советского литератора», переступившего грань дозволенного, напустив на него «старого».
«„В убийстве еврейских старух и младенцев всего яснее сказалась низость гитлеровской Германии. Но разве не то же делают фашисты с русскими и украинцами, с поляками и югославами?“ — писал в 1944 году Илья Эренбург. „Почему немцы убили евреев? — писал он в 1943 году о трагедии Пирятина. — Праздный вопрос. Они убили в том же Пирятине сотни украинцев. Они убили в селе Клубовка двести белорусов. Они убивают в Гренобле французов и на Крите греков. Они должны убивать беззащитных, в этом смысл их существования“. „Они говорят: „Мы против евреев“. Ложь… В Югославии немцы объявили, что „низшая раса“ — сербы. В Польше они обратили в рабство поляков. Они ненавидят все народы…“. Это из статьи Ильи Эренбурга 1941 года».[815]
С такой опорой на «еврейские источники» (не Солженицын изобрел этот прием) агитпроп принимал контрмеры, чтобы никто не подумал, что теперь уже можно сочувственно говорить о евреях — без оглядки на милиционера. Критик заходится от негодования: «Стоя над крутым обрывом Бабьего яра, молодой советский литератор нашел здесь лишь тему для стихов об антисемитизме!» И окончательно «пришибает» Евгения Евтушенко стихотворением И. Эренбурга «Бабий яр» 1944 года. Критику оно «гораздо ближе»,[816] — понятно почему: в нем нет напугавшей агитпроп акцентировки (что, замечу в скобках, не умаляет его поэтической силы).
Линия проводилась неукоснительно — во время войны и еще жестче после войны, на протяжении всего советского периода. Намеренно, последовательно, жестоко искажалось или замалчивалось все, что относилось к теме «евреи и война». Замалчивался труд сотен и тысяч евреев в научных лабораториях и конструкторских бюро, на заводах и фабриках, где они играли большую роль в разработке и производстве оружия и боевой техники, которые количественно, а порой и качественно превосходили германскую, что в значительной мере определило исход войны. А больше всего и упорнее всего внедрялся в общественное сознание миф об «Иване в окопе, Абраме в рабкоопе» (или в Ташкенте). Делалось это разными методами, и не всегда поймешь, что шло от указаний сверху, а что было плодом местной инициативы.
Самые ранние впечатления моего детства относятся к годам войны. Одно из первых — сильнейший испуг, вызванный нечеловеческим, душераздирающим криком моей тети (маминой сестры). Это было в Астрахани, куда маме удалось добраться — после голодной и холодной зимы в Пензенской области, в разоренном колхозе, где нас подселили к хмурой крестьянке, в не отапливаемую часть избы, с инеем на стенах. В Астрахани было тепло, и была родня. У тети двое детей, нас двое — все в одной комнате, в тесноте да не в обиде. И вот — похоронка… Где сложил голову мой дядя, при каких обстоятельствах, — я, к стыду своему, никогда не пытался выяснить. А недавно вот что узнал от внучки его, моей племянницы Ирины Кац, пианистки, живущей теперь в пригороде Вашингтона. Студенткой Астраханской консерватории она ежегодно отбывала комсомольско-трудовую повинность на том консервном заводе, в том томатном цехе, который до войны возглавлял ее дед. У входа в цех на видном месте висел его портрет. Подпись гласила: «Начальник цеха Павел Аронович Кац погиб смертью храбрых в Великой Отечественной войне». Ирина впервые увидела портрет, когда пришла на завод первокурсницей. Видела и через год, когда была на втором курсе. А потом портрета на стене не оказалось. Исчез. Среди защитников родины, положивших за нее голову, Кацу быть не положено. Нежелательная акцентировка.
В 1967 году, когда был открыт гигантский мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, под куполом большого зала, на гвардейской ленте, были высечены слова: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью-Родиной». Слова эти выложены гигантскими золотыми буквами. Но тоже — без акцентировки. Принадлежат они Василию Гроссману — писателю и солдату, который провел здесь, под ураганным огнем, сотни дней и ночей, и потом воспел подвиг защитников Сталинграда, как никто другой. Но имя его — нигде не упомянуто.[817]
«У моей первой повести о войне, — свидетельствует писатель и воин из другого поколения Григорий Бакланов, — было посвящение: „Памяти братьев моих — Юрия Фридмана и Юрия Зелкинда, — павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне.“ Как же на меня давили в журнале, как вымогали, чтобы я снял посвящение: а то ведь получается, что евреи воевали. Я, разумеется, посвящение не снял. Тогда, в тайне от меня, уже в сверке, которую автору читать не давали, его вымарали».[818]
«Всё мое детство прошло в тени разговоров о „евреях, воевавших в Ташкенте“, — пишет представитель третьего поколения, профессор математики Питтсбургского университета, поэт и публицист Борис Кушнер (1941 года рождения). — Сейчас я подумал, когда же слышал „ташкентскую легенду“ в последний раз — до прочтения [солженицынского] двухтомника. И вспомнил. Было это 9 мая 88 или 89 г., почти перед самым моим расставанием с Россией. На платформе Кратово. Один ветеран поддерживал другого. Очевидно, они отметили праздник. Заметив меня, тот, который нуждался в поддержке и, видимо, стеснялся этого, сказал, что, вот, воевал, проливал кровь и по праву выпил. „А где был твой отец? Небось, и сейчас в лавке торгует“. Я спокойно объяснил ему, где находится мой отец [погиб в 1942-м под Сталинградом]. Он как-то поперхнулся и дал другу увести себя. Я простил ветерана на месте, пожалуй, и обидеться не успел… Не вина это ветерана, а беда его».[819]
Беда. Непонятно, для кого большая, ибо нет такой меры, чтобы измерить — кто сильнее искалечен гнусным наветом: оболганные евреи или обманутые русские.
Солженицын как бы не отрицает, что евреи воевали против гитлеровцев не менее напряженно, чем другие народы: «число евреев в Красной армии в годы Великой Отечественной войны было пропорционально численности еврейского населения, способного поставлять солдат» (т. II, стр. 363–364). Но тут же и отрицает, что «народные впечатления той войны продиктованы антисемитскими предубеждениями» (т. II, стр. 364). (Здесь, кажется, в первый и последний раз на протяжении обоих томов говорится об антисемитизме как о предубеждении, и только для того, чтобы его отрицать!)
По Солженицыну, народные впечатления имели под собой вполне рациональное основание: евреи «штурмовали Ташкент» — если не буквально, то фигурально. Ибо даже на фронте они грудились «в Ташкенте», то есть подальше от передовой: при штабе, в интендантстве, в обозе, в культпросвете, в медицине. (Как лагерные придурки, пристраивавшиеся, по его версии, кладовщиками и нормировщиками, чтобы уберечься от лесоповала).
«Как бы неоспоримо важны и необходимы ни были все эти службы для общей конечной победы, а доживет до нее не всякий, — резонерствует Солженицын. — Пока же рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писаря, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, — и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой» (т. II, стр. 365).
И еще: «И все же, несмотря на эти примеры бесспорной храбрости [в лагерях ведь тоже, как мы помним, наряду с евреями-придурками попадались евреи-выродки, вот и в воинской еврейской семье не без выродка — „средняя линия“!], с горечью констатирует еврейский исследователь: „широко распространенное и в армии, и в тылу представление об уклонении евреев от участия в боевых частях“. Это — точка болевая, больная. Но если обходить больные точки — нечего и браться за книгу о совместно пройденных испытаниях. В истории важно и что народы друг о друге думали», к этому «нужно прислушаться» (т. II, стр. 360).
Но думать друг о друге народы могут разное: верное и неверное, справедливое и несправедливое. Если важно, что они думают, то не важнее ли понять, почему они думают так, а не иначе.
«Убеждения, представления народов друг о друге, не сами складываются, их внушают, и книга Солженицына из того разряда, задача ее — внушать. В фашистской Германии, во времена Гитлера, внушалось, что злостные виновники всех бед — евреи, и большинство населения это приняло, кто молча одобрял, а кто и с трибун: и погромы, и депортацию, и „окончательное решение еврейского вопроса“. Надо прислушаться? А когда у нас шли процессы над „врагами народа“ и тысячи тысяч наших сограждан под барабанный бой пропаганды выходили на демонстрации, неся плакаты: „Уничтожить гадину!“, и к этому ныне надо прислушаться? А когда брошен был лозунг уничтожить кулаков, как класс, и по команде сверху односельчане, как могли, способствовали, по ходу дела разграбляя и присваивая чужое имущество, к этому мнению народному тоже надо прислушаться? И десять миллионов человек были высланы на погибель за Урал, на Север, в болота».[820]
Горький парадокс: Александр Солженицын, столь вожделенно ждавший и приближавший конец советской власти, оказался прямым наследником и усердным продолжателем ее дела.
«В 1942 году, в Сталинградской степи моего отца хоронил не Солженицын. Хоронил его — соратник, боевой русский офицер, ставший впоследствии другом нашей семьи. Не знаю, что ещё должен был отдать России мой отец, Абрам Исаакович Кушнер, чтобы г-н Солженицын из 2002 года видел его на передовой „погуще“. Действительно, доживёт до победы не каждый. Слава Б-гу, Солженицын дожил… И никогда бы никто не посмел поставить вопросительный знак на его боевом пути, если бы сам же он в грех и не вводил. Ведь командир звукоразведывательной отдельной батареи — всё же не пехотный лейтенант, поднимающий взвод в атаку, и не лётчик-истребитель и… долго можно продолжать. Шансов дожить до общей победы побольше… И не Солженицына ли видел „рядовой фронтовик, оглядывающийся с передовой себе за спину“»,[821] — пишет Борис Кушнер.
Законный вопрос, но не мне, ходившему в те годы под стол пешком, на него отвечать. А вот фронтовика, по-пластунски пропахавшего пол-Европы, послушаем:
«Надо разъяснить, что такое была эта звукобатарея и где она находилась, — продолжает Г. Бакланов, — По понятиям фронтовиков, находилась она в глубоком тылу. [Сержант Илья] Соломин [служивший в батарее Солженицына] указывает: 1,5–2 километра от передовой. Нет, значительно дальше, сам Солженицын признает: 3 километра. Вот туда-то „сверхусильным напором“ и переместился он из конского обоза». И чуть раньше: «Ведь он за всю войну ни разу не выстрелил по немцам, туда, где он был, пули не долетали. Так ты хоть других не попрекай. Нет, попрекает. В одной из своих статей стыдит покойного поэта Давида Самойлова (на фронте Давид Самойлов — пулеметчик второй номер), что тот недолго пробыл в пехоте, а после ранения — писарь и кто-то еще при штабе. Но сам-то Солженицын и дня в пехоте не был, ни разу не ранен, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит».
И дальше: «На прямой вопрос [интервьюера „Известий“], где располагалась солженицынская звукобатарея: „Это был ближний тыл или фронт?“ — Соломин отвечает: „В боях батарея участия не принимала, у нас была другая задача“. — „Солженицыну выпадало в боях участвовать?“ — „Я же сказал — у нас были другие задачи. Я не помню, чтобы он непосредственно в боях участвовал, в бою пехота участвовала“».[822] «Соломин воевал с первых дней, дважды ранен, брат убит на фронте, мать, отца, сестренку немцы уничтожили в Минске, как уничтожали всех евреев. Солженицын призван в армию (повторим: не сам добровольцем пошел защищать родину, военкомат призвал исполнить долг мужчины и гражданина) аж в октябре 41-го года. Немцы уже подходили к Москве, судьба России решалась, он продолжал преподавать детям математику в школе, в глубоком тылу. И когда под Сталинградом шли бои, там по нынешним подсчетам погибло у нас более двух с половиной миллионов человек, он все еще был в тылу, в обозе, во втором или даже в третьем эшелоне».[823]
Г. Бакланов итожит: «Не по статистике, по своему личному наблюдению, все-таки почти всю войну я пробыл на фронте не пехотинцем, но с пехотой… так вот по моему наблюдению евреев-пехотинцев в процентном отношении ко всему населению было меньше, чем русских. Не удивлюсь, если окажется, что и русских в процентном отношении к населению было в пехоте меньше, чем, скажем, узбеков, таджиков, киргизов, туркмен. Вот же, повторяю, пишет директор музея „Сталинградской битвы“, что под Сталинградом солдаты из Средней Азии и с Кавказа составляли больше половины сражавшихся… В пехоту гнали, в первую очередь, крестьян. И не нация тут решала, а — уровень образования. Талантливых людей, самородков, скажем, в русской деревне было, возможно, не меньше, чем в городах, да вот уровень образования отличался. У немцев танкисты были, в основном, не крестьяне, а рабочие, наши „братья по классу“. А у нас к концу 42-го года стали отзывать с фронта сталеваров, в тылу они были нужней, чем на фронте. Исследователь, если он действительно исследует, а не искажает историю, не может не понимать всего этого, не знать».[824]
Итак, кто воевал в пехоте, а кто в авиации, кто командовал звуковой батарей, а кто варил сталь в тылу, — не нация решала, а уровень образования. Просто, как Божий день.
Но вот к тому, как воевал каждый на своем посту и участке, одна нация отношение имела — не потому, что обладала особыми бойцовскими качествами, а потому, что враг поставил ее в особое положение, — избрав для тотального уничтожения. Отсюда и двойной «налог кровью», какой платили еврейские бойцы на всех фронтах; отсюда же опережающее другие народы число героев и награжденных боевыми орденами — вопреки гнусным манипуляциям с наградными списками.
Могли ли евреи воевать лучше, самоотверженнее, проявить еще больше отваги и героизма? Наверное — да, потому что наряду с теми, кто закрывал своей грудью дзоты, ложился под танки со связками гранат, стоял на смерть на «последнем рубеже» со словами: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва»[825] — так вот, наряду с героями были среди них и трусы, и тыловые крысы. Но не то же ли справедливо в отношении братьев-славян? Я не против того, чтобы поднять планку, но — для всех одинаково. Ведь доблестные русские воины целыми армиями сдавались в плен, особенно в два первых года войны, и не всегда из-за безвыходности положения. Иные части шли сдаваться строем, с песнями, под духовой оркестр. Число пленных превысило пять с половиной миллионов человек, причем полтора миллиона из них вернулись в строй, но уже в форме солдат Вермахта. На сторону врага перешли тысячи вчерашних советских офицеров, десятки генералов. Каждый шестой солдат, воевавший против Красной Армии, был россиянин. Сотни формирований на уровне рот и батальонов составлялись исключительно из русских; были бы и дивизии, и армии, да Гитлер не хотел этого допустить.[826]
И. Н. Кононов — командир полка, перешедший на сторону Германии
К этому следует добавить полицаев, старост, бургомистров и прочих, кто действовал на оккупированной территории против партизан или участвовал в операциях по уничтожению евреев — таких наберется еще полмиллиона. Евреев в их рядах по известным причинам быть не могло. Все это хорошо известно Солженицыну — ведь он сталкивался с множеством бывших военнопленных в ГУЛАГе, а потом с пафосом их защищал, доказывая, что это не они изменили родине, а родина предала их — предала дважды: оставила в плену без всякой поддержки, а затем отправила в ГУЛАГ как изменников.
При всей спорности такой позиции с точки зрения отнюдь не только советского, но и русского патриотизма, она восхищала смелостью и независимостью. Не даром агитпроп с бульдожьей хваткой вцепился в «литературного власовца Солженицера».
А дезертиры? В 2000 году, когда работа над двухтомником была уже в завершении, вручая премию своего имени писателю-«нравственнику» Валентину Распутину, Солженицын особенно высоко оценил его повесть «Живи и помни». Подчеркнул, что писатель «заметно выделился в 1974 внезапностью темы — дезертирством, — до того запрещённой и замолчанной, и внезапностью трактовки её».[827] Еще подчеркнул, что «в общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чём наша история сумела смолчать, знал лишь уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но в отблещенной советской литературе немыслимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин — переступил этот запрет».[828]
Кто же были те десятки тысяч дезертиров, сочувствие к которым так восхищает Александра Исаевича? Понятно, что он говорит о братьях-славянах — таких, как герой В. Распутина. Но, «протягивая рукопожатие» (по его изящному выражению) «солженицерам», он выставляет совсем иной счет.
На страницах израильского журнала «22» бывший фронтовик Иона Деген вспоминал, как в начале войны звал своего приятеля Шулима Даина пойти добровольно на фронт, но тот возразил: «„сцепились насмерть два фашистских чудовища“, и что нам в том участвовать» (т. II, стр. 368) — вот и доказательство еврейской «неблагонадежности»! Тут же, правда, выясняется, что Шулим Даин не думал дезертировать или пересидеть в укрытии: «„Когда меня призовут на войну, я пойду на войну. Но добровольно? — ни в коем случае“» (т. II, стр. 368). Его призвали, он пошел и погиб под Сталинградом. Что ещё он должен был отдать России, чтобы смягчилось сердце грозного судии? Не смягчается:
«Да, сталинский режим не лучше гитлеровского. Но для евреев военного времени не могли эти чудовища быть равны! И если бы победило чудовище то — что б тогда, все-таки, случилось с советскими евреями? Разве эта война не была для евреев и своей кровной, собственной Отечественной: скрестить оружие с самым страшным врагом всей еврейской истории?» (т. II, стр. 368–369). По Солженицыну, — не была. «Позицию Даина не понять иначе, как — расслабляющее чувство того самого двойного подданства» (т. II, стр. 369). И после цитаты из «еврейского источника» (без этого нельзя!): «Неполная заинтересованность в этой стране. Ведь впереди всегда — для многих неосознанно, а маячит — уже без сомнения свой Израиль» (т. II, стр. 369).
Это — о годах войны, когда — повторю — евреи под оккупацией истреблялись поголовно, попадавшие в плен расстреливались на месте, а еврейского государства еще не было и в помине! Невольно приходят на память слова Юлиана Тувима, адресованные польским единомышленникам Солженицына:
«Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей — крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. „Арончик, что же ты не фронте?“ — „Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу…“».[829]
Война после войны
Были надежды у народов, живших вместе в России: не может все остаться по-старому после такой войны! Слишком много крови пролито, слишком много товарищей полегло по лесам и болотам, слишком много хат сожжено, семей разрушено, сирот оставлено. Да и нагляделся солдат на иностранную жизнь. Слишком многое обмозговал в долгих походах, наговорился с друзьями на привалах… Чтобы после такой войны и такой победы, да снова в колхозную кабалу! Да снова прислушиваться к ночным шорохам на лестнице! Да снова отрекаться от жен, отцов, друзей; снова с рабской покорностью заглядывать в глаза каждому мелкому главначпупсу… Чудилось: возврата к тому быть не может! С победой придет и послабление режима, освобождение от оков «единственно правильного учения»; придет возможность самому за себя думать, сомневаться, ошибаться — жить человеком, а не тварью дрожащей, не куклой в руках кукловода.
Увы, то были несбыточные мечтания. Прав оказался еврейский юноша, сложивший голову под Сталинградом: победа над Германией не стала победой над фашизмом — один фашизм взял верх над другим, только и всего.
В самый день победы это почувствовал Илья Эренбург. Мало кто с такой страстью и с таким нетерпением призывал победу, но не узнал ее, столкнувшись лицом к лицу. «Я ждал ее, как можно ждать любя. / Я знал ее, как можно знать себя, / Я звал ее в крови, в грязи, в печали. / И день настал, закончилась война. / Я шел домой, навстречу шла она. / И мы друг друга не узнали».
(Иногда мне кажется, что стихи, которые он писал редко, да метко, — это лучшее, что оставил Эренбург: в стихах он всегда был искренен).
Он ждал невесту в белом кружевном платье, а увидел кованый сапог, бьющий в пах, — трофейный сапог, снятый с еще не остывшего трупа вчерашнего врага. Красный фашизм вогнал осиный кол в горло коричневого и сразу же стал напялить на себя его униформу.
Переобмундирование советского режима было начато еще до войны и ускорилось в ее ходе. Командирские и комиссарские петлицы были заменены офицерскими погонами. Были призваны в строй тени великих предков — Суворова, Кутузова, Нахимова, даже великого погромщика Богдана Хмельницкого. Сменили государственный гимн: Великая Русь, что сплотила на веки союз нерушимый, вытолкнула Интернационал.
Декоративные, как казалось, новации обернулись поголовной депортацией малых народов-«предателей» и — тостом генералиссимуса за «великий русский народ», первый среди равных. Победные тосты должны были заглушить перестук вагонов, мчавших «освобожденных» военнопленных — в основном, конечно, славянских кровей — в ГУЛАГ. Герои победоносной войны возвращались на пепелища, и им давали понять, что о западных соблазнах нужно забыть и никогда не вспоминать. А чтобы держать народ в мобилизационной готовности, понадобился новый враг — внутренний. Старые рецепты для его опознания уже не подходили: ни помещика, ни капиталиста, ни кулака с обрезом под полой ватника в стране давно уже было не сыскать — всех извели, как минимум, в двух поколениях. Для создания образа врага шаблоны классовой ненависти не подходили, красному подвою потребовался коричневый привой. Вопреки законам «буржуазной» генетики, зато в полном соответствии с передовым мичуринским учением, такая вегетативная гибридизация полностью удалась.
Тысячи людей попали в ГУЛАГ за то, что сказали доброе слово об американской технике или германских дорогах: такое низкопоклонство перед Западом было приравнено к государственной измене. Россия сделалась родиной слонов, русские люди стали создателями паровой машины, летательных аппаратов, лампочек Ильича, марсианских каналов и всего самого светлого и красивого на Земле. Загнивающему Западу было оставлено только темное и безобразное. «Наймиты» Запада должны были отличаться «лица не общим выраженьем», чтобы их легче было опознавать. Отряды красно-коричневых штурмовиков пошли в штыковую атаку на театральных критиков с псевдонимами, другие ударили по безродным космополитам без псевдонимов, третьи окружили и бесшумно сняли последних часовых у ворот еврейской культуры, после чего ряды были сомкнуты на «убийцах в белых халатах».
Лидия Тимашук стала народной героиней номер один, оттеснив Зою Космодемьянскую и Павлика Морозова. Малый народ очередной раз был оболган, большой народ очередной раз был обманут. Евреев изгоняли из учреждений и предприятий, над ними измывались в коммуналках, их избивали на улицах, в школах, выкидывали из электричек: все это — в порыве благородного негодования, ибо лучшей участи наймиты «Джойнта» не заслуживали.
Просить защиты было не у кого, пощады — бесполезно. Можно только вообразить, до какого уровня была бы доведена вакханалия издевательств и насилия, если бы процесс над «врачами-убийцами» состоялся по всем законам жанра, созданного кремлевским драматургом: с «признаниями» подсудимых, в деталях рассказывающих о своих леденящих кровь злодеяниях; с допросами «свидетелей» типа той же Тимашук; с очными ставками, громовыми речами прокурора, лепетом опереточных защитников, митингами на предприятиях, с единогласными резолюциями: раздавить гадину, расстрелять как бешеных собак. Шквал издевательств и убийств мог бы вздыбиться так высоко, что евреям только бы и оставалось — молить партию и правительство о поголовной отправке в Сибирь: долбить вечную мерзлоту все же лучше, чем быть разорванными озверелой толпой.
О предстоявшей депортации ходили упорные слухи, обрастая подробностями, причем говорили, что инициатива будет исходить от самих евреев. Шептались о списках, составляемых по домоуправлениям, о бараках, что строятся в каких-то гиблых местах Крайнего Севера, об эшелонах порожняка, подгоняемых к Москве, о письме «видных евреев» с просьбой о высылке всего малого народа для искупления вины и спасения от праведного гнева большого народа.
Стояли ли за этими слухами реальные планы власти, и если да, то как далеко зашла подготовка?
Достоверно известно, что письмо в «Правду» от имени многих видных евреев было составлено, и подписи под ним собирались. Известны имена евреев в ливреях, которые все это организовывали. Это официозный историк академик И. И. Минц, сделавший карьеру на возвеличивании революционных заслуг Сталина. Это партийный функционер М. Маринин (Я. С. Хавинсон) — многолетний директор ТАСС, а затем главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения». Д. Заславский, член редколлегии и фельетонист «Правды», столь лихо разоблачавший «врагов народа», что сумел заслужить особое расположение Сталина — вопреки бундовско-меньшевистскому прошлому. Возможно также участие академика-философа Б. Митина, отличившегося в свое время обоснованием философской значимости трудов Сталина, а также передовой мичуринской биологии. В числе тех, кто не выдержал «обработки» и поставил свою подпись — писатели Василий Гроссман, Самуил Маршак, Павел Антокольский, Маргарита Алигер, музыканты Давид Ойстрах, Матвей Блантер, Эмиль Гилельс, дирижер Большого театра Самуил Самосуд, ряд крупных ученых, авиаконструктор Семен Лавочкин, дважды герой войны генерал Д. Драгунский и многие другие. Нашли в себе мужество отказаться или уклониться писатель Вениамин Каверин, поэт-песенник Евгений Долматовский, певец Марк Рейзен, чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, герой войны генерал Яков Крейзер… Илья Эренбург письма не подписал, но обратился к Сталину за «советом», выразив готовность поставить свою подпись, если вождь посчитает это нужным. Попутно Эренбург высказал сомнения относительно некоторых формулировок письма и даже самой идеи «коллективного выступления… людей, которых объединяет только происхождение». Он играл с огнем, так как не мог не понимать, что затея исходила от самого Сталина или была им одобрена.
А. Ваксберг считает, что письмо И. Эренбурга Сталину, «несправедливо, даже… постыдно недооцениваемое», сыграло судьбоносную роль, притормозив ход событий, а затем «вмешалась Божья воля»,[830] то есть Сталин внезапно умер, и поэтому депортация не состоялась. С этим можно было бы согласиться, если бы подготовка депортации подтверждалась надежными документами. Однако в письме в «Правду» — в том варианте, в каком оно известно, ни слова не говорится о депортации евреев для их спасения от справедливого гнева и искупления их коллективной вины. Версия письма, в которой говорится о депортации, тоже опубликована, но — в фантастической повести В. П. Ерашова, так что является плодом воображения писателя.[831]
Считается, что первоначальный вариант письма в «Правду» не сохранился или пока не найден, а известен сильно смягченный текст. Если так, то все-таки вряд ли первоначальный смысл документа мог превратиться в свою противоположность. В известном же тексте подчеркивается: «русский народ понимает, что громадное большинство еврейского населения СССР является другом русского народа»; «никакими ухищрениями врагам не удастся подорвать доверие еврейского народа к русскому народу, не удастся рассорить нас с великим русским народом».[832] То есть цель письма — заклеймить «врачей-убийц» и продемонстрировать лояльность советского «малого народа» советскому «старшему брату». Не такое обращение «видных евреев» могло бы служить оправданием или поводом для депортации народа.
В книге А. Ваксберга сведено большинство известных свидетельств в пользу того, что депортация готовилась. В их числе свидетельства дочери Сталина Светланы Аллилуевой, высших партийных функционеров того времени Булганина, Пономаренко, Микояна, академика Е. Тарле, писателей Вениамина Каверина, Семена Липкина; следователя по особо важным делам Льва Шейнина. Правда, Шейнин в разгар событий сидел в тюрьме, но позднее «восстановил старые связи с крупными чинами госбезопасности и прокуратуры, которые имели касательство к проведению операции». Приводится также свидетельство профессора Аркадия Полторака, который в узком кругу, в присутствии автора, «подтвердил и составление списков, и постройку бараков, и готовность товарных эшелонов отправиться в путь». Полторак дополнил «свидетельство Шейнина такой деталью: на домашние сборы каждому давалось не более двух часов, с собой можно было взять только один чемодан или узел, а всех, кто не выдержит трудностей пути — без еды, без тепла, — предписывалось сбрасывать на ходу, когда поезд будет идти вдоль безлюдных полей или лесов, на тридцатиградусный сибирский мороз». Крупный разведчик Б. М. Афанасьев (Атанасов), «старый болгарский революционер, ставший советским шпионом-убийцей», рассказал автору книги, что «на депортацию всех московских евреев Сталин отвел три дня». Есть в книге и свидетельство партаппаратчика Н. Полякова о том, что была создана комиссия по депортации евреев, главой ее был М. А. Суслов, а сам Поляков — секретарем.[833]
Многие из тех же свидетельств, а также свое «глубочайшее убеждение, что Сталин депортацию готовил», неоднократно высказывал историк Я. Я. Этингер — приемный сын одного из «врачей-убийц» Я. Г. Этингера, замученного тюремщиками во время следствия.[834] А еще раньше — их приводил номенклатурный журналист З. С. Шейнис.
Если судить по автобиографической книге Шейниса, то он всю жизнь подвергался гонениям, но при этом был вхож в самые высокие кабинеты — в Кремле, в ЦК, в МИДе, в НКВД. Похоже, что в книге Шейниса подлинные сведения перемешаны с сомнительными и даже выдуманными ради красного словца.[835] Как показал Г. Костырченко, некоторые «факты», приводимые З. С. Шейнисом как лично ему известные, заимствованы из той же фантастической повести В. П. Ерашова.
Когда сопоставляешь друг с другом свидетельства о готовившейся депортации, то наталкиваешься на значительные противоречия. Чем больше подробностей, тем более они несовместимы с другими подробностями. И почти всегда ускользают первоисточники сообщаемых сведений: люди передавали то, что слышали от других.
На вопрос интервьюера: «Как могло оказаться, что не осталось никаких физических следов (документы, бараки и т. п.) подготовки такого масштабного мероприятия, как поголовная депортация евреев в 1953 году», — А. Ваксберг ответил: «Я полагаю, что никакого решения о депортации (решения в юридическом смысле этого слова) принято еще не было, существовал лишь сталинский замысел, и вождь успел провести только предварительные зондажи».[836]
Но если так, то большинство «свидетельств» в пользу реальности планов депортации, приводимых А. Ваксбергом, неизбежно переходят в разряд малодостоверных слухов. Ведь если замысел еще не начал реализовываться, то не могло быть создано Комиссии по депортации во главе с Сусловым (и никаких документальных следов ее деятельности или хотя бы формирования не найдено); распоряжения о составлении списков по домоуправлениям тоже не могло быть дано (и ни одного списка не найдено), а уж такие подробности исполнения, как «два часа на сборы», крушения поездов, трупы, выбрасываемые на мороз, — если и могли бродить в мозгу вождя, то никому не могли быть известны.
Г. Костырченко считает, что «масштабы официального антисемитизма, которые имели место в СССР в начале 1953 г., были предельно допустимыми в рамках существовавшей тогда политико-идеологической системы. Дальнейшее следование тем же курсом, не говоря уже о проведении еврейской депортации, поставило бы страну перед неизбежностью коренных преобразований в советском законодательстве (прежде всего легализации антисемитизма как государственной политики, а значит, и введения национальной дискриминации), чреватых самыми непредсказуемыми последствиями в многонациональной стране».[837] На таком основании он отвергает саму возможность планирования депортации.
С этим тоже трудно согласиться. Нагнетание антисемитизма отнюдь не достигло в последние месяцы жизни Сталина допустимого системой предела. Судилище над «врачами-убийцами» было еще впереди, а, значит, и накал антисемитских страстей должен был достичь куда более высокого уровня. Законодательство же тут вовсе не при чем. В Советском Союзе законы были писаны не для властей; служить препятствием произволу они не могли. Депортация крымских татар, чеченцев и других народов перемен в законодательстве не потребовала — почему же для высылки евреев необходимо было менять законы, да еще коренным образом, да еще с опасными для режима последствиями? Можно было поменять какие-то законы, а можно было не менять: своя рука — владыка.
Я считаю разумной позицию тех исследователей, которые оставляют вопрос о предполагаемой депортации открытым — в надежде на то, что будущие изыскания позволят его прояснить. Однако, планировал ли Сталин депортацию еврейского населения, или нет, несомненно то, что театрализованное судилище над «врачами-убийцами» готовилось и должно было нанести сокрушительный удар и по евреям, и по братьям-славянам. Малый народ травили, большой натравливали — в этом был смысл кампании; процесс был не менее важен, чем результат. Советская власть тем всегда и держалась: поиски врага—разоблачение—всенародная травля—расправа при всеобщем одобрении. Теперь враг был легко узнаваем: не какой-то там троцкист, уклонист или меньшевиствующий идеалист, а просто еврей! И никаких псевдонимов — для полной ясности.
Если первые тридцать лет советская власть «методами пролетарского принуждения» перековывала Абрамов в Иванов, не помнящих родства (Гитлер помог почти завершить этот процесс, физически уничтожив как раз наименее ассимилированную часть еврейства), то на новом витке диалектической спирали пошла обратная перековка. Забывших родство заставили о нем вспомнить — и никогда уже не забывать. Обвинялись-то теперь уже не еврейский язык, не религия, не приверженность традициям, не мечты о Сионе, обвинялась, по точному определению Александра Борщаговского, КРОВЬ.
Парадоксально, но перековкой ассимилированных Иванов обратно в Абрамов власть оказала им великую услугу. Проказа «пятого пункта» запирала подавляющее большинство евреев в духовный лепрозорий, и тем уберегала от контакта с гораздо худшей заразой — коричневой чумой, которая раздольно распространялась по просторам родины чудесной. Массы, зачумленные страхом и ненавистью к Абрамам, легче было строить в ряды, перестраивать в колонны, вести на штурм зияющих высот национал-коммунизма.
«А нам, евреям, повезло. / Не прячась под фальшивым флагом, / На нас без маски лезло зло, / Оно не притворялось благом», — вычеканил Борис Абрамович Слуцкий.
Внезапная смерть Сталина, прекращение «дела врачей», осуждение «культа личности», освобождение и реабилитация тысяч «врагов народа», ослабление страха пошатнули систему тотального идеологического контроля. Ослаб гнет цензуры, возникли прорехи в железном занавесе, возобновились надежды на постепенную либерализацию режима, к одурманенным наркотиком ненависти людям стало возвращаться просветление. Со всем этим должен был потускнеть коричневый цвет, в который Сталин перекрашивал красное знамя. Евреев продолжали зажимать, не пущать, не принимать; продолжали замалчивать их заслуги, военные подвиги, Холокост. Но идеологическая травля сбросила обороты. Наступила оттепель, в первые же месяцы угаданная И. Эренбургом.
Однако вынести Сталина из мавзолея оказалось легче, чем «вынести Сталина из наследников Сталина» (Евтушенко). Маховик, приторможенный при Хрущеве, стал снова раскручиваться после его устранения. Бациллоносители коричневой чумы снова пошли очищать сознание россиян от тлетворного «чужебесия». Тон, во всяком случае, в литературе задавала так называемая Русская партия 1960-80-х годов, она же партия «государственников» и «монархистов» с партбилетами и особыми связями в аппарате ЦК КПСС, ЦК Комсомола, КГБ, Генералитете.
О Русской партии теперь имеются солидные исследования.[838] Не стесняются откровенничать и некоторые ее деятели; с их точки зрения, даже долговременный шеф КГБ и недолгий генсек Юрий Андропов — тайный еврей и гнилой либерал.[839]
Верховной власти в стране Русская партия не достигла, но семена сталинизма сеяла широко, и падали они в хорошо унавоженную почву. Из этой почвы — уже в годы перестройки — взросло национал-патриотическое общество «Память», а из «Памяти» вышли современные партии и движения, «спасающие Россию» от жидо-масонской скверны.
Чем сильнее коричневая чума внедрялась в общественное сознание россиян, тем «гуще» евреи, защищенные от нее «пятым пунктом», проявляли себя в правозащитном движении, в движении за эмиграцию, в либерально-демократической части интеллигенции. Они распространяли, перепрятывали, пересылали за бугор произведения диссидентов, в первую очередь А. И. Солженицына. Слишком хорошо известно, как «густо» были представлены «лица еврейской национальности» в ближайшем окружении Солженицына: поддерживали его, хранили его архив, перепрятывали рукописи, помогали ему бодаться с дубом советской системы.[840]
В заключительных главах двухтомника, даже признавая (и, на мой взгляд, преувеличивая) роль евреев в сопротивлении коммунистическому режиму, Солженицын никак не может отлепиться от мифа о жидо-большевизме, погубившем Россию, «которую мы потеряли». Пишет о шестидесятых-семидесятых годах, но коричневой составляющей духовного ландшафта той поры не замечает. О той же Русской партии, о сионологии, внедрявшей «в духовный мир советского человека» зловещие сказки о «сионо-масонском заговоре против социализма», у него нет ни слова. Его голова вывернута назад, взгляд уперт в заветные Двадцатые (удостоенные писаться с заглавной буквы), где так приятно высматривать то, что любо-дорого сердцу:
«Сегодня ясно видеть, что столько евреев было в железном большевицком руководстве, а еще больше — в идеологическом водительстве огромной страны по ложному пути» (т. II, стр. 445);
«В Двадцатые и Тридцатые казалась необратимой сращенность советского еврейства с большевизмом» (т. II, стр. 454);
«Когда-то они лились дружно и настойчиво поддерживать советский режим» (т. II, стр. 440);
«Когда же именно это случилось, что евреи из надежной подпоры этому режиму перекинулись едва ли не в главное противотечение?» (т. II, стр. 440);
«Мы видели слишком многих из них трубачами нашего фанатизма… И без них — еще и сам старея — большевицкий фанатизм не только потерял в горячности, но даже и перестал быть фанатизмом, он по-русски оленивел, обрежневел» (т. II, стр. 440);
«Теперь все обязаны принять, что они и всегда против этой власти сражались, и не напоминать, как они изрядно послужили этой тирании» (т. II, стр. 454);
«Не слышим раскаяния наших еврейских братьев хотя бы за 20-е годы» (т. II, стр. 484).
То, что евреи не идут толпами в Павлики Морозовы, особенно уязвляет Солженицына. Даже Павел Литвинов, из той отважной семерки, что «потянули свои чугунные ноги на Лобное место 25 августа 1968 года», чтобы «жертвой своей отмыть российское имя от чехословацкого позора» (подумать только: четверо из семерых отмывавших русское имя оказались евреями); так вот, отважный диссидент Литвинов ни разу не заклеймил позором своего деда Максима Литвинова, сталинского наркома (т. II, стр. 447). А когда Михаил Хейфец «проявил высоту души» и «отважился высказать призыв к еврейскому раскаянию», поставив в пример «опыт немецкого народа, который не отвернулся от своего ужасного и преступного прошлого, не пытался свалить вину за гитлеризм на других виновников», то призыв его подвергся дружному осмеянию (стр. II, стр. 470). Не пожелали низкие еврейские души, задрав штаны, бежать за гитлерюгендом, воспользовавшись тем, что тот их не успел додушить!
Веер укоров и поучений евреям у Солженицына всеохватен — мне его не исчерпать. Да и надо ли исчерпывать? «Протянутое рукопожатие» Солженицына опасно не для евреев. В его двух томах еще раз перелопачены давно известные мифы и предрассудки — одним перелопачиванием больше, только и всего. Его «рукопожатие» опасно для России, особенно в наше время, когда ее самосознание столь сильно травмировано ввиду затянувшегося системного кризиса.
В сегодняшней России группы фашиствующих молодчиков устраивают погромы на рынках и еврейских кладбищах, поджигают синагоги, избивают и убивают иностранных студентов и вообще иностранцев, «кавказцев», правозащитников. Их идейные вдохновители открыто публикуют смертные «приговоры» «недругам России», и даже когда такие приговоры приводятся в исполнение, виновных «не находят». В стране издаются сотни красно-коричневых и просто коричневых газет, публикуется и широко распространяется «классика» антисемитизма и нацизма — от «Протоколов сионских мудрецов» до «Майн Камф» Гитлера. Это не подпольные издания: издатели не скрывают ни своих имен, ни адресов. Однако все попытки привлечь к суду подстрекателей к национальной вражде торпедируются прокуратурой, а когда это не удается, судебные разбирательства превращаются в фарс. Травля «малого народа», создание из евреев «образа врага» России стали профессией для большого круга интеллектуалов и политических деятелей — от академика И. Шафаревича до «историка» О. Платонова, бывшего первого секретаря СП СССР В. Карпова, бывшего министра печати России, ныне сопредседателя так называемой национально-державной партии Б. Миронова, другого сопредседателя той же партии А. Севастьянова, редактора и издателя В. Корчагина, литератора и редактора газеты «Дуэль» Мухина, писателя и редактора газеты «Завтра» А. Проханова и целого сонма других «интеллектуалов».[841] Опросы общественного мнения фиксируют неудержимый рост ксенофобии и антисемитизма и столь же стремительной рост популярности Сталина и «сталинских соколов».
«Нельзя освободить народ внешне больше, чем он свободен внутренне», — предупреждал в свое время Герцен, и сколь же провидческими оказались эти слова! В августе 1991 года Россия сумела сбросить с себя ярмо коммунистического режима, но очень скоро оказалась в духовном тупике, что в значительной мере определяется недостатком внутренней свободы — от предрассудков, ненависти, от тоски по «сильной руке». Выход из тупика станет намечаться лишь тогда, когда интеллектуальная элита России перестанет искать виновных на стороне, а примется за тяжелую работу своего собственного внутреннего освобождения.
Двухтомник Солженицына тут не в помощь. Скорее, наоборот. Писатель присоединил свой голос к тем, кто заталкивает страну глубже в пропасть, хотя она и без того не делает достаточных усилий из нее выбраться. А ведь Солженицын считает себя патриотом, претендует на то, что знает, «как нам обустроить Россию», и вообще знает, «как надо».
Народная мудрость глаголет: Упаси меня, Боже, от таких друзей, а с врагами я и сам справлюсь.
Вместо заключения
Завершая заметки на полях двухтомника А. И. Солженицына, я хочу рассказать кое-что из своей биографии: не весть какие важные вещи для города и мира, но для меня — судьбоносные.
В 1960 году, когда я был студентом Московского инженерно-строительного института, но на лекциях почти не бывал, просиживая целые дни в редакции институтской многотиражки под не очень аппетитным названием «За строительные кадры», в эту газетку пришло письмо из отдела науки «Комсомольской правды». В нем говорилось, что «Комсомолка» хочет привлечь к сотрудничеству студентов технических вузов, умеющих и любящих писать. Опыт газеты показывает, говорилось в письме, что тем, кто пишет о науке, научно-технические знания важнее диплома факультета журналистики. Аналогичные письма были разосланы в многотиражки других технических вузов.
Ярослав Голованов
В назначенный день и час на шестом этаже здания «Правды», в Голубом зале, за огромным столом, собралось около двадцати студентов. Во главе стола сидел заведующий отделом науки Михаил Васильевич Хвастунов — высокий, тучный и (как я потом мог убедиться) душевно щедрый человек, а рядом с ним штатные сотрудники отдела: Ярослав Голованов (позднее автор известных книг об освоении космоса и космонавтах, биограф главного конструктора Королева, незадолго перед кончиной выпустивший трехтомник интереснейших дневников и воспоминаний) и Дмитрий Биленкин, ставший позднее писателем-фантастом (К сожалению, ни одного из них уже нет в живых).
Хвастунову тогда было лет 45. На его счету был десяток популярных книг о науке, переведенных на многие языки (он писал под псевдонимом М. Васильев), а его сотрудники были всего на четыре-пять лет старше нас, студентов. Собравшиеся читали стихи, рассказы, заметки, юморески. Волновались, как на экзамене, и, стараясь этого не показывать, много острили. Засиделись далеко заполночь. Подводя итог этому «смотру молодых сил», Михаил Васильевич (МихВас, как все его звали) сказал:
— Безнадежных здесь нет. Двери отдела науки для вас всегда открыты. Мы вам поможем. Остальное будет зависеть от вас. За каждую опубликованную строчку мы платим. (Последнее было немаловажно, учитывая мизерность наших стипендий).
Мы стали бывать в отделе науки, но большинство через какое-то время отсеялось. Остался костяк из шести-семи человек. В отделе науки стояло три рабочих стола, несколько стульев, большой кожаный диван и — постоянный треп. Рассказывали анекдоты, забавные истории. МихВас часто читал наизусть стихи поэтов серебряного века, которых хорошо знал, — лучше всего Брюсова и запретного Гумилева. У МихВаса, Димы и Славы всегда для нас было время. Было загадкой, когда они собственно работают. Впрочем, в горячие дни — для отдела науки это были дни космических запусков — они работали быстро, споро, и всем, кто приходил в такой день, хватало дела: мы помогали вычитывать гранки, рубить «хвосты», придумывать заголовки, аншлаги; поздно ночью нас развозила по домам редакционная «Волга».
Дмитрий Биленкин
Мои рукописи чаще редактировал Дима Биленкин, реже Слава Голованов. Дима был замкнут, суховат, слегка ироничен, требователен. Слава был более снисходителен. Но оба сажали меня рядом с собой, и фраза за фразой перебирали весь текст. Удалялись языковые штампы, лишние слова, иной раз перестраивалась композиция. Это была школа, стоившая нескольких университетских дипломов. Через какое-то время я печатался и в «Науке и жизни», «Технике молодежи», в других изданиях. Окончив институт, я — по распределению — попал на водопроводный участок № 13 в подмосковном Люблино, работал сменным инженером, но будущего уже не мыслил вне печати и литературы.
О том, что в «Комсомолке» пасется молодежь, разбирающаяся в естественных науках, было известно во многих редакциях, и когда появлялось штатное место, звонили МихВасу. Его рекомендации весили много, и постепенно весь наш выводок разошелся по разным изданиям — от «Пионерской правды» до ТАСС, от журнала «Изобретатель» до «Известий». Все — кроме меня, хотя с некоторого времени МихВас именно меня сватал особенно усиленно, не скупясь на похвалы. Все понимали, хотя и не говорили вслух (во всяком случае, при мне), что мне «не везет» из-за пятого пункта. Но МихВас не сдавался. В журнале «Советский Союз» я даже начал работать — условно, на волонтерских началах. Сделал два больших материала, в их числе очерк о работах известного генетика Б. Л. Астаурова, получившего тогда «диплом на открытие». Открытие — действительно крупное — было им сделано еще в 1947 году на тутовом шелкопряде, но лысенковцы его подвергли остракизму. И вот появилась возможность «вставить перо» всесильному Трофиму Денисовичу.
Для оформления меня в штат ждали возвращения из-за границы главного редактора журнала Николая Грибачева. Плохой поэт и закоренелый сталинист, сделавший карьеру на погроме космополитов (зловещая тройка Кочетов-Сафронов-Грибачев), он в основном представительствовал, разъезжал по свету, в текущую работу журнала не вникал и рядовых сотрудников едва замечал. Полагали, что коль скоро заведующий отделом науки и ответственный секретарь хотят меня взять, главный подмахнет не глядя. Но бдительный цербер знал свое дело…
В 1962 году в редакции книжной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» открылась штатная единица редактора.
«Молодая гвардия» была самым реакционным из центральных книгоиздательств. Ее продукция была выдержана в духе ортодоксальной партийности, во главу угла ставилось ура-патриотическое воспитание молодежи. Соответственно подбирались штатные работники и внештатные авторы. Серия ЖЗЛ была животворным оазисом в этой пустыне. Заведовал редакцией Юрий Николаевич Коротков — человек вулканического темперамента и неуемной энергии. Серия, как известно, была основана Максимом Горьким, но в атмосфере позднего сталинизма, когда каждое живое слово вытравлялось как покушение на единственно верное учение, она захирела. Выходило по три-четыре книги в год, в основном это были помпезные тома о «русском приоритете», густо усыпанные цитатами из классиков марксизма.
Возглавив редакцию вначале хрущевской оттепели, Коротков ее возродил из пепла. Но заметно хромал «бесхозный» раздел биографий ученых. Все сотрудники были гуманитариями, естественные науки их мало интересовали. Выбив дополнительную штатную единицу, Коротков решил подтянуть этот раздел.
Он проинтервьюировал многих и остановил свой выбор на неком Саше Левине, работавшем, кажется, на студии научно-популярных фильмов. Но когда дошло до его оформления в штат, директор издательства (директора часто менялись, в ту пору был Ю. Н. Мелентьев, затем ставший министром культуры РСФСР) поморщился и предложил подыскать кого-нибудь другого.
— В чем дело, — спросил Коротков, — чем он тебя не устраивает?
— А вот видишь, — ответил Мелентьев, — у него в трудовой книжке записан выговор за опоздание на работу.
— Но это было пять лет назад, выговор давно снят.
— А все-таки — был выговор!..
Это лицемерие возмутило Короткова. Придя в свою маленькую редакцию, он дал выход распиравшему его гневу:
— Если бы он прямо сказал, что не хочет брать еврея, я принял бы это к руководству. Но он не хочет еврея с выговором, так я найду без выговора.
«Евреем без выговора» оказался я.
Не буду говорить о трудностях, которыми сопровождалось мое оформление, но случай был уникальный. За десять лет работы в «Молодой гвардии» я был единственным евреем на все книжные редакции, а после моего ухода не осталось ни одного. Но еще за три года до меня заставили уйти Короткова. Поскольку доброе дело не остается безнаказанным, то именно моя книга «Николай Вавилов», признанная идеологически вредной (то есть более правдивой, чем власти хотели допустить), послужила одним (хотя и не единственным) из поводов к его изгнанию.[842] Надо было знать Короткова, знать, как дорога была ему серия ЖЗЛ, чтобы понимать, каким это было для него ударом!
Выпуская мою книгу — сильно урезанную, но все-таки опасную, ибо шел 1968-й год, когда советские танки вторглись в Чехословакию, и из Кремля тянуло не то что холодом, а трескучим морозом, — Коротков понимал, чем рискует. Мы пытались заслониться внутренними рецензиями, но верстка застряла у одного академического вельможи. Он долго меня избегал, а когда мне удалось до него дозвониться, сказал: «Я прочитал вашу книгу. Она не может быть издана. Сейчас, в свете чехословацких событий это невозможно!» Я заметил, что в книге ни слова нет о чехословацких событиях, на что последовала фраза, которую невозможно забыть: «А вот это неправильное заявление. Это полемическое заявление!»[843]
Разговор я передал Короткову. Он мрачно усмехнулся и — подписал корректуру в печать, — в какой-то мере, приговор самому себе…
На место Короткова был взят «правильный» человек, «патриот», Сергей Николаевич Семанов.
С. Семанов
Судя по недавней публикации Семанова в журнале «Наш современник», он получил доступ к «Особой папке» (то есть наиболее секретным документам) брежневского Политбюро. Наряду с материалами, раскрывающими закулисную возню вокруг таких памятных событий, как высылка А. И. Солженицына и ссылка А. Д. Сахарова, в его статье опубликован такой документ:
«Дорогой Леонид Ильич!
Одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую основу, главное богатство социалистической культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры в историческом духовном процессе, искажая ее высокие гуманистические принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить русский народ как главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству.
Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление русского социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма А. Митты „Как царь Петр арапа женил“, в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплевываются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ. До сих пор многие темы, посвященные нашему национальному прошлому, остаются запретными. Чрезвычайно трудно, а часто невозможно устроить выставку русского художника патриотического направления, работающего в традициях русской реалистической школы. В то же время одна за другой организуются массовые выставки так называемого „авангарда“, который не имеет ничего общего с традициями русской культуры, с ее патриотическим пафосом…
Деятели русской культуры, весь советский народ были бы Вам бесконечно благодарны за конструктивные усилия, направленные на защиту и дальнейшее развитие великого духовного богатства русского народа, являющегося великим завоеванием социализма, всего человечества.
С глубоким уважением, Михаил Шолохов.
14 марта 1976 г.»[844]
Приведя это послание, Семанов добавляет: «Ныне к этому письму уже необходимы некоторые пояснения. Фильмик про царя Петра и его арапа вызвал по выходе в 1976 году большой, хоть и негромкий скандал. Режиссер А. Митта (Рабинович) единственным достойным наследником Петра Великого показал его арапа в исполнении Владимира Высоцкого. Суть картины очевидна: в дикой России только нерусский человек может быть умным и благородным. Сценарий слепили опытные драмоделы Ю. Дунский и В. Фрид, а взвинченную музыку сочинил А. Шнитке — будущий „великий гений“, а тогда лишь скромный лауреат Госпремии РСФСР имени Н. К. Крупской».[845] И затем самое интересное: «Русофобское это киноизделие тогда вызвало многочисленные письменные протесты. В августе 1970 года [в дате явная путаница] автор данной статьи [то есть сам Семанов] привез эти материалы к Шолохову в Вешенскую».[846] (Курсив мой. — С.Р.)
М. Шолохов во время вручения ему Нобелевской премии
Итак, Семанов расписывается в том, что шолоховский донос был инспирирован лично им! А дальше он многословно возмущается тем, что в ЦК не сумели оценить порыв советского классика. По его словам, «русско-патриотическим заботам писателя дали полный отлуп». «Изображать дело таким образом, что культура русского народа подвергается ныне особой опасности, связывая эту опасность с „особенно яростными атаками как зарубежного, так и внутреннего сионизма“, — означает определенную передержку по отношению к реальной картине совершающихся в области культуры процессов. Возможно, т. Шолохов оказался в этом плане под каким-то, отнюдь не позитивным, влиянием», — заключил секретарь ЦК М. В. Зимянин.[847]
И ведь правильно заключил! Товарищ Шолохов оказался под влиянием специально приехавшего к нему товарища Семанова. Что не мешает Семанову задним числом негодовать: «Вот как! Писателю уже шьют „групповщину“. А никакого сионизма в СССР нет. Тысячи граждан в Израиль не уезжают. И Высоцкий, исполняющий в русофобском фильме Митты главную роль, не носит постоянно галстук с могендовидом».[848]
Думаю, теперь понятно, в какие патриотические руки попала серия ЖЗЛ. Правда, перевести ее на красно-коричневый путь Семанову удалось не сразу, хотя он рьяно взялся за дело. Биографический жанр трудоемок, книги пишутся долго, у серии был большой момент инерции. В редакцию продолжали поступать договорные рукописи, заказанные при Короткове, а черносотенная (прощу прощения — патриотическая) продукция стала поступать лишь года через два-три. Тогда уже оставаться в серии мне было немыслимо.
Какое отношение это имеет к книге Солженицына?
Попробую объяснить.
Исходный посыл двухтомника состоит в том, что существует «каленый клин» «еврейско-русских вопросов» и что «каленость» эта вызвана взаимными обидами и претензиями двух народов.
Я пытался показать фундаментальную ложность этого исходного тезиса. У евреев — как у народа — нет и не может быть никакого счета к русскому и любому другому народу, хотя у них есть — и навсегда останется неоплаченным — счет к антисемитам.
«Вопросы русско-еврейских отношений» создаются искусственно теми, кто, нагнетая ненависть к малому народу, выдает себя за «ум, честь и совесть» большого народа. Конечно, и среди евреев имеются неумные прямолинейные люди, принимающие это за чистую монету. Они либо верят клевете и сами начинают клеветать на свой народ (а потом уже на них ссылаются, как на «еврейские источники»), либо верят тому, что ненавистью к евреям одержим весь русский народ, а не самозванцы, присвоившие себе право выступать от его имени. Но, как писал после Кишиневского погрома Владимир Жаботинский, «фигура народа царственна и не подлежит ответственности». То есть в погроме повинны конкретные погромщики, подстрекатели, власти, а не весь народ.
У меня никогда не было и не могло быть счета к прекрасному, доброму, душевно щедрому русскому человеку Михаилу Васильевичу Хвастунову, или к Юрию Николаевичу Короткову, или к Ярославу Кирилловичу Голованову, к подавляющему большинству моих коллег по отделу науки «Комсомолки», по редакции ЖЗЛ, по другим редакциям, как к большинству моих нелитературных друзей, знакомых, сослуживцев, соучеников. Но у нас у всех — евреев и русских — был и остается счет к начальственным держимордам, к идеологам погрома типа Грибачева, Семанова, Шолохова — не того Шолохова, который написал «Тихий Дон» (если он его написал!), а того, кто в военную годину разносил молву об «Абрамах в Ташкенте», кто двадцатью годами позже громко призывал к «революционной расправе» над Синявским и Даниэлем, а через тридцать лет тихо подписал привезенный ему Семановым донос на создателей «сионистского» фильма и, вероятно, немало похожих доносов.
Когда мы читали в слепых самиздатских копиях романы Солженицына, когда ловили иностранные радиоголоса, чтобы узнать о том, как бодается отважный теленок с дубом советской системы, то все наше горячее участие было на его стороне — независимо оттого, кто из нас был русским и кто евреем.
С. И. Гусев-Оренбургский
А (уходя глубже в историю) какие претензии, какие счеты могут быть у евреев, например, к писателю и православному священнику С. И. Гусеву-Оренбургскому? А вот к В. В. Шульгину — одному из тех, кто развязал в России междоусобную бойню, лживыми публикациями подстрекал к погромам, а потом лицемерно их осуждал, — есть очень серьезный счет и у русских, и у евреев. Вряд ли надо объяснять, «что нам в нем не нравится».
В дореволюционной России, которая так люба Солженицыну, травля евреев, дискриминация, ограничительные законы, погромная агитация, распространение мифов о жидо-масонском заговоре, об иудейских ритуальных убийствах, о еврейском засилье, спаивании, так называемой еврейской эксплуатации, уклонении от воинской повинности, о ведущей роли евреев в революционном движении — были не самоцелью, а оружием борьбы властей против русского народа. Натравливание на евреев было лучшим способом держать его в узде, ибо, как отмечал еще Герцен, не может быть свободным народ, порабощающий другие народы. То же самое многократно усилилось в Советской России, хотя поначалу и маскировалось борьбой «атакующего класса» с «буржуазными элементами», но среди них евреи были представлены особенно «густо», тогда как во власти участвовала лишь горстка «отщепенцев», да и тех стали изгонять железной метлой, как только появилась первая генерация образованцев «коренной» национальности. А в позднесталинскую эпоху евреев «назначали» врагами России (или врагов системы назначали евреями): космополитами, сионистами, низкопоклонниками, наймитами, литературными власовцами Солженицерами.
Суть происходившего и до и после 1917 года лучше всех выразил В. Г. Короленко — в обращении «К русскому обществу» в связи с делом Бейлиса. Я его цитировал, но не вижу греха повторить:
«Те самые люди, которые стоят за бесправие собственного народа, всего настойчивее будят в нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав, готовые подавить их самыми суровыми мерами, — они льстят народным предрассудкам, раздувают суеверие и упорно зовут к насилиям над иноплеменными соотечественниками».
Солженицын этого не понимает либо, понимая, не принимает. В первом томе дилогии он исходил из того, что царь и народ — едины, власть и народ — едины, а воду мутят всякие «отщепенцы», преимущественно евреи, хотя, попадаются среди них и русские. Во втором томе песочные часы перевернуты, здесь власть, «густо окрашенная» евреями и опирающаяся на еврейство, обрушивает неисчислимые кары на русский народ.
Так мы приходим к тому, с чего начали. Из широкого спектра различных течений и настроений российской общественной мысли Солженицын наследует не ту традицию, выразителями которой были Л. Толстой, В. Короленко и десятки других деятелей гуманистического направления, а традицию «патриотов» типа М. О. Меньшикова, В. В. Шульгина, А. С. Шмакова и родственных им идеологов.
Двенадцать лет А. С. Солженицын потратил на эту тысячестраничную книгу, опирающуюся на тысячи односторонне подобранных, а часто и подтасованных источников, и не заметил, как по ходу этой доблестной работы из бывшего зэка сам превратился в конвойного!..
Согласно интернетовской gazeta.ru, «главную идею книги [Солженицына] можно пересказать одной фразой: ответственность за „великий перелом“ России в XX веке вместе с русскими делят и евреи; и тем и другим необходимо раскаяние, „раскаяние взаимное — и ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ СОВЕРШЕННОГО“».
Главная или не главная это идея, — можно спорить, но бесспорно то, что такова, по крайней мере, одна из его идей, причем раскрыта она однобоко, ибо евреям Александр Исаевич предъявляет длинный, с бухгалтерской скрупулёзностью составленный счёт, их вины густо окрашивают все тысячу сто страниц; а ответственность русских только абстрактно декларируется. Но если бы она не только декларировалась, это мало бы что исправило. Русским надо каяться перед самими собой. Да и не каяться, а осознать собственные ошибки и заблуждения, без чего невозможно их преодоление.
Я, как умел, показал, что «великий перелом» в России произошел в результате самоубийственной, саморазрушительной политики царя и его окружения. Царский режим был антинародным, и такой же была его политика; потому ни русский народ, ни еврейский, ни какой-либо другой ответственности за нее не несет. А если бы и можно было говорить о народной вине в каком-то высшем, метафизическом плане, то непонятно, в чем следует ее видеть — в том ли, что народ слишком долго терпел царский режим, или в том, что его сбросил. То же самое относится к большевистскому режиму, который народ, слава Богу, тоже сбросил, да снова получил не то, на что надеялся. В любом случае, под железной пятой большевизма все народы России искупили свою гипотетическую вину такими колоссальными жертвами, что колоть им ею глаза — жестоко и немилосердно.
Раскаяние — акт индивидуальный, интимный. Оно не может быть взаимным. Оно требует внутренней сосредоточенности, а не ревнивых оглядок на соседа: во всей ли полноте совершенного он кается, или не во всей? Столь же ли он усерден в своем раскаянии, как я? Не обвешивает ли меня втихомолку? А вдруг недодаст кусочек своего раскаяния, а я передам! Такое «раскаяние» — мелочный торг, а не духовное очищение.
Повторю еще раз: у меня нет ни малейшего намерения оправдывать евреев, которые лично участвовали в преступлениях коммунистического режима, как нет и потребности каяться за их грехи. (Свои бы грехи осознать, в них бы найти силы покаяться). И, тем более, у меня нет стремления умалять причастность евреев к тем потрясениям, которые переживала Россия до революции, во время революции и после революции, или к тому, что страна переживает сегодня. Евреи жили в одной стране с русским и другими народами царской, а затем советской империи; значит, содействовали всему хорошему и плохому, что происходило. Образовательный ценз у них был более высоким, чем в среднем по стране, потому и участие их во всем значимом (в революции и контрреволюции, в разрушении и созидании, в межпартийной и внутрипартийной борьбе, в науке и искусстве, в литературе и журналистике, в экономике и медицине) было относительно более весомым. Нравились они кому-то или не нравились, но они были такими, какими были, и иными быть не могли. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: человечество в целом, каждая страна в отдельности и Россия в особенности имели, имеют и будут иметь таких евреев, каких они заслуживают.
Поиски виноватого за соседским забором — это верный путь к повторению прошлого. Для того чтобы это прошлое преодолеть, требуется прямо противоположное: осознать и трезво его оценить: to come to terms with the past,[849] как говорят американцы.
Русскому самосознанию это не очень свойственно. Значительной части россиян хочется верить, что причина их бед — во вне. На классический вопрос «Кто виноват?» наготове ответ: варяги, татары, немцы, «малый народ», Запад, Америка, кавказцы, даже латыши и мадьяры. Только не сами русские! Отсюда и ответ на вопрос «Что делать?» предельно прост: «Ничего не поделаешь». Отсюда же и бессильная, застящая свет злоба: «Ату их всех!» Сегодня она реализуется в чеченской войне, в бесчинствах скинхедов, в ненависти к Америке, само собой, к евреям, да и к русским либералам и правозащитникам, пытающимся противостоять ненависти, — к ним-то больше всего. А пока громогласно подсчитывают процент еврейской крови в жилах того или иного «олигарха», в стране сокращаются рождаемость и продолжительность жизни, растет число беспризорных детей и детская проституция, процветает коррупция, укрепляется «вертикаль власти» взамен горизонтальных прав личности, улетучиваются остатки независимой прессы, возникшей при Ельцине, а после него — увядающей.
Во вступительной главе ко второму тому автор «неизбежно останавливается перед вопросом: „кто есть еврей?“, „кого считать евреем?“» (т. II, стр. 5). Почему этот вопрос не возник в начале первого тома, а только в начале второго, — неясно, но не это важно. Вопрос этот может иметь практическое значение, например, юридическое — там, где существуют особые законы для евреев и не евреев, или религиозное, когда речь идет об обрядах заключением брака, похорон и. п. В нравственном же аспекте тут останавливаться не перед чем: «Поэты — жиды!» (М. Цветаева). Каждый порядочный человек, тем более интеллигент, тем более писатель-гуманист, отождествляет и будет отождествлять себя с еврейством до тех пор, «когда навеки похоронен будет / последний на земле антисемит» (Е. Евтушенко), да ведь не дождаться нам этого времени!
Е. А. Евтушенко
Солженицын считает, что Евтушенко «своим „Бабьим яром“ причислил и себя к евреям по духу» (т. II, стр. 430). Что ж, каждый понимает в меру… своего понимания. Я полагаю, что поэт, в свой поистине звездный час — отнюдь не как еврей по духу, а как настоящий русский, — создал произведение, конгениально продолжающее лучшие традиции великой русской литературы.
В свои звездные часы и Александр Солженицын создал ряд выдающихся произведений в русле тех же традиций. Они навсегда останутся не только в литературе, но и в общественном сознании. Но не «Двести лет вместе». Эти два тома написаны не с добрым сердцем, а с камнем за пазухой. Если их будут вспоминать историки и литературоведы, то как пример творческого и общественного падения большого писателя.
Оглядываясь на пройденный им путь (а ведь это наш общий, целого поколения путь!), я испытываю горечь. Больно. За державу обидно. За русскую и еврейскую интеллигенцию. Эти тысяча сто страниц — не только личная неудача писателя Александра Солженицына. Он ведь не один из многих писателей. Он один из немногих. Единственный. Аккумулирующий в себе слишком многое. Его беда — это российская беда. Его творческая деградация — наша общая деградация.
Спазмы перехватывают горло, когда вспоминаешь — какое было начало! Какой потрясающий взлет! Какая высота духа достигнута была в одночасье, всего-то одним прыжком, одним взмахом крыла, ОДНИМ ДНЕМ Ивана Денисовича! И такое долгое, медленное, неумолимое скольжение под уклон, по коричневому треку, в трясину ненависти протяженностью в ДВЕСТИ ЛЕТ!..
А. И. Солженицын
«Повторяю, как лепил и большевикам: не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а — когда их делают», — говорит Солженицын (т. II, стр. 335). Это хорошо залеплено! Но забыто главное: для писателя — писать неотделимо от делать. Ибо «СЛОВО ПИСАТЕЛЯ ЕСТЬ ДЕЛО ЕГО!» (Пушкин).
Приложение 1 Лебедь белая и шесть пудов еврейского жира
1.
В связи с выходом в свет первого тома книги А. И. Солженицына «Двести лет вместе», главный редактор еженедельника «Московские новости» В. Лошак побеседовал с автором. Среди многого другого, в интервью было и такое место:
В. Лошак: Приведу вам пример более простой прямой провокации. Недавно у нас в «Московских новостях» появился человек, оставивший книгу «Александр Солженицын „Евреи в СССР и в будущей России“». Из этого опуса следует лишь одно: ваше авторство просто фальсифицируют.
А. Солженицын: Это хулиганская выходка психически больного человека. В свою пакостную желтую книжицу он рядом с собственными «окололитературными» упражнениями влепил опус под моим именем. Ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля, что исключает какой бы то ни было комментарий, а от судебной ответственности этого субъекта спасает только инвалидность.[850]
Итак, читателей предупредили: осторожно, подлог! Солженицыну приписан «пакостный опус», к которому он отношения не имеет.
Что ж, такое происходит не впервой! Я писал в свое время, что как булыжник — оружие пролетариата, так подлог — основное оружие антисемитов. Достаточно вспомнить сфабрикованные царской охранкой и приписанные неким главарям еврейства «Протоколы сионских мудрецов» или приписанную В. И. Далю «Записку о ритуальных убийствах», не говоря о сонме менее знаменитых апокрифов, чтобы не удивляться тому, что фальсификаторы могли воспользоваться и громким именем Солженицына.
Правда, кое-что в приведенных строках озадачивало. Чувствовалась недоговоренность, нестыковка. Из слов интервьюера следовало, что фальшивка, неизвестно кем состряпанная, издана отдельной книгой, тогда как интервьюируемый сказал, что «опус» «влеплен» в книгу другого автора, причем вовсе не анонимного. Было очевидно, что личность этого автора известна (Солженицын даже осведомлен о его здоровье), но имени его не называлось. В. Лошак определил издание апокрифа как «прямую провокацию» против Солженицына (о том, что это провокация против евреев, он, видимо, не подумал), тогда как Александр Исаевич квалифицировал эту акцию как хулиганство пополам с умопомешательством.
А. И. Солженицын
Но стоило ли придавать значение мелким противоречиям, если было четко заявлено, что Солженицын к «опусу» не причастен? И вдруг — почти два года спустя — в московской газете «Еврейские новости» появилось Открытое письмо А. И. Солженицыну о том самом «опусе». Оказалось, что он опубликован в книге Анатолия Сидорченко «Soli Deo Gloria». Автор открытого письма Николай Пропирный писал, что в этом «опусе» и во втором томе «Двухсот лет вместе» имеются текстовые совпадения, «а глава „В лагерях“, слегка расширенная, — так и вообще перекочевала слово в слово».[851] Автор просил Солженицына прокомментировать ситуацию, «вываливающуюся за пределы цивилизованного поля».
Хотя никаких объяснений не последовало, я отнесся к письму Н. Пропирного с долей скептицизма. Что значит — «перекочевала слово в слово»? Не мог же такой опытный конспиратор, как Солженицын, закаленный в литературных и нелитературных баталиях, допустить столь явный прокол! Положим, что работа, изданная в 2000-м году под его именем, — не фальшивка. Но он же от нее публично отказался! Что же мешало ему при подготовке к печати второго тома «Двухсот лет» переиначить совпадающие места, чтобы затушевать родство этих двух работ!
В каталоге Библиотеки Конгресса книга Сидорченко не числится; найти ее в других библиотеках США мне тоже не удалось. Спасибо московским друзьям, приславшим ксерокопию той части книги, которая опубликована под именем А. И. Солженицына, а с ней и аннотацию ко всей книге.[852]
Из аннотации следует, что фолиант издан за счет самого Анатолия Сидорченко (видать, бессребреник!) и состоит из трех разделов: первый — работа А. Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России», а два других принадлежат перу самого публикатора: «Soli Leo Gloria» и «„Тиходонская“ трагедия писателя Федора Крюкова».[853]
Сидорченко заявляет себя «горячим поклонником Солженицына», а свои собственные творения именует «плодотворным откликом на творчество великого писателя со стороны творческой личности другого поколения „родом из войны“» (стиль автора — С.Р.). По его словам, первая из вошедших в книгу его собственных работ «продолжает солженицынское рождение русской евреелогии — науки о евреях»; вторая же — «по средством дальнейшего развития магистральных идей Солженицына по „тиходонской“ проблеме наконец-то кладет конец всем загадкам и тайнам „Тихого Дона“» (снова стиль автора. — С.Р.).[854]
Как видим, г-н Сидорченко хотя и упивается собственными творческими достижениями на поприще евреелогии, но свое место знает. Пальму первенства он отдает великому вдохновителю и организатору магистральных побед. Потому и открывает книгу «шедевром Александра Солженицына о евреях: взгляд 1968 года».[855]
Взгляд 1968 года?
Это интересно! Подделать текст объемом 72 страницы книжного формата (больше четырех печатных листов!) под стиль и реалии столь отдаленного прошлого — задача не из легких. Надо досконально знать специфические реалии того времени, четко представлять настроения, дискуссии, споры, атмосферу конца 1960-х. Причем, не только официальную атмосферу, но и ту, что превалировала в диссидентских и полудиссидентских кругах, близких Солженицыну. И ни в чем не промахнуться, не допустить никаких более поздних наслоений. Стоит упомянуть что-то относившееся, допустим, к 1969-70-му году, и сразу же обмишуришься! Между тем, датировка работы определена не только в предваряющей ее аннотации, но и в итоговых строчках текста, приписанного Солженицыну. Для автора (кто бы им ни был) это важный опознавательный знак:
«1-я редакция — дек. 1965 г.
2-я редакция — сент. / дек. 1968 г. пос. Рождество-на-Истье».[856]
Не слишком это ли большой риск для фальсификатора?
Я не имел ни возможности, ни желания провести полную историко-литературо-источниковедческую экспертизу текста, но читал его въедливо. Ни одной подробности, которая бы указывала на более позднее написание этой работы, я не обнаружил.
Затем — язык, стихия языка! Прозе-публицистике Солженицына свойственен особый, несколько архаичный, вернее архаизированный, ни на кого не похожий, — стиль. Кое-кому он представляется нарочитым, но это дело вкуса. Я лично считаю, что своим неповторимым слогом — не только содержанием! — Солженицын внес в многоцветную палитру русской литературы особые тона. Его повествовательная манера остро своебычна. Надо быть лишенным обоняния, чтобы не чувствовать острого аромата солженицынского слова. И вот работе, о которой мы говорим, присущ этот аромат. Вчитаемся хотя бы в ее зачин:
«Обломистый, острозубый, неухватистый камень, который и поднять нам как-будто не по силам и не поднять — нельзя» (стр. 3).
Или чуть дальше:
«Но едва мы отсадим все живые ветви окраин и захотим остаться одним стволом, в своем доме одни — как узнаем, что не все национальные переплетения мы распутали: еврейское — останется. Тут-то и натянутся до звона его нити, и всегда больные, всегда напряженные» (стр. 3).
Если это подделка под Солженицына, то очень умелая, выполненная мастером стилизации, владеющим пластикой русской речи вообще, и проникшим в строй солженицынской языковой стихии в особенности. У самого Сидорченко до звона натянуты струны отношений с русским языком, ему этот обломистый, острозубый камень точно не поднять! Но что ж с того? Подделку мог изготовить другой искусник, а подсунуть ее Анатолию Сидорченко — даже и третий. Как установить, является ли предполагаемый подлог подлогом или нет? Не миновать сопоставления двух текстов: «шедевра 1968 года» (в дальнейшем ШЕД-1968) и двухтомника «Двести лет в месте» 2001–2002 годов (в дальнейшем ДЛВ-2001 и ДЛВ-2002).
2.
Взявшись за такое сопоставление, я обнаружил, что глава «В лагерях» перекочевала из ШЕД-1968 в ДЛВ-2002 не полностью — Н. Пропирный действительно преувеличил. Зато текстуальные совпадения — иногда всего в несколько строк, а иногда и в несколько абзацев — обнаружились не только во втором томе, но и в первом, хотя в нем их немного. Оно и понятно: Первый том «Двухсот лет» посвящен дореволюционному периоду, тогда как в «шедевре 1968 года» этот период затронут мало.
Параллельное выписывание совпадающих кусков текста заняло у меня три дня, но поручиться, что я выявил все совпадения, не могу: почти уверен, что какую-то часть пропустил. Задача осложняется тем, что не во всех случаях текстовые совпадения стопроцентны. Текст 1968 года подвергался-таки редакторской правке. Но в иных случаях именно правка еще сильнее обнажает пуповину, соединяющую две работы, написанные с разрывом более тридцати лет. Например, часты замены настоящего времени на прошедшее, что логично: то, что в 1968 году было настоящим, теперь стало прошлым. Кое-где текст 1968 года уточнен или эмоционально усилен. Куски не просто переписывались из одной тетрадки в другую, но продолжалась работа над словом. Например, в ШЕД-1968 можно прочесть, что евреям свойственна «чуткость к общественным течениям, к миру будущего» (стр. 29). В ДЛВ-2002 «мир будущего» превратился в «проступ будущего» (т. II, стр.252). Это, конечно, изящнее.
Но чаще текст 1968 года, напротив, разжижен, приглушен, сглажен; его эмоциональный накал ослаблен. Почему, с какой целью — об этом разговор впереди.
Пока же сосредоточимся на полных или почти полных текстовых совпадениях.
(Совпадающие фрагменты выделены жирным курсивом, так как простым курсивом пользуется Солженицын в «Двести лет вместе», а жирным шрифтом даются выделения в работе «Евреи в СССР и будущей России» в книге А. Сидорченко).
Итак, начнем с начала — с объяснения замысла работы:
ШЕД-1968: «Рад бы я был не пытать своих сил на этой нестерпимой остроте: она еще не подступила, а сегодня так много другой, острейшей боли… Я встал однажды на путь говорить обо всем „запрещенном“» (стр. 3).
ДЛВ-2001: «Рад бы я был не пытать своих сил еще на такой остроте. Но я верю, что эта история — попытка вникнуть в нее — не должна оставаться „запрещенной“» (т. I, стр. 5).
ШЕД-1968: «Даже писать о еврейском вопросе — идти по лезвию ножа. С двух сторон ощущаешь на себе ненавидящие глаза, укоры, обвинения, и проклятья. За одну и ту же самую недвусмысленную фразу одновременно слышишь: одним ухом — „предался жидам!“, другим — „и ты с антисемитами!“ (стр. 3)
ДЛВ-2001: „Но, по порывам общественного воздуха, — получается чаще: как идти по лезвию ножа. С двух сторон ощущаешь на себе возможные, невозможные и еще нарастающие упреки и обвинения“ (т. I, стр. 6).
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Вот, например, такая пара фраз:
ШЕД-1968: „Но и вся история человечества в том, что из самых естественных порывов людей вырастают неестественные чудовища“ (стр. 29–30).
ДЛВ-2002: „Но в истории человечества не раз бывало, что из самых естественных порывов людей — потом вдруг да вырастали неестественные чудовища“ (т. II, стр. 251–252).
Вот два отрывка, освещающие такую „тонкую“ для „евреелогии“ материю, как библейская концепция богоизбранности евреев:
ШЕД-1968: „Что Бог избрал для своего человеческого воплощения и, во всяком случае, для исходной проповеди именно эту нацию и уже потому она избранная — этого не может отрицать христианин. Не вопить, что „нашего Христа распяли“, такие-сякие, — то было обычное ожесточение всякой фанатической толпы против своего светлого пророка, — но вспомнить: а Христос-то их избрал почему-то, хотя рядом были ясноумные эллины.
Эту загадку религиозной избранности — признать и принять“ (стр. 19).
ДЛВ-2002: „Что Бог избрал для своего человеческого воплощения и, во всяком случае, для исходной проповеди именно эту нацию и уже потому она избранная — этого не может отрицать христианин. „Распни, распни Его!“ — то было всеобычное неизбежное ожесточение всякой темной фанатической толпы против своего светлого пророка, — мы же всегда помним: Христос пришел почему-то к евреям, хотя рядом были ясноумные эллины, подальше и всевластные римляне. Эту загадку религиозной избранности — как не признать“ (т. II, стр. 18).
Изменения, которые за 34 года претерпела „загадка религиозной избранности“, невелики: два абзаца слиты в один да к „ясноумным эллинам“, обойденным почему-то Иисусом Христом, присовокуплены „всевластные римляне“.
Автора(ров) обеих работ волнует „непропорционально“ большое участие евреев в историческом процессе. Ну, совпадение мыслей в двух разных текстах не должны удивлять: кого из евреелогов не возбуждала эта жгучая тема! Народец такой плюгавенький — под микроскопом не разглядишь, а путается под сапогами без малого четыре тысячи лет. И у ясноумных эллинов путался, и у всевластных римлян, и раньше них, и позже — вплоть до сего дня. Кого только не озадачивала эта мировая загадка! Но для нашей темы важно не то, что в двух сопоставляемых текстах сказано об этом волнующем предмете, а как. Легко убедиться, что сказано одинаково!
ШЕД-1968: „Когда евреев упрекают, что из них непропорционально многие стали торговцами, ростовщиками, банкирами — они справедливо возражают: а социалистами? Они были передовым отрядом, создавшим мир капитала, они же — передовым отрядом, разрушившим его“ (стр. 29–30).
ДЛВ-2002: „Евреям нередко ставилось в упрек, что на протяжении истории из них непропорционально многие были ростовщиками, банкирами, торговцами. Да, евреи были передовым отрядом, создавшим мир капитала… Однако: и в разрушении монархии, и в разрушении буржуазного порядка, как и в утверждении его перед тем, евреи также послужили передовым отрядом“ (т. II, стр. 251–252).
Вот еще один пример повторяемости текста, особенно яркой — благодаря неожиданному, драматически заостренному повороту мысли:
ШЕД-1968: „Я замечал, что именно евреи чаще других настаивают: не обращать внимание на национальность! при чем тут „национальность“? какие могут быть „национальные черты“, „национальный характер“?
И я готов шапкой хлопнуть оземь: „Согласен! Давайте! С этой поры…“
Но надо же видеть, куда бредет наш злополучный век. Больше всего блюдут, различают люди в людях — нацию. И, руку на сердце — ревнивее всех, затаеннее всех, пристальнее всех — евреи! — свою нацию.
Как чеховским персонажам на неудавшейся тяге остается нам вздохнуть: „Рано!..““ (стр. 15).
ДЛВ-2002: Я замечал, что именно евреи чаще других настаивают: не обращать внимание на национальность! при чем „национальность“? какие могут быть „национальные черты“, „национальный характер“?
И я готов шапкой хлопнуть оземь: „Согласен! Давайте! С этой поры…“
Но надо же видеть, куда бредет наш злополучный век. Едва ли не больше всего различают люди в людях — почему-то именно нацию. И, руку на сердце: настороженней всех, ревнивее и затаеннее всех — отличают и пристально отслеживают — именно евреи. Свою нацию.
… Выходит, с теми чеховскими персонажами на несостоявшейся ранневесенней тяге остается и нам только вздохнуть: „Рано!“» (стр. 462–463).
С чего бы это евреям (и именно им!) настаивать на том, чтобы никак не обозначать национальность, а в тайне отслеживать своих? Наверное, не для хороших дел заводится эта двойная бухгалтерия! Тут-то и вытаскивают их за ушко да на солнышко авторы обоих текстов:
ШЕД-1968: «Особенно в притеснениях русской деревни и в гонениях на православную церковь было разительным, обидным и несмываемым участие каждого иноплеменника. А сколько было именно их! И в том числе евреев. В пренебрежении оказался завет русской пословицы:
Не гони бога в лес, коли в избу влез» (стр. 32).
ДЛВ-2002: «И именно в гонениях на православную церковь (затем и на деревню), — как ни позорно участие в них крестьянских сыновей, — было разительным, обидным и несмываемым участие каждого иноплеменника. Прямо против завета русской пословицы: Не гони Бога в лес, коли в избу влез» (т. II, стр. 276).
Но разве гонения ограничивались только православием и крестьянством? Нет, конечно.
ШЕД-1968: «В конце двадцатых годов прошла полоса инженерных процессов — избивали и убивали всю старую инженерию, а она была подавляюще русская по составу.
Громили и другие устои русской науки…» (стр. 33).
ДЛВ-2002: «С конца Двадцатых на Тридцатые прошла полоса судебных процессов и над инженерами: избивали и убивали всю старую инженерию — а она была по своему составу подавляюще русская. Да еще прослойка немцев.
Также громили в те годы устои и кадры русской науки во многих областях…» (т. II, стр. 274).
Вот и верь после этого древним философам, что дважды нельзя войти в одну и ту же реку. Очень даже можно! Не то что через час или на следующий день, а даже через 34 года!
3.
Прежде чем продолжать параллельные выписки, я должен извиниться перед А. И. Солженицыным и читателями. В главе «В тюремных бушлатах» я приводил следующую выписку:
«Если бы я там [в ГУЛАГе] не был — не написать бы мне этой главы… Национальность — едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный корпус придурков. Всякий лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что национальные соотношения среди придурков далеко не соответствовали национальным соотношениям в лагерном населении. Именно прибалтийцев в придурках почти совсем не найдешь, сколько бы ни было их в лагере (а их было много); русские были, конечно, всегда, но по пропорции несомненно меньше, чем их в лагере (а нередко — лишь по отбору из партийных ортодоксов); зато отметно сгущены евреи, грузины, армяне; с повышенной плотностью устраиваются и азербайджанцы, и отчасти кавказские горцы» (т. II, стр. 330).
По поводу этого отрывка я написал: «не слишком ли кстати поставлены в ряд с евреями все кавказские народы („кавказцы“, по сегодняшней терминологии). Неужели мало той ненависти к кавказцам, какая и без того сейчас разлита по России — чуть ли не в большей степени, чем к евреям!»
Признаю, что напрасно заподозрил А. И. Солженицына в стремлении потрафить низменным инстинктам сегодняшней толпы. Ничего подобного в его мыслях не было! Ведь данный абзац переписан из «шедевра» 1968 года, а тогда среднестатистические россияне относились к кавказцам, во всяком случае, не хуже чем, например, к прибалтам. Вот этот текст, как он выглядит в ШЕД-1968:
«Если бы я там не побывал — не написать бы мне этой работы (как и всех моих книг)… Ибо национальность — едва ли не главный признак, по которому зеки отбираются в спасительный корпус придурков. Всякий беспристрастный лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что национальные соотношения среди придурков далеко не соответствуют национальным соотношениям в лагерном населении. Именно прибалтийцев там почти совсем не найдешь, сколь бы ни было их в лагере (а их — много); русские есть всегда, но по пропорции несомненно меньше, чем их в лагере; непомерно сгущены, армяне, грузины, евреи (чаще бывает так, что все армяне, грузины и евреи, сколько их есть в лагере — все придурки, на общих работах их нет); с повышенной плотностью устраиваются азербайджанцы, и отчасти кавказские горцы» (стр. 45).
Вот еще пара выписок из той же главы:
ШЕД-1968: «До лагерей и я так думал: „наций не надо замечать“, никаких наций вообще нет, есть человечество. До лагерей был интернационалистом — энергично наивным, неистовым.
А в лагерь присылаешься и узнаешь: если у тебя удачная нация — ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил! Если общая нация — не обижайся» (стр. 45).
ДЛВ-2002: «До лагерей и я так думал: „наций не надо замечать“, никаких наций вообще нет, есть человечество.
А в лагерь присылаешься и узнаешь: если у тебя удачная нация — ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил! Если общая нация — не обижайся» (т. II, стр. 330).
И еще одна пара:
ШЕД-1968: «И собственно — никого из них нельзя в этом винить. Каждая нация в Гулаге ползла спасаться, как может, и чем она меньше, и чем поворотливей — тем легче ей это удается. А русские в своих собственных „русских“ лагерях — опять последняя нация, как были и у немцев в их лагерях.
Не мы — их, а они — нас в полном праве обвинить, армяне, грузины или горцы: а зачем вы устроили эти лагеря? А зачем вы держите нас силой в вашем государстве? Не держите! — и мы не станем сюда попадать и захватывать такие привлекательные места. А пока мы у вас в плену — на войне как на войне.
И они правы. Зачем мы держим их? Мы давно должны были дать им свободу.
Это относится и к евреям, с той только разницей, что отпустить мы их не в силах и сами они уехать не в силах, хотя б завтра и пали преграды, установленные твердолобым правительством. Перепутал нас рок может быть навсегда, из-за чего эта работа и пишется» (стр. 45–46).
ДЛВ-2002: «И, собственно, — никого из них нельзя в этом в этом винить. Каждая нация в Гулаге ползла спасаться, как может, и чем она меньше и чем поворотливей — тем легче ей это удавалось. А русские в „своих собственных русских“ лагерях — опять последняя нация, как были у немцев в Kriegsgefangenenlagers.
Впрочем, не мы их, а они нас вправе были обвинить, армяне, грузины, горцы: а зачем вы устроили эти лагеря? а зачем вы держите нас силой в вашем государстве? Не держите! — и мы не станем сюда попадать и захватывать такие привлекательные придурочные места. А пока мы у вас в плену — на войне как на войне.
А как с евреями? Ведь переплёл русских с евреями рок, может быть и навсегда, из-за чего эта книга и пишется» (т. II, стр. 330).
Хочу обратить внимание не только на сходство двух приведенных отрывков, но и на отличия. В 1968 году советская власть держала в железных объятиях все республики, включая кавказские, а третирование евреев сопровождалось запретом на эмиграцию. Отсюда и предложение их всех отпустить. В 2002-м году повторить это требование — значило бы обнаружить истинное время написания текста. Ни советского правительства, ни «союза нерушимого республик свободных» нет, да и евреям давно позволено катиться на все четыре стороны. Текст соответственно подчищен. А во всем остальном — на войне как на войне.
Вот еще пара близнецов-братьев:
ШЕД-1968: «Но ещё прежде того, прежде вот этой строчки, именно евреи с живостью оспорят, что я высказал правду. Они скажут, что многие евреи были на общих работах и даже принципиально на них. Они отрекутся, что были такие лагеря, где евреи составляли большинство среди придурков. Тем более отвергнут они, что будто бы помогают друг другу избирательно и, значит, за счёт остальных. Одни неискренне, а другие и вполне искренне скажут, что они и не считают себя какими-то отдельными от нас евреями, а считают такими же русскими, и если где получался перевес евреев на ключевых лагерных постах, то совсем не преднамеренно, выбор шёл по личным признакам, по таланту. Будут и такие, кто горячо утвердит прямо противоположное: что никому в лагере не жилось так тяжело, как евреям (подобные письма есть у меня от М. Варшавской, просидевшей 12 лет, от анонимного еврея, который написал: „вы встречались с евреями, томившимися вместе с вами безвинно, были очевидно, не раз свидетелями их мучений и унижений. Они терпели двойной гнет: заключение и вражду со стороны заключенных. Расскажите об этих людях!“).
И если я захотел бы обобщить, что евреям в лагерях жилось особенно тяжело, — мне это будет разрешено, я не буду осыпан упрёками за несправедливое национальное обобщение. И поскольку я видел иначе: и собираюсь рассказать, что евреям жилось в лагере легче, чем остальным, — сейчас со всех сторон я услышу: „только не обобщать!“, „только не обобщать!“» (стр. 46).
ДЛВ-2002: «Но ещё прежде того, прежде вот этой строчки, найдутся читатели, бывшие в лагерях и не бывшие, кто с живостью оспорит, что я высказал тут правду. Они скажут, что многие евреи были на общих работах. Они отрекутся, что были такие лагеря, где евреи составляли большинство среди придурков. Тем более отвергнут они, что будто бы нации в лагерях помогали друг другу избирательно и, значит, за счёт остальных. А кто вообще не считают себя какими-то отдельными евреями, а ощущают такими же во всём русскими. Если же где получался перевес евреев на ключевых лагерных постах, то совсем не преднамеренно, выбор шёл по личным признакам, по таланту, по деловым свойствам. Кто ж виноват русским, что у них нет деловых свойств?.. Будут и такие, кто горячо утвердит прямо противоположное: что никому в лагере не жилось так тяжело, как евреям, да это и на Западе так понято: в советских лагерях тяжче всего страдали евреи. Среди писем по „Ивану Денисовичу“ было у меня и такое, от анонимного еврея: „Вы встречались с евреями, томившимися вместе с вами безвинно, были, очевидно, не раз свидетелями их мучений и гонений. Они терпели двойной гнёт: заключение и вражду со стороны заключённых. Расскажите об этих людях!“
И если я захотел бы обобщить, что евреям в лагерях жилось особенно тяжело, — мне это будет разрешено, и я не буду осыпан упрёками за несправедливое национальное обобщение. Но в лагерях, где я сидел, было иначе: евреям, насколько обобщать можно, жилось легче, чем остальным» (т. II, стр. 330).
Как видим, и у этих однояйцовых близнецов совпадающий генетический код, только причесаны чуть по-разному. Даже письмо от анонимного еврея, полученное А. И. Солженицыным в числе откликов на «Ивана Денисовича», оказалось в точности известно его двойнику!
4.
Вероятно, я утомил читателя этими избыточными парами выписок, но, думаю, в данном случае перебор надежнее недобора. Приведу еще несколько совпадающих пар — теперь уже касающихся характеристики взглядов, поступков, высказываний, деятельности отдельных лиц.
О Борисе Пастернаке читаем:
ШЕД-1968: «Пастернак в „Докторе Живаго“, хотя и относя действие книги ко времени революции, но не устраняясь же от жизненного опыта двух последующих десятилетий, пишет: „быть евреем?.. это безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя“, „эта стыдливая, приносящая одни бедствия самоотверженная обособленность“. И еще: „их (евреев) слабость и неспособность отражать удары“. Как не окоснеть от недоумения над этими строчками? Ведь перед нашими глазами была одна и та же страна, в те же десятилетия — но мы увидели совершенно противоположное! „Неспособность отражать удары“? А — наносить? Да еще какие!» (стр. 33).
ДЛВ-2002: «И тут — в наш переклик вступает Б. Пастернак. В „Докторе Живаго“, правда уже после Второй Мировой войны и грянувшей еврейской Катастрофы, со всем горчайшим грузом ее, со всем изменившимся мировоззрением, — но ведь в романе же держа в виду именно годы нашей революции, — он пишет об „Этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности“. И еще: „их [евреев] слабость и неспособность отражать удары“.
Однако перед нашими глазами была одна и та же страна: в разных возрастах, но ведь мы жили в ней одни и те же 20-30-е годы. Современник тех лет должен бы окоснеть от недоумения» (т. II, стр. 99).
Об Илье Эренбурге:
ШЕД-1968: «Эренбург был едва ли не главным трубадуром всей войны, и лишь в самом конце ее был осажен, когда опозднясь, зарвался в своих требованиях мести» (стр. 42).
ДЛВ-2002: «Эренбург отгремел главным трубадуром всей той войны, утверждая, что „немец по природе своей зверь“, призывая „не щадить даже неродившихся фашистов“ (то есть так понимать: убивать беременных немок), и лишь в самом конце был осажен, когда война уже покатилась по территории Германии и стало ясно, что армия слишком хорошо усвоила пропаганду безудержной мести всем немцам подряд» (т. II, стр. 349).
О Нафталии Френкеле:
ШЕД-1968: «Ничем другим, кроме жажды мести, не могу я объяснить (пусть объяснит, кто может) загадочное возвращение в СССР из Турции Нафталия Френкеля, демона Архипелага ГУЛаг. Покинуть обеспеченное, богатое и свободное положение предпринимателя, уже благополучно эмигрировав из России при первом дуновении революции, никогда не имев и тени коммунистических взглядов и — вернуться? вернуться, чтобы стать игрушкою ГПУ и Сталина, много лет отсидеть в заключении самому — но вершить беспощадное подавление заключенных (русских) инженеров и уничтожение сотен тысяч работяг (в основном „раскулаченных“ русских)? Что двигало его ненавистно-злым сердцем?» (стр. 32–33).
ДЛВ-2002: «О Нафталии Френкеле, неутомимом демоне „Архипелага“, особая загадка: чем объяснить его странное возвращение в СССР из Турции в 20-е годы? Уже благополучно удрал из России со своими капиталами при первом дуновении революции; в Турции уже получил обеспеченное, богатое и свободное положение; никогда не имел и тени коммунистических взглядов. И — вернуться? Вернуться, чтобы стать игрушкою ГПУ и Сталина, сколько-то лет отсидеть в заключении самому, — зато вершить беспощадное подавление заключенных инженеров и уничтожение сотен тысяч „раскулаченных“? Что двигало его ненавистно злым сердцем? Кроме жажды мести к России не могу объяснить ничем. Пусть объяснит, кто может» (т. II, стр. 335–336).
В данном случае, текст перелопачен композиционно. Зачем понадобилась автору такая перестройка, трудно сказать, но еще труднее усомниться в том, что оба абзаца написаны одной и той же рукой.
Здесь уместно заметить, что никаким демоном ГУЛАГа Нафталий Френкель не был, и в Россию вернулся вовсе не из жажды мести (кому? за что?), а из жажды наживы. Его возвращение в начале 1920-х годов — не большая загадка, чем возвращение многих эмигрантов, поверивших, что с введением НЭПа «романтический период» большевистской диктатуры завершился. Многим казалось, что большевистская власть спустилась на землю, встала на реальную почву и будет эволюционировать в направлении большей терпимости и законности. На базе таких представлений в эмиграции возникло движение сменовеховцев; один из его лидеров, бывший кадет и евразиец (не путать с современными евразийцами) Николай Устрялов активно призывал эмигрантов возвращаться на родину, видя в этом патриотический долг. Позднее, уже в 1935-м, он и сам вернулся в СССР и через два года был расстрелян как японский шпион.
В начале двадцатых вернулся в Советскую Россию «трубадур» Илья Эренбург, как и другой, не менее известный писатель, но куда более последовательный трубадур сталинизма Алексей Толстой. Несколько позже и Максим Горький. Это наиболее громкие имена. Но возвращались не только знаменитости. Были в их числе профессора, интеллигенты, бывшие царские офицеры и, конечно, дельцы, почуявшие, что НЭП открывает для них большие возможности (и в этом, конечно, обманувшиеся).
К таким дельцам принадлежал и Френкель, очень скоро загремевший на Соловки с десятилетним сроком — то ли за контрабанду, то ли за то, что не смог или не захотел заплатить непомерно большую взятку, затребованную ГПУшниками, а, может быть, за то и другое по совокупности. Осмотревшись и разобравшись в хаосе, который царил в концлагере, где зэки без всякого смысла тысячами гибли от голода, холода и тифа, Френкель выдвинул проект более упорядоченного использования их труда, чем купил себе свободу и карьеру в самом ГУЛАГе. Предложенная им система «оплаты» труда заключенных, чей хлебный рацион был поставлен в прямую зависимость от выработки, была бесчеловечна постольку, поскольку была бесчеловечна сама лагерная система. Летописец Соловецкого лагеря (и его бывший узник) Михаил Розанов, который свел воедино воспоминания бывших соловчан, по возможности отделяя факты от домыслов и лагерных «параш», указывает, что зэки оценивали Френкеля и его систему по-разному — кто с отрицательным, а кто и с положительным знаком.[857] «Опус» 1968 года написан до публикации книги М. Розанова, но опус 2002-го — после. Тем не менее, Френкель перекочевал из первого опуса во второй в том же «демоническом» облике.
О Д. П. Витковском и В. Л. Гершуни:
В. Л. Гершуни
ШЕД-1968: «В повести Д. П. Витковского „Полжизни“ есть абзац о еврейской наружности следователя Яковлева — следователя уже новейших хрущевских лет. У Витковского это упоминание сделано грубовато и собственно ни к чему. Евреи, по своей новейшей политической ориентации сочувственно относясь ко всяким лагерным мемуарам, в этом месте всегда неприятно оттолкнуты. И В. Г. спрашивает, а сколько еще попадалось Витковскому за 30 лет следователей-евреев?
В этой невинной оговорке — „за 30 лет“, когда естественно было бы спросить „за сорок“ или даже „за пятьдесят“, — суть еврейской несамокритичности по отношению к истории хоть дальней (фейтвангеровщина), хоть ближней. За тридцать лет Витковскому, может быть, и мало попадалось евреев на следственных местах, потому что именно со средины 30-х годов началась в органах замена евреев русскими, — но Витковский, который преследуется органами уже сорок лет, и был на Соловках, — очевидно, помнит время, когда трудней было увидеть следователя русского, чем еврея или латыша» (стр. 43).
ДЛВ-2002: «В повести Д. П. Витковского „Полжизни“ есть абзац о еврейской наружности его следователя Яковлева, уже новейших хрущевских лет. У Витковского это упоминание сделано грубовато, и евреи конца Шестидесятых, уже отшатнувшись от коммунистической власти и в этой новой политической ориентации сочувственно относясь ко всяким лагерным мемуарам, в этом месте всегда были неприятно оттолкнуты. Но вот В. Гершуни по этому поводу задал мне вопрос: а сколько еще попадалось Витковскому за 30 лет следователей-евреев?
В этой невинной оговорке — „за 30 лет“, — а не естественней ли было спросить „за 50“ или хотя бы „за 40“? — как же характерно выразилась тут поразительная забывчивость! За тридцать лет, с конца 30-х годов, Витковскому может быть и не много встречалось следователей-евреев (впрочем, сохранились они и в 60-х), Но Витковский, который преследовался органами уже сорок лет, и был на Соловках, — очевидно, не забыл время, когда трудней было увидеть следователя русского, чем еврея или латыша» (т. II, стр. 294–295).
Я должен сделать небольшое отступление, чтобы воздать должное памяти Владимира Львовича Гершуни — одного из самых стойких диссидентов, из тех немногих, кто не хотел ничего для себя, даже скромной известности или благодарности. «В 50-е годы сидел со мной в лагере, еще тогда юноша, Владимир Гершуни», отмечает Солженицын (т. II, стр. 119), но Гершуни сидел не только при Сталине, когда «карающая рука» разила направо и налево. Он и в более вегетарианские времена постоянно подвергался преследованиям; много лет был заживо погребен в психушке, где спасался от помешательства сочинением стихов в самом трудном из возможных жанров (писал палиндромы, в которых каждая строчка должна читаться одинаково как слева направо, так и справа налево); а, выйдя из психушки, снова выступал с протестами, редактировал самиздатский журнал «Поиски», собирал и распространял «антисоветчину», отчетливо понимая, что его снова посадят (это и произошло). Он боролся за свободу, за право каждого выражать свое мнение. Никакого различия между эллинами и иудеями для него не существовало. Что касается «невинной оговорки», в которой якобы выразилась «еврейская несамокритичность» Гершуни, то это недоброе (если не сказать — злонамеренное) перетолкование его слов. Из самого эпизода видно: Гершуни не оспаривал, что в двадцатые-тридцатые годы в числе ГПУшников хватало евреев. (Оставляю в стороне солженицынский перехлест относительно того, будто среди следователей евреи тогда попадались чаще, чем русские: по его собственным данным, до середины 1930-х годов численность евреев в карательных органах составляла примерно 7,5 процента, что, конечно, очень много, но славян-то было в восемь-десять раз больше). Но затем евреев из органов вычистили и больше уже не принимали. Очевидно, это и имел в виду Гершуни, когда заметил, что за последние тридцать лет (то есть с конца 19З0-х) среди карателей евреев почти не было (а те, что были, видимо, по официальным документам считались русскими, как и тот следователь Яковлев).
Возвращаюсь к основной теме этого очерка, то есть к вопросу об авторстве «пакостного шедевра».
Сведенные общей лагерной судьбой, Солженицын и Гершуни продолжали общаться и после освобождения, но отношений не афишировали, так что знали об этом немногие. А при разговоре о повести Витковского никто третий, похоже, вообще не присутствовал — иначе подал бы какую-то реплику. Разговор тет-а-тет и передан во втором томе «Двухсот лет вместе». Но каким образом эти же два абзаца могли оказаться в «опусе», попавшем в книгу Сидорченко? Если это подлог, то откуда фальсификатор мог знать о том разговоре и передать его теми же словами? Чудеса, да и только! Но они тотчас превращаются в чудеса в решете, если допустить, что «пакостный опус» написан самим Солженицыным.
Если кому-то и этого мало, то вот еще пара текстов-близнецов — не только по стилю, лексике, акцентировке, но по фактическому содержанию, которое никому постороннему не могло быть известно.
Об Ансе Бернштейне:
ШЕД-1968: «Латыш Анс Бернштейн считает, что он лишь потому выжил в лагерях, что в тяжелые минуты обращался за помощью к евреям, а те по фамилии, да и по подвижному облику, принимали его за своего и всегда выручали. В лагерях же, где он был (например, буреполомские, начальник Перельман) евреи всегда составляли всю правящую верхушку и евреи были ведущие вольнонаемные (Шульман — начальник Спецотдела, Гринберг — начальник лагпункта, Кегельс — главный механик завода), и, по его рассказам, в избранный себе штат подбирали из заключенных — тоже евреев» (стр. 46–47).
ДЛВ-2002: «Латыш Анс Бернштейн, один из моих свидетелей по „Архипелагу“, считает, что он лишь потому выжил в лагерях, что в тяжелые минуты обращался за помощью к евреям, а те по фамилии, да и по подвижному облику, принимали его за своего — и всегда выручали. В лагерях же, где он был (например, буреполомские, начальник Перельман) евреи, говорит, всегда составляли всю правящую верхушку и евреи же были ведущие вольнонаемные (Шульман — начальник спецотдела, Гринберг — начальник лагпункта, Кегельс — главный механик завода), и, по его рассказам, в избранный себе штат подбирали из заключенных — тоже евреев» (стр. 333).
Коль скоро Анс Бернштейн был свидетелем Солженицына по «Архипелагу», то логично ожидать, что его имя встречается в этом труде. И действительно. Я нашел восемь таких упоминаний. Вот они:[858]
1. «Вас отводят в сторону на заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском — и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39 (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить)» (т. 1, часть 1, гл. 1).
2. «„Все придется отдать…“ — безнадежно качает головой надзиратель на Горьковской пересылке, и Анс Бернштейн с облегчением отдает ему комсоставскую шинель — не просто так, а за две луковицы» (т. 1, часть 2, гл. 2).
3. «Например, едет Анс Бернштейн по спецнаряду с севера на нижнюю Волгу, на сельхозкомандировку. Везут его во всех описанных теснотах, унижениях, облаивают собаками, обставляют штыками, орут „шаг вправо, шаг влево…“ — и вдруг ссаживают на маленькой станции Занзеватка, и встречает его там одинокий спокойный надзиратель безо всякого ружья. Он зевает: „Ладно, ночевать у меня будешь, а до завтрева пока гуляй, завтра свезу тебя в лагерь“. И Анс гуляет» (т. 1, часть 2, гл. 4).
4. «Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку — и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенок и идет на мороз. Но не все разочтешь: возникает гангрена, а за нею смерть» (т. 2, часть 3, гл. 7).
5. «А что за люди должны быть те бухгалтера, которые отпустили Лощилина на волю поздней осенью в одной рубашке? Тот сапожник в Буреполоме, который без зазрения взял у голодного Анса Бернштейна новые армейские сапоги за пайку хлеба?» (т. 2, часть 3, гл. 9).
6. «Суд? Какая-нибудь Лагколлегия, — это подчиненный Облсуду постоянный суд при лагере, как нарсуд в районе. Законность торжествует! Выступают и свидетели, купленные III Отделом за миску баланды. В Буреполоме частенько свидетелями на своих бригадников бывали бригадиры. Их заставлял следователь — чуваш Крутиков. „А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю!“ Выходит такой бригадир Николай Ронжин (из Горького) и подтверждает: „Да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, а подольские не годятся“. Ну, и довольно! Для выездной сессии Горьковского Облсуда (председатель — Бухонин, да две местных комсомолки Жукова и Коркина) — разве не довольно? Десять лет!» (т. 2, часть 3, гл. 13).
7. «А вообще как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что самоубийцы — совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил веревку из бинтов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зеленые круги, в ушах звенело — и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась веревка — и он испытал радость, что остался жив» (т.2, часть 4, гл. 1).
8. «Ансу Бернштейну и через 11 лет снятся только лагерные сны. Я тоже лет пять видел себя во сне только заключенным, никогда — вольным. Л. Копелев через 14 лет после освобождения заболел — и сразу же бредит тюрьмой. А уж „каюту“ и „палату“ никак наш язык не проговорит, всегда — „камера“» (т. 3, часть 5, гл. 7).
Итого, восемь раз в «Архипелаге» Солженицын пишет об Ансе Бернштейне, но ни малейшего намека на то, что персонаж со столь выраженной еврейской фамилией — латыш, а не еврей, там нет! Правду о национальности этого персонажа автор «Гулага» по каким-то соображениям утаил. Откуда же фальсификатор, сочинявший «пакостный опус», мог об этом узнать? Да еще о том, что у него был «подвижный (еврейский) облик», о чем в «Архипелаге» ни слова. И что евреи, принимая его за своего, «всегда выручали» — об этом тоже ни слова! (Хороша, однако, была выручка, если, чтобы не загнуться на общих работах, бедняга должен был «умело» обварить себе руку; если несколько раз, доведенный до крайности, пытался покончить с собой.)
5.
Итак, даже если допустить совершенно невероятное, то есть что фальсификатор настолько овладел языком, стилем, мышлением, душевным складом А. И. Солженицына, что, создавая подделку под его текст, сумел предугадать и точно передать на бумаге приведенные выше фрагменты из будущей его работы «Двести лет в месте», то и при этом не «спасти» абзацев о Гершуни и Бернштейне. Тут самая гениальная интуиция не помогла бы. Тут надо было конкретно знать — в деталях! — факты, никому постороннему не известные.
Даже если забыть обо всех остальных текстовых совпадениях, то двух последних достаточно для однозначного вывода: «Хулиганская выходка психически больного человека», выразившаяся в том, что он «в свою пакостную желтую книжицу… влепил опус под моим [Солженицына] именем», состояла вовсе не в том, что Солженицын этого опуса не писал!
Анатолий Сидорченко, как «горячий поклонник Солженицына», обнародовав без спроса давнее творение породителя русской «евреелогии», оказал ему медвежью услугу. Вот уж действительно усердие не по разуму! Говоря словами шутливой еврейской песенки, Сидорченко поступил «несимпатично и негигиенично». Но как расценить действия Солженицына, когда он (при помощи с В. Лошака, которого явно подставил), заявил всему свету: его «авторство просто фальсифицируют»? Возводить такую напраслину на психически больного человека — это симпатично? это гигиенично? это не вываливается за пределы цивилизованного поля?
Или таков русский патриотизм?
Это под большевиками Великий Писатель учил нас — жить не по лжи, заповедовал — лепить большевикам правду, против большевизма — стоять несгибаемо. Как должны стоять интеллигенты, а не лакействующие образованцы…
Но пора признать: и при советской власти призыв — жить не по лжи — служил Солженицыну для внешнего употребления, а не для себя. С каким смаком он рассказывает в «Архипелаге», как развешивал чернуху, прорываясь из рядовых зэков в нормировщики, нарядчики и даже в ядерные физики, чтобы избежать рудника и лесоповала… Положим, там это было необходимо, чтобы выжить. Пусть безгрешный бросит в него камень, а я воздержусь. И все же, все же, все же!.. Зачем уже там — в лагерях — он по части чернухи так настойчиво пробивался в первые ученики! Ну, а после, когда уже выжил, когда, опубликовав «Ивана Денисовича», был лучше многих защищен всесветной славой? Тут-то уж можно было жить не по лжи — без опасения загреметь на лесоповал? Или (зачем так высоко ставить планку?) обходиться малой ложью, как большинство его куда менее защищенных коллег-писателей?
Н. С. Хрущёв
Но вот докладная записка помощника Хрущева В. Лебедева от 22 марта 1963 года, в которой доложен его телефонный разговор с А. И. Солженицыным:[859]
«„Я глубоко взволнован речью Никиты Сергеевича Хрущева и приношу ему глубокую благодарность за исключительно доброе отношение к нам, писателям, и ко мне лично, за высокую оценку моего скромного труда. Мой звонок Вам объясняется следующим: Никита Сергеевич сказал, что если наши литераторы и деятели искусства будут увлекаться лагерной тематикой, то это даст материал для наших недругов, и на такие материалы, как на падаль, полетят огромные жирные мухи.
Пользуясь знакомством с Вами и помня беседу на Воробьевых горах во время встречи наших руководителей с творческой интеллигенцией, я прошу у Вас доброго совета. Только прошу не рассматривать мою просьбу как официальное обращение, а как товарищеский совет коммуниста, которому я доверяю. Еще девять лет тому назад я написал пьесу о лагерной жизни „Олень и шалашовка“. Она не повторяет „Ивана Денисовича“, в ней другая группировка образов: заключенные противостоят в ней не лагерному начальству, а бессовестным представителям из своей же среды. Мой „литературный отец“ Александр Трифонович Твардовский, прочитав эту пьесу, не рекомендовал мне передавать ее театру. Однако мы с ним несколько разошлись во мнениях, и я дал ее для прочтения в театр-студию „Современник“ О. Н. Ефремову — главному режиссеру театра.
— Теперь меня мучают сомнения, — заявил далее А. И. Солженицын, — учитывая то особенное внимание и предупреждение, которое было высказано Никитой Сергеевичем Хрущевым в его речи на встрече по отношению к использованию лагерных материалов в искусстве, и сознавая свою ответственность, я хотел бы посоветоваться с Вами, стоит ли мне и театру дальше работать над этой пьесой“.
И дальше: „Если Вы скажете то же, что А. Т. Твардовский, то эту пьесу я немедленно забираю из театра „Современник“ и буду над ней работать дополнительно. Мне будет очень больно, если я в чем-нибудь поступлю не так, как этого требуют от нас партия и очень дорогой для меня Никита Сергеевич Хрущев“».
И еще дальше: «„Писатель Солженицын просил меня, если представится возможность, передать его самый сердечный привет и наилучшие пожелания Вам, Никита Сергеевич. Он еще раз хочет заверить Вас, что хорошо понял Вашу отеческую заботу о развитии нашей советской литературы и искусства и постарается быть достойным высокого звания советского писателя“».[860]
Обложка книги В. Войновича «Портрет на фоне мифа»
В. Войнович комментирует: «Это, конечно, не стенограмма. Но я не могу себе представить, чтобы помощник высшего советского руководителя в своем докладе посмел сочинить такое полностью от себя».[861] Добавлю, что я тоже не могу такого представить. Войнович: «Можно сказать, что все советские люди, кроме сумасшедших, а писатели особенно, в общении с властью не всегда говорили, что думали, но из литераторов моего круга я не знаю никого, кто бы так легко и беспардонно врал и льстил партийному руководителю».[862] В моем кругу таких тоже не было, особенно если учесть, что инициатором доноса на самого себя (а заодно и на театр «Современник») был сам Солженицын.
6.
В двухтомнике несколько раз упоминается книга Соломона Лурье «Антисемитизм в древнем мире» (1922), но упоминается мимоходом. Непохоже, чтобы автор придавал ей большое значение. Однако в «пакостном опусе» 1968 года книга Соломона Лурье не только упоминается — она цитируется и пересказывается довольно подробно. Особенно импонирует Солженицыну то, что «в возникновении антисемитизма евреи виноваты сами, что причины антисемитизма лежат в свойствах самого еврейского народа» (стр. 10).[863] «Еще раньше, чем сформулировать это самому в тексте книги, — подчеркивает Солженицын, — он [Лурье] высказывает эту мысль в эпиграфе, пророчеством еврейской Сивиллы: „Будут и суша и море наполнены вами повсюду. / Все ненавидеть вас будут за ваши привычки и нравы“. Так вот как давно — с древних же веков — причина антисемитизма была ясна лучшим из евреев» (стр. 10). «Не следует считать, говорит Лурье, что общественный антисемитизм выражал худшую часть общества — нет, и незапятнанные идеалисты были во главе его» (стр. 10).
Весьма важной и поучительной Солженицын считает мысль С. Лурье о том, что ненависть к евреям не насаждалась властями, а, наоборот, шла снизу. Власти сопротивлялись «народному» антисемитизму, беря евреев под защиту и даже карая их гонителей; а если присоединялись к нему, то всегда с опозданием и только частично, как бы под давлением требования масс.
С. Я. Лурье
Круг идей «самоотверженного ученого» С. Лурье Солженицын излагает вполне адекватно, то есть без существенных искажений, но и не высказывая возражений, полностью с ними солидаризируясь. Более того, в опусе 1968 году книга С. Лурье служит Солженицыну путеводной звездой, исходным пунктом многих его собственных построений. Во много раз более обширном труде 2001–2002 годов от всего этого остались лишь почти неразличимые рудименты — притом, что расширение первоначального текста шло в основном за счет насыщения его цитатами из «еврейских» источников. Но, как оказывается, то была улица отнюдь не с односторонним движением: тогда как множество «еврейских» цитат добавлялось, некоторые — убавлялись! Почему бы это?
Соломон Яковлевич Лурье был ведущим специалистом по истории и культуре античности. В течение десятилетий он преподавал превосходный курс истории Древней Греции в Ленинградском университете, пока — в период гонений на «космополитов» — не был уволен «за несоответствие занимаемой должности».
Наиболее известен капитальный труд С. Лурье о Демокрите — одном из крупнейших философов Древней Греции. Что касается книги «Антисемитизм в древнем мире», изданной впервые в 1922 году, то она выгодно отличается от большинства работ на аналогичные темы: она опирается на первоисточники. Труд Лурье показывает, насколько глубоки исторические корни ненависти к евреям: они уходят к самым истокам человеческой цивилизации, а не к первым векам христианства, как можно прочитать у многих даже весьма солидных авторов.
Но выводы Соломона Лурье не выдерживают критики. Вопреки его собственному мнению, он обнаружил отнюдь не причины антисемитизма, а только свою собственную принадлежность к специфической категории так называемых самоненавидящих евреев (self-hated Jews). К этой категории психологи относят особую группу евреев-интеллектуалов, которые, выварившись в котле религиозной и национальной нетерпимости, начинают ее оправдывать, находить рациональные объяснения, а для этого — отыскивать в евреях какие-то особые, якобы только им присущие свойства, делающие их ненавистными. По своим внутренним установкам эти интеллектуалы примыкают к идеологам, считающим, что жертва преступления служит его причиной. Представьте себе, что кого-то в темном переулке пристукнули грабители, и вот на него же и указывают как на причину нападения. С какой-то точки зрения так оно и есть: не пошел бы он по темному безлюдному переулку, глядишь — преступления бы не совершилось! В таком смысле и евреи сами виноваты в погромах и гонениях: не было бы их на свете — не было бы и антисемитских гонений.
Согласно профессору Лурье, в древнем мире антисемитизм появлялся там, где появлялись евреи, отсюда он и делает вывод, что они сами его порождают своими «привычками и нравами». Какими же? Как излагает Солженицын, они «всегда имеют как бы двойное подданство: стране, в которой они живут, и, выше того, — своему всемирному „землячеству“ …В этом-то двойном подданстве, в постоянном сохранении национального чувства не по отношению к стране, где евреи живут, а к своему бестерриториальному единству, Лурье и видит единственную причину антисемитизма во все века, причину озлобления окружающих не-евреев» (стр. 12).
Эти выводы, мягко говоря, очень сомнительны, ибо далеко не все евреи и далеко не во всех ситуациях сохраняют верность своему «землячеству» (например, Лурье его не сохранил). Да и антисемиты подобным объяснением своей нетерпимости к евреям никогда не ограничивались. Ненавистному племени приписывались куда более страшные качества и преступления — отравление колодцев, ритуальные убийства, надругательство над христианскими святынями, колдовство, стяжательство, алчность, патологическая трусость, тайные заговоры и множество других пороков и злодеяний. Причем, само наличие евреев для этого вовсе не обязательно! Я не берусь оспаривать то, что такой выдающийся знаток античности, как С. Я. Лурье, писал о древности, но более поздняя история полна примерами сильнейшего антисемитизма при полном отсутствии евреев.
Так, Шекспир, скорее всего, не встречал в своей жизни ни одного еврея: из Англии они были изгнаны за два с половиной века до его рождения. Но определенные представления о евреях он имел, а какие именно, показано в образе Шейлока: кровожадного, жестокого, всех ненавидящего и всеми ненавидимого ростовщика.[864] Откуда же взялись такие представления? Очевидно, они сохранялись в сознании части британского общества, питаясь предрассудками, передававшимися из поколения в поколение.
Если в Англии евреи отсутствовали лет триста, то в России — восемьсот! Но фантастические представления об их коварстве, злобе, кровожадности и т. п. не только снова и снова воспроизводились в сознании обывателей, но и накладывали печать на государственную политику, а порой играли важную роль во внутренних религиозно-политических разборках (пример — расправа над «жидовствующими»).[865]
Поскольку присутствие в обществе евреев вовсе не обязательно для присутствия в нем антисемитизма, то основной посыл С. Лурье не состоятелен. Сам он этого, видимо, не знал или об этом не задумывался, но Солженицыну это хорошо известно. Как, вероятно, и то, что книга «самоотверженного ученого» вскоре после выхода в свет стала настольным пособием для ведущего идеолога нацизма Альфреда Розенберга (выходец из Прибалтики, он хорошо знал русский язык).[866]
Если взгляды и аргументы С. Лурье, подробно изложенные в ШЕД-1968, перешли в «Двести лет вместе» в рудиментарном виде, то от фрагмента об австрийском философе начала XX века Отто Вейнингере, не осталось даже упоминания. Между тем, в «опусе» 1968 году ему посвящено несколько очень прочувствованных строк: «Этот гений, чудо природы, в двадцать три года сгоревший от гениальности, сам еврей, в главе XIII, II-й части своей блистательной книги „Пол и характер“, разбирая еврейство не как расу и не как вероисповедание, а как духовное направление [?], как психическую конституцию [?], дал критику редкой тонкости и огромной амплитуды» (ШЕД-1968, стр. 11).
О. Вейнингер
Книга Вейнингера «Пол и характер» (1903) дала толчок целому направлению исследований, в этом смысле она действительно считается выдающейся. Но это одно из самых спорных и противоречивых творений не вполне здорового ума и воображения. Молодой философ был почитателем Канта, обладал обширными для его возраста познаниями в биологии, психологии, общественных учениях своего времени. Он был знаком с работами Габино, Дюринга, Чемберлена, но недостаточно подготовлен к тому, чтобы в них критически разобраться. Он сделал попытку доказать моральное и интеллектуальное превосходство мужского начала над женским и арийской расы — над «низшими» расами. Он был противником модернизма, феминизма и других современных течений, а носителями их считал евреев, чью беду видел в отсутствии (или малом присутствии) в них «мужского» начала. Он относил евреев к неполноценным существам (как и женщин), в чем и усматривал причину антисемитизма. Женщины, по его мнению, не заслуживают равноправия в силу своей природной неспособности достичь духовной высоты мужчин арийской расы. Как и евреи. В себе он пытался культивировать «мужское», «арийское» начало, но, осознав, что природную еврейскую неполноценность не преодолеешь, покончил с собой, доведя свое самоненавистничество до логического конца. В его трагической судьбе, как отчасти и в формировании взглядов, похоже, не последнюю роль сыграла неудачная любовь.
Почему в работе 1968 года, Солженицын опирается на С. Лурье и О. Вейнингера, а из двухтомника они вычищены? Видимо, потому, что за прошедшие тридцать с лишним лет надобность в самоненавидящих евреях «классического» образца отпала, ибо успела расцвести их новая генерация. Особенно активны некоторые «сионисты», эмигрировавшие из бывшего СССР в Израиль. С младых ногтей они, как губка, впитывали расхожие антисемитские мифы. Сперва большевистские — про отравленные пули эсерки Каплан, про контрреволюционные заговоры «Иудушки» Троцкого, etc. А затем антибольшевистские — про расстрел царской семьи, про «расказачивание», приписанное Свердлову, про «еврейских» комиссаров, чекистов и, конечно, про большевистского палача Лейбу Троцкого.[867] В Израиле все это и многое другое с мазохистским сладострастием стало выливаться на страницы русскоязычной печати. Черпай горстями! Это и делает Солженицын в первом и особенно во втором томе своего двухтомника, обходясь без Вейнингера и Лурье — ведь использование их работ нацистами сильно подпортило их репутацию.
7.
Как я отмечал раньше, «Протоколы сионских мудрецов» в первом томе двухтомника едва упомянуты, а во втором о них говорится очень скупо. Можно заключить, что Солженицын либо не интересовался «Протоколами», либо не придавал им значения. Оказывается, не так! В небольшом опусе 1968 им посвящена отдельная глава — под выразительным названием: «Протоколы сионских мудрецов и ленинско-еврейская революция в России».
С. Нилус
Солженицын излагает историю первой публикации «Протоколов», которую знал неточно. Вероятно, в то время он не располагал всей необходимой литературой по данному вопросу (да и мудрено было располагать: в Советском Союзе она была под запретом!) Похоже, что единственным — впрочем, весьма важным — источником ему служило второе (или какое-то более позднее) издание книги Сергея Нилуса «Великое в малом, или антихрист как близкая политическая возможность» (1905), куда в качестве приложения вошли «Протоколы».
Следуя за Нилусом, Солженицын пишет, что публикатор обрел этот текст в 1901 году, но целых четыре года их невозможно было опубликовать «из-за сопротивления властей». От себя Солженицын добавляет: «Это последнее заявление очень правдоподобно: как и всюду всегда, в России тоже антисемитизм правительственный отставал от антисемитизма волонтеров. Понадобилась революция 1905 г., чтобы открыть путь этой публикации» (ШЕД-1968, стр. 23).
Правдоподобно, но неверно. «Протоколы» впервые были опубликованы в 1903 году в газете «Знамя» П. А. Крушевана. Цензурный устав действительно не разрешал публикаций, «натравливающих одну часть населения на другую»; но по личному указанию министра внутренних дел Плеве разрешение Крушевану было дано в обход Цензурного комитета. Нилус, видимо, ужасно досадовал, что его опередили, вот и считал эту публикацию как бы не существующей, а свою называл первой!
Солженицын не ставит под сомнение подложность «Протоколов» и даже приводит тому свои доводы: «Все это претендует быть записью как бы доклада некоего видного представителя еврейства — масонства. Но ни один трезвый разумный деятель не может излагать свои излюбленные идеи даже среди замкнутых единомышленников столь порочащим для них и для себя образом, столь саморазоблачающим языком» (стр. 23). Он цитирует десятка два фраз, показывающих, что, действительно, самый закоренелый злодей не стал бы таким языком объяснять свои замыслы даже сообщникам: «нам пришлось брать золото из потоков крови и слез», или «нам нужно вооружиться хитростью и пронырливостью, но казаться честными и сговорчивыми», или «мы присвоим себе либеральную физиономию», etc. Этот язык говорит о том, что фальшивка была сработана слишком грубо.
Однако, находя текст «Протоколов» состоящим из «хаотического несоразмерного плохоувязанного материала» (стр. 24), Солженицын, тем не менее, видит в нем «и глубокие общественные предсказания, чему судьба была вскоре исполниться, иногда при полном (к 1901 году) невероятии» (стр. 24). На двух с лишним страницах он приводит эти глубокие пророчества, иногда сопровождая их собственными ремарками типа: «Сделано!», «В СССР 20-30-х годов исполнено», «Наш метод социализма в действии!», «А ведь в 1901 г. этого в природе не было, кажется?» и так далее (ШЕД-1968, стр. 24–26).
И вывод: «Здесь действительно (по выпискам видно) прорисовываются контуры общественной системы, создание которой непосильно рядовой голове, вероятно и того публикатора [Нилуса], - системы к тому же динамической: сперва всеобщего расшатывания и взрыва, потом всеобщего стягивания в стройность. Это — потрудней, чем дать проект водородной бомбы. Это действительно могло быть чьим-то гениальным выкраденным планом, это (вернее, очевидная суть этого!) — совсем не на уровне бульварной брошюры» (стр. 26–27).
Ну, о том, что потруднее, а что полегче, — так это кому что. А вот замечание о выкраденном плане как понимать? Если это фальшивка, то она сфабрикована, а если выкрадена, то не фальшивка.
Интересно то, что солженицынская амбивалентность в подходе к «Протоколам» — вовсе не уникальна. Пока его «опус» вылеживался, как кощеево сердце, в каких-то тайниках, до аналогичного понимания «глубокой сути» «Протоколов» дошел, например, лидер общества «Память» Дмитрий Васильев. Как только политика гласности развязала языки, он стал публично цитировать «протокольные» предсказания под ликование переполненных залов, оставляя в стороне щекотливый вопрос о происхождении «гениальных» пророчеств.[868] Затем Станислав Куняев уже и пропечатал: «Эта книга — плод тщательного анализа всей политической истории человечества. Кто бы ее ни создал — она создана незаурядными умами, злыми анонимными демонами политической мысли своего времени… Читая „Протоколы…“, содрогаешься от ужаса, что многое из предсказанного в них уже осуществилось в истории XX века».[869] Эстафету принял митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), а за ним «историк» Олег Платонов.[870]
Но это последыши. Первопроходцем в этом плодотворном направлении протоколоведения по справедливости должен считаться Солженицын, раньше других углядевший, что «ленинско-еврейская революция» была осуществлением «гениального плана», составленного не позднее 1901 года, когда «еще и Ленин сам не ведал почти ни одной черты своего будущего людоедского строя» (ШЕД-1968, стр. 26–27).[871] От этих кристально-четких формулировок в двухтомник перешли рудименты вроде того, что «разрушительность революции она [еврейская тема] не объясняет, только густо окрашивает» (т. II, стр.210). Тоже круто, да не набатно.
8.
А вот «протокольные» предсказания в практическом осуществлении:
ШЕД-1968: «Описывалось имущество русской церкви, изымались ее ценности — и через толпу расступающихся верующих проходили в алтарь, да и не снимая шапок, а то еще и папиросы не вынимая из губ, — евреи. Громил православие Емельян Ярославский — еврей, Губельман Миней Израилевич» (стр. 30). Обжигает, как опрокинутый в глотку стакан первача. Остается только поплевать на ладони и хвататься за вилы.
В ДЛВ-2002 аналогичный эпизод тоже присутствует, но лексикон не тот: «Публично громила православие целая шайка „воинствующих безбожников“ во главе с Губельманом-Ярославским» (т. II, стр. 275). Это уже не обжигает, а лишь слегка взбадривает, как глоток какой-то подслащенной шипучки. Вольтаж не тот. Не искрится! Ни тебе Минея Израилевича, ни папиросы в зубах. Да и «шайка безбожников» какая-то безнациональная. Иной читатель может даже припомнить, что та большевистская шайка громила не только православные храмы, но и синагоги, распевая задорными голосами: «Наш девиз всегда таков — долой раввинов и попов!» Словом, хоть и во втором случае, как и в первом, «громит православие» Губельман, да ярость благородная уже не вскипает как волна, а лишь лениво побулькивает. То ли кастрировали Минея, то ли он бросил курить для сбережения здоровья, но к вилам рука уже как-то не тянется.
9.
В «опусе» 1968 года проводится сопоставление участия евреев в двух мировых войнах: «Когда мне пришлось просматривать списки воинских частей русской армии в войну 1914-18 годов, я право встречал там евреев гораздо чаще, чем видел сам в наших воинских частях в 1943-45 годах» (стр. 44). Это не перенесено в «Двести лет вмести»: там о Первой мировой войне отдельный толк (в первом томе), а о Второй отдельный (во втором). В обоих просвечивает та же предвзятость автора, но как бы задрапированная маскировочными средствами. Вот образец этой маскировки.
ДЛВ-2002: «Хотя я участник той войны, мне меньше всего в жизни пришлось заниматься ею по книгам, собирать о ней материалы или писать о ней что-либо. Но я — видел евреев на фронте. Знал среди них смельчаков» (т. II, стр. 358–359).
Эти строки в точности перенесены из ШЕД-1968, но там есть еще одна, опрокидывающая, фраза: «Не хоронил ни одного» (стр. 44).
Вот еще образец чеканного шага образца 1968 года: «Народному чувству не прикажешь: осталось у русских, у украинцев, у белорусов тягостное ощущение, что евреи прятались за их спину, что могли они провести эту войну достойнее» (стр. 45).
В 2002-м аналогичное «чувство» тоже присутствует, но шаги здесь вихляющие, даже и не шаги, а проползание по-пластунски, с хоронением в складках местности, за кочками и кустиками «еврейских» источников. Но! «Свидетельствую: да, среди солдат на фронте можно было такое услышать. И после войны — кто с этим не сталкивался? — осталось в массе славян тягостное ощущение, что наши евреи могли провести ту войну самоотверженней: что на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще» (т. II, стр. 360).
Так, сквозь ухищрения маскировки, просвечивает та же мысль: евреи всеми правдами и неправдами пристраивались в тылу; а когда не удавалось зацепиться в тылу, то в самой армии пристраивались в штабах, в обозах, в медсанбатах, то есть опять же подальше от опасности, от передовых траншей. Такое-де мнение можно было услышать.
О том, как на самом деле сражались и гибли евреи, и почему командиру отдельной звуковой батареи капитану Солженицыну не пришлось ни одного из них хоронить, подробно рассказано в очерке Валерия Каджая «Еврейский синдром советской пропаганды», к которому я и отсылаю читателя.[872]
Оказывается, что в то самое время, когда тайно писался «Архипелаг ГУЛАГ», в отдельную тетрадку, еще более тайную, сливалось: у евреев-де был «расслабляющий расчет: страна здесь — не наша, кроме нас — много Иванов, им все равно воевать, они и за нас повоюют с Фрицами, а нам лучше сохранить свою выдающуюся по талантам нацию, и без того уже вырезанную Гитлером» (ШЕД-1968, стр. 44).
Через 34 года та же идея всплыла в ДЛВ-2002, но уже замаскированная под идущую от «самих» евреев. Отыскалась и нужная цитатка: будто бы некий юноша по имени Даин говорил приятелю в 1941 году, что пока два деспота дубасят друг друга, евреям незачем добровольно лезть в пекло. Правда, от призыва он не уклонялся, воевал геройски и погиб под Сталинградом. Но Солженицын ведь его не хоронил! Зато к цитатке уже можно добавить от себя — даже сочувственно:
ДЛВ-2002: «И такое настроение евреев, особенно тех, что были преданы всевечной идее Израиля, можно вполне понять. Но все же с недоуменной оговоркой: враг шел — главный враг евреев, на уничтожение прежде всего евреев, — и как же мог Даин и сходно мыслящие остаться нейтральными? А русским, мол, так и так защищать свою землю?» (стр. 368).
Что говорить, Александр Исаевич мастерски владеет словом. Большой Писатель. Умеет выразить мысль с такой пафосной силой, что только классикам по плечу. Умеет и закопать ее так, что археологам и через тысячу лет не докопаться.[873] Умеет Александр Исаевич и прикрыть сказанное эзопистой вуалью, чтобы все соблазнительные выпуклости сказанного угадывались, ан не так, чтобы было выставлено нагишом. На войне как на войне, а какая же война без маскировки, отвлекающих маневров и иных военных хитростей.
10.
Вот текст, который, может быть, правильнее было бы привести в первой половине этих заметок, так как он почти полностью дублируется в обеих работах, но нам сейчас важнее именно несовпадающее почти. В ДЛВ-2002 читаем:
«Этот у евреев национальный контакт между вольными начальниками и зэками невозможно упустить из виду. Еврей-вольный не на столько глуп, чтобы в еврее-заключенном действительно увидеть „врага народа“ или злого хищника народного достояния (как это видел оболваненный русский в русском), он прежде всего видел в нем страдающего соплеменника, — и хвала евреям за эту трезвость! Кто знает великолепную еврейскую взаимовыручку (еще так обостренную массовой гибелью евреев при Гитлере), тот поймет, что не мог вольный начальник еврей равнодушно смотреть, как у него в лагере барахтаются в голоде и умирают евреи-зэки, — и не помочь. Но невероятно представить такого вольного русского, который взялся бы спасать и выдвигать на льготные места русских зэков за одну лишь их нацию — хоть нас в одну коллективизацию 15 миллионов погибло: много нас, со всеми не оберешься, да даже и в голову не придет» (т. II, стр. 333).
Не буду утомлять читателя повторным выписыванием того же текста из ШЕД-1968. Приведу только заключительную фразу, ибо в ней отличие: «Но невероятно представить такого вольного русского, который взялся бы спасать и выдвигать на посты русских зэков за одну лишь их нацию, из-за того, что нас 30–40 миллионов погибло, не считая жертв красно-еврейского террора» (стр. 47, курсив мой. — С.Р.).
Понимать это надо так, что 30–40 миллионов русских погибло в войну. А другие десятки миллионов — расстрелянных, замученных, в их числе и 15 миллионов в коллективизацию — это жертвы евреев. Тут уже в пору не за вилы хвататься, а прямо строить газовые камеры. Таков проступ прошлого без иероглифов и эзоповой иносказательности. Выходит, мало того, что в «Протоколах» какие-то мудрецы начертали людоедский план, а затем и осуществили его в виде ленинско-еврейской революции; мало того, что среди следователей, бросавших невинных людей в лагеря, евреи встречались чаще, чем русские; мало того, что лагерную систему изобрел еврей Френкель из ненависти к России; мало того, что евреи-зэки (как же это они оказывались в зэках, если поверить всему вышесказанному хоть на пять процентов??), выбиваясь на придурочные должности, тотчас тянули за собой остальных евреев; так еще и лагерные начальники-евреи состояли в сговоре с зэками-евреями и всеми силами выручали своих, обрекая всех прочих на погибель. (И — NOTABENA — снова хвала евреям за эту трезвость, вот и русскому Ивану бы так, да он ведь доверчивый простак, разве он способен на такие коварства, бери его голыми руками!)
11.
Смешно было бы отрицать, что в лагерях, как в любом социуме, люди объединялись по взаимному влечению и симпатии, по тому или иному сродству. Интеллигенты тянулись к интеллигентам, земляки к землякам. Тянулись друг к другу люди сходных профессий, увлечений, возраста, бывшие однокашники, однополчане, те, кто раньше встречался в лагерных скитаниях или хотя бы имел общих знакомых. Уголовники объединялись в бандитские группы, чтобы вернее третировать политических; политические совместно противостояли уголовникам, но во внутренних разборках делились по партийной или фракционной принадлежности. А. Автарханов в «Технологии власти» рассказал поразительную историю о том, как брошенные в тюрьму бухаринцы оказались в одной камере с сидевшими уже несколько лет зиновьевцами; как жадно те выслушали свежие вести с воли; а затем между двумя группами завязался спор, дошло до драки, и зиновьевцы, имея численный перевес, вышвырнули бухаринцев из камеры!
«Наиболее фундаментальными и сильными кланами были те, что формировались вокруг национальной принадлежности или места рождения. Их возникновение было достаточно естественным. Новый заключенный по прибытии [в лагерь] немедленно начинал искать своих соплеменников: эстонцев, украинцев или — в незначительном числе — американцев», пишет Энн Эпплбом, автор наиболее полного на сегодняшний день историко-научного исследования ГУЛАГа.[874]
Приведя пример того, как в одном лагере финско-говорящие зэки сплотились, чтобы совместно защищаться от уголовников, Эпплбом продолжает:
«Не все национальные кланы были одинаковы. Например, мнения расходятся относительно того, создавали ли заключенные-евреи свои собственные сети, или они были растворены в общем русском населении (или, если говорить о большом количестве польских евреев, в общем польском населении). Похоже, что в разные времена это было по-разному, и многое зависело от личности каждого. В конце тридцатых годов, когда было арестовано много евреев в ходе репрессий против высшей номенклатуры и армии, похоже, что они считали себя, прежде всего, коммунистами, а потом уже евреями. Как выразился один заключенный, в лагерях „все становятся русскими — кавказцы, татары, евреи“».[875]
Эпплбом приводит примеры поразительной национальной солидарности, проявлявшейся некоторыми евреями, в особенности из числа польских. Некий Либерман, возглавлявший относительно легкое швейное производство, с прибытием каждого этапа выкликивал евреев и забирал их на свою фабрику, а раввина, которому целыми днями полагалось молиться, Либерман, рискуя головой, прятал в потайной кладовке, давая возможность не работать, а с утра до вечера читать молитвы.
Но то были редкие случаи. Куда чаще встречались евреи, которые, если выбивались на теплые места, то именно своих соплеменников третировали особо жестоко — как раз из страха, что их обвинят в потворстве своим.
У Солженицына об этом противоположное понятие. Рассказывая о том, чему сам был свидетелем в 121-м лагучасткие в Москве (строительство здания на Большой Калужской), он пишет в опусе 1968 года:
«Я не могу забыть, как вся наша тамошняя жизнь руководилась и топталась тремя евреями, занявшими ведущие посты: Соломоном Соломоновым, главным бухгалтером; Давидом Бурштейном, воспитателем, а потом нарядчиком и Исааком Бершадером. (Первый и третий перед тем так же точно вершили лагерем при МАДИ). И это все — при русском начальнике — мл. л-те Миронове. [Понимай так, что Иваны-тюремщики тоже были простофилями.]
Все трое они появились уже при моих глазах — и для всех троих снимали тотчас их предшественников, русских. Сперва прислали Соломонова, он уверенно занял надлежащее место и овладел душой младшего лейтенанта. Вскоре прислали и Бершадера, с бумажкой: „использовать только на общих работах“ (необычайно для бытовика, уж значит нашкодил изрядно). Лет пятидесяти, низенький, неприятно-жирный, с хищным носом и взглядом, толстыми похотливыми губами, он обошел и осмотрел зону снисходительно, как генерал из Главного Управления. Старший надзиратель спросил его:
— По специальности — кто?
— Кладовщик.
— Такой специальности не бывает.
— А я — кладовщик.
— Все равно за зону будешь ходить. В разнорабочей бригаде.
Два дня его выводили. Пожимая плечами, он выходил, в рабочей зоне садился на камень и почтенно отдыхал. Бригадир наладил бы его по шее, но робел и бригадир: так уверенно держался новичок, что чувствовалось — это сила. Угнетенно ходил и кладовщик зоны Севастьянов. Он два года заведовал тут слитым складом продовольствия и вещевого снабжения, прочно сидел, неплохо жил с начальством, но повеяло на него холодом: все решено! Бершадер — кладовщик по специальности!
Потом санчасть освободила Бершадера по болезни от всяких работ, и он уже отдыхал в жилой зоне. За это время, видимо, поднесли ему кое-что с воли. Не прошло недели — Севастьянов был снят, а кладовщиком назначен Бершадер (Соломонов помогал ему договориться с начальником лагучастка). Тут выяснилось, однако, что физическая работа пересыпки крупы и перекладки ботинок ему тоже противопоказана. Он взял на помощь холуя, как-то провел его через штаты обслуги и кормил. В лагерной баньке стояла ванна, украденная зэками со строительства, в ней мылось вольное начальство, теперь разрешили и единственному из заключенных — Бершадеру. Шумная бригада зэков, неожиданно запущенная, застала его там. Не помню более неприятной мужской наготы. Бершадер лежал в ванне, поджав ноги, и казался круглым жирным комом пудов на шесть. Как свисали у него жирные щеки со скул, так свисали дальше волосатые мешки грудей, и жирные мешки на ребрах, и волосатый огромный живот.
Но и это еще не была полнота жизни. Самую красивую и гордую женщину лагеря, лебедя белого, М-ву, он согнул и поневолил ходить к нему в каптерку вечерами. Появился Бурштейн — и другую красавицу, А. Ш., приспособил к своей кабинке» (ШЕД-1968, стр. 48–49).
Шесть пудов ненависти здесь замешаны уже и на дрожжах физиологического отвращения. А относится это ко времени, когда в Большой Зоне полным ходом шла травля «космополитов». Газеты были переполнены антисемитскими пасквилями. Клеймение евреев и тех, кто не проявил должной бдительности при выявлении их злодейств, стало обязательным ритуалом. Неужели все это никак не отражалось на быте, на «политико-воспитательной работе», на укладе жизни ГУЛАГа? Неужели при повседневных проработках и накачках начальник лагеря Миронов (допустим, подкупленный) посмел отдать весь подчиненный ему контингент на съедение трем евреям, не опасаясь доноса, ревизии! А эти трое — какими бы наглыми они ни были — неужели не остерегались доносов или просто ножа в спину в отместку за свое тиранство?
Солженицын уверяет, что наглость и тщеславие троицы перекрывали все — даже элементарную осторожность. «Они как будто нарочно сгущали материал для антиеврейского пасквиля. Они нисколько не беспокоились, как это выглядит со стороны, как это может быть оценено» (ШЕД-1968, стр. 49).
Так уж и не беспокоились? Свежо предание, да верится с трудом. Увидеть со стороны можно по-разному — зависит от того, как смотреть.
Увиденное Солженицыным настолько ему дорого, что, забыв о светомаскировке, он перенес тот же текст в «Двести лет вместе» (т. II, стр. 338–339). Ну, не совсем забыв. Самый смачный кусок — про отмачивающиеся в ванне шесть пудов еврейского жира — ампутирован. А без того и Лебедь Белая не так трагично скользит по глади вод в пасть к этому супер-Шейлоку.
Межу прочим, невольный вопрос возникает — как же мог кладовщик поневолить такое гордое создание? Приманить калачом — это понятно, но поневолить? Да он сам невольник!
Ответ — в «Архипелаге ГУЛАГ», где эта пара тоже присутствует, но в ином контексте:
«Была у нас в лагерьке на Калужской заставе (в Москве) гордая девка М., лейтенант-снайпер, как царевна из сказки — губы пунцовые, осанка лебяжья, волосы вороновым крылом. И наметил купить ее старый грязный жирный кладовщик Исаак Бершадер. Он был и вообще отвратителен на взгляд, а ей, при ее упругой красоте, при ее мужественной недавней жизни особенно. Он был корягой гнилой, она — стройным тополем. Но он обложил ее так тесно, что ей не оставалось дохнуть. Он не только обрек ее общим работам (все придурки действовали слаженно, и помогали ему в облаве) (курсив мой — С.Р.), придиркам надзора (а на крючке у него был и надзорсостав) — но и грозил неминуемым худым далеким этапом. И однажды вечером, когда в лагере погас свет, мне довелось самому увидеть в бледном сумраке от снега и неба, как М. прошла тенью от женского барака и с опущенной головой постучала в каптерку алчного Бершадера. После этого она хорошо была устроена в зоне» (АГ, т. 2, часть 3, гл. 8).
Вот что оказывается!
Не собственными силами тучный кладовщик поневолил Лебедь Белую — тут весь батальон придурков старался, укрепленный отдельным взводом надзорсостава! То была сплоченная банда. Сколько их всего было, Солженицын не сообщает, но ориентировочно можно прикинуть: по его выкладкам, придурки составляли 15–20 процентов лагерного населения. Если считать (по минимуму), что в небольшом лагере на Калужской содержалось, допустим, три-четыре сотни зэков, то в спасительной группе придурков их было человек 60–80, а с надзирателями наберется никак не меньше сотни. (Входил в ту сотню и сам автор: о том, как выбился в придурки, и даже на очень высокий пост начальника производства, он сам и поведал в АГ). Надо иметь особые очки-велосипед, с волшебной оптикой, чтобы из этой многонациональной сотни выхватить ослепительным лучом трех отвратных евреев да поставить их во главе всей банды!
Никаких признаков того, что именно эта тройка всем заправляла, в АГ нет, да и фигура ожиревшего кладовщика — при всей ее гротескной отвратительности — не так уж и выступает из общего ряда. Глава «Женщина в лагере», из который взят абзац о Бершадере, — одна из самых сильных в «Архипелаге ГУЛАГ». Размашистой кистью, с рубенсовской щедростью, написано монументальное полотно, и «бершадерский» мазок не нарушает общей гармонии. Вот несколько предшествующих абзацев:
«… считается, что женщине в лагере — „легче“. Легче ей сохранить саму жизнь. С той „половой ненавистью“, с какой иные доходяги смотрят на женщин, не опустившихся до помойки, естественно рассудить, что женщине в лагере легче, раз она насыщается меньшей пайкой и раз есть у нее путь избежать голода и остаться в живых. Для исступленно-голодного весь мир заслонен крылами голода, и больше несть ничего в мире.
И правда, есть женщины, кто по натуре вообще и на воле легче сходится с мужчинами, без большого перебора. Таким, конечно, в лагере всегда открыты легкие пути. Личные особенности не раскладываются просто по статьям Уголовного кодекса, — однако, вряд ли ошибемся сказав, что большинство Пятьдесят Восьмой составляют женщины не такие. Иным с начала и до конца этот шаг непереносимее смерти. Другие ежатся, колеблются, смущены (да удерживает и стыд перед подругами), а когда решатся, когда смирятся — смотришь, поздно, они уже не идут в лагерный спрос.
Потому что предлагают не каждой.
Так еще в первые сутки многие уступают. Слишком жестоко прочерчивается — и надежды ведь никакой. И этот выбор вместе с мужниными женами, с матерями семейств делают и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы лагерной жизни, становятся скоро самыми отчаянными.
А — нет? Что ж, смотри! Надевай штаны и бушлат. И бесформенным, толстым снаружи и хилым внутри существом, бреди в лес. Еще сама приползешь, еще кланяться будешь.
Если ты приехала в лагерь физически сохраненной и сделала умный шаг в первые же дни — ты надолго устроена в санчасть, в кухню, в бухгалтерию, в швейную или прачечную, и годы потекут безбедно, вполне похоже на волю. Случится этап — ты и на новое место приедешь вполне в расцвете, ты и там уже знаешь, как поступать с первых же дней. Один из самых удачных ходов — стать прислугой начальства. Когда среди нового этапа пришла в лагерь дородная холеная И. Н., долгие годы благополучная жена крупного армейского командира, начальник УРЧа тотчас ее высмотрел и дал почетное назначение мыть полы в кабинете начальника. Так она мягко начала свой срок, вполне понимая, что это — удача.
Что с того, что кого-то на воле ты там любила и кому-то хотела быть верна! Какая корысть в верности мертвячки? „Выйдешь на волю — кому ты будешь нужна?“ — вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Ты грубеешь, стареешь, безрадостно и пусто пройдут последние женские годы. Не разумнее ли что-то спешить взять и от этой дикой жизни?
Облегчает и то, что здесь никто никого не осуждает. „Здесь все так живут“.
Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели.
Те, кто не уступили сразу — или одумаются, или их заставят все же уступить. Самым упорным, но если собой хороша — сойдется, сойдется на клин — сдавайся!» (АГ, т. 2, часть 3, гл. 8).
Таков фон, на котором в АГ появляется Лебедь Белая (там она названа стройным тополем), ныряющая в каптерку к кладовщику. Эпизод не выделяется из ряда других: «Здесь все так живут». Да и национальность кладовщика никак не выделена и даже не названа, о ней говорит только имя персонажа, который — при всей его отвратительности — не хуже других охотников до любовных утех. Что и показано в последующих абзацах:
«М. Н., уже средних лет, на воле чертежница, мать двоих детей, потерявшая мужа в тюрьме, уже сильно доходила в женской бригаде на лесоповале — и все упорствовала, и была уже на грани необратимой. Опухли ноги. С работы тащилась в хвосте колонны, и конвой подгонял ее прикладами. Как-то осталась на день в зоне. Присыпался повар: приходи в кабинку, от пуза накормлю. Она пошла. Он поставил перед ней большую сковороду жареной картошки со свининой. Она всю съела. Но после расплаты ее вырвало — и так пропала картошка. Ругался повар: „Подумаешь, принцесса!“ А с тех пор постепенно привыкла. Как-то лучше устроилась. Сидя на лагерном киносеансе, уже сама выбирала себе мужика на ночь.
А кто прождет дольше — то самой еще придется плестись в общий мужской барак, уже не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно повторять: „Полкило… полкило…“ И если избавитель пойдет за нею с пайкой, то завесить свою вагонку с трех сторон простынями, и в этом шатре, шалаше (отсюда и „шалашовка“) заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет надзиратель.
Вагонка, обвешанная от соседок тряпьем — классическая лагерная картина. Но есть и гораздо проще. Это опять-таки кривощековский 1-й лагпункт, 1947–1949. (Нам известен такой, а сколько их?) На лагпункте — блатные, бытовики, малолетки, инвалиды, женщины и мамки — все перемешано. Женский барак всего один — но на пятьсот человек. Он — неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен, в нем тяжелый запах, вагонки — без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить — но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, мальчики по 12–13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья, или времени — но вагонки не завешивались, и конечно, никогда не тушился свет. Все совершалось с природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины — и больше ничто. Привлекательность была проклятьем, у такой непрерывно сидели гости на койке, ее постоянно окружали, ее просили и ей угрожали побоями и ножом — и не в том уже была ее надежда, чтоб устоять, но — сдаться-то умело, но выбрать такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит ее от остальных, от следующих, от этой жадной череды, и от этих обезумевших малолеток, растравленных всем, что они тут видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? и только ли малолетки растравлены? — а женщины, которые рядом изо дня в день все это видят, но их самих не спрашивают мужчины — ведь эти женщины тоже взрываются наконец в неуправляемом чувстве — и бросаются бить удачливых соседок.
И еще по Кривощековскому лагпункту быстро разбегаются венерические болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет, и все туда же, через тот же порог тянутся властители и просители. И только осмотрительные, вроде баяниста К., имеющего связи в санчасти, всякий раз для себя и для друзей сверяются с тайным списком венерических, чтобы не ошибиться.
А женщина на Колыме? Ведь там она и вовсе редкость, там она и вовсе нарасхват и наразрыв. Там не попадайся женщина на трассе — хоть конвоиру, хоть вольному, хоть заключенному. На Колыме родилось выражение трамвай для группового изнасилования. К. О. рассказывает, как шофер проиграл в карты их — целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген — и, свернув с дороги, завез на ночь расконвоированным, стройрабочим» (АГ, т. 2, часть 3, гл. 8).
Нет, это не Рубенс. Это Босх!
Какие здесь круги ада очерчены — первый, второй или все семь? Можно бы полюбопытствовать: почему на этом большом полотне один только Исаак Бершадер назван по имени (да еще Бурштейн, впрочем, только и названный)? Почему не тот повар, что вызвал рвоту у приневоленной им пассии; и не тот колымский шофер, что машинами отвозил баб на растерзание озверевшим самцам; и не баянист К., предохранявшийся от сифилиса своими особыми связями в санчасти? (Ну, он-то, видимо, никого не неволил. Пригожий был паренек — жилистый, поджарый, ни щеки, ни брюхо не отвисали. А как частушки начинал на баяне наяривать, так, небось, все Лебединое Озеро устремлялось к нему на перегонки — только успевай по списочку проверять, чтобы ненароком не вляпаться!) Но — что мне в имени твоем! Назван или не назван, а в «Архипелаге» кладовщик-еврей — рядовой хорист: голос его сливается с остальными голосами.
Перед нами бесспорная, страшная в своей наготе, в своем обнаженном бесстыдстве — правда. И тем она страшнее, что нет в ней никакой аффектации, никакого искусственного нажима, почти никакой авторской риторики. Эпичность повествования лишь усиливает впечатление жуткого трагизма. Более сурового приговора большевизму, чем тот, что содержится в главе «Архипелага» «Женщина в лагере», мне неизвестно. А в параллельно писавшемся опусе-оборотне та же великая трагедия предстает в виде скверного анекдота: про шестипудовый мешок еврейского жира, главенствующий над миром большевистской каторги.
12.
ШЕД-1968: «Часть событий той лагерной зоны я представил в пьесе. Понимая, что изобразить так, как оно все было, невозможно, что это будет разжигание ненависти к евреям (как будто это тройка не пуще разжигала ее в жизни, мало заботясь о последствиях), я утаил омерзительного жадного Бершадера, я скрыл Бурштейна, я переделал спекулянтку К-н в неопределенную восточную Бэллу [ну, эту жертву невозможно не оценить!] — и только одного оставил еврея — Соломонова, в точности каким он был.[876] И что же, прочтя пьесу, сказали мне мои либеральные друзья-евреи? Они были переполошены, возбуждены до крайности, и поставили мне ультиматум, что разорена будет и вся дружба наша, и предсказывали, что само имя мое будет невозвратно утеряно и опозорено, если я оставлю в пьесе Соломонова». (49–50).
Через З4 года Солженицын повторил этот текст с некоторыми уточнениями. Названы имена тех друзей-евреев. Это супруги Теуши — тайные хранители его архива. Хоть они были «глубоко ранены фигурой Соломонова» (читай: антисемитским звучанием пьесы), да, видно, не так уж и глубоко, потому что рукописи Солженицына продолжали хранить, пока не вычислил их КГБ, что и сломало им жизнь. Об этом Солженицын не упоминает — такая малость не стоит внимания. Ему важнее «доругаться» с Теушами по поводу пьесы, хотя доругивается он в двух работах по-разному.
ДЛВ-2002: «Я охолонул: наступил внезапный цензурный запрет с неожиданной для меня стороны, и не менее грубый, чем советский официальный» (т. II, стр. 340).
ШЕД-1968: «Как будто полновесную правду можно писать местами — там, где это приятно, безопасно и популярно» (стр. 50).
Ну, на счет цензурного запрета Александр Исаевич перехватил. Так любое несогласие, любое критическое замечание можно приравнять к топору. Зато в том, что правду нельзя писать местами, его замечание более чем справедливо. Нельзя! Но если очень хочется, то можно. Например, в труде 2002 года сообщается, что конфликт с Теушами решился «тем, что „Современнику“ тут же запретили ставить пьесу» (стр. 340). Обойдена та подробность, что запрет произошел по его собственной наводке! Ведь по поводу пьесы он сам звонил помощнику Хрущева В. Лебедеву — просил совета у «коммуниста, которому он доверяет». Вот для чего понадобился самодонос! Пьесу-то осудили его друзья (не только «либеральные евреи» Теуши, но и «литературный отец» Твардовский; вероятно, и другие). А в театре уже шли репетиции, остановить их без видимых внешних причин было невозможно. Вот и случилось так, что Лебедь Белую пристрелил партийный босс Лебедев, а автор пьесы сыграл роль капитана Лебядкина.
Но то была тайная роль, о ней так никто и не узнал, не вспоминать же о ней в 2002 году!
13.
«Казалось бы, ничтожному, придавленному и обреченному лагернику на одной из ступеней его умирания — не все ли равно, кто именно захватил внутри лагеря власть и справляет свои вороньи пикники над его траншеей-могилой? Оказывается — нет, это врезается неизгладимо. Именно в таком лагере теряешь всю светлость и твердость своих прежних интернациональных убеждений».
Это — одно из ключевых мест, которые, преодолев дистанцию в 34 года, нетронутыми перекочевали из «опуса» 1968 года (стр. 48–49) в опус 2002 (т. II, стр. 339). К нему стоит приглядеться, оно многое объясняет.
Интернациональные убеждения — это не сбоку бантик. Не архитектурное украшение, которое можно соскоблить, не повредив всей постройки. Нет, это одна из несущих опор системы ценностей и моральных принципов современного человека. Подпили эту колонну, и рухнет вся постройка. Все базовые понятия о человечности, гуманности, справедливости превратятся в руины, пригодные, в лучшем случае, на то, чтобы дурачить глуповатых идеалистов красивыми словами.
Отняв у Солженицына твердые интернациональные убеждения, лагерь его нравственно сломил. Превратил в человека подполья — ощетиненного, отовсюду ждущего удара, способного приноровиться к любым обстоятельствам, умеющего мстить и льстить, привораживать тех, кто может быть полезен, и спокойно переступать через них, когда надобность в них отпадет.[877]
Такая душевная травма, как правило, не залечивается; похоже, что после лагеря Солженицыну так и не удалось преодолеть надлома — не помогли ни всесветная слава, ни бодание с дубом, ни два десятка лет, прожитых в условиях свободы, ни триумфальное возвращение в пост-советскую Россию.
Природа наделила его большим литературным талантом, могучей энергией, колоссальной работоспособностью. Благодаря этим качествам он сумел создать ряд сильных художественных произведений. Написано им и много слабых текстов, но от писателя, к счастью, остаются лучшие создания, а худшие забываются, вымываются из духовного опыта общества, сохраняясь лишь в поле зрения узкого круга специалистов. В этом отношении литературная судьба Солженицына — скорее правило, чем исключение.
Но сам он претендует на исключительное место — выразителя чаяний целого поколения, лидера духовного противостояния тоталитарной власти, несгибаемого поборника правды, высшего нравственного авторитета, учителя жизни. И, что важнее, интеллигенция России, а за ней и Запада, охотно предоставили ему эту роль. Десятилетиями он говорил за нас то, что многие из нас думали, но не решались сказать. А порой то, о чем боялись и подумать. И как говорил!
«Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но может быть многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни? Это еще ни разу не украсило нашей истории».[878]
И как же мы восторгались им, как гордились им, когда, с затаенным дыханием прильнув к радиоприемникам, сквозь треск глушилок, вслушивались в сокровенные слова, произносимые с такой прямотой, с таким несокрушимым достоинством, что невозможно было усомниться: он — не свернет! И как же кружилась голова от счастья, что вот появился среди общей нашей робости и немоты голос. Голос, что говорит им оглушительную нашу правду. И все их водородные бомбы, подслушивающие гэбэшные устройства, первые отделы, отделы пропаганды, вся их паршивая система запугивания и подкупа перед ним — бессильны. И вся их власть — перед ним — трепещет!
Ан, то была правда невсамделишная, не та правда, что лежала, на дне его души, а та, которую мы ждали от него услышать. Ее он и лепил — нам. Не им, а нам. А в подпольную тетрадку сливалось затаенное:
«И вот мы у себя в стране напуганы: разговаривая с передовыми, образованными людьми, а тем более берясь за перо, мы прежде всего остерегаемся, оглядываемся — как бы евреев не обидеть» (ШЕД-1968, стр. 14).
Бесстрашный-то, оказывается, жил в страхе иудейском! Не перед ними, с их лубянками и бутырками, с их психушками и карцерами — их он не боялся, а перед нами, «передовыми образованными» детишками, которых так легко, оказывается, было обвести вокруг пальца!
Они обошли его Ленинской премией, мы прокладывали путь к Нобелевской. И снова слышим слова, тяжелыми гирями ложащиеся на нашу чашу весов:
«На эту кафедру…, представляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем промощенным ступеням, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с большим даром, сильнее меня — погибли… В темных лагерных перебродах, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир».[879]
Мир откликнулся. Не так отзывно, как нам хотелось (нам-то хотелось, чтобы только ему внимали, никому больше! только его одного слушали, то есть нас, его голосом вещающих), но — откликнулся. Мир снова услышал то, что хотел: что есть еще порох в пороховницах, не все еще раздавлено катком большевизма, не все готовы склониться перед грубой силой. Пусть она ломит солому, но духа человеческого ей не сломить!
«Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием… Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь ложью, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи».[880]
Вот что и как он говорил! То были не слова, а стрелы, впивавшиеся в каждое не утратившее совести сердце!
А в подпольной тетрадке уже несколько лет спрессовывалось:
«Увы, как и наше правительство, противостоящие ему ныне евреи по отношению к себе не признают никакого спектра оценок: либо безоговорочное одобрение и восхваление, либо — антисемитизм. А как быть, если отношение трезво-критическое (и при том сочувственное, как у меня![881])? Или юмористическое? Это все попадет в антисемитизм. Казалось бы: ничего и никто на свете не существует без недостатков, значит есть недостатки и у евреев? Но говорить о них — запретно, всякий заговоривший об общееврейских недостатках будет выставлен и ославлен антисемитом». (ШЕД-1968, стр. 14).
Вот такие установлены запреты!
Ну, хорошо, допустим, что установлены. Но Солженицыну ли бояться запретов? Он-то правду-матку лепил всем прямо в лицо! Хоть верным ленинцам, хоть наследникам Сталина, хоть подлым чинушам из Союза Писателей и всем прочим образованцам, хоть погрязшему в меркантилизме Западу. Да и в той подпольной тетрадке эпиграфом поставлено: «Правду говорить — никому не угодить». Почему же евреям угождать и самую свою сокровенную правду тридцать с лишним лет прятать в подполье — пока не явился с медвежьей своей услугой евреевед Анатолий Сидорченко. А явился, так сразу и заклеймен безумцем-фальсификатором и хулиганом-провокатором, вываливающимся из цивилизованного поля.
Выходит — страшней еврея зверя нет! Так и прожита жизнь с кляпом в глотке. А как же писательская задача? Осталась невыполненной?
Ну, теперь-то выполнена задача! Хоть с опозданием в 34 года, но страх иудейский преодолен. Двумя увесистыми томами та подпольная правда — теперь высказана! В слегка закамуфлированном маскировочными средствами — в основном из «еврейских источников» — виде, но высказана. А без маскировки никак нельзя. На войне как на войне.
Иначе и невооруженным глазом каждому будет видно, что перед нами та же размазанная на тысячу страниц сага про поневоленную Лебедь Белую и про поневолившие ее шесть пудов еврейского жира.
Приложение 2 Солженицынская трагедия
В России шум и гам и суета. Сенсация. Солженицын ответил! После трех лет грозного молчания — ответил на критику своей последней двухтомной книги «Двести лет вместе». Ответил так, что перья летят. Знай наших! Кому же и что он ответил? Об этом и поговорим.
Спасительный компромат
О том, что на интернете появились «страшные разоблачения» А. И. Солженицына, мне сообщили вместе с адресом сайта — сразу же после их публикации в марте 2003 года. Открыв сайт, я оказался в … «Домашней библиотеке компромата Сергея Горшкова». Кто такой этот компроматчик, я понятия не имел, ничего не знаю о нем и теперь. Общий заголовок сайта — «Весь сор в одной избе» — втиснут между дважды написанным «Compromat.Ru». Жирным шрифтом набран аншлаг: «Солженицын свою „карьеру“ начал с того, что „создал“ контрреволюционную группу». Затем следует отсыл: «Оригинал этого материала ИА „Город 24“» 19.03.2003.[882] Заголовок сенсационной публикации звучал так: «СМИ не пишут правду о стукаче Солженицыне».
А. И. Солженицын. Лагерная фотография
В аккуратной рамочке — широко известная фотография молодого Солженицына в тюремном бушлате, с большой белой биркой на груди. На ней ясно прочитывается буква «Щ» и не совсем ясно — число: то ли «282», то ли «262»; такая же бирка на колене, но она прикрыта рукавом, из которого выглядывает запястье зябливо просунутой в другой рукав (или подсунутой под него) руки. Фигурка съежившаяся, голова втянута в приподнятые плечи, тонкие губы сжаты, взгляд затравленный, вместе с тем хитроватый. А рядышком с портретом — узкой ковровой дорожкой стелится «убойный» текст первого абзаца:
«„Я не желаю, чтобы имя моего отца упоминалось рядом с именем подонка Солженицына!“ — с точки зрения обывателя, мозги которого основательно промыты телепропагандой, эти слова Николая Виткевича-сына выглядят просто святотатством. Но у него есть веские причины так говорить — избранный на должность „всероссийского мессии“ Александр Солженицын свою „карьеру“ начал с того, что на бумаге „создал“ контрреволюционную группу, в которую записал себя, свою жену и своих друзей».
Кульминационным моментом разоблачений следует считать главку «Экибастузский донос», с фотокопией написанного якобы рукой Солженицына сообщения «куму» от 20 января 1952 года — о готовящемся лагерном восстании. Подписан донос агентурным именем Солженицына «Ветров». Наискосок наложена резолюция, есть и еще пометки, показывающие, что с бумагой работали.
С возраставшей брезгливостью я заставил себя дочитать этот «компромат» до конца (больше 13-ти страниц компьютерной распечатки), — просто чтобы убедиться в том, что бросалось в глаза с самого начала: это перепевы гебистских фальсификаций 30-40-летней давности. В свое время органы вовлекли в это занятие бывших соучеников, однодельцев Солженицына (Симонян, Виткевич), его первую жену Наталью Решетовскую, мстившую ему после развода, агентов влияния и просто агентов КГБ, в их числе провокатора-чеха Томаша Ржезача и немца из Западной Германии Франка Арнау. (Наивный расчет гебистов состоял, видимо, в том, что на Западе иностранцам скорее поверят, чем доморощенным компроматчикам).
Деза запускалась в оборот потому, что возразить по существу на содержавшиеся в «Архипелаге ГУЛАГ» разоблачения системы Кремль не мог. Делали ставку на то, чтобы вывалять в перьях автора и тем ослабить силу воздействия его произведений. Но эффект получился обратный: Кремль лишний раз продемонстрировал, что способен на любую низость. Убедившись, что провокация не проходит, КГБ постарался сделать все, чтобы она поскорее забылась.
И вот кому-то понадобилось разогреть эти щи, протухшие тридцать лет назад. Кому и зачем? На это у меня ответа нет. Но кому должна быть на руку реанимация помоев как раз в то время, когда стала подниматься волна возмущенных откликов на второй том книги «Двести лет вместе», мне как-то сразу же стало понятно.
В первом томе сравнительно немногие критики увидели — позволили себе увидеть! — то, что под умиротворяющей обложкой цвета морской волны, под ублаготворяющим заголовком благоухают коричневые цветы племенной розни и ненависти. Второй том трактует события, которые памятны миллионам. Тут и слепцы прозрели. В этот момент и выпорхнули старые гебистские фальсификации.
Мне звонили и слали электронные послания, советовали взять этот «убойный» материал на вооружение. Приходилось разъяснять, что подменять обсуждение книги «Двести лет вместе» уличением автора в прошлых грехах и преступлениях (действительных или мнимых) я считаю непрофессиональным и неэтичным — так же, как и трубить о его былых заслугах в ответ на конструктивную критику. Солженицыну как раз и выгодно увести разговор подальше от текста книги, но я за ним не последую. В моем компьютере сохранилось несколько электронных посланий, отражающих эти разговоры. Приведу одно из них, опустив имя адресата:
Sent: Tuesday, June 03, 2003 11:02 PM
Subject: Re:
Да, да именно эти имена — Ржезач и Арнау. Они «почему-то» получили доступ к самым секретным архивам ГБ и приводят в фотокопии тот самый донос «Ветрова» от 20 января 1952 г. И появилось это в то время, когда Солженицын был в пике славы. Это была типичная провокация, крайне неуклюжая, так всеми и было понято, и репутации Солж[еницына] не повредило, да и сам ГБ, видимо, понял, что дальше педалировать эту тему слишком рискованно (а ведь если бы «Ветров» написал этот донос, то должны бы быть и десятки других — чего же они их в ход не пустили тогда же?) И вот теперь эта тема всплыла снова, когда он вляпался с этими двумя томами [ «Двести лет вместе»]. Появились они [разоблачения] на каком-то сайте, состряпанном в Беларуси [ошибка: надо в Брянске], а мне его прислали из Германии. Я предполагаю, что на то и был расчет, чтобы это перешло в печать, возник шум, а когда ситуация нагреется, тогда и можно будет сказать: «видите, как евреи клевещут на русского писателя. Чего же удивляться, что в его честном стремлении разобраться в русско-еврейских отношениях они усматривают антисемитизм». Конечно, это моя догадка, ничем не доказываемая…[883]
Тогда это была недоказанная догадка, но теперь доказательство налицо: статья А. И. Солженицына «Потёмщики света не ищут»[884] написана словно бы по предложенному мною сценарию. Она произвела на определенную аудиторию именно то впечатление, на которое рассчитывал автор. Судить об этом можно по тому, что одновременно с Литгазетой ее напечатала «Комсомольская правда», по позитивному отзыву Интерфакса, Lenta.ru, по другим подобным реакциям.
«Известный писатель и общественный деятель Александр Солженицын решил ответить на критические выпады, которым подвергся со стороны ряда СМИ в связи с выходом последней части его историко-публицистической книги „Двести лет вместе“, посвященной истории евреев в России», — сообщила «Lenta.ru». И тут же привела пять фрагментов из статьи Солженицына, но ни в одном из них ни слова не говорится о книге «Двести лет вместе» и критике в ее адрес.
Это не случайный промах редакции «Lenta.ru». Дело в том, что о критике «Двухсот лет» в статье Солженицына, занимающей целую газетную полосу (восемь страниц компьютерной распечатки), не сказано почти ничего! Она о другом. В ней с большой страстью опровергаются давно опровергнутые гебистские инсинуации, многократно предаются поруганию давно поруганные имена Ржезача, Виткевича, Арнау, Решетовской, Симоняна, изобличается давно изобличенное сотрудничество «компроматчиков» с КГБ. Только отъехав на две трети от начала статьи, автор перекидывает шаткий мосток к критике «Двухсот лет»: «…а текст статьи [цитированной выше по сайту Сергея Горшкова] всюду один, слово в слово, — и дальше раскатом, теперь уже неприкрыто сплетаясь у обвинителей с гневным раздражением моим недавним двухтомником „Двести лет вместе“».[885]
Тут бы перевести дух и воскликнуть: «Наконец-то!». Наконец-то Солженицын перешел к «ответу критикам» его книги. Ан, нет. Мосток повис над бездной, не обретя никаких опор. Последняя треть статьи — про то же, что первые две трети. Про генерала ГБ Филиппа Бобкова; про бывшего зэка М. Якубовича, оклеветавшего своего друга-солагерника; про боевые награды, полученные за ратные подвиги плюс неполученные («но 9 февраля 1945 года настиг меня арест — и меня успели вычеркнуть из наградного списка»); и про многое другое — вплоть до заключительного аккорда: «И остается догадываться: почему вдруг оживились и гебистские фальшивки 70-х годов, и клевета на лагерные годы мои с 40-х на 50-е, и годы войны, и юности, — почему на все это дружно кинулись и за океаном и у нас — именно с начала 2003 года?..»
Выходит, возрожденный из пепла гебистский компромат оказался очень кстати Александру Исаевичу. Он использован им против критиков «Двухсот лет вместе» точно таким же манером, каким КГБ тридцать лет назад пытался использовать его против «Архипелага ГУЛАГ».
Компромат оказался спасительным для Солженицына.
Голодная пайка
В бутафорских сражениях с давно стертыми в пыль ветряными мельницами утоплен единственный абзац, в котором — с большой натяжкой — можно усмотреть если не ответ на критику «Двухсот лет», то хоть какую-то реакцию на нее. Привожу этот абзац целиком:
«Этот прием выпукло проявился при первом же перебросе газетной кампании на территорию России — в развязнейших ухватах и брани журналиста „Московского комсомольца“ (сентябрь 2003) по адресу книги „Двести лет вместе“ и ее автора. Дейч грубо искажает главу из моей книги об участии евреев в войне. Именно в противовес расхожему представлению, что многие евреи уклонялись от армии, — я добыл и впервые привел никогда прежде не публиковавшиеся архивные данные Министерства обороны, из которых следует, что число евреев в Красной армии в годы Великой Отечественной войны было пропорционально численности еврейского населения, то есть пропорция соответствует средней по стране (Часть II, с. 363–364). Но Дейч без оглядки идет и на подделку цитат (сносок нигде не дает, ищи, читатель, где хочешь, а еще лучше — не ищи, поверь Дейчу). Впаривает мне выражения типа „ленинско-еврейская революция“. Смеет обсуждать воровскую публикацию — с ее сквозным хулиганским изгаженьем и грязной фальсификацией — выкраденных моих черновиков 40-летней давности. Ему вторит „Эхо Москвы“: „пусть ответит общественности!“. На что отвечать? На вашу непристойную готовность перекупать краденное? Какое уродливое правосознание, какое искажение норм литературного поведения. Отвечаю я — за свою книгу, а не за то, как ее потрошат и выворачивают».[886]
Итак, Александр Исаевич говорит, что отвечает за свою книгу. Ну и ответил бы! Но нет, как уже сказано, о книге-то на всей протяженности обширной статьи нет ни слова — ни до приведенного абзаца, ни после.
Ну а сам этот абзац? О книге ли «Двести лет вместе»?
Коль скоро выдана нам эта тюремная пайка, отмеренная по голодной норме ГУЛАГа, то придется отнестись к ней с особой бережливостью — по примеру многоопытного Ивана Денисовича.
Начнем с радиопередачи «Эха Москвы» от 4 октября 2003 года, в которой автору этих строк довелось участвовать. В числе участников — не только критики «Двухсот лет», но и апологеты: заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владимир Бондаренко, политолог и публицист Андрей Зубов. Виновник торжества тоже мог бы участвовать. «Мы звали в гости Александра Исаевича Солженицына, получили отказ, — сообщил, открывая дискуссию, ведущий передачи Андрей Черкизов. — Причем, как мне сказали наши продюсеры, они разговаривали с супругой Александра Исаевича, она ему передавала наши вопросы, он просто не подходил к телефону, так что отказ был обоюден — и от супруги, и от самого писателя».[887]
Марк Дейч
Итак, Солженицын был приглашен к участию в дискуссии, но уклонился. А журналист Марк Дейч приглашен не был. Заявляя, что «Эхо Москвы» «вторило Дейчу», Александр Исаевич передергивает. Да и трудно вторить кому-либо разнобойными голосами шести участников передачи, не считая ведущего. И никто не требовал от Солженицына: «Пусть ответит общественности», — это еще один перебор: в транскрипте передачи такой реплики нет. Не многовато ли переборов в трех строчках, уделенных Солженицыным «Эху Москвы»? Зато ни единому слову по существу критики, звучавшей в эфире, места не нашлось.
Идя на грубые передержки и искажения, автор «Потёмщиков» обвиняет в искажениях своих оппонентов. Дейч «без оглядки идет и на подделку цитат (сносок нигде не дает, ищи, читатель, где хочешь, а еще лучше — не ищи, поверь Дейчу)»,[888] негодует Солженицын. Зачем же дело стало? Коль скоро Дейч нахальничает без оглядки, то не осадить ли его, оглянувшись? Привести правильные цитаты, снабдив их точными ссылками, — и посрамлен будет Дейч на вечные времена!
Но мне ли давать уроки полемических приемов такому многоопытному бойцу, как Александр Солженицын! Он знает что делает. Паритетных правил игры Александр Исаевич не признает. Он велит не верить Дейчу, себе же самому — верить «без оглядки». Так удобнее. Поскольку велит сам Солженицын, то многие поверили.
Но не на всех читателей прошлые заслуги действуют ослепляюще. На меня не действуют. Цитат, приводимых Марком Дейчем, я не проверял, это действительно трудно сделать без ссылок, а Александр Исаевич задачу мне не облегчил. И я не вижу оснований отнестись к его словам с большим доверием, чем к словам журналиста «Московского комсомольца». Скорее наоборот.
Не то, чтобы статья Марка Дейча была безупречна.[889] В ней есть неотразимые аргументы, которые показывают несостоятельность псевдоисторических построений автора «Двухсот лет вместе». Тем более досадно, что критик не удержался от перехода «на личности». Это спровоцировано самим Солженицыным: он-то в своей книге поносит целый народ — оптом и в розницу. Кому только не достается от него на орехи, включая людей одной с ним судьбы: бывших фронтовиков, сражавшихся рядом с ним (и часто не хуже него); бывших зэков, тянувших вместе с ним (и часто тяжелее него) тюремную лямку; коллег-писателей, прокладывавших вместе с ним хлипкую тропу к свободному слову; друзей, с большим риском помогавших ему «бодаться с дубом» советской системы. Такое сведение национальных и личных счетов может взорвать кого угодно, но, по моему мнению, статья Марка Дейча была бы убедительнее, если бы он не позволил себе взорваться. Однако в намеренном искажении цитат журналист «Московского комсомольца» не замечен. Чего нельзя сказать о его именитом оппоненте. При цитировании источников Солженицын не всегда точен, а порой и намеренно неточен, даже и давая ссылки. Это обнаруживается и в его книге, и в ответе «потёмщикам».
Солженицын пишет, что «добыл и впервые привел никогда прежде не публиковавшиеся архивные данные Министерства обороны» о численности евреев в Красной армии в годы войны и указывает, что эти данные публикуются им во втором томе на страницах 363–364.[890]
Воспользуемся этим указанием. На стр. 363 имеются два подстрочных примечания (76 и 77). В первом из них нет никакой ссылки, а во втором сказано: «В ныне выходящей Военной энциклопедии едва ли не впервые приведены сведения об общем числе мобилизованных в годы Великой Отечественной Войны — 30 миллионов. См. Военная энциклопедия: в 8 т., М.: Воениздат, 2001, Т. 5, с. 182» (Курсив мой. — С.Р.). А в основном тексте — таблица, взятая из этой самой «Военной энциклопедии», где 30 миллионов расписаны по национальностям: русских — столько, украинцев — столько, евреев — столько… На стр. 364 еще три ссылки (78, 79 и 80). Все три тоже на энциклопедию, только не на Военную, а на Краткую еврейскую (КЕЭ). Вот так Александр Исаевич «добыл и впервые привел никогда не публиковавшиеся архивные данные»: переписал из энциклопедии! Что это — свет, которого не ищут «потёмщики», или слепящее сияние потёмкинских деревень?
Дальше Дейч «впаривает» Солженицыну выражение «ленинско-еврейская революция», «смеет обсуждать воровскую публикацию — с ее сквозным изгаженьем и грязной фальсификацией — выкраденных моих черновиков 40-летней давности». Тут в одной фразе столько наворочено, что жевать нам не пережевать!
Кроиться в черепе
В 2000-м году Анатолий Сидорченко выпустил книгу из трех частей, причем автором первой из них — под названием «Евреи в СССР и будущей России» — указал Александра Солженицына.[891] Солженицын отверг какую-либо свою причастность к этому тексту, назвав его желтым опусом, фальсификацией и провокацией умалишенного хулигана и посетовав на то, что не может обратиться в суд — из-за невменяемости фальсификатора.[892] Ему, конечно, поверили.
Но после выхода второго тома «Двухсот лет» оказалось, что значительная часть «фальшивки» перекочевала в этот том! За разъяснениями снова обратились к Солженицыну: в газете «Еврейские новости» появилось обращенное к нему Открытое письмо главного редактора Николая Пропирного. На этот раз ответа не последовало. Затем появились статьи других авторов: журналиста Валерия Каджая, доктора исторических наук Геннадия Костырченко и автора этих строк. Причем, все трое, не сговариваясь, пришли к выводу, что автор «опуса» — Солженицын.
Поскольку я избегаю голословных утверждений, то текст «опуса» (72 страницы книжного формата) я сопоставил с двухтомником «Двести лет» абзац за абзацем. Параллельным цитированием я показал, что больше половины «опуса» перекочевало в «Двести лет» дословно или с ничтожными редакционными поправками, а меньшая половина родственна двухтомнику по идейной направленности, но отличается тем, что шаблонные антисемитские мифы в ней озвучены с гораздо большей прямотой и экспрессией.[893] В эту меньшую половину входит и глава, смысл которой сводится к тому, что «Протоколы сионских мудрецов» — это глубокий злодейский план разрушения государства с последующим захватом власти, а Ленин и его партия — исполнители того плана. Подстать и название главы: «Протоколы сионских мудрецов и ленинско-еврейская революция в России». Все это детально разобрано в моей статье, так что «ленинско-еврейскую революцию» Солженицыну «впарил» я. Почему же в ответе «потёмщикам» Александр Исаевич приписал мой грех Марку Дейчу? Да ведь замалчивание неудобных оппонентов — эффективнейший метод полемики. Если крыть нечем.
Но, при всем желании отличиться, я не могу претендовать на приоритет во «впаривании», ибо я только процитировал творение самого Солженицына. Теперь он от «опуса» не отрекается. То, что он сперва назвал «желтым опусом, влепленным под моим именем», он теперь признает своей собственной (собственной!) черновой рукописью, хотя и «насквозь изгаженной грязной фальсификацией».
Шаг в правильном направлении, но только один шаг. Изгажен ли текст или представлен в первозданной чистоте, предстоит выяснить. В любом случае, словцо «насквозь» употреблено Александром Исаевичем со свойственным ему перехлестом: ведь большая половина черновика перенесена им в «Двести лет вместе» в том самом виде, в каком она появилась в книге Сидорченко. Стало быть, как минимум, эта половина текста не изгажена. С меньшей половиной разобраться сложнее, но свет на это может пролить только сам Солженицын. Может, но не хочет.
«Потёмщики» ищут света, Александр Исаевич! Ищут, но не находят. Помогите! Опубликуйте сами ту черновую рукопись, и тогда все увидят, в какой степени она была или не была «изгажена» при «воровской» публикации ее в книге Сидорченко.
И еще. Если публикация «опуса» не была с автором согласована, да текст был злостно изгажен, то автор понес моральный ущерб. В таких случаях обращаются в суд. Вменяем его обидчик или невменяем, — это решать суду. Солженицын же объявляет Сидорченко умалишенным, хулиганом, вором, фальсификатором, провокатором — немалая нужна изобретательность, чтобы собрать воедино такой букет ругательств. Не букет, а кастет. Тот, которым автор «ста томов партийных книжек» призывал кроиться в черепе. Но Маяковский, по крайней мере, не путал кастета с правосознанием. А Александр Исаевич намеренно путает. Это у его оппонентов уродливое правосознание, а не у него. И «нормы литературного поведения» тоже искажает не он, а кто-то другой, перепродающий краденое!
Но если произошла утечка информации, даже самой секретной, шпионской, то не воротишь. Если джинн вырвался из бутылки, назад его уже не загнать. Как заметил Валерий Каджая, «ни Дейч, ни я, ни Костырченко, ни Семен Резник не выкрадывали этих злополучных черновиков — Солженицын сам поместил их во второй том „Двухсот лет вместе“».[894] Совершенно верно — если не считать того, что кое-что вклинилось и в первый том. Из всех, кто высказался по этому поводу, нормы литературного поведения нарушил только сам Александр Исаевич — сперва «галилеевым» отречением, потом вынужденным признанием своего авторства, тут же перекрытым криками: «Держи воров».
Когда друг убивает друга
В сентябре 2003 года, в центре Вашингтона, на Капитолийском холме, в одном из величественных зданий американского Сената была открыта выставка «Пермь-36». «Пермь-36» — это случайно уцелевший обломок ГУЛАГа: лагерь, который не был демонтирован после смерти Сталина и продолжал функционировать до самого конца советской власти. Усилиями местных краеведов «Пермь-36» превращен в музей, существующий, главным образом, благодаря энтузиазму создателей и некоторым американским благотворительным фондам, далеко не самым богатым.
В связи с открытием выставки, в здании Сената, в огромном зале на втором этаже, куда ведет беломраморная лестница, состоялась дискуссия-презентация на тему «Политическое наследие советского ГУЛАГа». В числе участников: конгрессмен Фрэнк Вулф, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, крупнейшие политологи Питер Рэддавей, Дэвид Саттер, автор недавнего капитального исследования истории ГУЛАГа Энн Эпплбом, директор музея «Пермь-36» Виктор Шмыров, директор европейского отдела Национального фонда развития демократии Надя Дюк — всего 14 участников. И почти все с тревогой говорили о том, что память о ГУЛАГе едва теплится; что в России это страшное наследие почти забыто. Нет, хуже того: не забыто, но в общественном сознании это наследие не фиксируется как нечто ужасное, с чем невозможно мириться. Из наследия ГУЛАГа не извлекается необходимых уроков, с чем участники дискуссии напрямую связывали сегодняшний произвол и коррупцию в обществе. Уровень беззакония в стране очень высок, попытки противостоять этому злу не получают широкой поддержки, правозащитные организации немощны и малочисленны, опросы общественного мнения указывают на рост популярности Сталина.
Говорилось и о том, что в сознании всего мира, в том числе и Америки, наследие ГУЛАГа не занимает подобающего места. Участники дискуссии подчеркивали, что гитлеровский и сталинский геноцид, — это явления одного порядка; но если о Холокосте не перестает говорить весь мир, если в Америке, в Европе функционируют десятки музеев Холокоста, работают исследовательские центры, выходят и широко демонстрируются художественные и документальные фильмы о Холокосте, если это страшное наследие изучается в школах, то память о ГУЛАГе увядает. Музеев нет, научных центров — почти нет, фильмы не снимаются. Когда-то был снят фильм по «Ивану Денисовичу», но успеха не имел и давно забыт…
Выступавшие, конечно, вспоминали книги Солженицына, цитировали их. Те, давние. («Красного колеса» здесь никто не вспоминает, а о двухтомнике «Двести лет вместе» почти никто и не знает). Слушая выступления «за круглым столом», я вдруг с какой-то особой остротой и болью осознал, почувствовал, как фатально в свое время ошибся Александр Исаевич, как бесповоротно проиграл вторую половину своей жизни, и сколь широко и грозно разошлись круги от этой его ошибки.
Представить не трудно, как сложилась бы его судьба, если бы, оказавшись на Западе в середине 1970-х годов, еще полный энергии и в зените славы, с репутацией великого писателя, правдолюбца, гуманиста, стойкого борца с тоталитарной властью, он тогда же (да хоть бы в печально знаменитой Гарвардской речи) кликнул бы клич и возглавил движение — за увековечение памяти узников ГУЛАГа, за сохранение и сбор материалов, связанных со сталинскими (и досталинскими, и послесталинскими) преступлениями коммунистического режима… Он бы всколыхнул мир! В такое движение, возглавляемое самим Солженицыным, влились бы лучшие интеллектуальные силы многих стран, рекой потекли бы деньги из самых крупных благотворительных фондов, от отдельных меценатов. Десятки, сотни Соросов толпой штурмовали бы вермонтскую цитадель, за честь считая выворотить карманы и пожертвовать свои миллионы. Хватило бы на строительство самых богатых музеев, в которые рвалась бы сегодня публика, как она рвется в музеи Холокоста; на сеть исследовательских центров; на образовательные программы, телевизионные сериалы и на многое другое.
Можно не сомневаться, что такая кампания ускорила бы падение коммунистического режима в России, а главное, распад системы проходил бы иначе — под гораздо большим давлением и влиянием гуманизирующего демократического начала. Суд над компартией, затеянный после прихода к власти Ельцина и так постыдно провалившийся, дал бы совсем другие результаты. Сам Солженицын был бы увенчан многими наградами, возможно, еще одной Нобелевской премией — мира. А главное, страна, Россия, сегодня была бы иной. Красные и коричневые были бы поставлены вне закона, — де-факто и де-юро. Вряд ли сегодня продавались бы на всех углах «Майн Кампф» и «Протоколы сионских мудрецов», «бестселлер» Проханова, «Генералиссимус» Владимира Карпова и сотни подобных изданий, посвященных культу силы и ненависти. Гражданское общество пустило бы глубокие корни, охватило бы широкие слои населения и не дало бы разыграться тому беспределу, который мы с ужасом наблюдали все эти годы и наблюдаем сегодня.
Но, вместо того, чтобы стать центром объединения антикоммунистических и демократических сил, Солженицын стал тараном разъединения и раскола. Он стал крутить неподъемные красные колеса, доказывая миру и самому себе, что «во всем виноваты евреи» — как раз по сценарию «еврейско-ленинской революции», давно уже, как оказывается, набросанному в его потайной тетрадке. В чем нельзя отказать Александру Исаевичу, так это в последовательности. Путь от «Ленина в Цюрихе» и от столыпинского довеска в «Августе 1914» к двухтомнику «Двести лет вместе» — это путь, увы, столь же логичный, сколь и печальный.
Кажется, Виктор Шкловский заметил когда-то, что если враг убивает врага, то в этом нет материала для драмы, а вот когда друг убивает друга, это трагедия.
Ну, а если великий человек тратит вторую половину жизни на то, чтобы убить то, что невероятными усилиями своего таланта и духа созидал в первую половину? Это трагедия в квадрате, супертрагедия. Она разыгрывается на наших глазах.
«Но вот сейчас явно избрано: опорочить меня как личность, запятнать, растоптать само мое имя. (А с таимой надеждой — и саму будущую жизнь моих книг?)», — жалуется Солженицын.[895]
А. Солженицын и В. Путин
Не знаю, кто вынашивает такие коварные замыслы, но знаю, что осуществить их под силу только одному потемщику — Александру Исаевичу Солженицыну. С грустью и горечью приходится отметить, что с этой титанической задачей он начинает справляться. Друг убивает друга — нет, самого себя.
Примечания
1
Л. Аннинский. «Бикфордов шнур длиною двести лет». Интернетная версия газеты «Завтра», № 10(61), 18 сентября 2001 г.
(обратно)2
Там же.
(обратно)3
The Washington Times, 1989, July 24, pp. E7, E10.
(обратно)4
The Washington Times, 2001, September 23, p. B7.
(обратно)5
М. О. Меньшиков. Письма к Русской нации. М., Москва, 1999, стр. 388–392.
(обратно)6
С. Ю. Витте. «Воспоминания в трех томах». «Скиф Аллекс», Таллинн-Москва, 1994, т. II, стр. 496.
(обратно)7
С. Ю. Витте. Ук. соч., т. III, стр. 444.
(обратно)8
См.: Вадим Кожинов. Загадочные страницы истории XX века. «Черносотенцы» и революция. Москва, «Прима В», 1995, стр.10.
(обратно)9
М. О. Меньшиков. Ук. Соч., стр. 428.
(обратно)10
Такова была уничижительная кличка, которой черносотенные публицисты награждали своих идейных противников, служивших якобы евреям. В «шабесгои» зачисляли В. Г. Короленко и многих других. (В буквальном переводе с еврейского «шабесгой» — «субботний нееврей»: нееврей, нанимаемый еврейской семьей для выполнения мелкой домашней работы в субботу, когда, по религиозной еврейской традиции, самим евреям запрещено что-либо делать).
(обратно)11
С. Ю. Витте. Ук. соч., т. III, стр. 313.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Еврейскую прессу на русском языке (еженедельник «Восход», его предшественник «Рассвет», газета «Русский еврей», журнал «Еврейская старина» и другие) не следует путать с так называемой «еврейской прессой», в которую черносотенцы зачисляли русскую оппозиционную печать, утверждая, что в ней якобы доминируют евреи и продавшиеся им «шабесгои».
(обратно)14
М. О. Меньшиков. Ук. соч., стр. 294, 397, 406, 409, 474.
(обратно)15
М. Смолин. Имперское мышление и имперский национализм М. О. Меньшикова. Вступительная статья в кн.: М. О. Меньшиков. Ук. соч., стр. 23.
(обратно)16
Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 3, ЛО «Экран», Москва, 1993, стр. 186. Любопытно, что этот труд Н. С. Лескова был возрожден из небытия Львом Аннинским, восторженно комментировавшим это действительно великолепное сочинение. Как в сознании критика совмещается восторженное отношение к труду Лескова и к книге Солженицына, для меня загадка.
(обратно)17
С изумлением прочитал я в одном из отзывов на книгу Солженицына: «Еврейское население пришло в Россию из Польши». (См.: Александр Эткинд. Не вместе, но нераздельно. «Колокол», Лондон, 2002, № 1, стр. 73). Автор не знает, что евреи НЕ ПРИШЛИ в Россию из Польши, а Россия поглотила Польшу вместе с жившими там евреями. Меня удивляет, стремление некоторых авторов высказываться о предметах, о которых они ничего не знают и которыми, по-видимому, не интересуются.
(обратно)18
Разницу между научным исследованием и «цитированием мест» показал еще А. И. Герцен в работе «Дилетантизм в науке». См. А. И. Герцен. Собрание сочинений в восьми томах, т. 2, Москва, «Правда», 1975, стр. 5-84.
(обратно)19
Сочинения Державина. С объяснительными примечаниями Я. Грота. Издание императорской академии наук. т. VII, Сочинения в прозе, Спб. 1872, стр. 256.
(обратно)20
Впоследствии он утверждал, что его пытались подкупить, о чем — ниже.
(обратно)21
Державин. Ук. соч., т. VII, стр. 277.
(обратно)22
Там же, стр. 302.
(обратно)23
Я просмотрел несколько биографий Державина, но такого «припечатывания» не нашел. О его юдофобстве либо вообще не упоминается из уважения к поэтическому таланту (см., например В. Ф. Ходасевич. Державин, Москва, «Мысль», 1988), либо оно описывается апологетически (см. комментарии Я. К. Грота в «Сочинениях Державина», 1870-72 или О. Михайлов. Державин. Серия ЖЗЛ, М., «Молодая Гвардия»,1977).
(обратно)24
Державин. Ук. соч., т. VII, стр. 229–305.
(обратно)25
Там же, стр. 305.
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
С легкой руки Державина сумма взятки в двести тысяч рублей кочевала потом по светским салонам, литературным и мемуарным источникам много десятилетий. Стоило какому-то видному сановнику высказаться за послабление антиеврейских законов или против ожидавшегося послабления, как тотчас пускался слух — и кем-то непременно был записан — о подкупе либо о неудавшейся попытке подкупа, причем размер взятки каждый раз был один и тот же: двести тысяч рублей. Правда, уже в XX веке, на процессе Бейлиса, тариф был существенно снижен: убийца Андрея Ющинского Вера Чеберяк, выступая на суде в качестве свидетеля, утверждала, что адвокат Л. Д. Марголин (первоначальный защитник Бейлиса) предлагал ей сорок тысяч рублей за то, чтобы она приняла на себя убийство мальчика. Двести тысяч для бедной воровки представлялись бы астрономической суммой.
(обратно)28
Как мы видели, ту же меру намеревалась провести Екатерина II, но не преуспела; не было осуществлено и решение 1804 года, и многие последующие; однако выселения неоднократно начинались, прекращались, потом снова возобновлялись, и этот кошмар дамокловым мечом висел над головами тысяч семей на протяжении многих поколений. Причины этой непоследовательности будут показаны ниже.
(обратно)29
Н. С. Лесков, Собрание Сочинений в шести томах. Том третий, Москва, А.О. «Экран», 1993, стр. 183–253.
(обратно)30
Лесков, Ук. соч., стр. 201.
(обратно)31
Лесков. Ук. соч., стр. 198.
(обратно)32
Там же, стр. 201.
(обратно)33
Там же, стр. 198.
(обратно)34
Там же, стр. 199.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Там же, стр. 200.
(обратно)37
Там же, стр. 205.
(обратно)38
Там же, стр. 199–200.
(обратно)39
Там же, стр. 206.
(обратно)40
Там же, стр. 206.
(обратно)41
Там же, стр. 230.
(обратно)42
Причем все выписки сделаны из вторичных источников, так что самих документов автор не видел; он знаком только с отрывками, приводившимися его предшественниками.
(обратно)43
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 78–79.
(обратно)44
Там же, стр. 81.
(обратно)45
Там же.
(обратно)46
Там же, стр. 80.
(обратно)47
Там же.
(обратно)48
А. И. Герцен. Собрание сочинений в семи томах, Москва, Правда, 1975, т. 4, стр. 225–226.
(обратно)49
Эммануил Флисфиш. Кантонисты, Effect Publishing, Tel-Aviv, [без даты], стр. 159–161.
(обратно)50
Michael Stanislawski. Tsar Nicholas I and the Jews, Philadelphia, The Jewish Publication Society, 1983, стр. 33.
(обратно)51
Э. Флисфиш. Ук. соч., стр. 183–184.
(обратно)52
Лесков. Ук. соч., стр., 226.
(обратно)53
Либо «природная верность», либо «верность с малолетства». Впрягая то и другое в одну фразу, Александр Исаевич обнаруживает разительную для маститого писателя языковую неопрятность, на что, впрочем, в его книге наталкиваешься довольно часто.
(обратно)54
Производство евреев в офицеры было запрещено законом.
(обратно)55
Лесков. Ук. соч., стр. 244–245.
(обратно)56
В. Н. Никитин. Евреи земледельцы: Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со времени их возникновения до наших дней. 1807–1887. Спб., 1887.
(обратно)57
Лесков. Ук. соч., стр. 218–219.
(обратно)58
Лесков. Ук. соч., стр. 224–225.
(обратно)59
Солженицын цитирует по сборнику: «Толстой о евреях». Спб., «Время», 1908, стр. 15.
(обратно)60
См. подробнее: С. Резник. Растление ненавистью: Кровавый навет в России, Даат/Знание, Москва-Иерусалим, 2001, стр. 45.
(обратно)61
Н. С. Мордвинов. Дело о велижских евреях. Архив графов Мордвиновых, том восьмой, С.-Петербург, 1903; Репринтное переиздание в кн.: Велижское дело. Документы. Antiquary, Орандж, Коннектикут, 1988, Стр. 117–144.
(обратно)62
Велижское дело. Документы. Antiquary, Орандж, Коннектикут, 1988, стр. 120–121.
(обратно)63
Подробнее см. в книге: С. Резник. Ук. соч., стр. 49–92.
(обратно)64
Точности ради надо сказать, что богатый киевский коммерсант Иона Зайцев умер за несколько лет до убийства Андрюши, но и при его жизни завод ему не принадлежал, хотя и был построен на его деньги. Кирпичный завод был собственностью еврейской больницы для бедных, построенной тем же Зайцевым в благотворительных целях. Заботясь о том, чтобы больница могла предоставлять бесплатное лечение и после его смерти, Зайцев построил кирпичный завод, передав его в собственность больнице, чтобы доходы этого предприятия покрывали ее расходы.
(обратно)65
Дело Бейлиса. Стенографический отчет, тт. I–III, Киев, 1913.
(обратно)66
Д. А. Хвольсон. Употребляют ли евреи христианскую кровь? СПб., 1879, стр. 60–61. О Д. А. Хвольсоне см.: С. Резник. Растление ненавистью: Кровавый навет в России, Даат/Знание, Москва-Иерусалим, 2001, стр. 52–63.
(обратно)67
А. Эткинд, к примеру, «не чувствует» «априорной невозможности существования» людоедских еврейских сект, хотя таковые ему «неизвестны». (См. «Колокол», Лондон, 2002, стр. 73). Вот бы обрадовал мир, если бы они оказались ему известны! Решил бы, наконец, квадратуру круга, над чем бьются черносотенцы разных времен и народов почти два тысячелетия!
(обратно)68
«Жму ей издали руку, как и всем притонодержателям и сутенерам, но все-таки не убийцам» — таковы подлинные слова Розанова. В. В. Розанов. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. В книге: В. В. Розанов. Сахарна. Собрание сочинений под общей редакцией А. Н. Николюкина. Москва, Изд-во «Република», 1998, стр. 321.
(обратно)69
«Русское богатство», 1911, № 12, стр. 165.
(обратно)70
См. об этом в книге: С. Резник. Ук. соч., стр. 72–76, 121–163.
(обратно)71
См.: А. В. Игнатьев и А. И. Голиков. Комментарии. В кн.: С. Ю. Витте, «Воспоминания», т. I, стр. 460.
(обратно)72
До развертывания сети церковно-приходских школ в конце XIX — начале XX века 85 процентов населения Россия оставалось безграмотным, то есть не умело расписываться. Тот, кто умел поставить свою подпись, по официальной классификации уже числился малограмотным.
(обратно)73
Витте. Ук. соч., т. I, стр. 379.
(обратно)74
Имея за плечами опыт XX века с «окончательным решением еврейского вопроса» нацистами, сталинскими погромами «космополитов» и другими людоедскими акциями по отношению именно к ассимилированным евреям, мы знаем, насколько наивными были эти представления. Но вряд ли мы вправе уличать Моисея Мендельсона в ошибках только за то, что он был всего лишь просветителем, а не пророком, способным предвидеть события на столетия вперед.
(обратно)75
Первой христианкой в семье Мендельсонов стала его вторая дочь Доротея, принявшая протестантство при выходе замуж вторым браком за философа Фридриха Шлегеля. (Позднее вместе с мужем перешла в католичество).
(обратно)76
M. Stanislawski. Ук. соч., стр. 75.
(обратно)77
Там же, стр. 74.
(обратно)78
Записки С. М. Соловьева, Пг., без даты, стр. 58–59.
(обратно)79
Мне непонятно, почему Солженицын берет это слово в кавычки и почему вообще употребляет его в данном контексте. Много позднее, уже при советской власти, когда велось массированное наступление на религию и хедеры были запрещены, в ответ возникла широкая сеть подпольных хедеров, которые, конечно, не были зарегистрированы. Но сколько-нибудь заметное распространение незарегистрированных хедеров в дореволюционной России неизвестно.
(обратно)80
Кагалы были упразднены в 1844 году, но, по версии юдофобов (особенно в этом отношении старался автор зловещей «Книги кагала» Яков Брафман — о нем речь впереди), они продолжали тайно существовать и негласно руководить жизнью евреев.
(обратно)81
Лесков, здесь, видимо, имеет в виду крещеных евреев, так как лиц иудейского исповедания на государственную службу не брали.
(обратно)82
Крещение по конъюнктурным соображениям вряд ли можно было считать морально безупречным поступком; тем не менее, таких выкрестов не следует ставить на одну доску с выкрестами другого рода — теми, кто, порвав с еврейством, превращался в злобных юдофобов, снабжавших врагов породившего их народа клеветническими «знаниями» о еврейской жизни, религии, талмуде и т. п.
(обратно)83
Лесков. Ук. соч., стр. 227.
(обратно)84
Именно «вечные студенты» чаще всего были катализаторами всякого рода протестов и смут: не занимаясь учебой, они тем охотнее занимались «общественной» деятельностью. Евреев среди «вечных студентов» практически не было: слишком дорогой ценой доставались им места в университетах, чтобы «бить баклуши».
(обратно)85
Аналогичная картина наблюдалась и в средних школах. Бывали случаи, когда в черте оседлости еврейские общины или отдельные богатые меценаты открывали школы на собственные средства, но не могли учить в них еврейских детей, так как их прием был ограничен процентной нормой, а христианских детей в них поступало слишком мало, ибо родители не видели необходимости определять их в школы.
(обратно)86
Несколько лет назад мне пришлось давать показания в качестве эксперта в американском иммиграционном суде. Слушалось дело иммигрантки из России, которой Служба Иммиграции и Натурализации отказала в предоставлении политического убежища на том основании, что в постсоветской России евреи перестали-де подвергаться преследованиям. В ходе судебного разбирательства было упомянуто слово «Pogrom». Судья — человек весьма интеллигентный и образованный — вдруг встрепенулся, попросил повторить это слово, а потом стал спрашивать, обращаясь с недоумением во все стороны: «Pogrom? What does it mean? What does it mean — pogrom? („Погром“? А что это значит? Что такое — „погром“?)» Я тогда подумал о том, в какой благословенной стране он родился и прожил жизнь, если никогда не слышал слова «pogrom», присутствующего во всех солидных словарях английского языка.
(обратно)87
Новая газета, 12.07. 2001, стр. 3.
(обратно)88
Там же.
(обратно)89
Витте. Ук. соч., т. I, стр. 195.
(обратно)90
За это, между прочим, он через несколько лет поплатился жизнью, ибо руководители «нежидовских» железных дорог в большей мере боялись разгневать государя, нежели его угробить. В 1888 году тяжелый царский поезд, мчавшийся с курьерской скоростью, потерпел крушение у станции Борки. Благодаря своей геркулесовой силе, царь удержал обвалившуюся крышу вагона, но надорвался и заработал болезнь почек, которая свела его в могилу в возрасте 49 лет. Тем самым была предрешена и судьба Российской империи, доставшаяся неспособному править Николаю II, который привел ее к краху. История стол же печальная, сколь поучительная.
(обратно)91
Я вынужден сказать несколько слов в защиту прекрасного русского писателя Глеба Успенского, ибо состыкованные две полуфразы из двух разных произведений радикально исказили их истинный смысл. Глеб Успенский, конечно, не был юдофилом, но не был он и злостным ксенофобом: евреи и еврейский вопрос его мало интересовали. Как типичный народник, он идеализировал традиционный уклад жизни крестьянской общины, с ее простыми, бесхитростными патриархальными отношениями. Мистическая «власть земли», по его убеждению, создавала тот духовный климат, который позволял сохранять «человеческое в человеке» — вопреки забитости, темноте и невежеству основных масс крестьянства. Но на глазах писателя традиционный крестьянский быт размывался под напором товарно-денежных (капиталистических) отношений. Он не видел того позитивного, что капитализм нес в деревню, но остро ощущал его дегуманизирующее и развращающее влияние на крестьян, становившихся все более корыстными, эгоистичными, неискренними и жестокими по отношению друг к другу, не говоря о «чужаках». В разразившихся еврейских погромах начала 1880-х годов Успенский видел одно из проявлений того, как отношения купли-продажи подрывают традиционную мораль крестьянской общины, что его и тревожило больше всего. Под «татарщиной» и «неметчиной» он понимал произвол и насилия, которым крестьяне подвергались не от татар или немцев, а от родного российского начальства; народ их «вытерпел» в том смысле, что сохранял свой быт и свои традиционные ценности, а вот под напором «жидовского рубля» — «не вытерпел», то есть ожесточился и превратился в громилу. В глазах крестьянина «жид» «не вырабатывал хлеб своими руками», потому что не хлебопашествовал, а занимался куплей-продажей товаров и услуг, что, согласно широко распространенному предрассудку того времени, считалось занятием несерьезным и «нечистым». Взгляды, изложенные в цитируемых Солженицыным очерках Глеба Успенскими, были утопичными, но погромов он не оправдывал.
(обратно)92
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 203. Витте имеет в виду циркуляр министра внутренних дел графа И. И. Толстого, обязавшего местные власти не допускать погромов и возлагавшего на них ответственность в случае их допущения.
(обратно)93
Так, Ф. М. Достоевский цитирует «прехарактернейшую», по его словам, корреспонденцию «Нового времени» из Ковно: «До того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». Еще одиознее ссылка Достоевского на публикацию в «Вестнике Европы» о том, что в южных штатах Америки освобожденные от рабства негры якобы тотчас попали в кабалу к евреям. Федор Михайлович комментирует с видимым удовольствием: «Представьте себе, что мне еще пять лет тому назад приходило это самое на ум, именно то, что ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столько много на свете. Подумал я это, и, уверяю вас, несколько раз потом в этот срок мне вспадало на мысль: „Да что же там ничего об евреях не слышно, что в газетах не пишут, ведь эти негры евреям клад, неужели пропустят?“ И вот дождался, написали в газетах, прочел». Подробнее об отношении Достоевского к евреям я пишу в статье «Достоевский и евреи», «Шалом», Чикаго, 2002, стр. 16–17.
(обратно)94
Кишиневский погром 1903 года. Сборник документов и материалов. Редакционная коллегия: Я. М. Копанский (главный редактор), А. А. Берзой, К. Л. Жигня, Ruzanda, Кишинэу, 2000, стр. 139.
(обратно)95
Там же.
(обратно)96
Там же.
(обратно)97
Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. 1, Дубоссарское и Кишиневское дела 1903 г. Под редакцией и с вступительными статьями С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Арнольди, Петроград, 1919, стр. 203.
(обратно)98
Кишиневский погром 1903 года, стр. 269–270.
(обратно)99
Там же.
(обратно)100
В современном российском законодательстве аналогична статья 282 Уголовного Кодекса, которая тоже, как правило, игнорируется прокуратурой и судами.
(обратно)101
Повторение того, в чем убеждали погромщиков двадцатью годами раньше (см. начало главы) — тут один и тот же почерк.
(обратно)102
Кн. С. Д. Урусов. Записки губернатора. Кишинев 1903–1904 г., Berlin, J. Ladyschnikov Verlag, G.m.b.H. [б/д], стр. 97–98.
(обратно)103
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 204.
(обратно)104
А если так, то могли быть изъяты и документы, касающиеся Кишиневского погрома.
(обратно)105
Биарице — курортный городок на юге Франции, где последние годы подолгу жил Витте. Факт обыска, незаконно произведенного агентами царского правительства в чужой стране, особенно ярко говорит о том, какое значение Николай II и его чиновники придавали «мухлеванию» архивов.
(обратно)106
А. В. Игнатьев и А. Г. Голиков. Комментарии. В кн.: С. Ю. Витте, Воспоминания, том II, 1894-октябрь 1905. Царствование Николая II, Таллинн-Москва, 1994, стр. 552.
(обратно)107
Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. 1, Дубоссарское и Кишиневское дела 1903 г. Под редакцией и с вступительными статьями С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Арнольди, Петроград, 1919, стр. VI.
(обратно)108
Там же.
(обратно)109
Там же.
(обратно)110
Выражение Н. С. Хрущева, который гневно раскритиковав «антисоветский» роман В. Дудинцева «Не хлебом единым…», признал, что в отличие от многих других романов, при чтении которых приходится себя колоть булавкой, чтобы не заснуть, этот роман читается без булавки.
(обратно)111
Об этом можно прочитать в некрологе Крушевана в последней его газете «Друг», июнь 1909 г.
(обратно)112
«Знамя», 28 августа, 1903. См. также: О. Платонов, Терновый венец России. Загадка сионских протоколов, «Родник», Москва, 1999, стр. 231.
(обратно)113
Князь С. Д. Урусов, став губернатором Бессарабии, проявил себя как противник погромной политики — но не потому, что он благоволил к евреям, а потому что считал ее пагубной для российского государства.
(обратно)114
Урусов. Ук. соч., стр. 94–95.
(обратно)115
Здесь кстати заметить, что Солженицын сильно преувеличивает роль Столыпина в официальном осуждении «Протоколов…». Один из наиболее авторитетных исследователей истории этой фальшивки, Владимир Бурцев, приводит записку генерала Г., который сообщает, что под давлением А. А. Лопухина Столыпин приказал провести негласное расследование происхождения «Протоколов», которое было поручено жандармским офицерам Мартынову и Васильеву. После того, как они установили подложность «Протоколов», Столыпин доложил об этом Николаю II. Тот был «глубоко потрясен всем этим», так как при ознакомлении с «Протоколами…» обнаружил в них большую «глубину мысли» и был уверен в их аутентичности. Узнав, что это фальшивка, он распорядился: «Протоколы изъять», пояснив, что «чистое дело» борьбы с еврейством не следует «защищать грязными способами». (В. Л. Бурцев, «„Протоколы сионских мудрецов“ — доказанный подлог», Париж, 1938, стр. 106. Американский исследователь Норман Кон идентифицировал «генерала Г.» как генерала К. И. Глобычева, занимавшего одно время пост начальника Охранного отделения С. Петербурга. См.: Norman Kohn. Warrant for Genocide. The myth of the Jewish world-conspiracy and the Protocols of the Erlders of Zion, Harper&Row, New York and Evanston, 1967, p. 115). Однако высочайшая резолюция не помешала черносотенным организациям беспрепятственно издавать и переиздавать «Протоколы». Не утратила веру в «Протоколы…» и императрица Александра Федоровна, которая не расставалась с ними до самой смерти в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
(обратно)116
Идея создания Всемирного Еврейского Альянса возникла еще в 1840-х годах — под влиянием известного Багдадского дела о ритуальном убийстве, когда еврейская община Багдада обратилась за помощью к своим единоверцам в странах Запада. Благодаря вмешательству Адольфа Кремье и других видных деятелей, а под их давлением — правительств Франции, Великобритании, США и других стран, включая Россию, дело было прекращено и обвиняемые освобождены. Этот случай показал, что совместно евреи разных стран могут успешнее отстаивать свои права и противостоять произволу, чем разрозненно. Однако, ввиду слабых связей между еврейскими общинами разных стран создание Альянса затянулось на два десятилетия. Возникнув, Альянс сразу же стал объектом нападок со стороны антисемитов разных мастей, непомерно преувеличивавших его значение и злостно искажавших его цели и образ действий. До сих пор в антисемитской литературе порой именно на этот Альянс указывают как на замаскированное всемирное еврейское правительство, стремящееся к захвату власти над миром.
(обратно)117
Яков Брафман — известный российский антисемит (еврей-выкрест). Неплохо осведомленный в еврейской религии, культуре и традициях, Брафман использовал эти знания для клеветы на породивший его народ и тем снискал большую популярность и влияние, а так же официальный пост главного цензора литературы на еврейском языке. Его многочисленные «Записки», «Комментарии» и в особенности клеветническая «Книга кагала» служили много лет основным источником, откуда антисемитские идеологи черпали свои представления о евреях.
(обратно)118
Насколько мне известно, в Советском Союзе первым привлек эту фальшивку для разоблачения сионистского заговора В. Н. Емельянов, чьи работы распространялись в самиздате. Наиболее известна книга В. Емельянова «Десионизация» (Москва, «Витязь», 1995), одно из самых крайних выражений антисемитского бреда. О В. Н. Емельянове см.: С. Резник. Красное и коричневое. Книга о советском нацизме. Вашингтон, «Вызов», 1991, стр. 47–82.
(обратно)119
Так и о «Протоколах…» можно прочитать в наши дни, что-де подлинные они или нет, вопрос несущественный, ибо изложенный в них план покорения мира осуществлялся евреями с большой точностью. (См. С. Куняев. Наш современник, 1989, № 6. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в кн.: О. Платонов. Терновый венец России. Загадка сионских протоколов, М., Родникъ, 1999, Фронтиспис, и др.)
(обратно)120
Урусов. Ук. соч., стр. 98.
(обратно)121
Там же, стр. 99.
(обратно)122
А. Мелихов. Каленый клин. «Дружба народов», 2002, № 1 (Цит. по компьютерной распечатке).
(обратно)123
Урусов. Ук. соч., стр. 96–97.
(обратно)124
Подробнее об этом см.: С. Резник. Растление ненавистью. Кровавый навет в России. Москва-Иерусалим, 2001, 126–130.
(обратно)125
Эта архаичная, докапиталистическая форма землевладения устраивала как славянофилов, видевших в ней основу некоей особой русской духовности, так и революционно настроенных народников, видевших в ней предпосылку для вхождения России в социализм. Но больше всего она устраивала власти, так как землю крестьяне должны были выкупать, а взимать выкупные платежи и подати с общины, члены которой повязаны круговой порукой, куда проще и надежнее, чем с каждого крестьянина в отдельности. (По этой же причине власти долго сохраняли кагальную структуру еврейских общин, несмотря на то, что юдофобы приписывали кагалам тайную могущественную силу). Общинная форма землевладения сковывала развитие производительных сил, личную инициативу крестьянин, не давала стимула к хозяйственным улучшениям, но «зато» в ней все было «по справедливости», т. е. господствовала уравниловка.
(обратно)126
Правильнее сказать, для освободительного движения. Оно стало революционным, потому что власть, вместо того, чтобы опереться на него как на своего союзника в проведении реформ, встретила его в штыки и стала преследовать.
(обратно)127
Видимо, имеется в виду студент Евгений Михаэлис, малозначительная фигура, известная в основном благодаря его старшей сестре Н. П. Шелгуновой, активной шестидесятнице и одной из зачинательниц женского движения в России, оставившей два тома интересных воспоминаний. Некоторый след — не столько в движении шестидесятников, сколько в литературе об этом движении — оставила и младшая сестра Людмилы Шелгуновой Мария Михаэлис: во время гражданской казни Н. Г. Чернышевского она первая бросила на эшафот букет цветов, за что была арестована и выслана в имение родителей. Этот эпизод и все семейство Михаэлисов-Шелгуновых описаны в моей книге «Владимир Ковалевский. Трагедия нигилиста», Москва, серия ЖЗЛ, «Молодая гвардия», 1978. Должен сказать, что при изучении материалов для этой книги я нигде не встречал намека на еврейское происхождение этого семейства. Впрочем, я этим не интересовался, так как не считал и не считаю существенным. Михаэлисы были типичными представителями русской разночинной интеллигенции. Мать семейства, воспитавшая детей в свободолюбивом духе, в молодости была знакома с А. И. Герценом, от которого и восприняла негативное отношение к господствовавшему строю.
(обратно)128
Почерпнуты они в основном из книги Льва Дейча «Роль евреев в русском революционном движении», которую трудно назвать историко-научным трудом. Скорее это личные воспоминания автора, который, с одной стороны, непомерно преувеличивал свое собственную роль, а, во-вторых, упоминал всех евреев, с которыми когда-либо встречался, хотя бы лишь мимолетно.
(обратно)129
В 1902-03 годах, согласно официально опубликованной статистике, среди привлекавшихся по политическим делам евреи составляли 29 процентов, православные 52 процента, а остальные были католики (поляки), кавказцы и прочие инородцы.
(обратно)130
См. А. В. Игнатьев и А. Г. Голиков. Комментарии. В кн.: Витте. Ук. соч., т. II, стр. 552–553.
(обратно)131
Эти факты всплыли на суде благодаря защитникам, которые добивались детального обсуждения актов произвола со стороны карательных войск по отношению к подсудимым. Защите важно было доказать юридически, что их подзащитные уже понесли наказание, так как, по закону, запрещалось дважды наказывать за одно и то же преступление. После того, как судья неоднократно отклонял соответствующие ходатайства защиты как якобы не имеющие отношения к делу, защитники отказались участвовать в шемякином суде и покинули зал. Защитники не были революционерами, но, столкнувшись с невозможностью выполнять свой профессиональный долг, прибегли к революционному акту. Кстати, В. Г. Короленко, на чьей квартире в Полтаве совещались адвокаты, солидаризируясь с ними в принципе, тем не менее, считал, что они не должны были оставлять подсудимых без юридической помощи. В следующие годы адвокаты не раз прибегали к подобным актам протеста против заведомо односторонней позиции судей в политических и погромных процессах. Так судебная власть способствовала углублению революционных настроений.
(обратно)132
А. В. Игнатьев и А. Г. Голиков. Комментарии. В кн. Витте, Ук. соч., т. III, стр. 585–586.
(обратно)133
Витте. Ук. соч., т. I, стр. 148.
(обратно)134
Витте. Ук. соч., т. II., стр. 207–208.
(обратно)135
Там же, стр. 210.
(обратно)136
Г. Свет. Русские евреи в сионизме и в строительстве Палестины и Израиля. Книга о русском еврействе. От 1860-х годов до революции 1917 г., Союз русских евреев, Нью-Йорк, 1960, стр. 258.
(обратно)137
Глеб Успенский. Теперь и прежде. Москва, «Советская Россия», 1977, стр. 224.
(обратно)138
Там же, стр. 225–226.
(обратно)139
Там же, стр. 224.
(обратно)140
Цитата по: А. Ф. Кони. Николай II. (Воспоминания). В кн.: Николай II, Воспоминания. Дневники. «Пушкинский фонд», Спб., 1994.
(обратно)141
По закону назначение в сенат было пожизненным.
(обратно)142
Нелишне отметить, что нарисованная здесь картина относится к эпохе Александра III, которым Витте не устает восхищаться на протяжении всех трех томов своих мемуаров — в противовес Николаю II.
(обратно)143
Тут явное противоречие: Партия народной свободы (другое название — конституционно-демократической партия, кадеты) добивалась конституционного строя, равноправия и основных гражданских свобод. Она не практиковала террора или насилия, то есть не была партией бомбистов, убийц и разбойников, хотя и была оппозиционной партией.
(обратно)144
Граф Н. П. Игнатьев, кроме всего прочего, был отпетый взяточник и на преследовании евреев хорошо нагревал руки. С корыстной целью он нередко распускал слух о готовящемся очередном антиеврейском законе или постановлении, а затем, получив крупную взятку, с «большим трудом» эту меру останавливал. Мемуаристы картинно описывали как это происходило. Обычно, узнав о предполагаемой драконовской мере, известный богач, филантроп и еврейский «лоббист» барон Гинцбург приглашал графа Игнатьева на обед в отдельный кабинет ресторана в гостинице Англетер. За обедом в узком кругу барон подробно объяснял графу вред, который может произойти от проектируемой меры. К концу обеда притомленный обильными возлияниями граф Игнатьев засыпал, и чтобы не мешать его сиятельству, все присутствовавшие на цыпочках выходили из кабинета. А затем один из помощников Гицбурга также на цыпочках возвращался, вкладывал в карман спящему министру конверт и выходил. Еще через несколько минут в дверь снова заглядывали. Если граф продолжал почивать, это значило, что сумма недостаточна, надо добавить. Если же граф уже бодрствовал, то все возвращались, и официантам велели подавать кофе и коньяки.
(обратно)145
Трудно с этим согласиться. При графе И. И. Толстом прекратились еврейские погромы, которые при его предшественнике никак «не удавалось» остановить, но именно при нем была узаконена процентная норма.
(обратно)146
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 201–203.
(обратно)147
Интересно, что Витте ни разу не упоминает о еврейском происхождении своей (второй) жены, а связанные с женитьбой на ней «страшный шум, всякие сплетни» относит на счет того, что женился на разведенной. При этом жену он ни разу не называет по имени, но всегда по имени-отчеству: Матильда Ивановна.
(обратно)148
А. Н. Куропаткин. Из дневников. В кн.: Николай II. Воспоминания. Дневники. Серия «Государственные деятели России глазами современников», Пушкинский фонд, Санкт-Петербург, 1994, стр. 65.
(обратно)149
См.: В. В. Шульгин, Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в России. Москва, Национально-республиканская партия России, издательство «Хорс», 1992, стр. 164.
(обратно)150
Там же.
(обратно)151
Мемуары Витте писались с 1907 по 1912 год; данные строки, судя по содержанию, были написаны в 1911 г.
(обратно)152
Как основной участник конституционных преобразований 17 октября, Витте полагал, что России было дано «все, о чем мечтали ее лучшие люди». Это сильное преувеличение. Было положено только начало преобразованиям, дальнейший их ход должен был зависеть уже от решений Государственной Думы. Но вместо того, чтобы дать ей возможность работать, Николай II разогнал Первую и Вторую Думы, избранные на основе им же одобренного (далеко не демократического!) избирательного закона, а затем санкционировал столыпинский государственный переворот, выразившийся в самовольном изменении избирательного закона в таком направлении, чтобы получить послушную Думу и с ее помощью отобрать возможно больше «дарованных» свобод. Это Витте и называет «коверканием 17 октября», которое он приписывает Столыпину. Однако, проводя этот курс с большой настойчивостью, Столыпин лишь выполнял волю императора.
(обратно)153
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 189–190.
(обратно)154
Шульгин. Ук. соч., стр. 7.
(обратно)155
Надо иметь в виду, что процент учащихся евреев, как правило, превышал процентную норму для поступавших, так как среди них было значительно меньше отсева.
(обратно)156
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 199.
(обратно)157
Витте. Ук. соч., т. III, стр. 59.
(обратно)158
Там же, стр. 60.
(обратно)159
Там же.
(обратно)160
Там же, стр. 60.
(обратно)161
Там же.
(обратно)162
П. Н. Милюков. Воспоминания, т. 1. М., «Современник», 1990, стр. 331.
(обратно)163
Николай II, видимо, был искренен в этом убеждении. Даже через много лет, находясь под арестом в Екатеринбурге, он тупо недоумевал: «Скажите, пожалуйста, Белобородов — еврей? Он на меня производит впечатление русского». А узнав, что тот и есть русский, с еще большим недоумением: «Как же он тогда состоит председателем областного Совета?» (Авдеев А. Д. Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге. «Красная Новь», 1928, № 5, стр. 205).
(обратно)164
Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Цит. по сборнику: Николай II, стр. 323.
(обратно)165
Там же, стр. 315.
(обратно)166
Г. Я. Арансон. В борьбе за права. «Книга о русском еврействе. От 1860-х годов до революции 1917 г.», Союз русских евреев, Нью-Йорк, 1960, стр. 225.
(обратно)167
См.: «Книга о русском еврействе», стр. 110.
(обратно)168
Как помнит читатель, я указывал, что «Протоколы» упомянуты у Солженицына только в связи резолюцией П. А. Столыпина. Каюсь в этой ошибке: как видим, есть и второе упоминание — в цитате из В. С. Манделя, — но оно сродни первому. Сами «Протоколы» и их отравляющее воздействие на отношение к евреям Солженицын не считает предметом, заслуживающим внимания.
(обратно)169
Вел. Кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Цит. по: «Николай II. Воспоминания, Дневники», стр. 287.
(обратно)170
Воейков, Н. В. С царем и без царя. «Николай II», стр. 234.
(обратно)171
Там же, стр. 234.
(обратно)172
А. Ф. Кони. Николай II. См. «Николай II. Воспоминания. Дневники», стр. 165.
(обратно)173
М. Ф. Кшесинская. Из «Воспоминаний». В кн. «Николай II», стр. 33.
(обратно)174
В. Kн. Александр Михайлович, Ук. соч., в кн.: «Николай II», стр. 304.
(обратно)175
С. Резник. Кровавая карусель, Москва, ПИК, 1991, стр. 141–142.
(обратно)176
В. Порудоминский. «…равенство всех людей — аксиома», «Октябрь», № 9, 2001, стр. 178–183.
(обратно)177
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 4. Дмитрий Федорович Трепов, один из трех сыновей Ф. Ф. Трепова.
(обратно)178
Кривенко, Из рукописи «В министерстве императорского двора», в кн.: «Николай II. Воспоминания. Дневники», стр. 34.
(обратно)179
Там же.
(обратно)180
Ф. И. Родичев. Из воспоминаний. В кн. «Николай II», стр. 39–40.
(обратно)181
Там же, стр. 42.
(обратно)182
Переписка Вильгельма II с Николаем II. М., 1923, стр. 5.
(обратно)183
Цит. по: Родичев, Ук. соч. В кн.: «Николай II», стр. 43.
(обратно)184
Согласно проведенному позднее расследованию, в давке на Ходынском поле пострадало 2690 человек, 1389 из них умерло. Ужас перед случившимся был столь велик, что очевидцы невольно преувеличивали число жертв. О пяти тысячах погибших можно прочитать и у других очевидцев.
(обратно)185
В кн. Александр Михалович. Ук. соч. В кн. «Николай II», стр. 306.
(обратно)186
Там же.
(обратно)187
Кони. Ук. соч., в кн. «Николай II», стр. 164.
(обратно)188
Витте, Ук. соч., т. II, стр. 17.
(обратно)189
К. П. Победоносцев. Письма и заметки., М.-Пгд., 1923 г.
(обратно)190
В. Kн. Александр Михайлович. Ук соч. в кн. «Николай II», стр. 309.
(обратно)191
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 37.
(обратно)192
В. Кн. Александр Михайлович. Ук. соч., в кн. «Николай II», стр. 309; Витте описывает этот разговор в сходных выражениях (только Плеве назван не мерзавцем, а подлецом), но относит его к более раннему времени, еще до назначения Горемыкина. (Витте, II, стр. 34). В контексте нашего повествования это разночтение не существенно.
(обратно)193
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 191.
(обратно)194
Многие современные авторы любят подчеркивать, насколько мягко царский режим обходился со своими противниками, отправляя их в ссылку, где жизнь «несчастных страдальцев за народное дело» походила на курорт, да и бежать из ссылки было довольно легко. Обычно проводится сопоставление с жестоким режимом большевистских концлагерей. Конечно, царская карательная система была намного мягче советской, однако политические преступники, прибегавшие к насилию или подстрекательству к насилию, присуждались ко многим годам каторжных работ, к бессрочной каторге и к смертной казни. К ссылке же приговаривали тех, кто был изобличен только в незначительных преступлениях. Широко практиковалась административная ссылка без следствия и суда, по одному подозрению или доносу. Когда Ленина, Троцкого, Сталина и многих других отправляли в ссылку, то именно потому, что они не были уличены в серьезных преступлениях.
(обратно)195
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 153.
(обратно)196
Там же, стр. 155.
(обратно)197
Там же, стр. 269.
(обратно)198
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 135–136.
(обратно)199
В. П. Мещерский издавал крайне реакционную и лакейскую, но влиятельную газету «Гражданин», на которую ежегодно — по высочайшему повелению — получал щедрую правительственную субсидию (сперва 80, потом 18 тысяч рублей). Будучи гомосексуалистом, он постоянно находился в окружении нескольких молодых людей, о чьей судьбе проявлял неустанную заботу. Благодаря его связям и влиянию все они делали головокружительную карьеру.
(обратно)200
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 227.
(обратно)201
Там же, стр. 174.
(обратно)202
Витте. Ук. соч., т. II., стр. 232.
(обратно)203
Там же, стр. 269.
(обратно)204
Цит. по: А. В. Игнатьев, А. Г. Голиков. Комментарии. В кн. Витте, Ук. соч., т. II, стр. 554.
(обратно)205
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 342.
(обратно)206
Там же.
(обратно)207
В. кн. Александр Михалович. Ук соч., в кн. «Николай II», стр. 341.
(обратно)208
Борис Владимирович Никольский был профессором Римского права, преподавал в Юрьевском и Петербургском университетах и в элитарном училище Правоведения. Был активным участником и идеологом монархического «Русского собрания», из которого затем вырос «Союз русского народа». После раскола «Союза» в 1908 году Никольский примкнул к группе Дубровина, хотя в дневнике характеризовал его «противным, грубым животным». Принимал активное (но не афишировавшееся) участие в выработке стратегии черносотенных организаций в связи с Делом Бейлиса.
(обратно)209
Дневник Бориса Никольского. «Красный Архив», 1934, т.2 (63), стр. 72.
(обратно)210
Там же, стр. 73.
(обратно)211
В Сербии в 1903 году группой офицеров был совершен государственный переворот; король и королева были убиты.
(обратно)212
Дневник Бориса Никольского. «Красный Архив», 1934, т. 2(63), стр. 80.
(обратно)213
Там же, стр. 80–81.
(обратно)214
Митрополит Петербургский и Ладожский Антоний (Александр Васильевич Вадковский) выступал за меньшую зависимость церкви от Святейшего синода, то есть от светской власти. Предложенную им реформу торпедировал обер-прокурор синода К. П. Победоносцев. Как видим, предложения Антония были не по нутру и идеологам черной сотни, охотно выступавшими под флагом православия.
(обратно)215
Дневник Никольского. «Красный архив», т. 2 (63), стр. 83.
(обратно)216
Лопухин А. А. Отрывки из воспоминаний. М-Пгр., 1926, стр. 73.
(обратно)217
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 351–352.
(обратно)218
Приглашению Витте воспротивились некоторые министры, в особенности В. Н. Коковцов, который имел счеты с Витте и потом сводил их до конца жизни, в том числе в своих двухтомных воспоминаниях. О совещании у Мирского вечером 8 января он пишет в таких выражениях, будто оно не имело никакого значения, а сам он в нем хотя и участвовал, но к принятию решения никакого отношения не имел. (В. Н. Коковцов. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919, Москва, наука, книга 1, 1992, стр. 62).
(обратно)219
Сергей Александрович был женат на сестре царицы Александры Федоровны.
(обратно)220
В. кн. Александр Михайлович. Ук. соч., в кн. «Николай II», стр. 341.
(обратно)221
Витте. Ук. соч., т. III, стр. 82.
(обратно)222
Там же, стр. 83.
(обратно)223
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 375.
(обратно)224
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 452.
(обратно)225
В. И. Гурко. Царь и Царица. В кн. «Николай II», стр. 367.
(обратно)226
Витте. Ук. соч., т. II, стр. 334.
(обратно)227
Витте. Ук. соч., т. III, стр. 34.
(обратно)228
Там же, стр. 38.
(обратно)229
В. И. Гурко. Царь и царица. Цит по: Кн. Николай II, Воспоминания. Дневники, стр. 366–367.
(обратно)230
Гурко, Ук. соч., стр. 366.
(обратно)231
Я говорю о предвзятости, которая видна невооруженным глазом, то есть из самого текста отчетов и их изложения Солженицыным. Сергей Максудов сопоставляет ревизию Кузминского с фактами, приведенными очевидцем одесского погрома 1905 года, известным литератором А. С. Изгоевым в его книге «Русское общество и революция» (М. 1910, стр. 142–143), чем полностью уничтожают его претензию на объективность. (Сергей Максудов. Не свои. «Культура», № 113, 29 июня 2001. Цит. по электронной версии).
(обратно)232
Представление это вообще стало расхожим в «информационном пространстве», как сейчас любят выражаться, пост-советской России. Так, при переиздании книги М. П. Бок «П. А. Столыпин. Воспоминания о моем отце» редакция включила в нее большое число фотографий, и одна из них сопровождается подписью: «Демонстрация в Киеве, направленная против царского манифеста» (Москва, Новости, 1992, блок фотографий между стр. 64 и 65). На самом деле, демонстрация была в поддержку манифеста. Против были направлены вспыхнувшие следом еврейские погромы.
(обратно)233
Имеется в виду эпизод, широко известный по экспрессивному описанию В. В. Шульгина, но приводимый Солженицыным по отчету сенатора Турау. В Киеве, в ходе демонстрации, последовавшей за Манифестом, возбужденная толпа ворвалась в здание Городской Думы, сорвала портрет царя, и молодой еврей, вырезав в портрете дыру и просунув в нее голову, якобы радостно кричал: «теперь я государь». Сенатор Турау занес этот эпизод в свой отчет со слов опрошенных им свидетелей, не похоже, чтобы свидетели сами присутствовали при этом эпизоде, а не передавали ходившие по городу слухи. Тут за версту разит черносотенным мифом, но даже если допустить, что факт имел место и что неизвестный молодой человек обладал ярко выраженной еврейской внешностью, то прямыми очевидцами надругательства над царским портретом мог быть лишь очень ограниченный круг людей. И если осмешник так сильно оскорбил их святые чувства, то почему же они не растерзали его на месте или не сдали полиции? Ничего такого не произошло, зато, по версии Турау-Шульгина-Солженицина, тысячи людей, которые при этом эпизоде не присутствовали, были настолько потрясены и возмущены, что на следующий день бросились громить еврейские кварталы!
(обратно)234
Витте, Ук. соч., т. III, стр. 132.
(обратно)235
Цит. по кн.: «П. А. Столыпин — жизнь и смерть за царя. Речи в Государственном Совете и Думе. Убийство Столыпина. Следствие по делу убийцы». М., Рюрик. 1991, стр.45.
(обратно)236
Витте. Ук. соч., т. III, стр. 84.
(обратно)237
Там же, стр. 132.
(обратно)238
Там же, стр. 84.
(обратно)239
Там же, стр. 127.
(обратно)240
В кн. Витте, Ук. соч., т III, стр. 583.
(обратно)241
А. В. Герасимов. На лезвии с террористами. Всероссийская мемуарная библиотека. Основана А. И. Солженицыным. Серия «Наше недавнее», № 4. YMCA-PRESS, Paris, 1985, стр. 43.
(обратно)242
Отставка не прекратила охоту на Дубасова, которому мстили за подавление Московского восстания. Позднее в него стрелял какой-то юноша в Петербурге, но, испуганный собственной акцией, промахнулся. (Дубасов и его просил помиловать). В августе генерал Мин был выслежен и убит эсеровским боевиком Зинаидой Коноплянниковой.
(обратно)243
М. А. Стахович (предводитель дворянства Орловской губернии 1906 г.) и Д. Н. Шипов (председатель Московской земской управы) были в числе основателей партии октябристов, но Шипов затем перешел в небольшую партию Народного обновления. Князь Е. Н. Трубецкой (профессор философии Московского университета) был в числе создателей партии кадетов, однако, оказавшись в ней на правом фланге, тоже перешел в партию Народного обновления.
(обратно)244
Откроировать конституцию — значит пожаловать волей монарха, а не принять голосованием в парламенте.
(обратно)245
П. М. Милюков. Воспоминания. Москва, «Современник», 1990, т. 1, стр. 330–331.
(обратно)246
Система курий была устроена таким образом, что один голос помещика приравнивался к трем голосам городской буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Военные, учащиеся, «бродячие инородцы» и некоторые другие слои населения вообще не имели голоса.
(обратно)247
Витте. Ук. соч., т. III, стр. 36.
(обратно)248
Там же, т. III, стр. 85.
(обратно)249
Витте, Ук. соч., т. III, стр. 328.
(обратно)250
В. Н. Коковцов. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919 гг. Книга 1, Москва, «Наука», 1992, стр.152.
(обратно)251
В. А. Маклаков. Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. Overseas Publications Interchange LTD, London 1991, стр. 10.
(обратно)252
В. Н. Коковцов. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919 гг. Книга 1. Москва, Наука, 1992, стр. 152.
(обратно)253
Там же, стр. 155.
(обратно)254
Там же, стр. 155–156.
(обратно)255
Там же, стр. 156.
(обратно)256
П. А. Столыпин. О праве крестьян на выход из общины. Речь на заседании Государственного Совета 15 марта 1910 г. Цит. по: П. А. Столыпин. Жизнь и смерть за царя, Москва, Рюрик, 1991, стр. 135.
(обратно)257
Он удался через 12 лет, когда пришедшие к власти большевики, не имея своей аграрной программы, перехватили эсеровскую. Ленинский декрет о земле предусматривал национализацию всей земли и передачу ее в «вечное» пользование крестьянам.
(обратно)258
Вскоре Н. Н. Кутлер войдет в партию кадетов, и во Второй Думе именно ему будет поручено готовить и отстаивать кадетский законопроект.
(обратно)259
А. В. Герасимов, Ук. соч., стр. 76–77.
(обратно)260
П. М. Милюков, Воспоминания, М. «Современник», т. 1, стр. 37.
(обратно)261
В. Н. Коковцов. Ук. соч., т. 1, стр. 176.
(обратно)262
Там же, стр. 177–178.
(обратно)263
Милюков, Ук. соч., т. 1, стр. 382.
(обратно)264
Там же, стр. 383.
(обратно)265
Там же, стр. 384.
(обратно)266
А. В. Герасимов, Ук. соч., стр. 77–78.
(обратно)267
Милюков, Ук. соч. стр. 385.
(обратно)268
Коковцов, Ук. соч., стр. 185–186.
(обратно)269
Там же, стр. 186.
(обратно)270
Ф. Т. Горячкин. Первый русский фашист: Петр Аркадьевич Столыпин., Харбин, «Меркурий», 1928.
(обратно)271
См. John J. Stephan. The Russian Fascists. Tragedy and Farce in Exile, 1925–1945. Harper & Row. New-York, Hagerstown, San Francisco, London, 1978, стр. 159.
(обратно)272
Отчасти он выплеснулся и на Западе. См.: Daniel J. Mahoney. Alexander Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Lanham — Boulder — New York — Oxford, 2001, а также мою рецензию на эту книгу и последовавшие отзывы в: The Washington Times, September 23, 27 & 28, 2001; Семен Резник. Солженицын между Востоком и Западом. Вестник, 28 марта 2002, № 7, стр. 37–41.
(обратно)273
См. А. И. Солженицын. Россия в обвале. Москва, «Русский путь», 1998, стр. 166.
(обратно)274
Столыпин. Жизнь и смерть. Сост. Александр Серебрянников и Геннадий Сидоровнин. Приволжское книжное издательство, 1991, стр. 42–43.
(обратно)275
Коковцов, Ук. соч., т. 1, стр. 191.
(обратно)276
Там же, стр. 192.
(обратно)277
Именно в этом обвиняли кадетов левые радикалы, включая В. И. Ленина. Но В. А. Маклаков считал это «позднейшим самовнушением» авторов Выборгского воззвания. (В. А. Маклаков, Вторая Государственная Дума, стр. 18).
(обратно)278
Б. Николаевский. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Russica, New York, 1980, стр. 194.
(обратно)279
Там же, стр. 88.
(обратно)280
Там же.
(обратно)281
Герасимов, Ук. соч., стр. 90. Заимствуя факты из вполне надежных в этом отношении воспоминаний А. В. Герасимова, я в то же время хочу оттенить очевидное стремление автора всячески подчеркнуть свое профессиональное превосходство - в противовес дилетантизму всех его бывших соперников и товарищей по оружию.
(обратно)282
В. А. Маклаков, Ук. соч., стр. 21.
(обратно)283
Там же, стр. 21.
(обратно)284
Там же.
(обратно)285
Подробнее об этом см.: С. А. Степанов. Черная сотня в России (1905–1914 гг.), Москва, ВЗПИ А/О «Росвузнаука», 1992, стр. 245–250.
(обратно)286
М. В. Родзянко. Крушение империи. Нью-Йорк, 1986, стр. 217.
(обратно)287
См. Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Редакция П. Е. Щеголева. Т. II. Госиздат, Ленинград-Москва, 1925, стр. 439. (Допрос И. Г. Щегловитова).
(обратно)288
П. А. Столыпин. О деле Азефа. Речь на заседании Государственной Думы 11 февраля 1909 г. Цит. по: П. А. Столыпин - жизнь и смерть за царя., стр. 119. См. также: А. Столыпин. П. А. Столыпин. 1862–1911. Париж, 1927; репринт, Москва, «Планета», 1991, стр. 46.
(обратно)289
В воспоминаниях В. Н. Коковцова она ошибочно названа Марией.
(обратно)290
Герасимов, Ук. соч., стр. 110.
(обратно)291
Там же.
(обратно)292
Коковцов уверяет, что «никто из нас», в том числе и Столыпин, не знал о провокаторской роли Шорниковой. Это не может не вызвать иронической усмешки - в свете его же повествования о большой неприятности, выпавшей на его долю через пять лет, когда Шорникова появилась в Петербурге и стала требовать денег, чтобы уехать в Америку от преследований бывших товарищей по партии. Коковцов - тогда уже премьер - должен был лично заниматься этим делом, для чего вызвал из отпуска министра юстиции Щегловитова и даже ставил вопрос на обсуждение Совета министров. Столыпин в такие вопросы Совет министров не посвящал, поэтому неудивительно, что в 1906 году Коковцов не был посвящен в тайные игры охранки, но Столыпин, будучи не только премьером, но и министром внутренних дел, лично ею руководил. Ни одного серьезного шага Охранка без него не делала.
(обратно)293
П. А. Столыпин. «О заговоре против Государя императора, великого князя Николая Николаевича и П. А. Столыпина. Ответ на запрос правых партий от 7 мая 1907 г.». В кн. П. А. Столыпин - жизнь и смерть за царя., стр. 98.
(обратно)294
Герасимов. Ук. соч., стр. 107.
(обратно)295
Цит по: Маклаков, Ук. соч., стр. 243.
(обратно)296
Герасимов, Ук. соч., стр. 111.
(обратно)297
Коковцов, Ук. Соч., т. 1, стр. 226.
(обратно)298
Маклаков, Ук. соч., стр. 245.
(обратно)299
Маклаков, Ук. соч., стр. 243.
(обратно)300
Там же, стр. 246.
(обратно)301
Там же, стр. 247.
(обратно)302
В отличие от Государственной думы, все депутаты которой избирались, половина членов Государственного Совета назначалась царем, и при этом ожидалось, что они не голосуют против законопроектов, представляемых царским правительством. При обсуждении они могли высказывать критические замечания, вносить поправки и т. п., но голосовали всегда так, как желал государь.
(обратно)303
Герасимов, Ук. соч., стр. 146.
(обратно)304
Там же.
(обратно)305
Герасимов, Ук. соч., стр. 162.
(обратно)306
Там же, стр. 163.
(обратно)307
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 26.
(обратно)308
М. В. Родзянко. Крушение империи, 1986, стр. 42.
(обратно)309
Коковцов, Ук. соч., т.1, стр. 389.
(обратно)310
Коковцов, Ук. соч., т. 1, стр. 394–395.
(обратно)311
Там же, т. 1, стр. 297.
(обратно)312
Герасимов. Ук. соч., стр. 98.
(обратно)313
Там же.
(обратно)314
Там же, стр. 84.
(обратно)315
Цит. по: Николаевский. Ук. соч., стр. 189. (См. также «Падение царского режима…» Показания В. Л. Бурцева).
(обратно)316
Николаевский, Ук. соч., стр. 211.
(обратно)317
Герасимов, Ук. соч., стр. 144.
(обратно)318
Ген. П. Г. Курлов. Гибель императорской России. Книгоиздательство Отто Кирхнер, Берлин, 1923, стр. 101.
(обратно)319
«Падение царского режима». Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Редакция П. Е. Щеголева. Т. II. Госиздат, Ленинград-Москва, 1925, т. III, стр. 204. (Допрос П. Г. Курлова).
(обратно)320
См.: там же, т. II. стр. 400. (Допрос И. Г. Щегловитова). А. А. Лопухин был приговорен к четырем годам каторги, которые высшая судебная инстанция заменила вечным поселением в Сибири. Он вернулся в 1913 году по амнистии.
(обратно)321
П. А. Столыпин. О деле Азефа. Речь на заседании Государственной думы 11 февраля 1909 г. Цит. по: «П. А. Столыпин — жизнь за царя», стр. 127.
(обратно)322
Цит. по: Николаевский, Ук. соч., стр. 363–364.
(обратно)323
Там же, стр. 363.
(обратно)324
А. В. Герасимов. Ук. соч., стр. 168–169.
(обратно)325
Там же.
(обратно)326
Герасимов. Ук. соч., стр. 172.
(обратно)327
Там же.
(обратно)328
Там же.
(обратно)329
М. А. Бок. Ук. соч., стр. 300–301.
(обратно)330
Коковцов. Ук. соч., т. 1, стр. 410.
(обратно)331
«Падение царского режима», т. III, стр. 230.
(обратно)332
Там же, т. III, стр. 321.
(обратно)333
Там же, стр. 232.
(обратно)334
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 8.
(обратно)335
Коковцов. Ук. соч., т. 2, стр. 116.
(обратно)336
Там же, стр. 118.
(обратно)337
Воспоминания П. Лятковского. См. «Столыпин. Жизнь и смерть», стр. 122.
(обратно)338
Показания Д. Богрова жандармскому подполковнику П. Иванову от 10 сентября 1911 г. См. «Столыпин. Жизнь и смерть», стр. 159.
(обратно)339
Там же, стр. 160–161.
(обратно)340
Оба в это же время вели расследование убийства Андрюши Ющинского - на фоне ритуальной агитации черной сотни. Фененко, работник уголовной полиции, категорически отказался от ритуальной версии и от ареста Менделя Бейлиса, после чего дело у него было фактически отнято и передано Охранному отделению. Ордер на арест тотчас был выписан, и за Бейлисом явился отряд жандармов во главе с полковником Кулябко.
(обратно)341
Здесь и далее цитирую в обратном переводе с английского - по изданию, которое только и могло вызвать отклики со стороны «американского еврейства»: Alexandr Sozlzhenitsyn. August 1914. The Red Wheel/Knot 1, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1989, p. 499.
(обратно)342
М. Я. Герценштейн и Г. Б. Иоллос, депутаты Государственной Думы от партии кадетов были убиты террористами черной сотни.
(обратно)343
Alexandr Sozlzhenitsyn. August 1914. The Red Weal/Knot 1, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1989, p. 499.
(обратно)344
Там же, стр. 516.
(обратно)345
Допрос Дмитрия Богрова от 1 сентября 1911 г., «Столыпин. Жизнь и смерть», стр. 147–148.
(обратно)346
Допрос Дмитрия Богрова от 2 сентября 1911 г., там же, стр. 151.
(обратно)347
Допрос Дмитрия Богрова от 10 сентября 1911 г. Там же, стр. 161.
(обратно)348
Alexandr Sozlzhenitsyn. August 1914. The Red Wheel/Knot 1, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1989, p. 499.
(обратно)349
Там же, стр. 515–516.
(обратно)350
«Столыпин. Жизнь и смерть», стр. 155–156.
(обратно)351
Коковцов, т. 1., стр. 409.
(обратно)352
Коковцов, Ук. соч., т. 1, стр. 410–411.
(обратно)353
Там же, стр. 410.
(обратно)354
The Washington Times, 1989, July 24.
(обратно)355
А не в декабре, как указывает Солженицын.
(обратно)356
Коковцов. Ук. соч., т. 1, стр. 206.
(обратно)357
«О пересмотре постановлений, ограничивающих права евреев». Особый журнал Совета министров за 1906 г. Цит. по: «Столыпин. Жизнь и смерть», стр. 413–419.
(обратно)358
Переписка П. А. Столыпина и Николая II. Красный архив, 1924, № 5, стр. 105. Цит. по: «Столыпин. Жизнь и смерть», стр. 419–420.
(обратно)359
Там же, стр. 420.
(обратно)360
Там же.
(обратно)361
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 11.
(обратно)362
Чисто «макиавелистая» аргументация. Хорошо известно, что во всяком государстве тайное финансирование (иначе говоря, подкуп) правительством отдельных политических групп считается преступлением и, в случае обнаружения, становится источником крупных политических скандалов.
(обратно)363
Там же, стр. 9.
(обратно)364
Цит по: С. А. Степанов. Черная сотня в России., Москва, ВЗПИ, 1992, стр. 150.
(обратно)365
Там же, стр. 151.
(обратно)366
См. М. П. Бок, П. А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. Москва, Новости, 1992.
(обратно)367
«Новое время», 1911, 5 октября. См. также: С. Резник. «Растление ненавистью: Кровавый навет в России», Москва-Иерусалим, 2001, Даат/Знание, стр. 74–75.
(обратно)368
См. «Растление ненавистью», стр. 72–76.
(обратно)369
А. А. Вырубова. Страницы из моей жизни. Париж-Нью-Йорк, 1923.
(обратно)370
См. С. П. Белецкий. Григорий Распутин. В кн. Григорий Распутин. Сборник исторических материалов. Том первый, Москва, Терра, 1997, стр.129.
(обратно)371
Князь Н. Д. Жевахов. Воспоминания. Цит. по кн.: «Григорий Распутин. Сборник исторических материалов». Том первый, стр. 542. Кроме этих воспоминаний князь Живахов в эмиграции издал со своим предисловием «Протоколы сионских мудрецов».
(обратно)372
Татьяна Миронова, доктор филологических наук. Игорий Распутин: оболганная жизнь, оболганная смерть. Доклад на конференции «Исторические мифы и реальность» (Москва, 4 октября, 2002 года), «Русский вестник», №№ 38–39, компьютерная распечатка, стр. 7.
(обратно)373
Там же, стр. 4.
(обратно)374
Там же, стр. 7.
(обратно)375
Там же.
(обратно)376
Арон Симанович. Распутин и евреи. Воспоминания личного секретаря Григория Распутина. «Историческая библиотека», Рига, 1991.
(обратно)377
См., например, работу православного священника С. И. Гусева-Оренбургского «Багровая книга. Погромы 1919–1920 гг. на Украине». Ладога, Нью-Йорк, 1983. Число жертв погромов этого периода автор оценивает минимум в двести тысяч.
(обратно)378
Симанович. Распутин и евреи, стр. 106.
(обратно)379
С. П. Белецкий. Григорий Распутин. В кн.: Григорий Распутин. Сборник исторических материалов, том первый, Москва, Терра, 1997, стр. 194.
(обратно)380
В. Л. Бурцев. «Протоколы сионских мудрецов» - доказанный подлог. Paris, 1938, стр. 44.
(обратно)381
Белецкий. Ук. соч., стр. 195–198 и др.
(обратно)382
С. Ю. Витте. Воспоминания, Таллин-Москва, 1994, т. III, стр. 523. В главе, посвященной развенчанию мифа о Столыпине, я намеренно не цитировал Витте: при его ревнивом отношении к Столыпину, я предпочитал полагаться на наиболее объективные источники. Здесь я ссылаюсь на Витте потому, что приводимая им характеристика относится не столько к Столыпину, сколько к Щегловитову, и, кроме того, она подтверждается из многих других источников, имеющих и не имеющих отношения к делу Бейлиса.
(обратно)383
О деле Бейлиса см. в главе «Кровавый навет», а более подробно - в моей документальной повести «Убийство Ющинского и дело Бейлиса» («Вестник», 2000, № 24 — 2001, № 1), или в моей книге: «Растление ненавистью. Кровавый навет в России», Москва-Иерусалим, Даат/Знание, 2001, стр. 121–164.
(обратно)384
А. Протопопов. Господину председателю Чрезвычайной следственной Комиссии. Дополнительные показания. Цит. по: «Гибель монархии», Москва, Фонд Сергея Дубова, 2000, стр. 410.
(обратно)385
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 123.
(обратно)386
Там же, стр. 126.
(обратно)387
Там же, стр. 126–127.
(обратно)388
См. предыдущую главу.
(обратно)389
Сергей Труфанов (Бывший иеромонах Илиодор). Святой черт. В кн.: «Григорий Распутин. Сборник исторических материалов». Том первый, Москва, Терра, 1997, стр. 336–337.
(обратно)390
Там же стр. 344.
(обратно)391
М. В. Родзянко. Крушение империи, стр. 42.
(обратно)392
Илиодор. Ук. соч., стр. 331.
(обратно)393
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 20.
(обратно)394
Коковцов, Ук. соч., стр. 26.
(обратно)395
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 20.
(обратно)396
Коковцов, Ук. Соч., т. 2, стр. 44. Согласно Илиодору, он получил от Распутина лишь пять писем - императрицы и четырех ее дочерей, по одному от каждой; что же касается листка с буквой «А», выведенной Алексеем (мальчик тогда начинал учиться писать), то его Распутин только показал, но не отдал. Если так, то Макаров не мог завладеть этим документом. Не преувеличивает ли Коковцов свою осведомленность? Похоже, что об этих письмах он писал не столько по памяти, сколько по книге Илиодора, которую прочел невнимательно.
(обратно)397
Там же, стр. 44.
(обратно)398
М. В. Родзянко. Крушение империи, Государственная Дума и февральская 1917 года революция. Первое полное издание записок председателя Государственной Думы, с дополнениями Е. Ф. Родзянко, 1986, стр. 47.
(обратно)399
Родзянко, стр. 50–51.
(обратно)400
Коковцов, Ук. соч., т. 2, стр. 34.
(обратно)401
Родзянко, стр. 53.
(обратно)402
Родзянко, стр. 61.
(обратно)403
Там же.
(обратно)404
Коковцов, т. 2, стр. 40; в начале своей карьеры Коковцов возглавлял тюремное управление.
(обратно)405
Родзянко, стр. 91.
(обратно)406
Там же.
(обратно)407
Милюков, Ук соч., т. 2, стр. 141.
(обратно)408
Милюков, т. 2, стр. 141–142.
(обратно)409
Матрена Распутина. Распутин. Почему? Воспоминания дочери. «Захаров», Москва, 2000, стр. 248–250.
(обратно)410
Илиодор, Ук. соч., стр. 449.
(обратно)411
Там же.
(обратно)412
Вырубова, Ук. соч., т. 3, стр. 88–89.
(обратно)413
Цит. по: Ив. Меницкий. Революционное движение военных годов (1914–1917), т. 1, Изд-во коммунистической академии, Москва, 1925., стр. 25.
(обратно)414
Там же, стр. 29.
(обратно)415
Там же, стр. 27.
(обратно)416
Партия прогрессистов занимала промежуточное положение между октябристами и кадетами.
(обратно)417
Меницкий, стр. 27–28.
(обратно)418
Цит. по.: Меницкий, стр. 33.
(обратно)419
Родзянко, Ук. соч., стр. 242.
(обратно)420
Там же.
(обратно)421
Милюков, т. 2, стр. 159.
(обратно)422
Родзянко, Ук. соч., стр. 247.
(обратно)423
Там же, стр. 250.
(обратно)424
О. Георгий Шавельский. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Том I, Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 271.
(обратно)425
Архив Русской Революции, издаваемый Г. В. Гессеном, т. XIX, Берлин, 1928, стр. 247–258.
(обратно)426
Согласно известному историческому анекдоту, император Александр III как-то потребовал от известного историка сказать ему правду о том, кто был настоящим отцом его прадеда Павла I. Помявшись, историк ответил, что, коль скоро император настаивает, то он вынужден сообщить, что наиболее вероятным отцом Павла был не Петр III, законный муж Екатерины, а ее любовник граф Салтыков. «Слава Богу! - воскликнул царь. - Значит, в моих жилах все-таки течет одна шестнадцатая часть русской крови!»
(обратно)427
Цит. по: М. Хейфец. Цареубийство в 1918 г., Книготоварищество «Москва-Иерусалим», Иерусалим, 1991., стр. 142. В примечании автор поясняет: «Рассказ Д. Заболотного изложен в статье А. М. Горького „Война и революция“, цит. по сборнику М. Горький „Из литературного наследия“, Иерусалим, 1986, стр. 355–356».
(обратно)428
Шавельский, Ук. соч., стр. 273.
(обратно)429
«Щит. Литературный сборник». Под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба, Петроград, 1915.
(обратно)430
М. Горький. [Без названия. ] Там же, стр. 52–57.
(обратно)431
Г. М. Катков. Февральская революция. Перевод с английского Н. Артамоновой и Н. Яценко. YMCA-Press, Париж, 1984, стр. 141. Книга вышла с предисловием А. И. Солженицына - в серии, издававшейся под его общей редакцией.
(обратно)432
Там же, стр. 145.
(обратно)433
Там же.
(обратно)434
Там же, стр.144.
(обратно)435
Там же, стр. 144–145.
(обратно)436
Г. Е. Распутин. Житие опытного странника. (Май 1907 г.) Цит. по: Григорий Распутин. Сборник исторических материалов., т. 4., Москва, Терра, 1997, стр. 358.
(обратно)437
Цит. по: Олег Платонов. Жизнь за царя (Правда о Григории Распутине). «Воскресенье», Санкт-Петербург, 1996. Интернет-версия на сайте «Русское небо», компьютерная распечатка, стр. 117. Об этой работе мне сообщил читатель Сергей Романов, приношу ему искреннюю благодарность.
(обратно)438
Там же, стр. 55.
(обратно)439
Семен Резник. Феликс Дзержинский. Эскиз к литературному портрету. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 1987; 5, 6, 8, 12, 15, 19, 22, 24, 27 мая.
(обратно)440
См. С. Резник. Растление ненавистью: Кровавый навет в России. Москва-Иерусалим. Даат-Знание. 2001, стр. по указателю.
(обратно)441
Цит. по: Катков. Ук соч., стр. 153; автор приводит высказывание Горемыкина по: «Архив русской революции», т. XVIII, стр. 54.
(обратно)442
Катков, Ук. соч., стр. 154.
(обратно)443
Цит. по Катков. Ук. соч., стр. 161.
(обратно)444
Катков. Ук. соч., стр. 162.
(обратно)445
Там же, стр. 163.
(обратно)446
Гурко, Царь и царица. Цит. по: «Николай II. Письма. Дневники». «Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, стр. 405.
(обратно)447
Эти откровения О. Платонов приводит как примеры благотворного влияния Распутина на государственные дела (стр. 29).
(обратно)448
В. И. Гурко. Ук. соч., стр. 367.
(обратно)449
Там же, стр. 405.
(обратно)450
Допрос Манусевича-Мануйлова в Чрезвычайной следственной комиссии временного правительства. Цит. по: «Григорий Распутин. Сборник исторических материалов», т. 4, Москва, «Терра», стр. 308–309.
(обратно)451
О. Платонов. Ук. соч., компьютерная распечатка, стр. 109–110.
(обратно)452
Шавельский. Ук. соч., цит. по: Николай Второй. Воспоминания. Дневники, стр. 145–147.
(обратно)453
Там же, стр. 148.
(обратно)454
Там же, стр. 149.
(обратно)455
Там же, стр. 148.
(обратно)456
Гурков. Ук. соч., «Николай Второй…», стр. 405.
(обратно)457
М. В. Родзянко. Крушение империи. 1986, стр. 216.
(обратно)458
Катков. Ук. соч., стр. 245 (курсив мой, С.Р.).
(обратно)459
Там же.
(обратно)460
Там же, стр. 221–222.
(обратно)461
Родзянко, Падение империи, стр. 204.
(обратно)462
Цит. по: Милюков, т. 2, стр. 222.
(обратно)463
Подробнее см. И. Подрабинник. Евреи в Великой отечественной войне. «Вестник», 2001, № 10 (269).
(обратно)464
Порядок пополнения армии был таков. Новобранцев призывали в так называемые запасные батальоны, располагавшиеся в тыловых гарнизонах, где, по идее, солдаты должны были проходить интенсивную боевую и «патриотическую» подготовку, а затем отправляться на фронт. Плохая организация набора, часто в избыточном количестве, приводила к тому, что запасные батальоны непомерно разбухали - до 12–19 тысяч человек в каждом - и становились неуправляемыми. Переполненные казармы, плохое питание, недостаток обмундирования и даже стрелкового оружия, низкая дисциплина, превращала запасные батальоны в рассадники смуты и разложения.
(обратно)465
Родзянко, Ук. соч., стр. 276–277.
(обратно)466
Там же, стр. 277–278.
(обратно)467
Катков, Ук. соч., стр. 309.
(обратно)468
С. П. Мельгунов. Мартовские дни 1917 года., Париж, 1961, стр. 177.
(обратно)469
Цит. по: Мельгунов, Ук. соч., стр. 176–177.
(обратно)470
Катков. Ук. соч., стр. 322.
(обратно)471
Цит. по: Мельгунов. Ук. соч., стр. 179.
(обратно)472
Цит. по: Мельгунов, стр. 179.
(обратно)473
Цит. по: Мельгунов, стр. 179.
(обратно)474
Катков, Ук. соч., стр. 323.
(обратно)475
Там же, стр. 323, 354.
(обратно)476
Цит. по: Катков. Ук. соч., стр. 330.
(обратно)477
Цит. по: Мельгунов, Ук. соч., стр. 194.
(обратно)478
В. В. Шульгин. Дни. 1920, Москва, Современник, 1989, стр. 257; Мельгунов. Ук. соч., стр. 195.
(обратно)479
Мельгунов. Ук. соч., стр. 195.
(обратно)480
Цит. по: Катков. Ук. соч., стр. 394.
(обратно)481
См. Семен Резник. Цареубийство в русской истории, «Вестник», 1999, №№ 5–9.
(обратно)482
А. Воронель. «Двести лет вместе» — этап в русском национальном сознании. «Еврейская газета», № 1 (5), январь 2003. Беседу записал Михаил Зараев.
(обратно)483
Richard Pipes. Alone together, «New Republic», November 25, 2002.
(обратно)484
В. Л. Бурцев. «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог. Oreste Zeluk, Paris, 1938, стр. 34.
(обратно)485
В числе оригинальных работ последнего времени о фабрикации «Протоколов»: Савелий Дудаков. История одного мифа. Москва, «Наука», 1993; Вадим Скуратовский. Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов», Киев, «Дух i Лiтера», 2001. О моем собственном «романе с „Протоколами“» см.: С. Резник. «„Протоколы сионских мудрецов“ шагают во второе столетие», «Вестник», 2003, 1 октября, № 20 (221).
(обратно)486
Виктор Лошак. «Русские? Евреи? Русские евреи?» МН, 24.12.02, вторник. Выпуск 50, 2002, стр. 1.
(обратно)487
Там же, стр. 21.
(обратно)488
Там же.
(обратно)489
Виктор Лошак. Раскаленный вопрос. МН, № 25, 26.06.2001.
(обратно)490
А. Воронель. Новый дуализм как альтернатива библейской идеи. «Заметки по еврейской истории», 2003, № 37–38, berkovich-zametki.com/Nomer38/; См. также: А. И. Солженицын. Ленин в Цюрихе. Главы. YMCA-PRESS, Париж, 1975.
(обратно)491
А. Воронель, Ук. соч., там же.
(обратно)492
См.: Книга о русском еврействе (КРЕ-2), Нью-Йорк, 1960, стр. 139–141.
(обратно)493
Ф. И. Родичев. Большевики и евреи. Лозанна, общество имени Герцена, 1922, стр. 5–6.
(обратно)494
Н. Н. Суханов. Записки о революции, т. 3, М., «Республика», 1992, стр. 111.
(обратно)495
Цит. по: А. Корников. Н. Н. Суханов и его «Записки о революции». В кн. Н. Н. Суханов. Записки о революции. В трех томах, т. 1, М., «Современник», 1991, стр. 19.
(обратно)496
Н. Н. Суханов, Записки о революции. Т. 3, М., «Республика», 1992, стр. 111.
(обратно)497
Там же.
(обратно)498
Н. Н. Суханов, так и не смогший поверить в столь чудовищное предательство Ленина, тем не менее, отмечает: «Кроме обвинения в организации [июльского] восстания, на Ленина возвели еще и чудовищную клевету, которой поверили сотни тысяч, а может быть, и миллионы людей (курсив мой. — С.Р.). Его обвинили в преступлении, постыдном и гнусном с любой точки зрения, будто бы он был подкуплен германским генеральным штабом… Но Ленин предпочел скрыться, не смыв с себя такого позора» (Курсив Н. Н. Суханова). Троцкий, отрицавший, конечно, связь Ленина с германским генштабом, цитирует это высказывание Суханова как подтверждение того, что Ленин был оклеветан. Однако объяснить, почему же он скрылся от суда, на котором мог бы опровергнуть навет и восстановить свою человеческую и политическую репутацию, Троцкий не в состоянии. (Дж. Кармайкл. Троцкий. Москва-Иерусалим, 1980, стр. 103).
(обратно)499
Там же, стр. 108.
(обратно)500
М. Горький. Несвоевременные мысли. М., 1990. Цит. по компьютерной распечатке, гл. LII.
(обратно)501
Там же, гл. XLII.
(обратно)502
Там же, гл. XXXVII.
(обратно)503
Там же.
(обратно)504
Г. Аронсон. Еврейская общественность в России в 1917–1918 гг. Книга о русском еврействе. 1917–1967, Нью-Йорк, «Союз русских евреев», 1968, стр. 18–19.
(обратно)505
Ф. И. Родичев. Ук. соч., стр. 20.
(обратно)506
Там же, стр. 5.
(обратно)507
А. И. Солженицын. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000. «Новый мир», 2000, № 5. Цит. по компьютерной распечатке, стр. 1.
(обратно)508
В. Солоухин. При свете дня. Москва, 1992, стр. 28–35.
(обратно)509
Согласно Солоухину (и источникам, которыми он пользовался), Израиль Бланк при крещении взял имя Александр Дмитриевич, а не Давидович, ну да не велика важность.
(обратно)510
См., напр., Ефим Меламед. «Отректись иудейской веры(Новонайденные документы о еврейских предках Ленина)»; С. Резник. «Ты завещал нам, великий Ленин…» «Вестник», № 21(332) 15 октября 2003 г.
(обратно)511
«Отечественные архивы». — М., 1992, № 4. стр. 69–72; см. также цитированную выше статью Е. Меламеда, а также книгу А. Ваксберга. Из ада в рай и обратно: Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну. М., «Олимп», 2003, где приведено (стр. 109–110) письмо сестры Ленина Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой Сталину, в котором она жаловалась на руководство института Маркса-Энгельса-Ленина, скрывавшего правду о еврейских корнях Ильича и тем препятствовавшего борьбе с антисемитизмом. Народ, по её разумению, так обожал вождя, что, узнав о его еврейском дедушке, полюбил бы и евреев. Ленину сегодня только этого не хватало. Сталин дурёхе не ответил.
(обратно)512
О родословной В. И. Ленина см.: Штейн М. Г. Ульяновы и Ленины. Тайны родословной и псевдонима. Спб., 1997 и ряд других работ.
(обратно)513
И с Виктором Еремеевичем Баранченко, который мне об этом рассказывал. См.: С. Резник. Тайна покушения Фанни Каплан. «Литературные записки». Фонд «Культурная инициатива», «Апрель», М., 1991, № 1, стр. 101–106.
(обратно)514
Убийца Урицкого Леонид Каннегиссер был членом маленькой партии народных социалистов, не связанных организационно с эсерами; он действовал в одиночку. Убийцу Володарского рабочего Сергеева найти не удалось; скорее всего, он тоже действовал в одиночку.
(обратно)515
Подробнее о процессе эсеров: Семен Резник. Большевики и эсеры: борьба за власть. «Форум». Общественно-политический журнал, «Сучаснiсть», 1984, № 9, стр. 192–204.
(обратно)516
С. Резник. «Тайна покушения…». В работе, в частности, использованы допросы Ф. Каплан, опубликованные в 1923 г. в журнале «Пролетарская революция». Публикация этих протоколов была призвана подтвердить показания Г. Семенова и Л. Коноплевой на эсеровском процессе, но фактически их опровергла. Я с удивлением прочел в интернете, а затем в «Комсомольской правде» (29.03.2002) о том, что Фанни Каплан и Дмитрий Ульянов были в интимных отношениях, причем авторы ссылались на мою статью. Однако я писал только о том, что Дмитрий Ильич ухаживал за Каплан, а сколь далеко зашли их отношения, мне неизвестно.
(обратно)517
Максим Горький. Ук. соч., гл. XLII.
(обратно)518
Сменит «вехи» он позже.
(обратно)519
Цит. по: П. Н. Милюков, Воспоминания, т. II, М., «Современник», 1990, стр. 322.
(обратно)520
«Правда», 8 апреля 1917 г. Цит. по: Милюков. Ук. соч., т. II, стр. 308.
(обратно)521
Л. Троцкий. История русской революции. N.Y., Monad Press, [Репринт берлинского издания 1933 г. ], стр. 82.
(обратно)522
П. Н. Милюков, Ук. соч., т. 2, стр. 334.
(обратно)523
Подробнее см.: С. Резник. Цареубийство в русской истории. «Вестник», 1999, №№ 5(212) — 9(216).
(обратно)524
Ю. Фельштинский. Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 — июль 1918. На пути к однопартийной диктатуре. Париж, YMCA-Press, 1985.
(обратно)525
См.: П. Пагануцци. Правда об убийстве Царской Семьи. Историко-критический очерк. Св. — Троицкий Монастырь, Джорданвилль, Нью-Йорк, 1981, стр. 62; И. Шафаревич. Русофобия. Сочинения в трех томах. Москва, «Феникс», 1994, стр. 145; С. Резник. Растление ненавистью: Кровавый навет в России. Даат/Знание, Москва-Иерусалим, 2001, стр. 104.
(обратно)526
Robert Wilton. The Last Days of the Romanovs, London, Thornton Butterworth Limited, 1920.
(обратно)527
М. К. Дитерихс. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале, тт. 1–2, Владивосток, 1922.
(обратно)528
Н. А. Соколов. Убийство царской семьи, «Слово», 1925.
(обратно)529
Н. А. Соколов широко пользовался услугами Роберта Уилтона, помогавшего изготовлять фотографии вещественных доказательств — в обмен на информацию о еврейских кознях, которая через газету «Таймс» «потрясала мир». Подробнее см.: С. Резник. Растление ненавистью, стр. 92-106.
(обратно)530
Поскольку ни в одном заслуживающем доверия независимом источнике я не нашел подтверждения еврейского происхождения Голощекина, а в БСЭ, где расшифровываются все партийные клички и псевдонимы, он значился как Филипп Исаевич, я предположил, что еврейское имя Голощекина — это вообще фикция. Однако, после выхода в свет первого издания этой книги белорусский кинодокументалист В. Л. Нехамкин (Мохов) сообщил мне, что в конце 1970-х годов, делая фильм о Пражской конференции большевиков 1912 года, он знакомился с жандармской перепиской в Центральном Государственном Архиве Октябрьской Революции в Москве (ЦГАОР), где фигурировал Голощекин, Шая Ицкович. У меня нет оснований доверять БСЭ больше, чем царской охранке. Таким образом, в шайку екатеринбургских головорезов, учинивших расправу над царском семьей, входило два несомненных еврея (Юровский и Голощекин), а не один, как говорилось в первом издании этой книги. Не могу не обратить внимания на то, что ни один из трех первопроходцев не привел правильного имени-отчества Голощекина.
(обратно)531
КРЕ-2, Нью-Йорк, 1968, стр. 16.
(обратно)532
Там же, стр. 18.
(обратно)533
Г. Аронсон. Еврейская общественность в России в 1917–1918 гг. КРЕ-2, стр. 17.
(обратно)534
«Россия и евреи», YMCA-PRESS, Paris, 1978, стр. 44.
(обратно)535
См. С. Резник. Большевики и эсеры: борьба за власть. «Форум», № 9, 1984, стр. 192–204.
(обратно)536
См. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Деникин. Юденич. Врангель. Составил С. А. Алексеев, М. 1991., стр. 37.
(обратно)537
Там же, стр. 37.
(обратно)538
Н. В. Воронович. «Зеленые» повстанцы на черноморском побережье. В кн.: Революция и гражданская война в описании белогвардейцев. Деникин. Юденич. Врангель, М., Отечество, 1991, стр. 166. Работа впервые опубликована в 1922 году в Берлине в серии «Архив русской революции» (т. VII).
(обратно)539
Там же.
(обратно)540
Там же, стр. 167. Следует добавить, что эти «зеленые» также не имели ничего общего с бандой атамана Зелёного на Украине.
(обратно)541
Воронович. Ук. соч., стр. 168–169.
(обратно)542
В. Оболенский. Крым при Врангеле. Цит. по: Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев, стр. 369.
(обратно)543
Там же, стр. 371.
(обратно)544
Цит. по: Василий Горн. Гражданская война на северо-западе России. В кн.: Гражданская война в описании белогвардейцев. Деникин, Юденич, Врангель, стр. 268.
(обратно)545
Василий Горн, стр. 268–269.
(обратно)546
Омск был столицей Колчака, Екатеринодар — Деникина, Севастополь — Врангеля.
(обратно)547
Н. Устрялов. Под знаком революции, Харбин, 1927, стр. 69. (Первоначально статья была опубликована в сборнике «Смена вех», Прага, июль 1921 г.)
(обратно)548
Н. Устрялов. Под знаком революции, стр. 1927, стр. 125.
(обратно)549
Н. Устрялов. Сумерки революции. «Новая жизнь», Ноябрь, 1921. Цит. по: Н. Устрялов. Под знаком революции, Харбин, 1927, стр. 67.
(обратно)550
Н. Устрялов. Patriotica. «Смена вех», Прага, июнь 1921, стр. 54.
(обратно)551
Чахотин. Там же, стр. 72.
(обратно)552
Н. Устрялов. Под знаком революции, Харбин, 1927, стр. 125.
(обратно)553
Г. Аронсон. Еврейская общественность в России в 1917–1918 гг. КРЕ-2, стр. 132–133.
(обратно)554
Со ссылкой на: Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. London: Overseas Publications, 1979, C. 376–377.
(обратно)555
С. И. Гусев-Оренбургский. Багровая книга. Погромы 1919–1920 гг. на Украине. Ладога, Н.Й., 1983 (репринт харбинского издания 1922 г.).
(обратно)556
Там же, стр. 85–86.
(обратно)557
Там же, стр. 91.
(обратно)558
Там же, стр. 92.
(обратно)559
Цит. по: Nora Levin, ук. соч., т. 1, стр. 128–129. Автор ссылается на: Dr. Risen’s report to JDC, 1922. Rosen Arсhive, Box 1, folder 11.
(обратно)560
«Евреи и революция», стр. 64. Бикерман расшаркивается перед деникинцами и того же требует от других: благородное офицерство могло ведь поголовно убивать и насиловать еврейское население, а делало это не везде и не всегда; стало быть, евреи, которые не расшаркиваются перед их благородиями, — это наши еврейские национал-социалисты. Чего, однако, не ляпнешь в экстазе лакейского пресмыкательства перед погромщиками!
(обратно)561
Ссылка на тот же сборник, стр. 176.
(обратно)562
Ссылка на В. В. Шульгина, стр. 86.
(обратно)563
Ссылка на сборник «Евреи и революция», стр. 65–66. То, как бессовестно врет в этом месте Бикерман, будет показано ниже.
(обратно)564
С. И. Гусев-Оренбургский. Багровая книга. Погромы 1919–1920 гг. на Украине, «Ладога», Н.-Й., 1983, Справка. [Репринт издания: Харбин, издание Дальневосточного Еврейского Общественного Комитета помощи сиротам-жертвам погромов, 1922.]
(обратно)565
Там же.
(обратно)566
Автор говорит о пятой волне погромов на Украине. Четыре предыдущие: хмельнитчина середины XVII века, гайдаматчина второй половины XVIII века, начало 1880 годов и 1905 год.
(обратно)567
С. И. Гусев-Оренбургский. Ук. соч., стр. 3.
(обратно)568
Там же, стр. 11.
(обратно)569
Там же, стр. 11–12.
(обратно)570
Там же, стр. 86.
(обратно)571
Там же, стр. 87–89.
(обратно)572
Там же, стр. 90.
(обратно)573
Несмотря на то, что «Багровая книга», изданная в Харбине в 1922 году, была в 1983 году репринтно переиздана в Нью-Йорке (я пользуюсь этим изданием), я знаю людей, которые тщетно разыскивали ее по всем книжным магазинам и библиотекам США. Имеется не менее редкое издание Гржебина, Берлин 1921, под редакцией М. Горького, но текст без ведома автора был искорежен. Горький, тогда уже добровольно взявший на себя роль просоветского цензора, произвольно изменил название книги, изъял все упоминания о красных погромах и внес иные «улучшения». Этот бракованный вариант книги тоже переиздан репринтно, в Израиле в 1978 г.
(обратно)574
Там же, стр. 126–128.
(обратно)575
Там же, стр. 123–124.
(обратно)576
Там же, стр. 124–125.
(обратно)577
Там же, стр. 125–126.
(обратно)578
Там же, стр. 163–164.
(обратно)579
Там же, стр. 134–136.
(обратно)580
Там же, стр. 15.
(обратно)581
Там же.
(обратно)582
Юрий Финкельштейн. …За дела рук своих: Загадка Симона Петлюры или парадокс антисемитизма. N-Y., Слово-World, 1995, стр. 101.
(обратно)583
Н. И. Штиф. Добровольцы и еврейские погромы. В кн.: «Погромы на Украине», Берлин, 1922. Цит по: «Революция и гражданская война в описании белогвардейцев. Деникин. Юденич. Врангель». М., «Отечество», 1991, стр. 138–158.
(обратно)584
Н. И. Штиф. Ук. соч., стр. 138.
(обратно)585
Там же, стр. 138–139.
(обратно)586
Там же, стр. 144.
(обратно)587
Там же, стр. 147.
(обратно)588
Там же.
(обратно)589
Там же, стр. 149–150.
(обратно)590
Ссылка на сборник «Революция и евреи», стр. 149–151.
(обратно)591
Ссылка на тот же сборник, стр. 183.
(обратно)592
Гусев-Оренбургский. Ук. соч., стр. 81–82.
(обратно)593
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 2 изд., т. 1, стр. 415.
(обратно)594
Ленин В. И. Философские тетради. Полн. собр. соч., 5-е изд. т. 29, стр. 267.
(обратно)595
Н. Бухарин и Е. Преображенский. Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы Российской Коммунистической Партии Большевиков. Гомель, «Госиздат», 1921, стр. 195.
(обратно)596
Мих. Галкин (Горев). «Коммунизм и религиозные обряды», «Правда», 1921, 15 мая, (стиль оригинала).
(обратно)597
Там же.
(обратно)598
Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. В кн.: Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989, стр. 168.
(обратно)599
Цит. по: Юрий Карякин. Бес смертный. «Новая газета», 22.4.2004, № 28.
(обратно)600
Моэлы производили обрезание новорожденным мальчикам в соответствии с религиозным ритуалом.
(обратно)601
Во время процесса Бейлиса «эксперт» по религиозным вопросам ксендз Пранайтис заявлял, что в Талмуде якобы содержится наставление: «Лучшего из гоев убей». Это, очевидно, и имел в виду М. Розенблат, говоря о том, что большевистский «суд» повторяет наветы черносотенного суда. Однако при слушании Дела Бейлиса клевета Пранайтиса была опровергнута четырьмя другими экспертами, а также защитниками Бейлиса, уличившими его во лжи и невежестве, чего не произошло в советском «суде».
(обратно)602
Эпизод подробно описан на идиш в сборнике «В эпоху революции»; мой пересказ основан на трех источниках: Nora Levin. The Jews in the Soviet Union since 1917: Paradox of Survival. New York University Press, N.Y., 1988, pp. 78–79; Zvi Gitelman. Jewish Nationality and Soviet Politics. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1972, 301; Гершон Свет. «Религия в советской России». Книга о русском еврействе 1917–1967 (КРЕ), Нью-Йорк, 1968, стр. 205–206.
(обратно)603
Цит. по Zvi Gitelman, Ук. соч., стр. 312; N. Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 77.
(обратно)604
По данным на 1922 год, в партии большевиков числилось 958 евреев с дореволюционным стажем, примерно 4 процента от общего числа (на 1 января 1917 г. — 23600). (см.: Zvi Gitelman. Jewish Nationality and Soviet Politics. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1972, p. 105).
(обратно)605
В первом составе советского правительства из 15-ти народных комиссаров был один еврей, Лев Троцкий. В составе большевистского ЦК из двадцати одного члена было шестеро евреев: Зиновьев, Каменев, Свердлов, Сокольников, Троцкий, Урицкий, причем двое из них — Каменев и Зиновьев, — выступили против захвата власти и разгласили тайные планы в меньшевистской газете, за что были подвергнуты остракизму со стороны Ленина, но тотчас прощены.
(обратно)606
См. Nora Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 50.
(обратно)607
Цит. по: Nora Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 55.
(обратно)608
Там же, т. 1, стр. 73; так же: Boris D. Bogen. Born a Jew. NY, Macmillan. 1930, стр. 329.
(обратно)609
Гершон Свет., Ук. соч., стр. 209.
(обратно)610
Там же, стр. 208.
(обратно)611
Yosee Hayim Yerushalmi. Haggadah and History. Philadelphia, 1997, Plate 144.
(обратно)612
Там же.
(обратно)613
Nora Levin. Ук. соч., т. 2, стр. 784.
(обратно)614
Рабби И. И. Шнеерсон. Записки об аресте. Составитель и переводчик Д. А. Гуревич, Brooklyn, NY, 1980.
(обратно)615
Там же, цит. по интернет-версии: .
(обратно)616
Там же.
(обратно)617
Таков был лицемерный лексикон палачей: чем чаще и больше казнили, тем реже употреблялись понятия «смертная казнь», «расстрел».
(обратно)618
Е. П. Пешкова, первая жена М. Горького, возглавляла советское отделение Международного красного креста. Благодаря своему особому положению, связям в высших эшелонах власти, невероятной настойчивости, ей удалось спасти от гибели в застенках ЧК-ГПУ-НКВД сотни, если не тысячи деятелей культуры, науки, религиозных деятелей.
(обратно)619
Рабби И. И. Шнеерсон. Записки об аресте. Составитель и переводчик Д. А. Гуревич, Brooklyn, NY, 1980. Цит. по интернет-копии.
(обратно)620
Joshua Rothenberg. «Jewish Religion in the Soviet Union». In collection «The Jews in Soviet Russia», edited by Lionel Kochan, with introduction by Leonard Shapiro, Third edition, Published for the Institute of Jewish Affairs, London, Oxford University Press, 1978, p. 174.
(обратно)621
Там же.
(обратно)622
Zvi Gitelman. Ук. соч., стр. 308–309.
(обратно)623
Joshua Rotnenberg, Ук. соч., стр. 178.
(обратно)624
Цит. По Joshua Rotnenberg, Ук. соч., стр. 178; автор ссылается на публикацию в журнале «Jews in Eastern Europe», Nov. 1964.
(обратно)625
Ссылка на «Церковные Ведомости», Пг., 1918, № 1 (5 января), стр. 38.
(обратно)626
Ссылки на два архивных документа, хранящихся в Государственном Архиве РФ (ГАРФ).
(обратно)627
Цит. по: Ольга Эдельман. Культурная тундра. «Отечественные записки», 2003, № 5, интернет-версия.
(обратно)628
А. Меньшой. «Бей жидов!», «Правда», 1919, 3 июля, стр. 1.
(обратно)629
Там же.
(обратно)630
Следует ссылка на книгу С. Булгакова «Христианство и еврейский вопрос», Париж, YMCA-Press, 1991, стр. 76.
(обратно)631
Хорошо известно, что как раз в 1898 году собрался Первый съезд Российской Социал-демократической Рабочей Партии, но весь состав его арестовали, и партия основана не была. Она ведет свое начало со Второго съезда (1903), однако большевизм организационно выделился из РСДРП только в 1912 году; все это не мешало «старым большевикам» числить свой партийный стаж со времен, когда партии не было и в помине. Так, «старейший большевик» Ф. Н. Петров (1876–1973) вел свой партийный стаж даже с 1896 г., так что претензии Ярославского на то, что он вступил в партию в 1898-м можно считать умеренными!
(обратно)632
Цит. по Русское поле. Хронос CD-ROM. Ссылка на ЦПА, ф. 89, оп. 1, ед. хр. 84, л. 15.
(обратно)633
Новые документы о В. И. Ленине (1920–1922 гг.). «Известия ЦК КПСС», 1990, № 4, с. 192–193.
(обратно)634
Яков Рокитянский. Рейнхард Мюллер. Красный диссидент. Академик Рязанов — оппонент Ленина, жертва Сталина. «Academia», М. 1996, стр. 91.
(обратно)635
А. В. Косарев. Антирелигиозная пропаганда и задачи комсомола. М., «Молодая гвардия», 1937, стр. 4–5.
(обратно)636
Ем. Ярославский. Задачи антирелигиозной пропаганды. М., Партиздат ЦК ВКП(б), стр. 25.
(обратно)637
И. Вайнберг. Введение в Танах.
(обратно)638
Г. Свет. Ук. соч., стр. 211–212.
(обратно)639
Леонард Шапиро. Евреи в Советской России после Сталина. КРЕ, стр. 353.
(обратно)640
Г. Свет, Ук. соч., стр. 212; Л. Шапиро. Ук. соч., стр. 252.
(обратно)641
Адольф Шаевич: «У раввинов не принято уходить, пока есть здоровье и силы». Газета, 2002, 22.07.
(обратно)642
Цит. по: Ольга Эдельман. Ук. соч., интернет-версия.
(обратно)643
Nora Levin. The Jews in the Soviet Union since 1917. N.Y., New York University Press, v. 1, p. 194.
(обратно)644
Х.-Н. Бялик. Песни и поэмы. Перевод В. Жаботинского, СПб, 1914 (одно из нескольких изданий).
(обратно)645
Цит. по: Иегуда Слуцкий. «Судьба иврит[а] в России». КРЕ, стр. 242; Nora Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 100.
(обратно)646
Мне довелось в Вашингтоне познакомиться с сыном Якова Мазе. К сожалению, он был уже очень стар и болен, долго беспокоить его было нельзя. Мы договорись встретиться для обстоятельной беседы после его выздоровления, но вскоре он умер. — С.Р.
(обратно)647
Nora Levin. Ук. соч., т. 1 стр. 102.
(обратно)648
Там же, т. 1, стр. 102; т. 2, стр. 833–834.
(обратно)649
Цит. по: Гершон Свет. Еврейский театр в Советской России. КРЕ, стр. 275.
(обратно)650
С. Ан-ский (Рапопорт) — талантливый писатель и крупный ученый-этнограф.
(обратно)651
Часть труппы осела в Нью-Йорке, часть — в Палестине. Сейчас театр «Габима» — один из ведущих художественных коллективов Израиля.
(обратно)652
Цит. по: Yehoshua A. Gilboa. Hebrew Literature in the USSR. В кн.: The Jews in the Soviet Russia since 1917, Oxford University Press, London, 1978, p. 227.
(обратно)653
Nora Levin. Ук. соч., т. 1 стр. 106.
(обратно)654
Gilboa. Ук. соч., стр. 240. Автор восхищается необычайным богатством языка Ленского и его виртуозной поэтической техникой; Иегуда Слуцкий тоже отмечает «значительное дарование» Хаима Ленского.
(обратно)655
Не понимаю, почему имя «Элиша» трансформировалось в отчество «Абрамович», но так в источнике. — С.Р.
(обратно)656
Gilboa. Ук. соч., стр. 237–238.
(обратно)657
Цит. по: М. Гейзер. Соломон Михоэлс. Изд-во «Прометей», М., 1990, стр. 87.
(обратно)658
Там же, стр. 91.
(обратно)659
Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета. Ответственный редактор профессор В. П. Наумов. М., «Наука», 1994, стр. 308. (Показания В. Зускина).
(обратно)660
Данные переписи населения 1926 года.
(обратно)661
Nora Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 182.
(обратно)662
Nora Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 177.
(обратно)663
Цит по: Ch. Shmeruk. Yiddish Literature in the USSR. В кн.: The Jews in the Soviet Russia since 1917, Oxford University Press, Oxford-London-New York, 1978, p. 259.
(обратно)664
Там же.
(обратно)665
Именно Самуилу Галкину Михоэлс позднее поручит составить перевод «Короля Лира», а затем поставит по его пьесе спектакль «Суламифь», считающийся одним из вершинных достижений ГОСЕТа. Самуил Галкин чудом не оказался в числе обвиняемых по делу ЕАК и избежал расстрела в 1952 году. Умер в 1960-м.
(обратно)666
Ch. Shmeruk. Ук. соч., стр. 257.
(обратно)667
Юдель Марк. Литература на идиш в Советской России. КРЕ, стр. 220.
(обратно)668
Shmеruk. Ук. соч., стр. 265–266.
(обратно)669
Ю. Марк. Ук. соч., стр. 225.
(обратно)670
Эстер Маркиш, Ук. соч., стр. 102.
(обратно)671
Там же.
(обратно)672
Там же, стр. 89.
(обратно)673
Показания В. Зускина цит. по: Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. Стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета. Ответственный редактор профессор В. П. Наумов. М., «Наука», 1994, стр. 308.
(обратно)674
БСЭ, 2-е издание, 1952, т. 15, стр. 377.
(обратно)675
См.: Розалия Рывкина. Евреи в постсоветской России — кто они? Социологический анализ проблем российского еврейства. М., изд-во УРСС, 1996, стр. 56–57.
(обратно)676
Nora Lrvin, Ук. соч., т. II, стр. 632–633. Такую же лапшу на уши западным коллегам вешали другие советские посланцы, в их числе Борис Полевой, рассказывавший такие же сказки Говарду Фасту.
(обратно)677
Леонид Школьник позднее эмигрировал в Израиль, а сейчас живет в Нью-Йорке; до недавнего времени редактировал русское издание газеты «Форвадс». От него знаю, что Романа Шойхета давно нет в живых. — С.Р.
(обратно)678
J. B. Schechtman. The U.S.S.R., Zionism and Israel. В кн.: The Jews in Soviet Russia since 1917. Third edition, Oxford University Press, 1979, p. 108.
(обратно)679
Там же.
(обратно)680
Цит. по: И. Б. Шехтман. «Советская Россия, сионизм, Израиль». КРЕ-2, стр. 317.
(обратно)681
И. Б. Шехтман. Ук. соч., стр. 318.
(обратно)682
Nora Levin. Ук. соч., т. 2, стр. 832.
(обратно)683
В. И. Ленин. ПСС, 5-е изд., т. 8, стр. 74.
(обратно)684
Там же, стр. 75.
(обратно)685
Nora Levin. Ук. соч., т. 2, стр. 832.
(обратно)686
Там же, стр. 321.
(обратно)687
Nora Levin, Ук. соч., т. 1, стр. 89–91.
(обратно)688
Ю. Ларин. Евреи и антисемитизм в СССР. М.-Л., Госиздат, 1929, стр. 16.
(обратно)689
Цит. по: Nora Levin. Ук. соч., стр. 94.
(обратно)690
Benjamin Pinkus. Benjamin Pinkus. The Jews of the Soviet Union. The History of a National Minority. Cambridge University Press, 1988, p. 132.
(обратно)691
А. И. Солженицын. Собрание сочинений. Том седьмой. Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956. Опыт художественного исследования. V–VI–VII, Вермонт-Париж, 1980, стр. 346.
(обратно)692
Профессор Бенджамин Пинкус из университета им. Бен-Гуриона (Израиль) считает, что организованная сионистская деятельности в СССР продолжалась до 1934 года, хотя в другом месте указывает, что она была полностью подавлено во второй половине 1930-х годов. (См.: Benjamin Pinkus, Ук. соч., стр. 132, 310).
(обратно)693
Ю. Б. Марголин. Путешествие в страну зэ-ка. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1952.
(обратно)694
«Правда», 30.5.1948.
(обратно)695
Robert O. Freedman. Soviet Jewry as a Factor in the Soviet-Israeli Relations. В. кн.: Soviet Jewry in the 1980s. Edited by Robert. O. Freedman. «Duke University Press», Durham and London, 1989, p. 63–64.
(обратно)696
Там же, стр. 64.
(обратно)697
Неправедный суд. Последний сталинский расстрел, М., «Наука», 1994, стр. 376 и по всему тому.
(обратно)698
«Правда», 1953, 13 января.
(обратно)699
Там же.
(обратно)700
Ю. Ларин. Ук. соч., стр. 15.
(обратно)701
См.: Nora Levin, Ук. соч., т II, стр. 617; Zvi Gitelman, Ук. соч., стр. 254.
(обратно)702
Юрий Иванов. Осторожно, сионизм! Второе издание, М., «Политиздат», 1970, стр. 125, 126, 144, 145, 147, 148, 153, 169.
(обратно)703
Вот наиболее заметные из них: Е. Евсеев. Фашизм под голубой звездой, М. «Молодая гвардия», 1971; В. Большаков. Сионизм на службе антикоммунизма, М. «Политиздат», 1972; В. Бегун. Ползучая контрреволюция, Минск, 1973; В. Бегун. «Вторжение без оружия», М., «Молодая гвардия», 1978, второе издание 1979; Идеология и практика международного сионизма, М., Политиздат, 1978; Идеология и практика международного сионизма, Киев, «Наукова думка», 1981; Л. Корнеев. Классовая сущность сионизма, Киев, «Политиздат Украины», 1982; Л. Маджорян. Международный сионизм на службе империалистической реакции. М., «Международные отношения», 1984; В. Семенюк. Сионизм: ставка на террор. М., АПН, 1984; А. Романенко. О классовой сущности сионизма, Л. «Лениздат», 1986; Л. Корнеев. Враги мира и прогресса. Библиотека «Огонек», № 7, стр. 1987; и др. Некоторые из них детально рассмотрены в двух моих книгах: Семен Резник. Красное и коричневое, Вашингтон, «Вызов», 1992; Semyon Reznik, The Nazification of Russia, Washington, Challenge Publications, 1996.
(обратно)704
Ф. Д. Свердлов. Энциклопедия еврейского героизма. М., 2002, стр. 229. (Благодарю И. Саксонова за предоставление этого ценного справочника — С.Р.).
(обратно)705
Цит. по: William Korey. «Soviet Public Anti-Zionist Committee». В кн.: Soviet Jewry in the 1980s. Edited by Robert O. Freedman, «Duke University Press», Durham and London, 1989, p. 30.
(обратно)706
«Правда», 5.9.1979.
(обратно)707
В числе активных членов Антисионистского комитета были также: профессор-юрист Самуэл Зивс (вице-председатель), заместитель директора агентства печати «Новости» Марк Крупкин (вице-председатель), академик Мартин Кабачник, писатели Борис Шейнин и Цезарь Солодарь, эксперт по Ближнему Востоку и обозреватель «Литературной газеты» Игорь Беляев (кажется, единственный не еврей) и ряд других. В состав комитета был также включен раввин Фишман, который должен был выступить на первой пресс-конференции Комитета, 6 июня 1983 года, но за день до нее скончался от обширного инфаркта. Видимо, предстоявшее позорное выступление на пресс-конференции вызвало столь сильные переживания, что сердце не выдержало.
(обратно)708
«Роман-газета», 1983, №№ 13–14.
(обратно)709
Цит. В обратном переводе с английского по: William Korey. Ук. соч., стр. 40.
(обратно)710
Белая книга. Новые факты, свидетельства, документы. М., «Юридическая литература», 1985.
(обратно)711
Там же, стр. 7-13.
(обратно)712
В. С. Шумский, М., издание журнала «Русская правда», 1999.
(обратно)713
О русском нацизме времен перестройки и постсоветского времени см.: А. Верховский, В. Прибыловский. Национал-патриотические организации в России. История. Идеология. Экстремистские тенденции. М., «Институт экспериментальной социологии», 1996; А. Верховский, Папп, В. Прибыловский. Политический экстремизм в России. М., «Институт экспериментальной социологии», 1996; В. Лихачев. Нацизм в России. М., центр «Панорама», 2002 и ряд других изданий.
(обратно)714
См. Статистические данные в кн.: Soviet Jews in the 1980s, p. 215.
(обратно)715
«Форвертс», Нью-Йорк, 2004, 15–21 октября, стр. 8.
(обратно)716
А. Ваксберг. Из ада в рай и обратно: Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну, М., «Олимп» 2003.
(обратно)717
А кстати и имя руководителя полтавской ЧК, приказавшего их расстрелять: Иванов — вариация на тему «жидов-комиссаров», упивающихся кровью братьев-славян.
(обратно)718
Документ сохранился в знаменитом «Смоленском архиве», цитируется в книге: Nora Levin. Ук. соч., т. 1, стр. 153. Привожу в обратном переводе с английского.
(обратно)719
Ю. Ларин. Ук. соч., стр. 93–94.
(обратно)720
Ю. Ларин. Евреи и антисемитизм в СССР. М.-Л. Госиздат, 1929, стр. 69. В Царстве Польском (особенно в Лодзи, Белостоке, Варшаве) процент евреев-рабочих был более высоким, но Ларин не касается территорий, которые после революции остались за пределами Советского государства.
(обратно)721
Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. В кн.: Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989, стр. 168.
(обратно)722
Ю. Ларин. Ук. соч., стр. 63.
(обратно)723
Founding a New Life for Suffering Thousands. Report by Dr. Joseph A. Rosen on Jewish Colonization work in Russia. Under the Auspices of the Joint Distribution Committee. With a forward by Louis Marshall. Philadelphia, September 12, 13, 1925, стр. 9.
(обратно)724
Э. Маркиш. Ук. Соч., стр. 28.
(обратно)725
Nora Levin. Ук. соч., стр. 153.
(обратно)726
Эстер Маркиш. Ук. соч., стр. 30.
(обратно)727
Dr. Joseph Rosen. The Present Status of Russian Jewish Agricultural Colonization and the Outlook. Chicago, October 9-10, 1926.
(обратно)728
Там же.
(обратно)729
Талант, конечно, пробьется; в будущем академик Крепс — один из ведущих советских физиологов. За плечами его будет многое, в том числе и долгие годы в ГУЛАГе.
(обратно)730
Михаэль Бейзер. Евреи Ленинграда. 1917–1939. Национальная жизнь и советизация. «Мосты Культуры», 1999, стр. 104.
(обратно)731
Эстер Маркиш, Ук. соч. стр. 28.
(обратно)732
Там же стр. 330.
(обратно)733
Л. Ларский. Антисемитизм в наши дни. В кн.: «Неодоленный враг». Сборник художественной литературы против антисемитизма. Составитель В. Вешнев, М., «Федерация», 1930, стр. 328. На этот сборник мне указал Марк Авербух (Филадельфия), приславший ксерокопию статьи Л. Ларского и некоторых других материалов. Выражаю ему искреннюю благодарность. — С.Р.
(обратно)734
Там же, стр. 329.
(обратно)735
Там же, стр. 338.
(обратно)736
Там же, стр. 339–340.
(обратно)737
М. Бейзер, Ук. соч., стр. 109.
(обратно)738
Там же, стр. 105.
(обратно)739
Там же, стр. 107–108.
(обратно)740
Там же, стр. 105.
(обратно)741
М. Гейзер, стр. 109.
(обратно)742
В. Порудоминский. Перечитывая заново. Комментарий к стихотворению В. Маяковского «Жид». «Окна», Иерусалим, 30.1.1997; «Шалом», Чикаго, 10.1997. Цитирую, по машинописной копии, любезно присланной автором. — С.Р.
(обратно)743
Там же.
(обратно)744
Там же.
(обратно)745
Там же.
(обратно)746
«Неодоленный враг», стр. 5. Грамматика и стиль автора.
(обратно)747
Михаэль Бейзер. Евреи Ленинграда. 1917–1939. Национальная жизнь и советизация. М., «Мосты культуры», 1999, стр. 105–106.
(обратно)748
Там же.
(обратно)749
«Правда», 1927, 2 февраля.
(обратно)750
М. Бейзер. Ук. соч., стр. 109–110.
(обратно)751
The American Jewish Joint Distribution Committee in Russia. January 1924, pp. 38–39.
(обратно)752
Там же, стр. 3.
(обратно)753
David A. Brown. The New Exodus. The story of the historical movement of Russian Jewry. Back to The Soil. New York, May 29, 1925, p. 12.
(обратно)754
Государственного комитета по землеустройству трудящихся евреев. Во главе его стоял тот же Петр Смидович, благосклонно относившийся к инициативам и кошельку «Джойнта».
(обратно)755
J. Rosen. Ук. соч., стр. 22.
(обратно)756
Там же, стр. 13.
(обратно)757
Кооперативы, создававшиеся Розеном, не имели ничего общего с будущими колхозами. Похоже, что в этом отношении Джозеф Розен находился под сильным влиянием русских ученых-кооператоров Кандрятьева и Чаянова. В двадцатые годы их идеи были весьма популярны, их поддерживала власть, на их взгляды опирался Бухарин, развивая свою концепцию «постепенного врастания мужика в социализм». Коллективизация опрокинула все эти проекты, ведущие аграрии были арестованы, обвинены во вредительстве и уничтожены.
(обратно)758
Zvi Gitelman. A Century of Ambivalence, N.-Y., YIVO Institute, 1988, p. 156.
(обратно)759
Chimen Abramsky. The Biro-Bidzhan Project, 1927–1959. The Jews in Soviet Russia, edited by Lionel Kochan, Oxford University Press, 1978, pp. 70–71.
(обратно)760
В предвоенные годы Солженицын задумал и начал писать роман под названием «Люби революцию!» Эти наброски теперь в виде повести включены в книгу: А. Солженицын. Дороженька, М., «Вагриус», 2004, стр. 249–412.
(обратно)761
Этот негативный опыт был учтен. Позднее, ударные стройки в отдаленных местах объявлялись комсомольско-молодежными, вербовали на них молодежь, не обремененную семьями.
(обратно)762
Ch. Abramsky, Ук. соч., стр. 153.
(обратно)763
Э. Маркиш. Ук. соч., стр. 76.
(обратно)764
Там же, стр. 78–79.
(обратно)765
А. Кокурин, Н. Петров. НКВД: структура, функции, кадры. «Свободная мысль», 1997, № 6, стр.118.
(обратно)766
Л. Крический. Евреи в аппарате ВЧК-ОГПУ в 20-е годы. В кн.: Евреи и русская революция. Материалы и исследования. Редактор составитель О. В. Будницкий, М.-Иерусалим, 1999 (5759), стр. 237.
(обратно)767
Там же, стр. 326.
(обратно)768
Г. Аронсон был меньшевик; С. Мельгунов — народный социалист.
(обратно)769
Там же, стр. 325.
(обратно)770
Н. В. Петров, К. В. Скоркин. Кто руководил НКВД 1934–1941. Справочник, М. 1999.
(обратно)771
Оба произведения на слова Евг. Долмотовского.
(обратно)772
Слова Л. Ошанина.
(обратно)773
Слова В. Харитонова.
(обратно)774
Слова М. Матусовского.
(обратно)775
Слова М. Матусовского.
(обратно)776
Слова С. Алымова.
(обратно)777
Слова А. Фотьянова.
(обратно)778
Слова А. Тимофеевского.
(обратно)779
Борис Кушнер. Больше, чем ответ. «Вестник», № 2 (239), 21 января 2004.
(обратно)780
Мих. Розанов. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты-домыслы-«параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. В двух книгах. Книга первая, 1979. Книга вторая, 1980. Издание автора.
(обратно)781
Иван Солоневич. Россия в концлагере, Пятое издание, Вашингтон, изд-во П. Р. Ваулина, 1958.
(обратно)782
См. Дэвид Дюк. Еврейский вопрос глазами американца. Москва, 2001, стр. 50–51.
(обратно)783
Семен Бадаш. Колыма ты моя, Колыма… Effect Publishing, New York, 1986, стр. 44.
(обратно)784
Может удивить сравнительно малый процент зэков-евреев, отмечаемый С. Ю. Бадашом, но надо помнить, что в послевоенные годы основную массу зэков составляли бывшие военнопленные или жители оккупированных территорий, обвинявшиеся (справедливо или несправедливо) в сотрудничестве с нацистами. Евреев среди этой категории практически не было — об этом «позаботились» гитлеровцы.
(обратно)785
Письмо С. Ю. Бадаша от 7 января 2003. Архив автора.
(обратно)786
Отрывки появились в «Комсомольской правде» до выхода в свет всего тома.
(обратно)787
На самом деле, почти четыре; Он был арестован перед экзаменами за четвертый курс.
(обратно)788
Ссылка на книгу С. Ю. Бадаша, стр. 65–66.
(обратно)789
С. Ю. Бадаш. Колыма ты моя, Колыма… New York, Effect Publishing Inc., 1986, стр. 65–66.
(обратно)790
Письмо С. Ю. Бадаша от 15 января 2003 г. Архив автора.
(обратно)791
Показателен и выпад в адрес «приятеля» Л. З. Копелева. Слишком хорошо известно, что Лев Зиновьевич Копелев и Александр Исаевич Солженицын были не просто приятелями, а близкими друзьями. Именно благодаря Копелеву — больше, чем кому-либо другому, — был напечатан «Иван Денисович». Позднее они разошлись, разорвали отношения — бывает! Недавно появилось резкое письмо Копелева Солженицыну («Синтаксис», № 37, Париж, 2001), написанное еще в 1986 году, к печати не предназначавшееся. Оно опубликовано по решению близких друзей покойного. Право Солженицына — промолчать, право — публично ответить. Он ответил — пинком в промежность…
(обратно)792
Бадаш. Ук. соч., стр. 40–41.
(обратно)793
А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования, I–II, YMCA-PRESS, Paris, 1973, стр. 538.
(обратно)794
А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования, III–IV, YMCA-PRESS, Paris, 1974, стр. 255–256.
(обратно)795
С. Ю. Бадаш. Письмо от 15 января 2003 г. Архив автора.
(обратно)796
А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования, III–IV, YMCA-PRESS, Paris, 1974, стр. 259–260.
(обратно)797
Израиль Подрабинник. Евреи в Великой Отечественной Войне. «Вестник», № 10 (269), 8 мая 2001 года; М. Штейнберг. Евреи в войнах тысячелетий, Америка, 1995, СЕИВВ — Союз евреев инвалидов и ветеранов войны. Книга памяти воинов-евреев, павших в борьбе с нацизмом. 1941–1945, т. III., М., 1996.
(обратно)798
Ф. Д. Свердлов. Энциклопедия еврейского героизма, М., 2002, стр. 214.
(обратно)799
Ф. Д. Свердлов. Ук. соч., стр. 11–12.
(обратно)800
Там же, стр. 12.
(обратно)801
Там же.
(обратно)802
Д. Ортенберг. Время не властно. Писатели на фронте. М., «Советский писатель», 1975, стр. 49.
(обратно)803
БСЭ, 3-е изд., т. 13, М., 1973, стр. 254.
(обратно)804
О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 31 июля — 7 августа 1948., М. ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. Выступление И. А. Рапопорта: стр.130–135; покаянные заявления некоторых генетиков: стр. 523–528.
(обратно)805
Кроме книг Ф. Свердлова «Энциклопедия еврейского героизма» и М. Штейнберга. «Евреи в войнах тысячелетий», обращает на себя внимание «Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. 1941–1945», М., 1996, и ряд других. См. также темпераментно написанную работу Валерия Каджая «„Еврейский синдром“ Советской пропаганды и до какой степени оказался ему верен Солженицын». «Вестник», 7 (318) — 9 (320), 2003, названную работу И. Подрабинника и др.
(обратно)806
Joshua Rubenstein. Tangled Loyalties. The Life and Times of Ilya Ehrenburg. N.-Y., BasicBooks, 1996, p. 205. Письмо В. Гроссмана из семейного архива И. Эренбурга приводится в обратом переводе с английского.
(обратно)807
Г. В. Кострыченко. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., «Международные отношения», 2003, стр. 243.
(обратно)808
Цит. по: Ф. Д. Свердлов. Ук. соч., стр. 9-10.
(обратно)809
Там же, стр. 96.
(обратно)810
Цит. по: Д. Ортенберг. Ук. соч., стр. 98.
(обратно)811
Помню, в детстве с упоением читал книгу трижды Героя, летчика-истребителя И. Н. Кожедуба. Мало что помню из нее, но запало, как он писал о поступившем на вооружение новом самолете Лавочкина — намного маневреннее, мощнее и послушнее в управлении, чем немецкие «мессершмитты». Автор не уставал восхищаться замечательным авиаконструктором, но о том, что С. А. Лавочкин — еврей, ни малейшего намека.
(обратно)812
John Garrard and Carol Garrard. The Bones of Berdichev: The Life and Fate of Vasily Grossman, N.-Y., The Free Press, 1996, pp. 201–202. Высказывания Эренбурга даны в обратном переводе с английского.
(обратно)813
Там же, стр. 204.
(обратно)814
Единственный экземпляр рукописи сохранился чудом, благодаря чему книга вышла много десятилетий спустя — в Израиле.
(обратно)815
Д. Стариков. Об одном стихотворении. «Литература и жизнь», 27.9.1961. Цит. по: «Русский антисемитизм и евреи». Сборник. Составители А. Флегон и Ю. Наумов. Лондон, «Flegon Press», 1968, стр. 101.
(обратно)816
Там же, стр. 100.
(обратно)817
John Garrard and Carol Gerrard The Bones of Berdichev: The Life and Fate of Vasily Grossman, N.-Y., The Free Press, 1996, p. 311.
(обратно)818
Г. Бакланов. «Кумир». .
(обратно)819
Письмо цитируется с разрешения автора.
(обратно)820
Г. Бакланов, Ук. соч., .
(обратно)821
Борис Кушнер. «Больше чем ответ», «Вестник», 2004, 4 февраля, № 4(340).
(обратно)822
Г. Бакланов цитирует и комментирует статью Сергея Нехамкина: «Сержант Соломин и капитан Солженицын. Как Солженицын самоутверждался на фронте», «Известия», 17-04-2003.
(обратно)823
Г. Бакланов. Ук. соч., .
(обратно)824
Там же.
(обратно)825
Эта фраза была сказана (если вообще была сказана), по-видимому, капитаном Мойсиповичем, евреем, а не политруком Клочковым, как гласит официальная легенда о «28 самых верных твоих сынах». Подробнее см.: Владимир Батшев. Власов, «Мосты», Франкфурт-на-Майне, 2001, т. 1, стр. 315–320.
(обратно)826
См.: Владимир Батшев. Ук. соч., т. 1–2.
(обратно)827
«Новый мир», 2000, № 5.
(обратно)828
Там же.
(обратно)829
Цит по: «Русский антисемитизм и евреи». Сборник. Составители: А. Флегон и Ю. Наумов. Лондон, «Flegon Press», стр. 10.
(обратно)830
См: «Корреспондент „Форвертса“ Сергей Рожанский беседует с писателем Аркадием Ваксбергом». «Форвертс», № 464, 2004, 15–21 октября, стр. 8.
(обратно)831
См.: В. Ерашов. Коридоры смерти. М., ПИК, 1990; Г. Костырченко. «Депортация — мистификация. Прощание с мифом сталинской эпохи», «Лехаим», сентябрь 2002, № 9 (125); Я. Этингер. «Документы — еще не вся правда. По поводу статьи Г. Костырченко». «Лехаим», сентябрь 2002, № 9 (125).
(обратно)832
«Вестник», 1997, № 1.
(обратно)833
А. Ваксберг. Ук. соч., стр. 410–430 и дальше.
(обратно)834
См., например, интервью В. Нузова с Я. Я. Этингером. «Вестник», 2004, 17 марта, № 6 (343).
(обратно)835
Зиновий Шейнис. Провокация века. М., ПИК, 1992.
(обратно)836
Семен Ружанский, «Форвардс», Нью-Йорк, 2004, № 464, 15–21 октября, стр. 8.
(обратно)837
Г. Костырченко. Ук. соч. «Лехаим», Сентябрь 2002, № 9 (125).
(обратно)838
Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. М., «Новое литературное обозрение», 2003.
(обратно)839
Сергей Семанов. Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки. «Вече», 2001; Сергей Семанов. Русско-еврейские разборки. Серия «Наша Родина — Советский Союз», М., «Алгоритм», 2003.
(обратно)840
См., напр., И. Зильберберг. Необходимый разговор с Солженицыным, Англия, 1976.
(обратно)841
Идеология и деятельность некоторых из них освещены в моих книгах «Красное и коричневое», Вашингтон, «Вызов», 1992; «The Nazification of Rassia», Washington, «Challenge Publicatrions», 1996; «Растление ненавистью», Москва-Иерусалим, «Даат-Знание», 2001, что избавляет от необходимости останавливаться на этом подробнее.
(обратно)842
Директором издательства в это время был Валерий Ганичев, ныне глава национал-патриотического Союза писателей России. Как теперь стало известно, он был одним из лидеров Русской партии. Либерально-демократическая линия серии ЖЗЛ ему стояла костью в горле, он копил компромат, чтобы избавиться от Короткова. В вину ему были поставлены еще две книги, вышедшие раньше моей: «Чаадаев» Александра Лебедева, подвергнутый разносам-доносам в «патриотической» прессе, и «Брехт» Льва Копелева: книга вышла в свет уже после того, как автор был занесен в черный список «подписантов» (он подписал письмо в защиту А. Синявского и Ю. Даниэля). Мой «Вавилов» стал последней каплей, переполнившей чашу.
(обратно)843
Подробнее этот эпизод рассказан в моей книге «Дорога на эшафот», Нью-Йорк, Третья Волна, 1983, стр. 18.
(обратно)844
Сергей Семанов. Идеологические «качели». «Наш Современник», 2002, № 11, компьютерная распечатка, стр. 6–7.
(обратно)845
Там же, стр. 7.
(обратно)846
Там же.
(обратно)847
Там же.
(обратно)848
Там же.
(обратно)849
Придти к трезвому осознанию прошлого (англ.).
(обратно)850
«Московские новости», 19–25 июня 2001 г. № 25.
(обратно)851
Опубликовано также в «Вестнике», 2003, № 7.
(обратно)852
Сердечная благодарность В. Каджая за предоставление этого материала.
(обратно)853
Анатолий Сидорченко. Soli Leo Gloria, М., «Печатный двор», 2000, стр. 2.
(обратно)854
Там же.
(обратно)855
Там же.
(обратно)856
Александр Солженицын. «Евреи в СССР и будущей России». В кн.: А. Сидорченко. Ук. соч., стр. 74.
(обратно)857
См. Мих. Розанов. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты—домыслы—«параши». В двух книгах. Книга первая, 1979, стр. 174–187. О гиперболизации роли Френкеля Солженицыным пишет и современный исследователь истории ГУЛАГа Энн Эпплбом: «На самом деле, Солженицын, вероятно, слишком большую роль отвел Френкелю. Есть данные о том, что и раньше, в до-соловецких большевистских лагерях заключенные получали дополнительное питание за дополнительную работу. Да и в любом случае идея была слишком очевидной, нет надобности приписывать это изобретение одному человеку». (Anne Applebaum. GULAG: a History, Doubleday, New York, 2003, p. 31).
(обратно)858
В известных мне книжных изданиях «Архипелага ГУЛАГ» нет именных указателей, я вел поиск по интернетовской версии, благо компьютерная программа позволяют молниеносно отыскать любое заданное слово. Поэтому я даю ссылки на номера томов, частей и глав, но не страниц.
(обратно)859
Документ был опубликован в 1994 году в сборнике архивных материалов «Кремлевский самосуд» — об отношении властей к Солженицыну, но я о нем узнал из книги В. Войновича «Портрет на фоне мифа», по которой и цитирую.
(обратно)860
В. Войнович. Портрет на фоне мифа. М., «ЭКСМО-Пресс», 2002, стр. 160–161.
(обратно)861
Там же, стр. 162.
(обратно)862
Там же.
(обратно)863
Здесь и далее выделения текста принадлежат А. Солженицыну, за исключением особо оговоренных случаев.
(обратно)864
Сюжет «Венецианского купца» — совершенно абсурдный — заимствован из старинного немецкого апокрифа, в котором еврей-ростовщик потребовал от несостоятельного должника платы в виде куска его собственной плоти.
(обратно)865
Подробнее см. об этом в главе «Метод Солженицына».
(обратно)866
Племянница и биограф С. Я. Лурье пишет: «П. Ф. Преображенский, член партии, нередко ездивший в заграничные командировки… передал С.Я. через третьих лиц, что о его книге одобрительно отзывался не то Геббельс, не то Розенберг; было ли это слухом, пущенным из недоброжелательства, или же соответствовало действительности, осталось неизвестным». (Б. Я. Копржива-Лурье. История одной жизни Atheneum, Paris, 1987, стр. 98). Но тут же она вынуждена указать, что русский эмигрант — последыш Розенберга-Геббельса — Андрей Дикий в приложении к своему людоедскому «исследованию» «Евреи в России и в СССР» (Нью-Йорк, 1967; второе издание — Новосибирск, «Благовест», 1994) поместил в качестве приложения вторую часть книги С. Я. Лурье. Использование книги Лурье в целях культивирования ненависти к евреям (на что, конечно, сам автор вовсе не рассчитывал) — один из множества примеров, указывающих на истинную причину антисемитизма: для его культивирования нужны не евреи и не какие-то их пороки — истинные или мнимые, — а предшествующие антисемиты, ибо всегда находятся доброхоты, готовые принять эстафету и понести ее дальше.
(обратно)867
Иудушке Троцкому повезло больше всех! На каких только дьявольских свадьбах не заставляли его танцевать до упаду еврееведы всех толков и направлений!
(обратно)868
Подробнее в кн.: С. Резник. Красное и коричневое, Вашингтон, «Вызов», 1991, стр. 193.
(обратно)869
«Наш современник», 1989, № 6, стр. 161–162; см. также: С. Резник. Красное и Коричневое, Вашингтон, 1991, стр. 269–270.
(обратно)870
См.: С. Резник. Растление ненавистью, М., Даат/Знание, 2001, стр. 71.
(обратно)871
Впрочем, и Солженицын лишь продолжатель традиции. В гражданскую войну пропагандистский аппарат деникинской армии, базировавшийся, кстати сказать, в Ростове-на-Дону, родине Солженицына, распространял «Протоколы» под тем же соусом, служа предлогом и оправданием еврейских погромов; а затем, «бежав» на Запад вместе с их черносотенными адептами, «Протоколы» использовались для «объяснения» большевистской революции как всемирного еврейского заговора в действии. Книжка переводилась на разные языки и бойко продавалась по всей Европе. Но в 1921 году было обнаружено, что «Протоколы» — это перелицовка давней сатиры на режим Наполеона III (1864). Памфлет, блестяще написанный публицистом и юристом Морисом Жоли (Maurice Joly), был издан в Брюсселе, под названием «Диалоги в аду между Макиавелли и Монтескье», но при нелегальном ввозе во Францию тираж был конфискован и уничтожен. Сохранилось всего несколько экземпляров, что и сделало книгу удобным объектом для плагиата. Сатирическую направленность памфлета подтвердили власти Второй империи, приговорив автора к 15 месяцам тюрьмы — «за разжигание ненависти и подрыв доверия к правительству» (тогдашний французский вариант известной советской формулировки: «за клевету на государственный и общественный строй»). Собственное «творчество» плагиаторов свелось в основном к тому, что циничное презрение к человечеству, высказываемое в памфлете Макиавелли (Наполеоном III), превращено в презрение евреев к не-евреям, а конкретные черты репрессивного и лицемерного режима Второй империи, превращены в черты режима, который евреи после захвата власть намерены навязать человечеству. Большевистский режим в «Протоколах» «предначертан» лишь постольку, поскольку «Диалоги» Жоли — наряду с тиранией Наполеона Малого — изобличали все прошлые и будущие тирании.
(обратно)872
«Вестник», №№ 7–8, 2003.
(обратно)873
Вот небольшое отступление для примера. В статье «Раскаяние и самоограничение» читаем: «Конечно, побеждая на русской почве, как движению [большевистскому] не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских?» и т. д. («Из-под глыб», YMCA-Press, Paris, 1974, стр. 135). Попробуйте-ка расшифровать этот код! Никакие Шампольоны не разгадают этих иероглифов без того тайного Розеттского камня, где уже несколько лет как было высечено тем же резцом — про всемирные протокольные планы и их ленинско-еврейское осуществление в отдельно взятой стране. В этом сопоставлении только и можно раскодировать тайну, сокрытую под «интернациональными силами» мадьяр, финнов и разных прочих латышей-австрийцев.
(обратно)874
Anne Applebaum. GULAG: A History, Doubleday, New York, 2003, p. 295.
(обратно)875
Там же, стр. 296.
(обратно)876
Странное утверждение. Кому неизвестно, что художественный образ никогда в точности не соответствует прототипу. Он всегда обобщение, всегда выражение авторского отношения к миру и человеку. Солженицын как писатель не может этого не понимать.
(обратно)877
О том, как это происходило в некоторых конкретных случаях, с большой искренностью и болью в сердце рассказано в книге И. Зильберберга «Необходимый разговор с Солженицыным» (Англия, 1976), в свое время мало кем оцененной.
(обратно)878
А. Солженицын. Письмо к Съезду Союза Советских Писателей. Воспроизведено в кн.: А. Солженицын. Бодался теленок с дубом, Париж, YMCA-Press, 1975, стр. 491–492. Цит по: Дора Штурман. Городу и миру: о публицистике А. И. Солженицына, Париж-Нью-Йорк, «Третья волна», стр. 15.
(обратно)879
А. Солженицын. Нобелевская лекция. В кн.: А. Солженицын. Публицистика, статьи и речи, YMCA-Press, Париж, 1981, стр. 10. Цит. по: Дора Штурман. Ук. соч., стр. 18.
(обратно)880
Там же, стр. 22.
(обратно)881
Сочувственное отношение — к придуркам, которые тянут всех своих в придурки же, к тем, кто организовал ГУЛАГ и красно-еврейский террор, а до того — ленинско-еврейское людоедство?!
(обратно)882
Я не поленился заглянуть в этот «Город 24», дабы посмотреть, откуда ноги растут; попал на сайт, прописанный в Брянске, но при беглом просмотре данного материала не нашел и вернулся в библиотеку Горшкова.
(обратно)883
Архив автора.
(обратно)884
А. И. Солженицын. Потёмщики света не ищут. «Литературная Газета», 2003, октябрь, № 43, стр. 3; редакционная вводка под названием «Ответ Солженицына» — там же, стр. 1.
(обратно)885
А. И. Солженицын. Ук. соч. «ЛГ», № 43, 2003, стр. 3; компьютерная распечатка на восьми с небольшим страницах, стр. 6.
(обратно)886
Там же, комп. распечатка, стр. 7.
(обратно)887
Цит. по транскрипту передачи на сайте «Эха Москвы». Компьютерная распечатка на десяти страницах, стр. 1.
(обратно)888
А. И. Солженицын. Ук. соч., стр. 3, компьютерная распечатка на восьми страницах, стр. 7.
(обратно)889
Марк Дейч. Бесстыжий классик. Александр Солженицын как зеркало русской ксенофобии. «Московский комсомолец», 2003, 25 и 26 сентября.
(обратно)890
А. И. Солженицын. Ук. соч., ЛГ, 2003, октябрь, № 43, стр. 3; компьютерная распечатка на восьми страницах, стр. 7.
(обратно)891
Анатолий Сидорченко. Soli Leo Gloria, М., «Печатный двор», 2000, стр. 3-75.
(обратно)892
См.: «Московские новости», 19–25 июня 2001 г. № 25.
(обратно)893
См. Приложение 1.
(обратно)894
Валерий Каджая. «Рукописи не горят или ответ на ответ Александра Солженицына по поводу его „травли“». «Еврейские новости», Москва, 29.10.2003.
(обратно)895
А. И. Солженицын. Ук. соч., ЛГ, № 43, стр. 3; компьют. распечатка на восьми страницах, стр. 7.
(обратно)

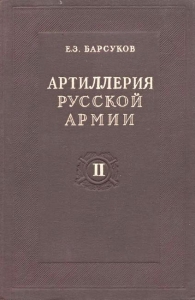


Комментарии к книге «Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях дилогии А. И. Солженицына», Семен Ефимович Резник
Всего 0 комментариев