Пайпс Ричард Русская революция: В 3 кн. Кн. 3. Россия под большевиками. 1918—1924.
Правда удивительнее вымысла, потому что вымысел должен держаться в пределах вероятного, а правда — нет.
Марк ТвенПредисловие к первому русскому изданию
«Россия под большевиками» продолжает и завершает мой труд «Русская революция»; в некотором смысле он стал последней частью тетралогии, открытой двадцать лет назад публикацией «России при старом режиме». Однако задумана она была как самостоятельная, особняком стоящая работа. Книга посвящена попыткам большевиков удержать и расширить свою власть от территории собственно России, завоеванной ими зимой 1917—1918 годов, к пределам бывшей Российской империи и дальше, распространив ее на остальной мир. Уже осенью 1920 года стало очевидно, что попытка эта обречена на провал и новой власти придется сосредоточиться на строительстве коммунистического государства в пределах одной страны. Заключительная часть книги посвящена анализу того, перед лицом какого кризиса и каких проблем оказались новые правители России в результате этого неожиданного для них развития событий. Помимо этого я рассматриваю политику большевиков в отношении религии и культуры. Обращаясь к темам, обычно выпадающим из трудов по общей истории, я стараюсь исполнить обещание, данное во введении к «Русской революции», — представить более полную картину происходившего, нежели те, что оказывались в нашем распоряжении до настоящего времени; то есть выйти за пределы исследования борьбы за власть, в чем обычно видели квинтэссенцию русской революции, и проанализировать замыслы ее творцов, то, для чего они свою власть употребляли. Книга заканчивается смертью Ленина в январе 1924 года. К этому времени все институты и практически все приемы будущего сталинизма были уже отработаны.
Рукопись была практически завершена, когда распался Советский Союз и новое российское правительство упразднило Коммунистическую партию. Этот неожиданный поворот событий как бы дописал коду к моему труду. Необычный опыт для историка — обнаружить, что предмет исследования на глазах превратился в историю, причем в тот самый момент, когда автор заканчивает анализ его истоков.
С упразднением Коммунистической партии пришел конец и ее монополии на использование архивных данных. На последних этапах исследования мне посчастливилось быть допущенным к работе с тем, что когда-то было Центральным партийным архивом. Самые важные документы по истории КПСС начиная с 1917 года содержатся именно там. Мне хочется особенно поблагодарить г-на Р.Г.Пихоя, тогдашнего директора Государственной архивной службы России, г-на К.М.Андерсона, директора Российского Центра сохранения и изучения документов новейшей истории, и его коллег. Знакомство с личными архивами Ленина, его секретариата, архивами Сталина, Дзержинского и других дало мне возможность уточнить и исправить некоторые фрагменты моего повествования, но ни в коей мере не привело меня к пересмотру взглядов, сформировавшихся на основании изучения находящихся на Западе материалов и архивов. Это придает мне уверенности в том, что никакая новая, поразительная информация из доселе скрытого источника — например, так называемого Президентского архива, содержащего протоколы заседаний Политбюро, или досье ЧК/КГБ — не опровергнет сделанных мною выводов.
Пользуюсь возможностью выразить мою благодарность Фонду Джона М.Олина за щедрую финансовую поддержку.
1997
ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: ПЕРВЫЕ БИТВЫ (1918)
Царский режим, утвердившийся в России с четырнадцатого века, пал поразительно быстро и бесповоротно в феврале—марте 1917 года, когда шла Первая мировая война. Причины его крушения многочисленны и брали начало в глубоком прошлом, но одной из самых значительных было недовольство общественности ходом войны. Российская армия показала себя не лучшим образом в кампаниях 1914—1915 годов, германские войска наносили ей частые поражения, в результате чего русскими были оставлены обширные богатые территории, в частности Польша. Широко ходили слухи об измене в высших кругах империи, создавалось отчужденное и враждебное отношение к консерваторам. Население городов негодовало на инфляцию, недостаток топлива и продовольствия. Искрой, возжегшей пожар революции, явилось восстание Петроградского гарнизона, укомплектованного заждавшимися демобилизации крестьянами. Сразу же по возникновении вооруженного выступления солдат общественный порядок в считаные часы был нарушен, при поддержке либералов и радикалов, рвавшихся к власти. С отречением Николая Второго, произошедшим 2 марта, весь бюрократический аппарат был парализован.
Образовавшееся пространство заполнили представители интеллигенции, чьи политические амбиции превосходили имевшийся у них опыт управления страной. Либералы, к которым затем присоединились умеренные социалисты, составили Временное правительство, в то время как радикалы примкнули к Советам, состоявшим из рабочих и солдатских депутатов, но управляемым интеллигенцией из социалистических партий. Создавшееся в результате двоевластие оказалось недееспособным. Уже к лету 1917 года Россию разрывали на части социальные и национальные противоречия, общинное крестьянство захватывало частные земли, рабочие брали власть на фабриках, национальные меньшинства требовали права самоуправления. Премьер-министр Александр Керенский сделал попытку взять диктаторские полномочия, но по характеру плохо подходил для этой роли, к тому же не имел эффективной опоры для применения силы. К осени общественное мнение оказалось уже основательно поляризованным, а Керенский все еще пытался проводить срединный курс между радикалами и либералами. Последний удар его власти был нанесен ссорой, произошедшей между ним и главнокомандующим, генералом Лавром Корниловым, обвиненным Керенским в попытке совершить государственный переворот. В результате армия, единственная сила, еще способная защищать правительство, обратилась против него, предоставив свободу действий большевикам.
Большевистская партия была явлением уникальным. Созданная как группа конспираторов со специальной целью захвата власти, совершения революции сверху сначала в России, а потом и во всех странах мира, она была совершенно недемократична как по идеологии, так и по методам действия. Ставшая прототипом для всех последующих организаций тоталитарного толка, она напоминала скорее тайный орден, нежели партию в общепринятом смысле этого слова. Ее основатель и единовластный вождь Владимир Ленин принял решение о том, что большевики должны свергнуть Временное правительство силой оружия, в тот самый день, когда узнал о свершении Февральской революции. Стратегия его сводилась к тому, чтобы пообещать каждой заинтересованной стороне то, чего ей недоставало: крестьянам — землю, солдатам — мир, рабочим — фабрики, национальным меньшинствам — самоопределение. Ни один их этих лозунгов не являлся частью большевистской программы, всем им предстояло быть сброшенными за борт, как только Ленин и его партия возьмут власть, но с их помощью удалось отнять у правительства симпатии больших групп населения.
В течение весны и лета большевики сделали три попытки свергнуть Временное правительство, но всякий раз неудачно: последняя из них, в июле, провалилась из-за отказа участвовать в ней солдат Петроградского гарнизона, которых правительственные органы уведомили о сношениях Ленина с Германией. После провала третьей попытки Ленин укрылся в Финляндии, и оперативное руководство перешло к Льву Троцкому. Он совместно с некоторыми другими лидерами партии принял решение провести захват власти под лозунгом передачи всей власти в стране Советам, и с этой целью 25 октября ими был созван непредставительный и неправомочный Второй Всероссийский съезд Советов. На этот раз намеченное увенчалось успехом, поскольку армия, раздраженная несправедливым отношением Керенского к Корнилову, отказалась защищать правительство. Из Петрограда большевистская «революция» перекинулась на другие города России.
Несмотря на то, что власть была захвачена от имени Советов, в которых были представлены все социалистические партии, Ленин отказался ввести их представителей в свое правительство, укомплектовав его исключительно большевиками. На выборах в Учредительное собрание, которое должно было дать стране конституцию, большевики потерпели сокрушительное поражение, получив меньше четверти всех голосов. Разгон Учредительного собрания, произошедший в январе 1918 года, ознаменовал собой начало однопартийного правления в России. Опираясь на политические суды и ЧК (созданную ими политическую полицию), победители развернули террор, эффективно заглушивший оппозицию на всей подвластной им территории в течение первого же года. Все формы организованной деятельности были поставлены под надзор партии, сама же она не подвергалась никакому контролю извне.
Однако власть большевиков распространялась только на Центральную Россию, а в ней — лишь на крупные города и промышленные центры. Приграничные районы бывшей Российской империи, населенные народами других национальностей и вероисповеданий, а также Сибирь, отделились и провозгласили независимость, — либо потому, что хотели обеспечить свои специфические права, либо потому (как это было в Сибири и казачьих районах), что не хотели признать большевистского правления. Поэтому новым властям пришлось буквально силой оружия покорять непослушные приграничные губернии, а также деревню, где проживало четыре пятых российского населения. Силы, на которые опирались партия и Советы, также были недостаточно надежны и состояли из двухсот тысяч партийцев и армии, находившейся в состоянии разложения. Однако сила — понятие относительное, и в стране, где никакая другая организация не располагала даже и такой боеспособностью, большевики оказывались в выигрышном положении.
Ленин и партия взяли власть с явной целью развязать широкомасштабный вооруженный конфликт, сначала в России, а затем в Европе и во всем мире. В том, что касалось территорий заграничных государств, их план осуществить не удалось. Однако внутри бывшей Российской империи они действовали весьма успешно.
* * *
Гражданская война, не прекращавшаяся около трех лет, явилась самым разорительным бедствием в истории России со времен татарского нашествия. Взаимное негодование и страх толкали людей на совершение чудовищных зверств. В боях, от холода, голода и инфекционных заболеваний погибли миллионы людей. Едва прекратились военные действия, на Советскую Россию напал голод — такой, какого не переживала никогда ни одна европейская страна, голод, азиатский по масштабу, также унесший миллионы жизней.
Говоря о гражданской войне, так же как и о русской революции, следует помнить, что термины эти неоднозначны. В своем обычном смысле понятие «гражданская война» относится к вооруженной борьбе между частями Красной Армии и различными антибольшевистскими, или «белыми», воинскими соединениями, которая продолжалась с декабря 1917 до ноября 1920 года, когда остатки белых армий были эвакуированы с российской территории. Изначально, однако, у термина «гражданская война» было гораздо более широкое значение. Для Ленина он значил глобальную классовую войну между его партией, авангардом «мирового пролетариата», и международной «буржуазией», классовую борьбу в ее наиболее широком смысле, лишь одним из направлений которой был вооруженный конфликт. Ленин не только предвидел, что гражданская война начнется сразу же после того, как большевики возьмут власть, — он захватил власть с тем, чтобы развязать гражданскую войну. Октябрьский переворот стал бы для Ленина бессмысленной авантюрой, если бы не вел к классовой войне в мировом масштабе. За десять лет до Октября, анализируя уроки Парижской коммуны, Ленин согласился с Марксом, что Коммуна захлебнулась, поскольку не смогла начать гражданскую войну. [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 454. В письме к д-ру Кугельману от 12 апреля 1871 г. Маркс писал, что коммунары потерпели поражение, «потому что не хотели начинать гражданскую войну» (Маркс К. Письма к Кугельману. Пг., 1920. С. 115)]. С первых дней мировой войны Ленин клеймил позором социалистов-пацифистов, призывавших окончить боевые действия. «Настоящие революционеры» не хотели мира: «Это обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война»1. «Гражданская война есть выражение революции... Думать, что революция возможна без гражданской войны, это все равно, что думать о возможности "мирной" революции», — писали Н.Бухарин и Е.Преображенский в изданной массовым тиражом «Азбуке коммунизма»2. Троцкий выразился еще более откровенно: «Советская власть — это организованная гражданская война»3. Из этих высказываний ясно видно, что братоубийственная трагедия не была навязана вождям пролетариата ни внутренней, ни внешней «буржуазией»: она являлась ядром их политической программы.
Для населения бывшей Российской империи (кроме той его части, что находилась под немецкой оккупацией) эта война началась уже в октябре 1917 года, когда большевики, свергнув Временное правительство, начали подавление конкурирующих политических партий: в это время, когда еще и слуху не было ни о «красных», ни о «белых», российские газеты уже пестрели заголовками «Гражданская война». Речь шла о стычках между большевиками и теми, кто отказывался признать их полномочия. «Война на два фронта», о которой столько говорил Ленин, стала реальностью, и даже семьдесят лет спустя трудно сделать вывод, какая из кампаний потребовала от новых властей большего напряжения: борьба ли против гражданского населения, в которой зачастую применялась военная сила, или военное противостояние с белыми армиями. Когда 23 апреля 1918 года Ленин сделал по видимости опрометчивое заявление: «Можно с уверенностью сказать, что гражданская война в основном закончена», — он, очевидно, подразумевал кампанию против мирного населения, а не против белых армий, — та еще только начиналась4.
В настоящей и в следующей главах речь будет идти о гражданской войне в общепринятом, так сказать, в военном смысле этого слова. Предмет этот ставит историка в тупик: бесконечное количество сражающихся сторон, разбросанных по необъятной территории; возникновение, помимо регулярных армейских частей, эфемерных партизанских отрядов — недолговечных, переходящих от одной стороны к другой; вмешательство иностранных контингентов войск. Когда такая гигантская, такая богатая разнообразием империя, как Россия, распадается на части, не остается никакой связной структуры; там же, где связи нет, историк может пытаться реконструировать ее только с риском исказить реальность.
Русская гражданская война шла по трем основным фронтам: Южному, Восточному и Северо-Западному. Она имела, кроме того, три основные фазы.
Первая фаза войны длилась примерно год, от октябрьского переворота до подписания перемирия во Франции. Началась она зимой 1917—1918 годов формированием на Дону генералами Алексеевым и Корниловым Добровольческой армии. Через полгода последовал мятеж Чехословацкого корпуса в Среднем Поволжье и в Сибири, в результате чего образовался Восточный фронт, причем антибольшевистских правительств оказалось два, одно со штаб-квартирой в Самаре (Комуч), другое — в Омске (Временное сибирское правительство), и каждое опиралось на свою армию. Данная фаза войны отмечена быстрым перемещением линии фронта и беспорядочно возникающими стычками небольших вооруженных отрядов. В советской литературе этот период называется обычно «партизанщиной». В течение его иностранные войска — чехословаки на стороне антибольшевистских правительств, латышские стрелки на стороне большевиков — играли более значительную роль, нежели собственно русские вооруженные силы. Красная Армия была создана только к концу этого этапа, осенью 1918 года.
Вторая, решающая фаза гражданской войны длилась более семи месяцев, с марта до ноября 1919 г. Поначалу армии адмирала Колчака с востока и генерала Деникина с юга решительно двигались на Москву, одерживая верх над Красной Армией и понуждая ее отступать. На северо-западе генерал Юденич дошел уже до пригородов Петрограда. Но затем Красная Армия добилась перелома в войне, разбив сначала Колчака (июнь—ноябрь 1919 г.), а затем — Деникина и Юденича (октябрь—ноябрь 1919 г.). Боеспособность армий Деникина и Колчака была сломлена фактически за день — 14-15 ноября 1919 года.
Заключительная фаза гражданской войны совпадает с не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд диктатурой Врангеля, когда остатки деникинской армии смогли в 1920 году на некоторое время укрепиться на Крымском полуострове. Силы эти могли быть сразу же разгромлены к тому времени значительно превосходившей их Красной Армией, не начнись в апреле 1920-го война с Польшей, отвлекшая значительную часть военных сил и внимание советского командования. [Советские историки обычно считают советско-польскую войну 1920 года частью гражданской войны, и некоторые западные историки приняли эту точку зрения. С этим, однако, трудно согласиться, учитывая, что эпизод этот — не борьба между русскими за политическую власть в стране, а война из-за территориальных притязаний между двумя суверенными государствами. Источник данного заблуждения лежит, как нам кажется, в статье Сталина от 1920 года, в которой он говорит о польском вторжении на Украину как о «третьем походе Антанты», — первые две кампании, по всей видимости, — война против Деникина и Колчака (Правда. 1920. № 111.25 мая. С. 1.). Цит. по: Davis N. White Eagle, Red Star. London, 1972. P. 89].
В советской историографии, особенно сталинского периода, сложилась тенденция изображать гражданскую войну как иностранную интервенцию, в которой антибольшевистски настроенные русские играли роль наемников. Неоспоримо, что военные силы других государств присутствовали в России, однако гражданская война с начала и до конца была войной братоубийственной. На исходе 1918 года в кругах союзников поговаривали о «крестовом походе против большевизма»5, но планы эти никогда даже не приблизились к реализации. Анализ потерь, понесенных всеми сторонами за три года военных действий, показывает, что, за исключением нескольких тысяч чехословацких добровольцев (воевавших против большевиков) и в несколько раз большего числа латышей (защищавших Советы), а также четырехсот (или около того) британцев, жертвами войны стали в подавляющем большинстве русские и казаки. Французы и их союзники вступили в короткую перестрелку с пробольшевистским украинским партизанским соединением (апрель 1919), после чего покинули пределы страны. Американские и японские военные силы ни разу не вступили в бой с Красной Армией. Вклад союзников (главным образом англичан) состоял преимущественно в снабжении белой армии боевой техникой.
Армии, выступавшие против ленинских войск, обычно называют «белыми», или «белогвардейскими». Термин этот придумали большевики с целью дискредитации противника, и впоследствии он был им самим принят. Белый был цветом знамени Бурбонов и французских монархистов XIX века. Большевики старались создать впечатление, будто целью противника была, точно так же, как и французской эмиграции 1790-х, реставрация монархии. В действительности же ни одна из так называемых белых армий не делала восстановление царского режима своей целью. Все они обещали предоставить народу России возможность свободно избрать форму управления страной. Самая значительная из всех Добровольческая армия взяла себе не черно-оранжево-белый романовский флаг, но бело-сине-красный, национальный6, и в качестве гимна — не «Боже, царя храни», а марш гвардии Преображенского полка. Организаторы и командиры Добровольческой армии, генералы Алексеев, Корнилов и Деникин, все происходили из крестьян и не выказывали особой любви к Николаю Второму: Алексеев был в свое время одним из самых решительных сторонников его отречения7. Белые генералы не являлись сторонниками восстановления монархии не только по принципиальным соображениям: этот вопрос невозможно было решить практически, ибо из всех возможных кандидатов на российский трон одни были убиты, другие устранились от политики. [Типичной была реакция великого князя Николая Николаевича, самого популярного члена царской семьи, жившего в 1918 году в Крыму на покое. Будучи спрошенным, не возьмется ли он возглавить Белое движение, он ответил уклончиво: «Я родился вскоре после смерти Николая Первого, и все мое воспитание проходило в его традициях. Я солдат, привыкший подчиняться приказам. Теперь мне некому подчиняться. При определенных обстоятельствах я сам должен определять, кого мне слушать — например, Патриарха, если он скажет мне делать то-то или то-то (отрывки из дневника кн. Григория Трубецкого. Denikin Papers, Box 2, Bakhmeteff Archive, Rare Bookand Manuscript Library, Columbia University, p. 52). Ср.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. С. 201—202]. Согласно несколько романтичному представлению генерала Головина, Белое движение было «белым» в том лишь смысле, что белый цвет является суммой всех цветов спектра: дух, возобладавший в белых русских армиях, согласно его рассуждению, был не тот, что у контрреволюционных сил, наводнивших Францию в 1792 году, но дух революционной армии, из которой вышел Наполеон Бонапарт. [Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Таллин, 1937. Кн. 9. С. 93; Кн. 5. С. 65. В то же время следует отметить, что офицеры, находившиеся в рядах белой армии в последнюю фазу гражданской войны, во все большей степени становились монархистами, иногда даже до фанатизма. Это было замечено иностранными офицерами, находившимися при белой армии, например, полковником Джоном Уардом, бывшим в 1919 году в столице Колчака Омске. Он говорил, что «русские офицеры — роялисты все до одного», что у них «детская приверженность принципам монархии» (См.: Ward J. With the «Die-Hards» in Siberia. London, 1920. P. 60). He следует думать, однако, будто в 1919 году население России так же негативно относилось к идее царской власти, как за два года до того: когда Ленин приказывал расстрелять Николая Второго и большую часть членов династии Романовых, он делал это из страха перед возможным возрождением роялистских настроений в стране.].
Гражданская война в России велась на территории, которая, за исключением невысоких Уральских гор, представляла собой одну сплошную равнину и мало походила на войны 1914—1918 гг. на территории Центральной и Западной Европы. Здесь не было определенной линии фронта. Войска передвигались в основном вдоль железнодорожных путей, практически не внедряясь в обширные пространства, лежащие по сторонам. Все находилось в беспрерывном процессе становления, и зачастую армии формировались не в тылу, а уже в виду неприятеля, и посылались в бой без предварительной подготовки8. Армии появлялись внезапно и так же неожиданно рассыпались и исчезали. Части, наступление которых, казалось, было ничем не остановить, теряли строй и превращались в сброд, столкнувшись со сколько-нибудь решительным сопротивлением. Фронтовые позиции были слабо укреплены, обычным делом было для дивизии, насчитывающей несколько тысяч личного состава, удерживать линию фронта до 200 километров, причем на одну «бригаду» приходилось всего несколько сот человек9. Нерегулярные части переходили порой на сторону неприятеля, сражались некоторое время в его рядах, затем снова перебегали на другую сторону. Десятки тысяч красных солдат, попав в плен, вливались в ряды белых и посылались воевать против вчерашних товарищей по оружию. Белых, взятых в плен после эвакуации частей Врангеля, обрядили в красноармейские шинели и отправили драться с поляками. За исключением небольшой горстки добровольцев, солдаты обеих сторон не имели ни малейшего представления, за что они сражаются, и часто дезертировали при первой возможности. Текучесть и постоянная сменяемость общей картины делает практически невозможным представить последовательность военных действий в графических формах, особенно учитывая то обстоятельство, что за спиной войск основных воюющих сторон действовали независимые банды «анархистов», «зеленых», «григорьевцев», «махновцев», «семеновцев» и другие партизаны, преследовавшие свои собственные цели. Карты фронтов гражданской войны напоминают полотна Джексона Поллока, где белые, красные, зеленые и черные линии идут во всех направлениях и пересекаются случайным образом.
Поскольку Красная Армия одержала в гражданской войне победу, возникает искушение объяснить это лучшим, чем у белых, командованием, более высокими устремлениями. Субъективные факторы, несомненно, играли значительную роль в определении итогов войны, однако внимательное изучение боеспособности сторон приводит к выводу, что решающую роль сыграли факторы объективные. [Под «объективными» факторами я подразумеваю такие, которых не могли изменить направленные усилия воюющих сторон, например обстоятельства, определяемые географическим их расположением. Факторы «субъективные» определялись установками, ценностными ориентациями, способностями и другими личными характеристиками участников.]. Здесь просматривается определенное сходство с ситуацией, сложившейся в ходе американской гражданской войны, когда на стороне Севера оказались подавляюще высокая численность населения, промышленные ресурсы и транспорт, в результате чего он мог рассчитывать на победу, была бы только воля сражаться. Со стратегической точки зрения все преимущества были на стороне Красной Армии. Способность белых выстаивать против такого подавляющего превосходства и даже, в одном случае, практически одержать победу, свидетельствует, что, вопреки здравому смыслу, мы должны признать: это у белых был лучший генералитет и более высокий боевой дух. При окончательном анализе оказывается, что белые потерпели поражение не из-за того, что боролись за дело, которое не пользовалось поддержкой населения, и не вследствие фатальных политических и военных просчетов, но потому, что столкнулись с необоримыми препятствиями.
Большевики, и это стало их существенным преимуществом, были едины, в то время как противник разобщен. У Красной Армии имелось единое, сплоченное командование, получавшее приказы от единодушного и единовластного политического руководства. Даже если в среде красного командования и возникали разногласия, оно могло вырабатывать стратегические планы и планомерно их реализовывать. Белые армии, повторим, были разобщены, их разделяли огромные пространства. Их командующие не только не имели возможности выработать общую стратегию, но не могли даже связаться друг с другом, чтобы скоординировать военные операции. Связь между Деникиным и Колчаком поддерживалась за счет личного мужества офицеров, готовых рисковать жизнью, пересекая фронтовую линию красных: иногда требовался месяц, чтобы сообщение дошло по адресу. [Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 85—90. Это обстоятельство часто упускают из виду те историки, которые усматривают причину не-скоординированности действий белых в несостоятельности их командования. См., напр.: Brinkley G.A. The Volunteer Army and Allied Intervention in South Russia, 1917—1921. Notre-Dame, Indiana, 1966. P. 191]. В результате Южная, Восточная и Северо-Западная армии действовали независимо друг от друга, минимально координируя свои действия. Обстоятельства усугублялись тем, что белые армии состояли из случайно соединенных частей, у каждой из которых было свое командование и свои интересы: это, например, можно сказать о наиболее многочисленном контингенте Южной армии, казаках, подчинявшихся приказам белых генералов только постольку, поскольку эти распоряжения их устраивали. При таком положении дел ошибки, совершенные красным командованием, можно было исправлять, а хорошо рассчитанные операции белых проваливались, поскольку приказы плохо исполнялись.
У красных имелось и огромное, решающее преимущество: они контролировали центральную часть России, в то время как их противник действовал на окраинах. «Мне кажется, — пишет историк Сергей Мельгунов, — что движение с периферии к центру почти всегда бывает обречено на крах... Центр определяет успех или неуспех революции. (Гражданская война — это революция.) Здесь приходится учитывать не только важный психологический момент. В руках центра оказываются все технические преимущества, прежде всего в смысле налаженного административного аппарата, который почти заново приходится создавать на периферии»10.
Действуя из центра, красные имели возможность перебрасывать военные силы с одного фронта на другой, обороняя оказавшиеся под ударом позиции и используя слабость противника. При необходимости отступления им легче было налаживать связь. «Сперва Колчак, а затем Деникин продвигались вперед по необъятным пространствам. Это называлось наступлением. По мере продвижения линия фронта растягивалась и редела. Казалось, они будут продолжать идти вперед, пока у них остается хоть один человек на милю. При каждом удобном случае большевики, тоже слабые, но вынужденные в силу своего местоположения концентрировать имевшиеся в их распоряжении силы, совершали прорыв то тут, то там. Пузырь лопался, флажки на картах отодвигались, города переходили из рук в руки и сообразно обстоятельствам меняли политическую ориентацию, кровавая месть обрушивалась на беспомощное население, — месть нескончаемая, опирающаяся на месяцами продолжавшееся въедливое, мелочное расследование»11.
Географическое положение красных давало им не только стратегические, но и неисчислимые материальные преимущества.
Начнем с того, что в их распоряжении оказались значительно большие, нежели у противника, человеческие ресурсы. К зиме 1918—1919 гг., когда война шла уже полным ходом, большевики установили свою власть во всех губерниях Великороссии с населением около 70 миллионов человек. Территории, которые контролировали Колчак и Деникин, насчитывали по 8-9 миллионов соответственно. [Mawdsley E. The Russian Civil War. Boston, 1987. P. 146, 213-214. Согласно Деникину (Очерки русской смуты. Т. 5. С. 126), в разгар летнего наступления 1919 года территория под контролем Южной армии насчитывала 42 миллиона человек, но, как отмечает Маудсли, Деникин мог пользоваться этим обстоятельством лишь в течение считаных месяцев. То же относится и к Колчаку, который в одно время контролировал территорию с населением в 20 миллионов человек, но лишь в течение короткого времени.]. Огромный перевес в численности населения — 4:1 или даже 5:1 — создавал обширную мобилизационную базу для Красной Армии. Красное командование свободно могло пользоваться доступными ему человеческими ресурсами: когда во время критических боев 1919-го его войска понесли большие потери убитыми, а также из-за массового дезертирства, ему понадобилось всего лишь призвать очередное количество крестьян, одеть их в униформу, дать в руки винтовки и отправить на фронт. Деникину и Колчаку приходилось для того, чтобы нарастить силы, завоевывать все новые территории, рассредоточивая таким образом свои войска. Осенью 1919-го, во время решающих сражений, в Красной Армии под ружьем было три миллиона человек, а объединенные силы белых армий не превышали 250 тысяч. [Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 181. Цифры, показывающие численность личного состава обеих сторон, особенно Красной Армии, не слишком надежны: всегда существовало большое несоответствие между теоретическим представлением о ходе сражения и действительным количеством солдат, принимавших участие в бою. Некоторые военные соединения завышали свою численность с тем, чтобы получить больше продовольствия; некоторые включали в счет раненых, пропавших без вести и дезертиров. Тем не менее, подавляющее численное превосходство Красной Армии над противником во второй половине 1919 года не вызывает сомнения.]. В каждом из решающих боев у красных был существенный численный перевес; И.И.Вацетис, главнокомандующий Красной Армией, сообщал Ленину в начале января 1919-го, что все победы, одержанные советскими войсками незадолго до того, были обеспечены их численным превосходством12. В Орловско-Курском сражении, переломившем в октябре 1919-го хребет Южной армии, Красная Армия превосходила противника вдвое13. Так же обстояли дела во время битвы под Петроградом.
Более чем десятикратное превышение в живой силе было не единственным преимуществом Красной Армии. Власти держали под контролем Великороссию, то есть территорию с этнически однородным населением. [Население России к 1917 году, за исключением Финляндии, оценивалось в 172 миллиона. См.: Брук С.И., Кабузан В.М. Журнал «История СССР». 1980. № 3. С. 86. Примерно 45% от общего числа были великороссами — 77 миллионов.].
Положение Красной Армии было весьма выигрышным и в том, что касалось пополнения вооружений и снаряжения. Этому имелось две причины. До революции большинство оборонных предприятий сосредотачивалось в Великороссии. К сентябрю 1916 года в России насчитывалось более 5200 предприятий, работающих на военные нужды, число рабочих на них достигало 1,94 миллиона человек. Географическое распределение их было таково14:
Район % предприятий % рабочих Москва 23,6 40,4 Петроград 12,7 15,6 Украина и Донбасс 29,5 20,2 Урал 9,1 14,9 Итого: 74,9* 91,1* Остальные фабрики находились в Польше и других западных районах, оккупированных немцами.
Несмотря на то, что к 1918 г. практически все предприятия оборонной промышленности в России остановились, зимой 1918-1919-го, когда их снова запустили, практически вся продукция шла на нужды Красной Армии15. Белым были доступны лишь второстепенные оборонные предприятия на Урале и в районе Донбасса.
Немаловажное значение имело и то, что Красная Армия унаследовала от прежнего режима огромные запасы военного снаряжения. Советские историки согласны с тем, что в гражданской войне Красная Армия «почти полностью и во всех отношениях базировалась на оставшихся запасах старой царской армии. Их было несметное количество. В отношении многих предметов этих запасов хватило не только на всю гражданскую войну, но они остались еще и по [1928]»16. Предпринятая большевиками в декабре 1917 г. инвентаризация, считавшаяся незаконченной, показала, что на складах старой армии хранилось 2,5 млн. винтовок, 1,2 млрд. комплектов боеприпасов к стрелковому оружию, около 12000 полевых орудий, 28 млн. артиллерийских снарядов17. Практически все это попало в руки к большевикам. Белым достались от старого режима только арсеналы, расположенные в Румынии, содержимое которых передали им союзники. В остальном они вынуждены были рассчитывать на оружие, захваченное у неприятеля и поступающее к ним из-за рубежа. Без зарубежной помощи белые, действующие в районах, где редко встречались бывшие царские арсеналы или оборонные предприятия, не смогли бы продолжать войну. Красная Армия, напротив, соединив снаряжение, унаследованное от прежних времен, с тем, которое начали производить вновь запущенные заводы, достигла к концу войны большего соотношения артиллерийских и пулеметных стволов к личному составу, нежели было в царской армии18.
Красные располагали лучшими, чем у белых, железнодорожными коммуникациями. Сеть железных дорог в России строилась по радиальному принципу, с центром в Москве. Периферийные линии были развиты плохо. Контролируя центр, красным было значительно проще, чем белым, перемещать войска и подбрасывать снаряжение.
Единственное материальное преимущество белых над красными заключалось в изобилии продовольствия и угля. Недостаток их у советской стороны создавал руководству невыносимые сложности, но больше всего страдало, конечно же, гражданское население: власти делали все возможное, чтобы бюрократия и Красная Армия снабжались хорошо. Уже в 1918 г. по крайней мере треть, а возможно, и две трети всех правительственных расходных средств шли на содержание армии19. В 1919 году 40% хлеба и 69% ботинок, произведенных в Советской России, забрала Красная Армия. К 1920 году она стала основным потребителем национального продукта и поглотила, среди прочего, 60% полученного в стране мяса20.
Враждующие стороны сильно различались и в одном из фундаментальных свойств, и различие это было в пользу красных. Красная Армия стала военным орудием гражданской власти; белые армии были военной силой, которой приходилось брать на себя функции правительства. Двойная ответственность порождала многочисленные проблемы, для решения которых у белых генералов недоставало подготовки. [Это соображение привело к тому, что во Франции с самого начала выработалось негативное отношение к Белому движению. Фош говорил в начале 1919 года: «Я не придаю большого значения армии Деникина, потому что армии не существуют сами по себе... за ними должны стоять правительство, законодательство, организованная страна. Лучше уж правительство без армии, чем армия без правительства». Цит. по: Thompson J.M. Russia, Bolshevism, and the Versailles Peace. Princeton, 1966. P. 201]. У них отсутствовал опыт управления и управленческие кадры, но что еще хуже, субъективные факторы начинали смешиваться с объективными, поскольку всей системой полученного воспитания и всем своим опытом кадры белых были подготовлены к тому, чтобы не доверять политикам, не верить в политику. Бывшие царские офицеры были склонны подчиняться, а не командовать, и им было проще служить большевистскому правительству (хотя большинство их его презирало) просто потому, что оно было «власть», нежели принять на себя бремя государственного управления. Политики, даже те, кто хотел им помочь, приносили с собой испытания и хлопоты, поскольку вносили дух партизанщины и взаимных разборок там, где требовалось создать единый фронт. «Мы оба [Алексеев и я], — писал Деникин, — старались всеми силами отгородить себя и армию от мятущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. "Политика" врывалась в нашу работу, врывалась стихийно и в жизнь армии»21. Это признание, сделанное командующим самой сильной из белых армий, стоявшим в этом смысле и впереди Колчака, иллюстрирует основные умонастроения антибольшевистского командования, желавшего думать исключительно в военных терминах и боровшегося за восстановление российской государственности, что было задачей политической по природе. Командование Добровольческой армии требовало ото всех, вступавших в ее ряды, дать подписку о том, что во все время воинской службы они не будут заниматься политической деятельностью. [Алексеев М.В. Цит. по: Гражданская война в России (1918-1921 гг.): Хрестоматия / Под ред. С.Пионтковского. М., 1925. С. 497. Многие младшие офицеры и солдаты Добровольческой армии разделяли эту точку зрения: «В Армии никто не интересовался политикой, — вспоминал один белый ветеран. — Единственной нашей мыслью было побить большевиков». Волков-Муромцев Н.В. Юность от Вязьмы до Феодосии. Париж, 1983. С. 347]. Красная Армия, напротив, была политизирована сверху донизу; политизирована не в смысле разрешенности свободных дискуссий, но в том, что до войск всеми доступными пропагандистскими средствами доводилась мысль: гражданская война — война политическая.
И, наконец, в то время как Красная Армия являлась революционной силой, белые армии оставались в плену традиций. Различие хорошо символизировалось их внешним видом. У красных в 1917—1918 гг. не было стандартной формы, солдаты надевали все, что попадалось под руку: разрозненные предметы царской формы, кожаные куртки, гражданское платье. К 1919 году армию одели в форму нового, оригинального образца. Белые носили либо форму царской армии — офицеры сохранили погоны, — либо форму британской армии. Умонастроения, как и формы, отличались в их случае консервативностью. Петра Струве поразило «старорежимное» мышление генералов Добровольческой армии: «Психологически белые держали себя так, как будто ничего не случилось, а между тем целый мир рушился вокруг них, и для того, чтобы одолеть врага, им самим в известном смысле нужно было переродиться... Ничто не было столь вредно для «белого» движения, как именно состояние психологического пребывания в прежних условиях, которые перестали существовать, эта не программная, а психологическая «старорежимность»... Люди с этой «старорежимной» психологией были погружены в бушующее море революционной анархии, в нем они психологически не могли ориентироваться. Я нарочно подчеркиваю, что «старорежимность» я понимаю в данном случае вовсе не в программном, а в чисто психологическом смысле. В революционной буре, которая налетела на Россию в 1917 г., даже чистые реставраторы должны были бы стать революционерами в психологическом смысле. Ибо в революции найти себя могут только революционеры»22.
Принимая во внимание неисчислимые преимущества, бывшие на стороне большевиков и явившиеся результатом захвата Центральной России, можно дивиться не тому, что именно они победили в гражданской войне, но тому, что на это потребовалось три года.
* * *
Гражданская война в военном смысле началась, когда небольшая группа патриотически настроенных офицеров, воспринявших как личное унижение развал русской армии и отказ большевистского правительства выполнять обещания, данные союзникам, решила самостоятельно продолжать военные действия против Четверного Союза. В основе своей их предприятие носило скорее не антибольшевистский, но антинемецкий характер, потому что и Ленин был для них не кем иным, как агентом кайзера. Антибольшевистские настроения проявились в Южной армии позже, после того как Германия и Австрия вывели войска с территории России, а большевики, ко всеобщему удивлению, остались у власти. Но патриотически настроенные генералы преследовали и внутренние цели. Они надеялись остановить братоубийственную войну, развязанную большевиками, объединив страну на антигерманской платформе: обратив, если можно так выразиться, успешно проведенную Лениным трансформацию из войны национальной в войну классовую23.
На Восточном фронте ситуация с самого начала складывалась иначе. Здесь антибольшевистские настроения выражались либо социалистами-революционерами, поднявшими знамя Учредительного собрания, либо сибирскими сепаратистами. К концу 1918-го, когда адмирал Колчак принял на себя верховные полномочия, националистические лозунги стали преобладать и здесь.
Основателем самой успешной из белых армий стал генерал М.В.Алексеев. К началу революции ему исполнилось шестьдесят лет, и его выдающаяся военная карьера началась еще в турецкую войну 1877—1878 гг. Когда в 1915-м Николай Второй принял пост Верховного главнокомандующего, Алексеев был назначен начальником штаба: с этого момента и до Февральской революции он фактически исполнял обязанности главнокомандующего русскими вооруженными силами. Алексеев был глубоко предан армии, в которой видел оплот российской государственности; в 1916-м он даже присоединился к заговору против царя, чтобы уберечь армию от нежелательных серьезных перемен. В феврале 1917 года, стараясь предотвратить распространение восстания Петроградского гарнизона на фронтовые части, он принял участие в уговаривании Николая отречься от престола. После создания Временного правительства генерал присоединился к патриотическим организациям, стремившимся остановить анархию. Талант стратега и патриотизм Алексеева завоевывали ему симпатии даже тех, кто не разделял его политических убеждений; однако он был прежде всего штабным офицером, а не вождем масс, не боевым командиром.
Большевистский переворот застал Алексеева в Москве. Осознав, что новые власти не собираются выполнять обещания, данные Россией союзникам, и не смогут остановить процесс разложения армии, он направился на юг, в районы поселений донских казаков, с намерением собрать остатки боеспособных сил и возобновить войну против Германии. Совет общественных деятелей — неформальный союз видных сограждан, в котором преобладали либерально настроенные конституционные демократы, — обещал генералу свою поддержку. [Алексеев М.В. в кн.: Гражданская война в России. С. 496—499. Алексеев говорит о Союзе общественного спасения, по-видимому, его подвела память.]. Приехав на Дон, он создал группу из 400—500 офицеров, известную под названием «Алексеевская организация», — удручающе небольшую, особенно принимая во внимание, что толпы демобилизованных офицеров обретались тут же, ведя праздную жизнь и выжидая, что еще случится.
В штабе Алексеева в Новочеркасске скоро собрались и другие военачальники, выехавшие из большевистской России. Самым выдающимся из них был генерал Лавр Корнилов, сбежавший из тюрьмы в Быхове, куда его засадил Керенский в августе 1917-го, и в замаскированном виде проделавший немалый путь через вражеские территории. Порывистый, бесстрашный, боготворимый войсками, он стал идеальным дополнением к аналитичному и сдержанному Алексееву. Последний, восхищавшийся военными дарованиями Корнилова, но не доверявший его политическому чутью, предложил распределение ролей, согласно которому Корнилов принял бы на себя командование войском, в то время как Алексеев нес ответственность за политический курс и финансовое обеспечение армии. Корнилов отверг это предложение, потребовав безраздельной власти; в противном случае он угрожал уехать в Сибирь.
Спор двух генералов разрешился в январе 1918 г. с помощью политиков, приехавших из России в Новочеркасск, чтобы оказать помощь военному командованию. Среди них были Петр Струве и Павел Милюков, самые выдающиеся умы соответственно консервативного и либерального движений в стране. Они и их сопровождение приняли сторону Алексеева и предупредили Корнилова, что если он не согласится на разделение полномочий, то не получит финансовой помощи. Корнилов уступил, и 7 января был заключен договор, согласно которому Алексеев возглавил материальное снабжение и «внешние сношения» новой армии (под последними подразумевались в основном отношения с донскими казаками, на территории которых формировалась армия), а Корнилов стал главнокомандующим. Был создан «политический совет», частью из генералов, частью из политиков, для управления политическими делами армии и установления контактов с сочувствующими, находящимися на территории большевистской России. В заключение «Алексеевская организация» была переименована в «Добровольческую армию».
По предложению бывшего террориста-революционера, а впоследствии социал-патриота Бориса Савинкова, Добровольческая армия выпустила туманное программное заявление, в котором ее задачи определялись как борьба с «надвигающейся анархией и немецко-большевистским нашествием» и за новый созыв Учредительного собрания24. Британия и Франция прикомандировали к Добровольческой армии свои миссии; последние посулили выделить большие суммы денег (обещание, которое так никогда и не было исполнено)25. Обещанием в тот момент содействие союзников и заканчивалось. Они не хотели оказывать более открытой помощи Добровольческой армии, опасаясь подорвать усилия своих дипломатов, направленные на то, чтобы отговорить большевистское правительство подписывать сепаратный мир с Четверным Союзом.
Желая насколько возможно увеличить дистанцию между собою и политиками, Корнилов переместил штаб в Ростов. Начальником штаба он назначил генерала А.С.Лукомского, товарища по тяжелым дням конфликта с Керенским26. В армию записывалось по 75—80 добровольцев в день, и к концу января 1918 г. ее численность достигала 2000 человек, в основном младших офицеров, кадетов и старшеклассников, горевших патриотизмом и рвущихся в бой; нет данных о том, чтобы добровольцами становились солдаты27.
С самого начала судьба Добровольческой армии и ее наследницы, Южной армии, была тесно связана с донскими, кубанскими и терскими казаками, на чьих территориях генералы разворачивали свою деятельность и из чьих рядов вербовалась значительная часть войск. В этом-то, как вскоре выяснилось, и заключалась основная их слабость, поскольку казаки оказались союзниками недобросовестными и ненадежными.
Донское войско являлось самым крупным казачьим формированием в царской армии, составляя основную часть его кавалерии; гораздо меньшее количество сабель поставляли кубанские и терские казаки. Донские казачьи поселения были основаны в шестнадцатом веке на ничейных землях на границе Московии, Турции и Оттоманской империи беглыми крепостными, ставшими там промышлять охотой, рыболовством и грабежом мусульманских поселений. Со временем российское правительство ограничило их независимость и привлекло к себе на службу, наряду с другими казачьими войсками. В вознаграждение за несение общей воинской повинности казаки наделялись щедрыми земельными угодьями; ко времени революции из 17 млн. га пахотной земли в Придонье 13 млн. га принадлежало им, так что на двор приходилось до 12 га28 — надел, в два раза превышавший средние крестьянские в Центральной России. Казаки стали основным оплотом царского режима, и их часто призывали для усмирения городских беспорядков. В Первую мировую войну они выставили 60 кавалерийских полков. Когда во второй половине 1917 г. русская армия начала распадаться, эти полки, сохраняя строй и выправку, самочинно отправились по домам. В июле казаки избрали атамана, генерала Алексея Каледина, российского патриота, предложившего свои услуги Добровольческой армии.
Два миллиона донских казаков оказались, однако, для Добровольческой армии приобретением сомнительным: Каледин предупредил друзей-генералов, что не может поручиться за лояльность своих людей. Казаки отказывались признавать советское правительство, но поступали они так не потому, что сомневались в его законности, а из-за опасения потерять собственность, которой угрожал изданный властями Декрет о национализации частных земель. Положение на Дону волновало казаков куда больше, нежели судьба России: по мнению Деникина, их мысль можно было сформулировать следующим образом: «До России нам дела нет»29. По мере разрушения Российского государства интересы казачества все больше обращались на поддержание собственной безопасности, заключавшейся в основном в охране богатых земельных угодий от внешнего и внутреннего посягательства. Только ради этого и только в таких рамках готовы они были сотрудничать с антибольшевистскими генералами. До того как Германия потерпела поражение в войне и вывела войска с территории России, основной своей задачей казаки считали провозглашение независимой Донской республики под покровительством кайзера. Они присоединились к белым, только когда потеряли немецких покровителей. Лев Троцкий совершенно справедливо заметил, что, если бы Красная Армия не нарушала границ их территорий, никаких казачьих волнений не возникло бы30. Перемещаясь за пределы собственных владений, донские казаки неизменно начинали мародерствовать, и главными их жертвами становились евреи. Такая же ситуация складывалась с кубанскими и терскими казаками, продолжавшими считать себя независимыми народами на протяжении всей гражданской войны, даже если они не могли контролировать белых на своих землях; вступали в ряды Добровольческой армии они в основном из-за желания пограбить гражданское население.
Конфликт между казачеством, мыслившим в локальных, региональных понятиях, и генералитетом, пытавшимся охватить национальную перспективу в целом, был неразрешим по своей природе31. Попытки Деникина взывать не только к патриотизму донских казаков (не имевшему места), но и к их просвещенной заинтересованности в собственном благополучии были гласом вопиющего в пустыне. Поведение казачества вызывало бешенство у командующего Добровольческой армией: «У генерала Корнилова вошло в привычку собирать казаков в донских станицах, которые он собирался покидать, и пытаться патриотической речью — всегда неуспешно — убедить их последовать за ним. Его выступления неизменно оканчивались словами: "Все вы сволочь"»32.
Казаки настороженно отнеслись к Декрету о земле, поскольку среди них жило некоторое количество крестьян, не бывших членами казачьей вольницы и более бедных, чем казаки, которые могли попытаться захватить их земли. Крестьяне эти, по преимуществу иммигранты, назывались «иногородними» и переселялись на казачьи земли из густо населенных губерний Центральной России. Переселившись, они начинали обрабатывать окраинные участки или нанимались в батраки к казакам. К 1917 г. в Придонье таковых числилось 1,8 млн.; из них 0,5 млн. безземельных33. Эта часть крестьянства была радикально настроена: основная масса сторонников большевиков в Придонье вышла из их числа. Число иногородних пополнялось за счет дезертиров с Кавказского и Черноморского фронтов, а также за счет казачьей молодежи, которую заразила радикализмом война и которая теперь обратилась против своих старших.
К февралю 1918 г. в Добровольческой армии состояло 4000 человек. Она была в высокой степени сплоченной и боеспособной, и ее ядро превратилось со временем в самое искусное воинское соединение. Недостаток денег серьезно ограничивал возможности роста армии. Друзья Алексеева в Москве не смогли исполнить данных ему обещаний, заявляя, что национализация банков и захват сейфов большевиками оставили их без средств34. По словам Деникина, общий денежный вклад на содержание его армии составил 800 000 рублей35. Союзники обещали 100 млн. рублей, но к тому времени поставили только 500 000. Добровольческая армия просто не смогла бы появиться на свет, если бы Алексееву не удалось с помощью Каледина получить 9 млн. руб. в ростовском филиале Национального банка36.
Известие о формировании на Дону Добровольческой армии и ее союзе с калединскими казаками породило тревогу в Смольном, штаб-квартире большевиков: хорошо знавшие историю Французской революции, они сразу усмотрели здесь параллель с контрреволюционной Вандеей. Ситуация складывалась угрожающая не только в военном и политическом, но и в экономическом отношении: во время шедших тогда в Брест-Литовске мирных переговоров Германия дала понять, что намерена отделить Украину и превратить ее в марионеточное государство. Большевики, таким образом, оказывались перед перспективой потерять вторую по значению хлебородную территорию. Чтобы предотвратить эту утрату, Ленин велел В.А.Антонову-Овсеенко собрать по возможности значительное войско и, привлекая по пути сочувствующих из крестьян и дезертиров с Дона, подавить очаг контрреволюции. Другой важной задачей Антонова-Овсеенко стало занять Украину до того, как Германия объявит ее своим протекторатом. Армия Антонова, насчитывающая 6000-7000 человек, в декабре 1917-го и январе 1918-го начала активно наступать на Дон, несмотря на отсутствие дисциплины и повальное дезертирство. Ее продвижению ничто не препятствовало. В Придонье сочувствующие красным крестьяне, рабочие и дезертиры с фронтов стали подниматься на ее поддержку.
Видя нарастающую угрозу извне и изнутри, донские казаки заколебались в своей лояльности Каледину и начали осуждать его за союз с Алексеевым и Корниловым. Казачий старшина выразил широко распространенное мнение: «Россия? Конешно, держава была порядошная, а ноне произошла в низость... Ну и пущай... у нас и своих делов немало собственных...»37 Видя вызов собственной власти, наблюдая распространение анархии в отечестве и неспособный остановить его, отчаявшийся в будущем России, Каледин покончил с собой (29 января/11 февраля 1918 года). Следующие три месяца, вплоть до избрания генерала П.Н.Краснова (май 1918), донское казачество жило без атамана.
На Дону нарастало возмущение, красные подходили все ближе, и Корнилов понял, что может попасть в окружение38. Перед тем как совершить самоубийство, Каледин обратился к генералам с призывом отводить их небольшое войско на земли кубанских казаков, которые, по его мнению, могли отнестись к белым более дружественно, ибо в их среде было меньше «иногородних». Корнилов решил последовать этому совету. В ночь с 21 на 22 февраля (н.с.). [Новый стиль был введен в России в феврале 1918 года. До того времени Россия жила по так называемому Юлианскому календарю, отстававшему в XX веке от Григорианского на тринадцать дней.]. Добровольческая армия оставила Новочеркасск и Ростов и направилась на юг, идя, по словам Деникина, «к черту за синей птицей»39. Точное количество участников легендарного «Ледяного похода» Добровольческой армии определить невозможно; скорее всего, их было около 6000 человек, из которых от 2500 до 3500 боевого состава, остальные — гражданские лица. Двигаясь за нею по пятам, армия Антонова-Овсеенко вошла в Новочеркасск и в Ростов.
Небольшой отряд добровольцев продвигался по вражеской территории, отражая нападения «иногородних» и дезертиров, борясь с лютым холодом и ледяным дождем, страдая от недостатка продовольствия, одежды и оружия. Им приходилось отвоевывать каждый шаг проделанного пути. Не существовало базы для выхаживания раненых; потери личного состава восполнялись призывом кубанских казаков. Армия была отрезана от остального мира: ее друзья в Москве не имели ни малейшего представления, где она находилась, существовала ли она вообще.
Самый трагический эпизод Ледяного похода произошел во время осады столицы кубанских казаков, Екатеринодара. 13 апреля Корнилов из стоявшего на отшибе хутора руководил операцией: около 3000 добровольцев, поддержанных 4000 казацкой кавалерии и 8 полевыми орудиями с 700 снарядами, пошли на штурм города, удерживаемого 17 000 красноармейцев, вооруженных 30 орудиями и имевших превосходные запасы снаряжения40. Красная артиллерия взяла хутор на прицел, и Корнилова уговаривали покинуть командный пункт, но он был слишком занят, чтобы прислушаться к совету. Он склонялся над картой в то время, как снаряд попал в цель: взрывом его отбросило к печи, и, с переломами черепа, генерал погиб под рухнувшим потолком41. Гибель Корнилова явилась тяжелым ударом по боевому духу армии, поскольку генерал Антон Деникин, принявший верховное командование (он едва избежал смерти от того же снаряда), не обладал ни его обаянием, ни его дарованиями. Корнилова похоронили в безымянной могиле, после чего Деникин приказал снять осаду Екатеринодара и продолжать поход. После того как Добровольческая армия отошла, большевики откопали останки Корнилова, с триумфом пронесли их по всему городу, затем изрубили на мелкие части и сожгли42.
* * *
История сурово осудила Деникина, такова участь всякого генерала, проигравшего войну. При сложившихся обстоятельствах, однако, он оказался не так уж плох и обладал достаточно хорошим стратегическим чутьем в сочетании с личностной целостностью и глубокой преданностью делу, хотя, безусловно, не был ни сильной личностью, ни эффективным руководителем43. О высоких интеллектуальных качествах Деникина свидетельствуют пять томов написанных им воспоминаний, пример редкостной объективности и настолько же редкостного отсутствия злопамятности. Один из его гражданских помощников, К.Н.Соколов, склонный сурово критиковать деятельность Деникина, о нем лично говорит в превосходных выражениях, рисуя портрет «типичного русского интеллигента»44. Главное свойство Деникина было «обаяние, которому невозможно было противиться». Его внешность «была совершенно обыкновенной. Ничего величественного, ничего демонического. Простой русский армейский генерал со склонностью к полноте, с крупной лысой головой, обрамленной венчиком редеющих седых волос, остроконечной бородкой и закрученными усами. Но была завораживающая, застенчивая серьезность в его несколько неловкой, замедленной повадке, в его прямом настойчивом взгляде, растворявшаяся мгновенно в добродушной улыбке, заразительном смехе... В генерале Деникине я видел не Наполеона, не героя, не вождя, но просто честного, надежного, доблестного человека, одного из тех "добрых" русских, которые, если верить Ключевскому, вывели Россию из смутного времени». [Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. София, 1921. С. 39—40. Деникин, как и многие антикоммунисты, усматривал параллель между испытаниями своего времени и периодом за три столетия до него, поэтому и мемуары его носят название «Очерки смутного времени».]. Несмотря на то, что левые противники называли Деникина «реакционным монархистом», более верно его политические убеждения определил советский историк, назвавший их «право-октябристскими», то есть либерально-консервативными45. Из написанных генералом воспоминаний видно, что он сочувствовал Движению освобождения, приведшему к революции 1905 года. В целом, однако, Деникин оставался верен традициям русской армии, считая политическую деятельность несовместимой с положением кадрового офицера46.
Ледяной поход закончился в конце апреля, когда Добровольческая армия, покрыв за 80 дней 1100 км и по крайней мере половину этого срока проведя в боях, наконец-то овладела Екатеринодаром. Выжившие были награждены медалями, на которых изображался терновый венец, пронзенный шпагой.
Вскоре подоспела добрая весть. Полковник М.Г.Дроздовский, командующий бригадой из 2000 пехотинцев и кавалерии, двигаясь от румынского фронта, пересек Украину и подошел к Дону, где предоставил себя и свои силы в распоряжение Деникина. Это было единственным случаем, когда целое соединение бывшей русской армии примкнуло к добровольцам. Даже такой небольшой отряд создавал огромный перевес, поскольку в гражданской войне один доброволец стоил дюжины призывников. Еще одно обнадеживающее обстоятельство заключалось в том, что «иногородние», прожив три месяца под большевиками, систематически забиравшими у них продовольствие, утратили прежнее восторженное отношение к ленинскому режиму. В течение апреля вспыхнуло несколько антибольшевистских восстаний на Дону, что, совместно с усилиями Дроздовского и казаков и наступлением немцев, помогло отогнать большевистские силы. В начале мая Добровольческая армия опять заняла Ростов и Новочеркасск.
* * *
В то время как Добровольческая армия формировалась на Северном Кавказе, в Среднем Поволжье и в Сибири собирались другие антибольшевистские группировки. Движения эти были более политические, нежели военные по характеру, целью их было либо учредить демократическое общероссийское правительство, либо добиться независимости от Москвы для своих территорий. Военные силы здесь были скорее второстепенным фактором, по крайней мере до того, как в ноябре 1918 года командование над Восточным фронтом принял адмирал Александр Колчак. Белые силы на востоке были в любом смысле слабее Добровольческой армии, будь то в отношении руководства, боевого духа или организованности. Единственным полноценным боевым соединением, действовавшим на востоке в период от мая 1918 года, когда оно взялось за оружие, и до октября 1918 года, когда оно вышло из боя, был Чехословацкий легион47.
Социальные и экономические условия в Сибири отличались существенным образом от условий, сложившихся в Центральной России. Сибирь никогда не знала крепостного права. Русское население здесь состояло из свободных крестьян и торговцев, независимых и предприимчивых, которых объединял бодрящий дух приграничного жития, так непохожий на приниженный дух бывшего крепостного крестьянства. Однако и в их среде жили «иногородние», как в казачьих районах, — крестьяне, переселившиеся из Центральной России в надежде получить часть земли «старожильцев». Они либо обрабатывали окраинные земли, либо вели полубродячее существование, примитивным способом выжигания освобождая себе землю под пахоту. В Сибири, как и на Северном Кавказе, пертурбации революции и гражданской войны приводили к тому, что пришлые восставали против зажиточных старожильцев и казаков. Большевики находили поддержку в Сибири либо у этой группы населения, либо у промышленных рабочих Урала. Обе группы происходили из крепостных крестьян: как и в Центральной России, здесь наблюдалась поразительная зависимость между наследием крепостничества и большевизмом. [Н.Н.Головин пишет о Сибири: «Большевиков поддерживали только бывшие рабы» (Российская контрреволюция. Кн. 7. С. 107). Симпатии промышленных рабочих разделились: некоторые становились на сторону Колчака и превращались в лучших его бойцов (Там же. С. 113)].
Начиная с середины XIX века здесь набирало силу местное движение за отделение и автономию, члены которого считали, что Сибирь с ее уникальной историей и общественными отношениями требует специальных методов управления. В период Временного правительства движение развернулось во всю ширь, и сибиряки создали свое правительство. После большевистского переворота в Петрограде они стали добиваться автономии еще настойчивее, поскольку она теперь не только бы выражала особый сибирский дух, но и смогла бы отгородить Сибирь от назревающей гражданской войны. В декабре 1917 года социалисты-революционеры и конституционные демократы собрали в Томске Сибирскую Областную Думу, начавшую выполнять квазиправительственные функции. [Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири (1917-1918). М., 1926. С. 52-55. В сибирской политической жизни традиционно преобладали эсеры и кадеты: на выборах в Учредительное собрание эти две партии собрали здесь от одной трети до трех четвертей голосов (см.: Спирин A.M. Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968. С. 420-423).]. В следующем месяце (27 января/9 февраля 1918) Дума объявила Сибирь независимой и создала кабинет министров48. В начале июля новое правительство переехало в Омск и издало декларацию, в которой подтверждалось, что оно — единственная законная власть в Сибири49. Декларация временно откладывала решение вопроса об отношениях области с Россией. Сибирь, говорилось в ней, считает, что отделилась от России только временно, и предпримет все, что будет в ее силах, для восстановления национального единства: ее дальнейшие отношения с Европейской Россией должны получить определение на Учредительном собрании. Сибирское правительство отменило советские законы, распустило советы, возвратило владельцам отобранные у них земли. Оно взяло себе бело-зеленый флаг — символ сибирских снегов и лесов.
Если Томско-Омское правительство ограничивало свои притязания Сибирью, созданный в Самаре 8 июня 1918 года Комитет Учредительного собрания считал себя единственным законным правительством России. Обосновывало оно свое мнение тем, что Учредительное собрание, за которое проголосовало в ноябре 1917 года 44 млн. избирателей, являлось единственным и исключительным источником политической законности.
После того как большевики разогнали Учредительное собрание, депутаты от социалистов-революционеров Среднего Поволжья, этого бастиона эсеровской силы, вернулись по домам50. Они предприняли попытку заново собрать Учредительное собрание, но она провалилась51. Затем, в июне 1918 года, когда восстали чехословаки, обстоятельства снова, казалось, стали складываться благоприятно. Чехословаки являлись военнопленными царской армии, захваченными в течение Первой мировой войны. После того как большевики подписали мир с Четверным Союзом, им было позволено выехать из России во Францию через Владивосток. В мае 1918 года Троцкий приказал их легиону сдать оружие, и началось восстание52. 8 июня чехословаки изгнали большевиков из Самары. В тот же день пять эсеров — депутатов Учредительного собрания — сформировали под предводительством В.К.Вольского Комитет членов Учредительного собрания (Комуч). Постепенно в Комитет вошли 92 человека, все эсеры, большинство — от радикального крыла партии, возглавляемого Виктором Черновым53. Над штаб-квартирой Комитета взвилось красное знамя. В день своего формирования Комуч объявил о смещении большевистского правительства Самарской губернии и о восстановлении гражданских прав и свобод. Существовавшие в губернии советы, набранные большевиками, были распущены, и на их место в результате демократически организованного голосования с участием всех партий были избраны новые54.
Ничто не может продемонстрировать неадекватности политических и социальных программ, разрабатывавшихся в течение гражданской войны, лучше, чем судьба Комуча. 24 июля он опубликовал свою платформу, основанную на заурядных социалистических и демократических положениях, — как раз такую, какую западные правительства все время пытались навязать белому генералитету. Платформа признавала большевистский Декрет о земле действующим законом и заверяла крестьянство, что оно может бесконечно пользоваться землями, захваченными с февраля 1917 года. Советское трудовое право также оставалось в силе55. Заявления эти не укрепили положения Комуча среди местного населения, которое давно уже перестало обращать внимание на программы и обещания. Со времени ноябрьских выборов в Учредительное собрание у избирателя появилось недоверие к политике, и политические настроения, редко теперь выказываемые, склонялись вправо. Так, на муниципальных выборах в Самаре в августе 1918 года, когда положение Комуча было еще прочным, только треть от 120 000 законных избирателей явилась на выборы, и за блок эсеров и меньшевиков проголосовало меньше половины явившихся. В Уфе и Симбирске социалисты получили на выборах менее трети муниципальных должностей, и только в Оренбурге они получили половину мест. В 1919 году абсентеизм во время муниципальных выборов в некоторых городах, вышедших из-под контроля большевиков, составил 83%56.
Комуч сформировал правительство, в которое вошли 14 эсеров и один меньшевик; ему подчинялась так называемая Народная армия. Поначалу были надежды укомплектовать эту армию за счет добровольцев, но, поскольку таковых оказалось только 6000 человек, пришлось прибегнуть к призыву. По прогнозам, призыву подлежало 50 000 человек, но на деле удалось собрать только 15 000. Крайне мало оказалось офицеров запаса — в массе они не симпатизировали левому уклону Комуча и если и шли служить, то предпочитали Сибирскую или Добровольческую армии. Единственной действенной военной силой, готовой выступить против большевиков, были 10 000 чехословаков, арьергард Чехословацкого легиона, все еще остававшийся по западную сторону Урала. В 1918 г. они составляли 80% боеспособных сил в регионе, и на их долю выпадала большая часть сражений57. В признание этого обстоятельства Комуч поставил Народную армию под командование чешского офицера. Единственной русской боеспособной силой в регионе был отряд антибольшевистски настроенных рабочих с Ижевского и Боткинского ружейных заводов.
Летом 1918 года Чехословацкий легион был прикомандирован Высшим союзным советом в Париже к вооруженным силам союзников для несения службы в качестве авангарда международного контингента войск, призванного оживить Восточный фронт в кампании против Германии. Исполняя поставленную перед ними задачу, чехословаки расширили территорию, находившуюся под их контролем. 7 августа они отбили Казань у защищавших ее латышей; русские войска, как красные, так и белые, не выказали в этом эпизоде никакого энтузиазма58. В Казани ими были обнаружены склады золота и ценных бумаг, тайно эвакуированных большевистским правительством в мае, когда оно опасалось, что немцы возьмут Москву и Петроград. Всего оказалось захвачено почти 500 тонн золота — половина золотого запаса страны, стоимостью в 650 млн. старых рублей (что равнялось $325 млн.), серебро, иностранная валюта, ценные бумаги59. За легионом по пятам продвигались представители Комуча.
Благодаря вмешательству чехословаков Комуч смог распространить свою власть в августе 1918 года на Самарскую, Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губернии, а также на несколько волостей в Саратовской губернии. На подведомственной им территории эсеры, повсеместно осуждавшие жестокую политику большевиков, начинали впадать в самоуправство, подвергать цензуре критиковавшие их газеты, преследовать лиц, заподозренных в сочувствии большевикам, и насаждать чиновников, всеми чертами напоминавших царских бюрократов — например, склонностью создавать для себя привилегии и любовью к роскоши60. Любивший представлять себя идеалом демократии, Комуч на деле явился одним из самых реакционных антибольшевистских режимов, возникших в ходе гражданской войны61. Члены Комуча непрестанно интриговали против Омского правительства, надеясь низложить его и присвоить его власть.
В Сибирском правительстве в Омске тоже было засилье эсеров, но более умеренной и прагматической ориентации, выражавших готовность работать с несоциалистическим «буржуазным элементом». Они успели уже установить дружеские связи с либералами (кадетами) и влиятельными сибирскими кооперативами. Благодаря способности идти на компромисс Сибирское правительство смогло выстроить вполне эффективный аппарат управления.
Войска Омского правительства тоже превосходили войска Комуча. Офицеры предпочитали служить в Сибирской, а не в Народной армии, поскольку она была организована более традиционным образом, сохраняла привычные звания и эполеты. Командовал Сибирской армией энергичный и молодой подполковник А.Н.Гришин (Алмазов), и из 40 000 ее бойцов половина были уральские и оренбургские казаки. [Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1. Белград, 1930. С. 75. В результате политических интриг Гришина-Алмазова в начале сентября сместили с должности, после чего он присоединился к Добровольческой армии. В мае 1919 года он вез важное сообщение от Деникина к Колчаку и по дороге попал в руки большевиков. Неизвестно, был ли он расстрелян или покончил с собой (см.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 88—89)].
* * *
Красная Армия формировалась медленно62. Задержки возникали не только из-за недостатка добровольцев и всеобщего нежелания населения России служить, но и от недоверия большевиков к регулярной армии как таковой. История революций учила их, что регулярная армия под командованием кадровых офицеров становится рассадником «контрреволюции». В России эта опасность усугублялась тем обстоятельством, что армия, состоящая из призывников, вследствие демографических особенностей страны состояла бы преимущественно из крестьян — класса, который большевики считали враждебным по отношению к себе.
Находясь у власти первые месяцы, большевики могли полагаться только на три бригады латышских стрелков, общая численность которых достигала 35 000 человек. Это был единственный оставленный ими в неприкосновенности контингент старой армии, заслуживший доверие своей социал-демократической ориентацией. Латыши оказывали большевикам бесценные услуги: разогнали Учредительное собрание, подавили восстание левых эсеров, обороняли Поволжье от чехословаков, несли службу в качестве личных телохранителей.
Силы эти были явно недостаточны для того, чтобы развязать затеваемую большевиками гражданскую войну, и назрела необходимость, преодолевая внутреннее сопротивление, приступить к формированию регулярной армии. В марте 1918 года был создан Высший военный совет, в который вошли штабные офицеры бывшей царской армии; он должен был исполнять функции генерального штаба. Его глава, генерал-майор Н.И.Раттель, в царской армии был начальником военных коммуникаций. Орган этот, Высший военный совет, должен был координировать и направлять военные предприятия Советов, однако успел весьма мало, так как под его командованием не было войск.
Несмотря на то что по официальной версии Красная Армия возникла в феврале 1918 года, в течение примерно шести месяцев она существовала только на бумаге. Помимо латышей, которых перебрасывали из одной горячей точки в Другую, на стороне большевиков сражалось несколько рассредоточенных отрядов по 700—1000 человек под командованием выборных офицеров; они не были формально организованы в армию, субординация отсутствовала, скоординировать их действия для выполнения стратегической задачи было невозможно. По самой своей природе отряды эти были вынуждены вести партизанскую войну63. Красная Армия явилась на свет только к осени 1918 года, в то время, когда большевики вели две параллельные кампании — одну против чехословаков, другую — против русской деревни; они были вынуждены пойти на риск и призвать крестьян и столько бывших царских офицеров, сколько было нужно, чтобы командовать ими.
* * *
Белое движение, как уже говорилось, было в первую очередь предприятием военным, и вожди его с презрением относились к политике, но и они не могли полностью отказаться от политического совета и политической поддержки. Помощь и поддержка проистекали от двух тайных организаций, Национального центра и Союза возрождения России, находившихся, соответственно, в России и за рубежом. Первый был организацией демократической и возглавлялся кадетами, последний был социалистическим и управлялся эсерами. Обе организации, однако, стремились выйти за рамки узкопартийной лояльности и заручиться как можно большим числом сторонников на широкой демократической основе. Национальный центр, более эффективная из двух организаций, снабжал вожаков Белого движения данными политической и военной разведки относительно положения в советской России. В некотором отношении организация также руководила деятельностью белых.
Истоки зарождения Национального центра восходят к лету 1917 года, когда влиятельные либеральные и консервативные политики решили, что пришла пора отложить партийные разборки и объединиться, чтобы остановить процесс сползания страны в анархию. Конституционно-демократическая партия, стоявшая за этим решением, была, после большевиков, наилучше организованной партией в России: центристская позиция обеспечила ей и симпатии умеренных социалистов, и симпатии умеренных консерваторов. Левая оппозиция, давшая начало Союзу возрождения России, начала организовываться только весной 1918 года. Она не смогла достичь сплоченности и эффективности конкурирующей организации, поскольку ее лидеры никак не могли решить, кто им меньше неприятен — красные или белые.
Непосредственным предшественником Национального центра явился Совет общественных деятелей, сформированный в августе 1917 года несколькими выдающимися членами Думы, генералами, предпринимателями, кадетами и представителями консервативной интеллигенции. [См.: Наш век. 1917. 9—11 авг., а также: Милюков П.Н. История второй русской революции. Т. 1.4. 2. София, 1921. Гл. 5. Среди его членов были: М.В.Родзянко, генералы М.В.Алексеев, А.А.Брусилов, Н.Н.Юденич и А.М.Каледин, предприниматели П.П.Рябушинский и С.Н.Третьяков, политики и философы П.Н.Милюков, В.А.Маклаков, Н.Н.Щепкин, П.Б.Струве, Н.А.Бердяев, Е.Н.Трубецкой, В.В.Шульгин.]. Совет требовал восстановления крепкой власти и армейской дисциплины. Керенский заподозрил, что тайной целью Совета было отстранить его от власти; его хаотичное поведение в августе— сентябре 1917-го, особенно провокационное поведение в отношении Корнилова, в большой степени определялось этим мнением.
Зимой 1917—1918 гг. Совет поддержал решение генерала Алексеева создать на Дону новую армию и направил в январе делегацию, чтобы помочь уладить его спор с Корниловым. Весной 1918 года либеральная и консервативная группировки в Москве объединились в «Правый Центр». Деятельность Центра окутана тайной, поскольку от нее почти не осталось документов, но представляется, что его главной задачей была организация подпольных антибольшевистских военных ячеек. Центр вербовал офицеров, некоторых затем направлял к Деникину, других держал в состоянии боевой готовности на случай переворота64.
Правый Центр распался весной 1918-го из-за разногласий по вопросам внешней политики. Более консервативные его члены, полагая, что главную угрозу для России представляют не немцы, а большевики, стали просить помощи Германии, чтобы свергнуть ленинский режим. По прибытии в Москву представительства Германии переговоры уже пошли было в нужном направлении, но затем они были остановлены по инициативе Берлина, решившего продолжать свой пробольшевистский курс65. Большинство Центра, сохраняя лояльность союзникам, отошло от него и сформировало Национальный центр.
После ратификации 3 марта 1918 года Брест-Литовского договора социалистическая оппозиция объединилась, поскольку, по ее мнению, договор открывал дорогу политическому и экономическому владычеству Германии над Россией. В апреле, предприняв неудачную попытку объединиться с Национальным центром, социалисты и левые либералы сформировали Союз возрождения России, программа которого требовала восстановления, с помощью союзников, уступленных в Брест-Литовске территорий, формирования полновластного национального правительства и повторного созыва Учредительного собрания66. Союз действовал в отрыве от Национального центра, однако поддерживал с ним личные контакты через некоторых левых кадетов, принадлежавших к обеим организациям.
И Союз, и Центр делали постоянные попытки договориться о создании единой платформы. Убежденный, что большевистская диктатура может быть свергнута только диктатурой, Центр предлагал создать смешанный военно-политический орган, руководитель которого будет пользоваться широкими единовластными полномочиями. Союз предпочитал бороться с большевиками, не прибегая к диктатуре. В мае 1918 года обе группы достигли компромисса в решении создать Директорию, членами которой станут один социалист, один несоциалист и один беспартийный военный. Решение это, о котором были поставлены в известность Комуч и Сибирское правительство, принесло плоды в августе 1918 года.
* * *
В сентябре 1918 года руководители союзных сил были все еще убеждены, что война продлится по крайней мере год; поэтому оживление Восточного фронта с тем, чтобы отвлечь силы Германии с запада, представлялось им делом первостатейной важности. В связи с этим некоторые, скорее символические, силы высадились в Мурманске, Архангельске и Владивостоке; был взят под командование Чехо-Словацкий легион, и Япония получила разрешение на высадку на Дальнем Востоке. Однако главным упованием стало создание сильной русской армии в Сибири, поскольку собственных маневренных сил у них было немного.
Ответственность за организацию нового Восточного фронта была возложена на представительство союзников в Сибири. [Главную роль играли два верховных комиссара, англичанин сэр Чарльз Элиот, ректор университета в Гонконге, свободно говоривший по-русски и хорошо осведомленный в русских делах, и французский посланник в Японии Эжен Реньо. Им оказывали содействие главы военных миссий генералы Альфред Нокс (Великобритания), Морис Жанен (Франция) и Уильям Грейвс (США). Японские военные и гражданские представители также были доступны, но держались особняком (см.: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. Харбин, 1937. С. 60—61)].
Чтобы исполнить задуманное, оно стало оказывать давление на мелкие правительства, возникавшие к востоку от Волги — таких было около тринадцати, — настаивая на их слиянии и объединении подчиняющихся им военных сил. Союзные офицеры приходили в негодование от соперничества между Омском и Самарой, результатом которого стал взаимный отказ сторон от снабжения друг друга продовольствием и требование каждого из правительств, чтобы вооруженные силы другой стороны складывали оружие, прежде чем ступить на подведомственную ему территорию67. Представители миссии убеждали Комуч и Сибирское правительство, наряду с казаками и представительствами национальных меньшинств (башкир, казахов, киргизов и др.), оставить раздоры и соединиться в единое правительство, которое союзники смогут признать и поддерживать. Чехи, которым приходилось воевать больше всех, особенно настаивали на этом.
Летом 1918 года русские политики под воздействием оказанного давления провели три совещания. Третье и самое плодотворное из них собиралось с 8 по 23 сентября в Уфе. Присутствовавшие 170 делегатов представляли интересы большинства организаций и национальных групп, выступающих против большевиков, но представителей Добровольческой армии, донского и кубанского казачества не было68. Половина присутствующих были эсерами; остальные представляли весь спектр, от меньшевиков до монархистов. В этом смешении политических ориентации единственным объединяющим моментом была, пожалуй, нелюбовь к большевикам: заметив красные гвоздики, прикрепленные эсерами на лацканы пиджаков, казачий генерал заявил, что один только вид этих цветов вызывает у него головную боль69. Понукаемые чехами и отрезвленные плохими вестями с фронта — в дни совещания Казань перешла к красным и Уфа находилась в опасности, — делегаты стали более сговорчивыми. В результате достигнутого соглашения было создано Всероссийское временное правительство. Структура его носила сильный отпечаток концепции, разработанной в Москве Национальным центром и Союзом возрождения. Исполнительный орган, названный Директорией, призван был удовлетворить и тех, кто стремился к установлению единовластной военной диктатуры (Сибирское правительство и казаки), и эсеров, желавших, чтобы правительство было подотчетно Учредительному собранию. Новое Временное правительство должно было функционировать вплоть до 1 января 1919 года, когда будет вновь созвано Учредительное собрание (при условии, что соберется кворум — 201 депутат); если кворума не будет, оно откроется в любом случае 1 февраля. Правительство было провозглашено единственной законной властью в России. Комуч, Сибирское правительство и все присутствовавшие региональные правительства изъявили согласие впредь ему подчиняться. Деникин, мнения которого никто не спрашивал и у которого не было на совещании представителя, отказался присоединиться к такому решению70.
Сформированная наконец-то Директория состояла из пяти человек; председателем был избран правый эсер Н.Д.Авксентьев. [Другими членами были В.М.Зензинов (также эсер), П.В.Вологодский, представлявший Сибирское правительство, генерал В.Д.Болдырев, представитель Союза возрождения, командовавший армией, и В.А.Виноградов, кадет.]. Невероятно тщеславный, Авксентьев, по словам современника, «сейчас же окружил себя адъютантами, восстановил титулы, которых не знало Сибирское правительство, создал буффонадную помпу, за которой не скрывалось никакого содержания»71. Принявший командование вооруженными силами генерал Болдырев, хотя и был формально беспартийным, поддерживал тесные связи с эсерами. У него было много боевых заслуг, но он не пользовался ни известностью, ни влиянием, как Алексеев. Формально являясь коалиционным, правительство оказалось эсеровским.
4 ноября, после долговременной грызни, Директория сформировала Кабинет под председательством Вологодского. Адмирал Александр Колчак, некогда командующий Черноморским флотом, направлявшийся в Добровольческую армию и по пути заехавший в Омск, был вынужден под давлением Болдырева принять обязанности министра обороны. Назначение было сугубо декоративное. Колчака хорошо знали англичане, и глава Британской военной миссии генерал Нокс был его горячим поклонником. Сообщали, что Болдырев заявил Колчаку, будто его назначение вызвано срочной необходимостью получить помощь от союзников и не предполагает его вмешательства в военные дела72. Программа Директории призывала к восстановлению территориального единства России, к борьбе против советского правительства и Германии. Решение остальных вопросов было возложено на Учредительное собрание73.
В октябре 1918-го, в то время как была учреждена Директория, международная ситуация быстро стала меняться. Правительство Германии обратилось к США с просьбой взять на себя посреднические функции, и Первая мировая война подошла к концу. Это не могло не сказаться на статусе Чехословацкого легиона. Национальный совет Чехословакии провозгласил в октябре 1918-го в Париже национальную независимость. Как только новости дошли до легиона, он принял решение не участвовать больше в боях на территории России, поскольку дело, за которое он боролся, победило: «Победа союзников освободила Богемию. Войска перестали быть мятежниками и предателями империи Габсбургов. Они превратились в воинов-победителей, защитников Чехословакии. Родная земля, которая могла им быть навсегда заказана, теперь манила их огнями чести и свободы»74. Начали размножаться солдатские комитеты, политические интересы вытеснили все прочие. Боеспособность легиона упала до такой степени, что русские уже рады были бы от них отделаться75. Весной 1919 г., пойдя на уступку Франции, чехословаки согласились отсрочить свой отъезд и нести охрану Транссибирской магистрали на участке Омск—Иркутск, где на нее совершали нападения пробольшевистски настроенные партизаны и разбойные банды. Но воевать они отказывались. Это были уже не идеалисты чехи и словаки, предоставившие себя в свое время в распоряжение союзного командования, но жалкие остатки армии, проникнутой общим разложенческим духом гражданской войны. Неся охрану Транссибирской магистрали, они недурно поживились, набрав для себя 600 товарных вагонов промышленного оборудования и хозяйственной утвари76.
После того как чехословаки вышли из игры, единственной силой, на которую могла опереться Директория, остались Народная армия и сибирские казаки. Народная армия была в жалком состоянии. Болдырев докладывал после проверки фронтовых частей: «Люди босы, оборваны, спят на голых нарах, некоторые даже без горячей пищи, так как без сапог не могут пойти к кухням, а подвезти или поднести не на чем»77. Единого командования не было: самое сильное воинское соединение, сибирские казаки атамана Александра Дутова, действовало, как правило, на свой страх и риск. Материальная помощь, поступающая от союзников, была несущественной и состояла преимущественно из обмундирования.
Франция и США вели себя более чем сдержанно; Япония занималась своими делами. Британия командировала в Омск 25-й батальон Миддлсекского полка под командованием полковника Джона Уарда. 800 солдат батальона были объявлены караульным отрядом Западного фронта; в их задачу входило поддержание порядка в Омске и оказание моральной поддержки Директории. Участие их в военных действиях не предусматривалось. [Ричард Ульман утверждает, что британские войска, дойдя до Омска, «приняли участие в сражении против большевиков» (Intervention and the War. Princeton, 1961. P. 262). На самом деле британские отряды, расквартированные в Омске, в боях не участвовали (см.: Ward J. With the «Die-Hards» in Siberia).]. Также в Омске стояло 3000 чехословаков, симпатизировавших эсерам78.
Директория оказалась правительством на бумаге в гораздо большей степени, нежели Временное правительство 1917 года, наследницей которого она себя мнила: у нее не оказалось ни управленческого аппарата, ни финансовых ресурсов, ни официального печатного органа79. Немногочисленное чиновничество, которым оно управляло, состояло из бывших функционеров Сибирского правительства, продолжавших действовать каждый в своей области точно так, как это делалось начиная с 1917-го. Иностранные и российские наблюдатели согласно говорят о том, что Директория так никогда и не стала работающим правительством, и нам хочется отметить этот факт ввиду тех легенд, которые распространяли эсеры о деятельности Директории после ее падения. Она не могла сдвинуться с мертвой точки вследствие неразрешимых противоречий между эсерами, возглавлявшими правительство и армию, и несоциалистами, в руках которых было управление и контроль за денежными средствами и которые пользовались благосклонностью офицерства и казачества. Члены Директории, согласно воспоминаниям Болдырева, «являлись представителями и адвокатами пославших их группировок, глубоко разноречивых и даже враждебных в своих политических и социальных устремлениях...»80 По меткому выражению полковника Уарда, это и было «сочетание элементов, отказывавшихся смешиваться».
Неспособные править, Директория и ее Кабинет теряли время и силы в интригах и перебранках. Социалисты выясняли отношения с либералами; политики, мыслившие в терминах единства России, бранились с сибирскими сепаратистами. Вожди Комуча не могли смириться с изменением своего статуса: передав все полномочия Директории, они все же мыслили себя как правительство внутри правительства.
Предводитель эсеров Чернов плел сеть заговоров. Его не пригласили войти в Директорию, поскольку посчитали слишком радикальным и неспособным сотрудничать с членами Сибирского правительства и казаками. Еще в начале августа ЦК партии эсеров перебрался из Москвы на Волгу, оставив на прежнем месте лишь малочисленное бюро82. Чернов приехал в Самару 19 сентября, как раз когда в Уфе шли последние прения. С его точки зрения, соглашение, достигнутое в Уфе, было уступкой реакции, и он начал предпринимать усилия, чтобы оно было отменено. По его инициативе партия приняла резолюцию, согласно которой служащие в новом правительстве эсеры должны были отчитываться своему Центральному Комитету. Авксентьев и Зензинов оказались скомпрометированными в глазах военных и либералов83.
Как предполагаемая наследница Временного правительства, Директория рассчитывала получить дипломатическое признание стран-союзников. Британия готова была ей это гарантировать, во всяком случае de facto, и британский кабинет принял соответствующее постановление 14 ноября 1918 г. Однако, поскольку подготовка текста соответствующей телеграммы требовала времени, решение Кабинета не успело быть обнародовано и доведено до сведения Омска к тому моменту, когда Директория пала. Ни Франция, ни США не пожелали последовать примеру Британии.
В течение всех восьми недель, что просуществовала Директория, ходили упорные слухи, будто эсеры готовят переворот84. Она была бездейственна и непопулярна. Сибирские крестьяне считали ее «большевистской», такого же мнения придерживались находившиеся у нее на службе офицеры и местные предприниматели. Пропасть между правыми и левыми была так велика, что ее невозможно было перейти даже ввиду общей угрозы. Директория зародилась в мире грез, и кончина ее была лишь делом времени.
* * *
К маю 1918 г. обстоятельства стали складываться в пользу Добровольческой армии. Волна пробольшевистских настроений на Северном Кавказе стала спадать, отчасти из-за оттока дезертиров, отчасти потому, что крестьяне были разгневаны изъятиями продовольствия. В Западной Сибири подняли восстание чехословаки. Войска союзников, высадившиеся в Мурманске и Архангельске, казались штабу Деникина авангардом большого экспедиционного корпуса.
С приходом весны Деникину приходилось решать, что делать дальше: от его решений, от сказанных им слов зависела судьба не только Добровольческой армии, но и всего белого движения85. Алексеев предлагал бросить объединенные силы Добровольческой армии и донских казаков на Царицын, взятие которого позволило бы соединиться с чехословаками и Народной армией. Соединившись, Восточная и Южная армии могли бы выставить против большевиков единый фронт от Урала до Черного моря. Взятие Царицына было бы привлекательно и тем, что пресекло бы навигацию большевиков по Волге и отрезало бы их от Баку, основного источника нефти. Алексеев опасался, что, задерживаясь на Северном Кавказе, Добровольческая армия не только упускала превосходную стратегическую возможность, но и утрачивала самый смысл существования: если она не превратится во всероссийскую национальную армию, говорил он, она попросту развалится. Однако у Деникина были иные планы.
В середине мая донские казаки избрали взамен Каледина нового атамана, генерала П.Н.Краснова — оппортуниста и авантюриста, для которого Россия была ничто, а Дон — все86. [Необходимо заметить, однако, что в октябре 1917-го он единственный из военных попытался помочь Керенскому вернуть власть (Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 166—167).]. Приняв должность, он вступил в близкие сношения с германским командованием на Украине, пытаясь получить у него денежные субсидии и оружие. Он вступил в сношения и с Добровольческой армией, выменяв у нее на продовольствие некоторое количество оружия из старых царских арсеналов87, но в целом его отношения с ней были натянутыми, поскольку он смотрел на добровольцев не как на союзников, а как на гостей. Его целью было создание суверенной Донской казачьей республики. Он готов даже был рассмотреть возможность похода казаков на Москву, однако лишь при условии, что сам будет главнокомандующим, а Добровольческая армия станет под его командование. С точки зрения белого генералитета такая перспектива была абсолютно неприемлемой, поскольку Дон для них был неотъемлемой частью России. Амбиции и интриганство Краснова в короткое время испортили отношения между Добровольческой армией и донским казачеством. [Архивные материалы позволяют сделать вывод, что заносчивое поведение Краснова после перемирия поощрялось французами, желавшими установить свой протекторат на Дону, который по договору, заключенному между двумя державами в декабре 1917 года, должен был оказаться в сфере влияния Британии. См.: Hogenhuis-Seliverstoff A. Les Relations Franco-Sovietiques, 1917—1924. Paris, 1981. P. 113]. На протяжении всей гражданской войны донские казаки держались особняком и зачастую игнорировали и саботировали планы, составленные командованием Добровольческой армии. Пытаясь дать оценку деятельности того, что в целом принято называть Добровольческой армией, необходимо иметь в виду: она состояла из двух раздельных частей, собственно добровольческой армии и казаков, интересы которых не всегда совпадали. В период до лета 1919 года, когда Деникин пришел на Украину и объявил призыв среди местного населения, казаки численно превосходили добровольцев.
Как и Алексеев, Краснов желал, чтобы Деникин двинул войска на Царицын, но мотивы его были иные. Он хотел отвести от Дона угрозу со стороны красных, действовавших на северо-востоке. Краснову так мечталось захватить этот город на Волге, что он предложил Деникину поставить своих казаков под его командование, если только тот согласится пойти с добровольцами на приступ. Московские друзья также советовали Деникину обратить внимание на Царицын88.
Деникин, которому нельзя было отказать в изрядной доле упрямства, отверг все эти советы и решил направить армию на юг, в кубанские степи. Он полагал, что прежде, чем выбираться с Северного Кавказа, ему необходимо укрепить тылы и с этой целью ликвидировать красную Северо-Кавказскую армию, которая была укомплектована в основном иногородними, насчитывала до 70 000 человек и контролировала Кубань. Кубанские казаки, отличные солдаты и отъявленные противники большевиков, должны были, судя по всему, стать ему надежной опорой и предложить ту помощь, в которой отказывали донские казаки89. Впоследствии этот стратегический план Деникина часто критиковали: не успев вовремя соединиться с формирующимися на востоке армиями, он позволил Красной Армии иметь дело со всеми белыми формированиями поочередно. Не дождавшись поддержки от добровольцев, Краснов сам пошел на взятие Царицына. Донские казаки под его командованием непрерывно атаковали город в течение ноября и декабря 1918 г., но безуспешно. [Борьба за Царицын в конце 1918 г. обозначила конфликт, назревающий между Троцким и Сталиным. Ленин отрядил Сталина в Царицын для сбора продовольствия. Сталин сам ввел себя в реввоенсовет Южного фронта и немедленно начал вмешиваться в военные операции, ответственность за которые осенью 1918 года нес бывший царский генерал П.П.Сытин, командующий Южным фронтом, назначенец Троцкого. Кроме того, Сталин то и дело обсуждал военные дела напрямую с Лениным, минуя Троцкого и его Реввоенсовет (см.: Волкогонов Д.В. Троцкий. Ч. 1. М., 1992. С. 237). Документы свидетельствуют, что основным вкладом Сталина в оборону Царицына было раздувание интриг и введение террора, направленного в основном против бывших царских офицеров на советской службе, которым он не доверял и которых время от времени приказывал арестовывать и расстреливать (см.: Souvarine В. Staline. Paris, 1977. P. 205; Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1. Ч. 1. М, 1989. С. 90—92; Argenbright R. в журнале Revolutionary Russia. 1991. Vol. 4. № 2. P. 157—183.). В начале октября 1918 года Троцкий потребовал отзыва Сталина, мотивируя это недопустимым вмешательством последнего в принятие военных решений, — Политбюро исполнило это требование (см.: Троцкий Л. Сталинская школа фальсификации. Берлин, 1932. С. 205—206). Сталин и его приспешники не остались в долгу и организовали настоящую клеветническую кампанию против Троцкого. Впоследствии Сталин приписал успех обороны Царицына исключительно себе и добился переименования города в Сталинград (см.: Deutscher I. The Prophet Armed. New York, 1954. P. 423-428).]. Город сдался Деникину, и только летом следующего года, когда белые армии на востоке повсеместно отступали и возможность создать единый антибольшевистский фронт была утеряна безвозвратно.
23 июня Добровольческая армия начала свою вторую кубанскую кампанию. Всего в ней принимало участие 9000 солдат регулярных войск и 3500 казаков. Артиллерия насчитывала 29 полевых орудий90. Июль и август прошли в тяжелых боях, причем Добровольческая армия одерживала многочисленные победы над вдесятеро превосходящим ее противником и 15 августа вошла в Екатеринодар. 26 августа войска Деникина были в Новороссийске, который должен был служить портом для английских судов, доставлявших помощь. Тысячи солдат Красной Армии были взяты в плен и немедленно определены на службу: пленных командиров обычно расстреливали, считая их большевиками. Большое число кубанских казаков влилось в Добровольческую армию. Армейская казна пополнялась за счет «контрибуций», взыскиваемых с деревень, которые поддерживали красных: таким образом было получено 3 млн. рублей91. Вторая кубанская кампания оказалась чрезвычайно успешной с тактической точки зрения, и Добровольческая армия к ее концу оказалась сильнее и больше, чем при начале; к сентябрю 1918 года она насчитывала 35000— 40 000 человек (60% которых были кубанские казаки) и 86 полевых орудий92. Большевистское верховное командование было так напугано этими успехами, что обратилось в августе 1918 года к Германии, требуя ввода немецких войск для борьбы с Добровольческой армией93.
Тылы Добровольческой армии были обеспечены. В Ростов и Новороссийск стекались убегающие от красного террора видные политические и общественные деятели, среди них было много кадетов и членов Национального центра. Оставались, однако, серьезные проблемы, и некоторые из них в силу особенности своей природы имели тенденцию только ухудшаться с улучшением военного положения. Армия контролировала значительную территорию, но у нее все еще не было эффективного управленческого аппарата. Мало находилось охотников нести гражданскую службу: лица, обладавшие необходимыми качествами, отвечали на предложения занять должность уклончиво, то ли не желая принимать на себя ответственность, то ли опасаясь за свою жизнь94. Деникину приходилось импровизировать — во главе губерний он поставил военных губернаторов и восстановил законы, принятые до 25 октября 1917 года. Гражданское население было повсеместно предоставлено самому себе, что порождало не столько демократию, сколько анархию. Деникин признавался позже, что на контролируемых его армией территориях правосудие становилось предлогом для личной вражды, учрежденные им военно-полевые суды широко использовались казаками для расправы с сочувствующими большевикам «иногородними», превращаясь таким образом в орудие «организованного самосуда»95. Чем большую территорию завоевывала Добровольческая армия, тем более бросалась в глаза ее неспособность обеспечить на ней элементарный порядок и безопасность населения.
В октябре 1918 года умер Алексеев. Незадолго до смерти он создал в помощь высшему военному командованию специальный орган, Особое Совещание при Верховном Руководителе Добровольческой армии. Поначалу Совещание задумывалось как орган консультативный, но по требованию Национального центра, озабоченного тем, что армия не может нормально функционировать без надлежащего политического руководства, оно было, с согласия Деникина, в январе 1918 года превращено в теневой кабинет, председателем которого назначили генерала А.М.Драгомирова. Из восемнадцати членов кабинета пятеро были генералами, остальные — гражданскими лицами, причем десятеро представляли Национальный центр. Резолюции Совещания не особенно отягощали Деникина, который оставил за собой право на издание законов собственной властью96. Согласно воспоминаниям одного из его членов, Совещанию недоставало четкой политической ориентации, однако генералы, обычно возглавлявшие прения, придерживались довольно либеральных убеждений97. Дискуссии рождали мало разногласий, не потому, что в них достигалось согласие, но от общего безразличия, поскольку от решений Совещания мало что зависело: «...наше единство отличалось некоторою пассивностью, в наших суждениях было мало жизни, и в наших постановлениях отсутствовало волевое начало. Позднее Особое Совещание сравнивали с машиной, работающей без приводных ремней. Так было всегда. Теоретически все у нас было построено на началах единства власти. На практике было бесформенное единство безволия»98.
Преобладавшим чувством, причем среди гражданских так же, как и среди генералов, было то, что важна лишь военная победа, поэтому и споры на Совещании носили нереалистический, отстраненный характер. Не возникало ощущения настоятельной необходимости заполнения исполнительных постов; проходили месяцы от формирования Совещания, а многие важные должности, как, например, министра внутренних дел, оставались вакантными.
Национальный центр выдвинул политическую программу, которую Деникин и его генералитет в начале 1919 года нехотя и в основном под британским давлением согласились принять. Центр формулировал свою программу как сочетание «твердой власти», то есть военной диктатуры, с либеральным политически и социальным курсом, нацеленным на созыв Учредительного собрания. Сюда же входили требования проведения аграрной реформы, включающей принудительную экспроприацию больших земельных владений, поощрение мелкого и среднего фермерского хозяйства, введение социального обеспечения для промышленных рабочих99. Генералитет выражал явное недоверие к возможности реализации всех этих проектов, однако поддался, когда до его сведения довели позицию союзников: союзные правительства, от поддержки которых белые в такой мере зависели, не смогут оказывать им таковую поддержку, если не сумеют убедить своих избирателей, будто белые воюют именно за те идеалы демократии и социальной справедливости, за которые союзники бились в Первую мировую войну.
Окончательный разгром Добровольческой армии часто объясняли политической несостоятельностью, но гораздо более вероятная причина его, помимо объективных факторов, перечисленных выше, — неспособность командования справиться с военным и гражданским персоналом. Слабость эта проявилась в равной мере и в Восточной, и в Южной белых армиях. Все современники согласны в том, что отсутствие дисциплины в рядах белых было поразительное. Деникин практически признался в этом, когда сказал, отвечая на претензии генерала Г.К.Хольмана, главы британской миссии, что всепоглощающая коррупция делает невозможным должное снабжение фронтовых частей: «Я ничего не могу поделать со своей армией. Я рад, когда она исполняет мои боевые приказы»100. Деникин то ли не мог, то ли не хотел применять суровые меры для обеспечения повиновения и прекращения мародерства. Проблема эта возникала не собственно с Добровольческой армией, но с казаками и призывниками. Еврейские погромы, которые устраивали служившие под началом Деникина казаки летом и осенью 1919 года, были одним из самых ужасающих проявлений такого неповиновения. Повальное распространение получило воровство, не затронувшее только элитные добровольческие отряды. Оно не только настраивало население на враждебный лад и деморализовало войско, но замедляло продвижение армии, поскольку объем награбленного все увеличивался.
8 января 1919 года Деникин принял верховное командование над всеми белыми силами на юге: Добровольческая армия стала частью, а Деникин — главнокомандующим Вооруженными Силами на Юге России. (Он отказался носить звание «Верховный Руководитель», которое носил Алексеев101.) Статус донских казаков отчасти прояснился благодаря помощи союзников. После того как проигравшая войну Германия вывела свои силы с Украины, Краснов утратил их покровительство, и ему ничего не оставалось, как обратиться к союзникам. Союзники заявили Краснову, что помощь от них он будет получать только через Деникина и только в том случае, если будет подчиняться ему102. Краснову трудно было примириться с таким положением дел, и в феврале 1919 года он уступил свое место донскому казаку, симпатизировавшему русским. [Покинув Дон, Краснов некоторое время служил под командованием генерала Юденича (см.: Stewart G. The White Armies of Russia. New York, 1933. P. 415). Позднее, уже в эмиграции, он писал романы о гражданской войне, ставшие популярными на Западе. Сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны. В конце войны захвачен Красной Армией и казнен в возрасте 78 лет.]. Донская казачья армия так никогда полностью и не вошла в состав белой армии: она сохраняла целостность, и белое командование обещало использовать ее только на донском фронте103.
* * *
На Восточном фронте — то есть на Волге, Урале и в Сибири — политики пытались править, и военные старались им следовать, и повсеместно нарастало недовольство непрекращающейся грызней и интригами, которыми была отмечена деятельность Директории: многим она казалась «повторением Керенского»104. Беспомощность Директории была удивительна; о ней говорили, что ее «так же хорошо слышно, как кукушку в часах на стене шумного кабака»105. Все больше возникало голосов в поддержку «сильной власти». А как же еще остановить самую жестокую диктатуру в истории, если не создав другую диктатуру? Вопрос висел в воздухе. Посланец, направленный в Омск из Москвы Национальным центром, передавал аналогичные пожелания; того же требовали сибирские политические деятели и даже некоторые социал-демократы. «Идея диктатуры носилась в воздухе»106.
События, произошедшие 17 ноября 1918 года, — Омский переворот, поставивший у власти диктатора, которым стал адмирал Александр Колчак, — были подготовлены подрывной деятельностью партии эсеров. Как уже говорилось, фактический глава партии и бессменный лидер ее левого крыла с самого начала выступал против уступок правым эсерам и либералам, на которые пошли его товарищи, чтобы войти в Директорию. 24 октября ЦК партии эсеров принял в Уфе поданную им резолюцию, которая практически отвергала достигнутые ранее в Уфе соглашения107. Известный под именем «Черновского манифеста», документ гласил, что в борьбе между большевизмом и демократией «последней начинают угрожать контрреволюционные элементы, внедрившиеся в нее с тем, чтобы ее разрушить». Поддерживая Директорию в ее борьбе с «комиссарской властью», «в предвидении возможности политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контрреволюции, все силы партии в настоящее время должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены с тем, чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удары контрреволюционных организаторов гражданской войны в тылу противобольшевистского фронта». Документ получил распространение и привел в бешенство военных, которым он живо напомнил о том, как с ними поступил Петроградский совет в 1917 году. Самые проницательные из эсеров пришли от него в ужас. Генерал Болдырев записал в своем дневнике, что «Манифест» свидетельствовал: ЦК эсеров возобновил свою «вероломную деятельность», объявив о намерении сформировать новое правительство и тайно начав собирать военные силы, — это было не что иное, как государственный переворот слева108. По мнению генерала Нокса, авторы такого документа, будь он написан в Англии, пошли бы под расстрел109. Авксентьев и Зензинов, оба — члены ЦК и одновременно видные фигуры в Директории, были расстроены появлением «Манифеста», но из соображений партийной лояльности не стали от него отрекаться, тем самым подкрепляя превалирующее в обществе убеждение, будто эсеры — члены Директории потворствуют готовящемуся перевороту.
Подобные убеждения дали основания для выведения эсеров из состава правительства — акта, равносильного роспуску Директории. Когда Манифест Чернова дошел до Омска, председатель Совета министров Вологодский и генерал Болдырев потребовали арестовать ЦК эсеров110. В то же время было возбуждено судебное дело против авторов документа.
Во время этих событий Колчак ездил с инспекцией на фронт; он вернулся в Омск только 16 ноября. На следующий день несколько офицеров и казаков обратились к нему с просьбой принять власть. Среди них был генерал Д.А.Лебедев, представитель Деникина в Омске, некогда близкий соратник Корнилова, ненавидевший эсеров из-за роли, которую они сыграли в корниловском деле. Колчак отказался по трем причинам: в его распоряжении не было военных сил (они находились под командованием Болдырева); он не знал отношения к этому предложению Сибирского правительства; он не хотел нарушать своей лояльности Директории, на службе которой состоял111. Он не только не готов взять на себя диктаторские полномочия, сказал далее Колчак, но вообще подумывает об отставке с поста министра, поскольку эта должность не приносит ему ни малейшего удовлетворения.
Не смирившись с отказом, сторонники диктатуры решили вынудить Колчака принять нужное им решение. В полночь с 17 на 18 ноября, во время сильной бури, отряд сибирских казаков под предводительством атамана И.Н.Красильникова ворвался на частное заседание, проходившее в резиденции заместителя министра внутренних дел. Среди присутствовавших были несколько эсеров, в том числе Авксентьев и Зензинов. Эти двое и хозяин были арестованы; заместитель Авксентьева, Аргунов, был арестован позже той же ночью. Переворот, направленный против эсеров в правительстве и спланированный, по-видимому, Лебедевым, явился для всех, в том числе и для Колчака, полнейшей неожиданностью.
Поскольку об обстоятельствах, приведших Колчака к власти, распространялось множество легенд — легенд, которые имели весьма грустные последствия для его взаимоотношений с демократическими кругами в России и вне ее, — необходимо отметить некоторые факты. Во-первых, Колчак не являлся автором заговора: нет ни одного факта, свидетельствующего, будто он принимал участие в его составлении или даже знал о его существовании. Нет причин поэтому не доверять его версии событий, а именно, что он узнал о том, что произошло, только посередине ночи, получив соответствующий телефонный звонок112. Согласно мнению биографа, «Колчак был, пожалуй, единственным членом Совета министров, о котором можно с уверенностью сказать, что он не был посвящен в планы готовящегося Красильниковым переворота»113. Нет никакого основания и для того, чтобы поверить заявлению французских генералов, будто омский переворот был подготовлен британской миссией114. Свидетельства, частично ставшие доступными только после Второй мировой войны, заставляют согласиться с генералом Ноксом, утверждавшим, что «переворот был проведен Сибирским правительством без предварительного оповещения Великобритании и без какого бы то ни было соучастия с ее стороны»115. Архивные материалы свидетельствуют — за десять дней до переворота, когда о нем уже ходили слухи, Нокс предупреждал Колчака, что подобный шаг может стать «фатальным» 116.
Слухи об аресте распространились в течение ночи, и в шесть часов утра Кабинет министров собрался на экстренное заседание. Падение Директории было признано свершившимся фактом, и на время Кабинет принял на себя полноту власти117. Большинство министров считало, что власть должна быть вверена военному диктатору. Колчак предложил кандидатуру Болдырева, но она была отклонена на том основании, что генерал не мог оставить своей должности главнокомандующего. Затем Кабинет при одном голосе против избрал Колчака. Когда Болдырев, в то время находившийся на фронте, узнал об этом решении, он пришел в ярость и предложил Колчаку подать в отставку, заявив, что в противном случае армия не будет исполнять его приказов118. Колчак не прислушался к его совету, и Болдырев, сложив с себя полномочия, выехал в Японию. [В 1922 году Болдырева захватили во Владивостоке красные. На этот раз он признал советскую власть и попросил «простить» его. Его амнистировали (См.: Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенты. Новониколаевск, 1925. С. 12-13).]. Представители союзников в Омске немедленно заверили Колчака в своей поддержке, так же как и двое избежавших ареста членов Директории119. Директория настолько мало пользовалась общественной поддержкой, что никто не встал на ее защиту, это признает даже Аргунов120. Майский, меньшевик, впоследствии ставший большевиком и закончивший карьеру в должности посла в Великобритании, признавал, что население Омска поддерживало Колчака и симпатизировало ему: ожидалось, что он восстановит порядок. На лицах у людей, попадавшихся Майскому на пути вскоре после переворота, была «если не радость, то как будто бы выражение облегчения». Местные рабочие восприняли введение военной диктатуры как нечто естественное .
Исследование последовательности событий приводит к неизбежному выводу, что произошедшее можно квалифицировать как устроенный казаками и офицерами Сибирского правительства переворот с последующей передачей власти. После ареста членов Директории Совет министров, назначенный ею, не предпринял никаких шагов по их освобождению и возвращению им власти; напротив, он сначала взял власть себе, а впоследствии передал ее адмиралу Колчаку. Нет поэтому почвы для того, чтобы говорить о «колчаковском перевороте» или «захвате Колчаком власти», как это обычно делается историками, пишущими об этих событиях. Колчак не захватывал власти: она была ему навязана.
Вопреки заявленному Колчаком желанию, ему присвоили звание «Верховного правителя» (а не «верховного главнокомандующего», что было бы для него предпочтительнее). Намерением назначавших его было «видеть устойчивую верховную власть, свободную от функций исполнительных, не зависящую от каких-либо партийных влияний и одинаково авторитетную как для гражданских, так и для военных властей»122. В гораздо более прямом смысле, нежели Деникин, Колчак оказался не только военным, но также и гражданским главнокомандующим, подобно Пилсудскому в Польше. Ему подчинялся Совет министров. Но развитие событий вскоре заставило Колчака взять всю полноту исполнительной власти в свои руки, предоставив Кабинету, состоявшему из тех же министров, что и при Директории, подготовку законодательных документов. Как правило, заседаний Кабинета Колчак не посещал.
По отношению к своим противникам-эсерам Колчак проявил щедрость. Арестованные эсеры — которых наверняка бы казнили, не выступи полковник Уард в их защиту123, — были по его приказу отпущены. Колчак выдал им щедрое содержание (от 50 000 до 75 000 рублей каждому), посадил на поезд и приказал под конвоем довезти до китайской границы, откуда все они направились в Западную Европу. На Западе они немедленно начали кампанию по шельмованию Колчака, которая оказала определенное влияние на формирование мнения в отношении ввода войск союзниками. Отчаяние эсеров происходило от сознания, что падение Директории означало конец всем их надеждам когда-либо прийти к власти в России — к той власти, на которую они, по их мнению, имели полное право, поскольку победили на выборах в Учредительное собрание. Они не могли больше лелеять мечту стать третьей силой, но должны были выбирать между белыми и красными.
Сделать выбор они смогли довольно скоро. ЦК партии эсеров, объявив Колчака «врагом народа» и контрреволюционером, призвал население к восстанию против него. Чтобы избежать неминуемого возмездия, эсеры решили уйти в подполье и вернуться к методу террора: с согласия их ЦК Колчаку был вынесен смертный приговор124. 30 ноября Колчак потребовал от членов более не существующего Комуча, чтобы они под страхом сурового наказания прекратили подстрекать народ к мятежу в тылах белой армии и не создавали помех армейским коммуникациям125. Это было оставлено без внимания. Эсеры считали, что находятся в состоянии войны с омским правительством, и, учитывая количество их сторонников в Сибири, угроза с их стороны была нешуточной. 22 декабря 1918 года эсеры перешли от слов к делу и, совместно с большевиками, попытались устроить переворот в Омске. Попытка была быстро подавлена с помощью чешского гарнизона и казаков: около 100 восставших (по некоторым данным — около 400) были казнены. Впоследствии Колчака обвиняли в совершении этого зверства. На самом деле в то время, когда происходили события, он был серьезно болен и не знал о случившемся126.
* * *
В течение первого года большевистской диктатуры жившие в советской России меньшевики и эсеры не проявляли большого беспокойства, убежденные, что большевики не смогут долго продержаться без их помощи. Это убеждение помогало им стойко переносить нападки большевиков. Лозунгом их было «Ни Ленин, ни Деникин (или Колчак)». Самыми оптимистичными в этой паре были меньшевики. Хотя их партия была распущена, в течение всего 1918 года они отказывались присоединяться к противобольшевистским организациям, и их членам было строго запрещено принимать участие в какой бы то ни было деятельности, направленной против советской власти. Они были уверены, что демократические инстинкты народа возьмут верх и заставят большевиков разделить власть; себе они приписывали роль лояльной и легальной оппозиции127. Эсеры разделились. Левые эсеры после неудачного переворота 1918 года постепенно перестали попадаться на глаза. Собственно партия эсеров разделилась на две фракции, более радикальную, под предводительством Чернова, желавшую придерживаться линии меньшевиков, и правую, готовую бросить вызов советам якобы от имени Учредительного собрания. Члены этой последней фракции организовали в свое время Комуч и присоединились затем к Директории.
Установление военной диктатуры в Омске напугало меньшевиков и эсеров в равной степени и бросило и тех и других в объятия большевиков. Они не обратили внимания на красный террор, бывший в полном разгаре и уносивший тысячи жизней, поскольку он не касался их лично — несмотря на то, что ЧК метала громы и молнии в адрес социалистических «предателей», основными ее жертвами становились состоятельные граждане и старорежимное чиновничество. И меньшевики, и эсеры боялись белого террора. Они относились к политике большевиков с искренним отвращением и никогда не упускали возможности дать это понять, даже и ценою значительного риска. Но в их глазах большевики являлись меньшим злом, поскольку они «только наполовину ликвидировали революцию»128, белые же, победив, ликвидировали бы ее окончательно. Памятуя о возможности такого исхода, меньшевики, а за ними и эсеры, в конце 1918 года пошли на соединение с Лениным.
Меньшевики, не принимавшие участия ни в Комуче, ни в Директории, склонялись в этом направлении еще до омского переворота. Л.Мартов, лидер интернационалистского крыла партии, призывал к нейтралитету в гражданской войне уже в июле 1918 года — на том основании, что поражение белых может повлечь за собою создание демократического правительства в России129. В конце октября, возбужденный мыслью о возможности революции в Германии, меньшевистский ЦК объявил большевистскую «революцию» «исторически неизбежной»130. 14 ноября — через три дня после заключения перемирия на западном фронте — тот же ЦК призвал весь революционный элемент подняться против «англоамериканского империализма»131. Видные меньшевики, среди них — Федор Дан, призывали рабочих и крестьян «формировать единый революционный фронт против наступления контрреволюции и хищнического империализма», предупреждая «всех врагов русской революции... что, когда встает вопрос защиты революции, наша партия, во всей ее силе, станет плечом к плечу с советским правительством»132. В декабре 1919 года социал-демократы интернационалисты проголосовали за присоединение к коммунистической партии133.
В благодарность за резкое изменение курса большевистское руководство отменило принятое в предыдущем июне решение об изгнании меньшевиков из Советов134. В январе 1919 года партия получила разрешение на публикацию своего органа, газеты «Всегда вперед». Однако газета публиковала такие резкие статьи с критикой правительства, особенно красного террора, что была закрыта после выпуска нескольких номеров. Больше она не выходила.
Эсеры приняли пробольшевистскую ориентацию не с такой готовностью. В отличие от меньшевиков, представлявших собою небольшой остаток социал-демократической партии без какого-либо политического будущего, они, партия, привлекшая наибольшее число сторонников, считали, что им сама история вручила мандат на управление Россией. В декабре 1918-го, после падения Директории, Уфимский комитет партии эсеров, опора Комуча, начал переговоры с Москвой. Переговоры завершились в январе изданием призыва ко всем солдатам «Народной армии прекратить гражданскую войну с Советской властью, являющейся в настоящий исторический момент единственной революционной властью эксплуатируемых классов для подавления эксплуататоров, и обратить свое оружие против диктатуры Колчака»135. Тем частям Народной армии, которые последуют этому призыву, была обещана амнистия. В результате практически все части Народной армии перешли к красным136. Большевики в процессе переговоров заставили Уфимскую делегацию отказаться от идеи созыва Учредительного собрания137.
Основной массе эсеров ничего не оставалось, как склониться к общей политике приспособленчества. С 6 по 8 февраля 1919 г. ЦК партии эсеров и представители местных организаций в пределах Советской России провели в Москве конференцию, чтобы сформулировать свою позицию в текущей ситуации. После обычных сетований по поводу отсутствия демократии в Советской России собрание обвинило «буржуазию» и «помещиков» в попытке восстановить монархию и призвало членов партии «приложить все усилия для свержения [реакционных] правительств», созданных при поддержке союзников. Конференция занесла в свои протоколы, что она отвергает «категорическим образом попытки свержения советского режима путем вооруженной борьбы, которая, учитывая слабость и рассредоточенность рабочей демократии и повсемерный рост контрреволюционных сил, будет только на руку последним и позволит реакционным группировкам использовать ее в целях восстановления монархии»138. Эсеры распространили инструкцию, предписывающую членам партии прилагать усилия для свержения правительств Деникина и Колчака, но воздерживаться от активного противодействия советскому режиму. Политика эта оправдывалась «тактическими» уступками, которые якобы не предполагали даже условного признания власти большевиков139. Все эти оговорки никак не повлияли, однако, на совершившийся факт: в решающую фазу гражданской войны социалисты-революционеры недвусмысленно встали на сторону большевиков. В награду в феврале 1919-го им, как и меньшевикам, было позволено вновь присоединиться к советам140. 20 марта партия эсеров была легализована и получила разрешение на издание ежедневной газеты «Дело народа». Газета, первый выпуск которой появился в тот же день, была прикрыта после выхода в свет шести номеров. Несмотря на это, эсеры придерживались избранного курса, и на Девятом совещании, проведенном их партией в Москве в июне 1919 г., прокоммунистическая ориентация получила формальный статус. Резолюция совещания призывала членов партии прекратить борьбу с большевистским режимом. Партия эсеров должна была впредь «слить свою борьбу против попыток контрреволюции с борьбой большевистской власти и центр своей борьбы против Колчака, Деникина, и др. должна перенести в их территории, подрывая их дело внутри и борясь в передовых рядах восставшего против политической и социальной реставрации народа всеми теми методами, которые партия применяла против самодержавия»141 .
Деникин вполне мог позволить себе игнорировать эти воинственные призывы к возрождению терроризма, поскольку на территории, которую занимали его войска в первой половине 1919 г., ни меньшевики, ни эсеры не располагали достаточным числом сторонников. Но в Сибири ситуация складывалась иначе, поскольку призывы эсеров к подрывной деятельности затрагивали тылы армии. Подручные Колчака начали относиться к эсерам как к предателям и арестовывали их наряду с большевиками. Несколько членов Комуча было казнено. Наибольшей жестокостью отличился генерал С.Н.Розанов, посланный в марте 1919 г. для подавления беспорядков в Енисейской губернии. Прибегая к большевистским методам (по данным одного из советских историков, он служил некоторое время в Красной Армии), Розанов распорядился относиться к пойманным большевикам и бандитам как к заложникам и казнить их в отместку за каждое выступление против режима142. Колчак настаивал на прекращении подобной практики143, и не было найдено ни одного документа, содержащего приказ о проведении казней, за его подписью. Однако, поскольку казни имели место при его правлении, ненависть пала и на него.
Колчак пользовался сильной поддержкой Британии, в основном вследствие симпатии, которую питал к нему генерал Нокс. Вплоть до самого его поражения летом 1919 г. Британия возлагала надежды на Колчака и поставляла ему (в отличие от Деникина) военную помощь. В январе 1919 г. второй британский батальон прибыл в Омск, чтобы усилить впечатление поддержки союзников. С ним прибыл и небольшой отряд моряков, сражавшийся впоследствии с большевиками на Каме — единственный, помимо чехословаков, отряд союзнических войск, принявший участие в боях в Сибири144. Нокс также вызвался обеспечивать тылы, т.е. линии связи, и провести во Владивостоке подготовку 3000 русских офицеров145. Остальные державы относились к Верховному правителю с прохладцей. Генерал Морис Жанен, прибывший в Омск в декабре и совмещавший полномочия главы французской военной миссии и командира Чехословацкого легиона (на последнюю должность он был назначен Чехословацким национальным советом в Париже), считал Колчака британской креатурой. Он настаивал, чтобы его поставили во главе соединенных сил союзников в Сибири, включая русские части. Это требование Колчак решительно отверг. Со временем было найдено компромиссное решение, согласно которому Колчак командовал российскими частями, но координировал свои военные операции с Жаненом. Чехословацкий национальный комитет, имевший тесные сношения с эсерами и принявший в свое время прямое участие в создании Директории, изначально относился к Колчаку враждебно: после свержения Директории он издал заявление, в котором переворот оценивался как прискорбное нарушение «принципа законности»146.
Активнее всех пытались противодействовать Колчаку японцы, опасавшиеся, что тот помешает им присоединить дальневосточные российские губернии. К концу 1918 г. Япония направила в Восточную Сибирь 70 000 солдат. Несмотря на то что первоначальной задачей японских военных сил было открытие нового фронта, Токио намеренно игнорировал призывы Британии продвинуть эти силы на запад и оказать помощь попавшим в трудное положение чехословакам. Напротив, силы эти использовались для установления оккупационного режима весьма жестокого характера. Японию поддерживали два казацких военачальника, Г.М.Семенов и Ива Калмыков, атаман уссурийских казаков, получавшие от нее военную и финансовую помощь. Эти головорезы держали в страхе всю Сибирь к востоку от Байкала на территории между регионами, находившимися под контролем Колчака и Японии. В результате влияние Колчака никогда не распространялось восточнее Байкала. Семенов устроил штаб-квартиру в Чите, и его банды контролировали территорию между Хабаровском и Байкалом. Он вовсе отказывался признавать Колчака и являлся, по сути, обыкновенным разбойником — останавливал поезда и грабил гражданское население, а вырученное добро сбывал в Китае и Японии. Командующий американскими военными силами в Сибири пишет, что банды Семенова и Калмыкова «под прикрытием японских войск опустошали страну как дикие звери, убивая и грабя народ... Когда им задавали вопросы относительно этих диких убийств, они неизменно отвечали, что убитые были большевиками»147.
В августе 1918 г. США отправили с Филиппин в Сибирь под командованием генерал-майора Уильяма С.Грейвса экспедиционный корпус из 7000 человек. Грейвс получил инструкции содействовать восстановлению антигерманского фронта, но воздерживаться от вмешательства во внутренние дела русских. «Определенным и однозначным мнением правительства США является... что военное вмешательство лишь усугубит прискорбный беспорядок в России, а не устранит его; нанесет России вред, а не поможет ей, и нисколько не поспособствует решению нашей основной задачи — победе в войне над Германией. Правительство США не может поэтому принять участие в таковом вмешательстве или изъявить на него свое принципиальное согласие. Военное вмешательство станет, по его мнению, даже если оно и целесообразно с точки зрения достижения нашей ближайшей цели — подготовки нападения на Германию с востока, — способом использования России, а не служения ей. Даже если народ России и получит кратковременные выгоды от такого вмешательства, в долговременной перспективе это не избавит его от текущих трудностей, и он будет вынужден содержать иностранные армии вместо того, чтобы строить и укреплять собственную. Военные действия возможны в России... только с целью помощи чехословакам собрать силы... только с целью поддержки создания русскими самоуправления и самообороны постольку, поскольку и сами они, по-видимому, готовы принять такую помощь»148. Инструкция эта страдала определенной противоречивостью, поскольку само присутствие военных сил США на территории, находящейся под контролем антибольшевистских сил, определяло их место и участие в русской гражданской войне. Грейвс, однако, должен был употреблять все усилия для того, чтобы придерживаться строгого нейтралитета и исполнять роль технического эксперта там, где стороны дрались не на жизнь, а на смерть. В результате и Грейвс, и пославшее его правительство увидели мало благодарности, поскольку большевики считали американцев врагами и интервентами, а белые обвиняли их в симпатии к большевикам. Грейвс, по его собственному признанию, ничего не знал ни о России, ни о Сибири, куда его «засунули»; он представления не имел о том, из-за чего идет гражданская война, и «не имел предубеждений ни против какой российской фракции». Высадившись во Владивостоке, он с изумлением обнаружил, что Британия и Франция стремятся уничтожить большевиков, которых он считал всего-навсего противниками реставрации самодержавия149.
Вплоть до весны 1919 г. американские войска в Сибири несли обычную гарнизонную службу; затем они взяли на себя надзор за Транссибирской железной дорогой на участке от Байкала до моря. Американские эксперты-транспортники, приглашенные еще Временным правительством, взялись по условиям соглашения, подписанного в марте 1919 г., поддерживать железные дороги Сибири в рабочем состоянии «для русских», будь то большевики или антибольшевики. Грейвс публично заявлял о том, что между пассажирами не будет делаться никакого различия (их будут обслуживать «невзирая на лица... и на политику»), так же как и между грузами различного назначения150. Заявление это прозвучало так, будто американцы выказывали готовность перевозить партизан-большевиков и их амуницию, что вызвало изумление Британии и привело в бешенство белых. Как ни клялся Грейвс в своей беспристрастности, неприязнь его к правительству Колчака была очень сильна и основывалась на убеждении, что оно состоит из неисправимых реакционеров и монархистов. К большевикам, встречаться с которыми ему не приходилось, Грейвс относился непредвзято («я никогда не мог определить, кто был большевиком и почему он стал большевиком»151).
Колчак воспринимал свою роль в исключительно военных терминах. Он был убежден, что Россия приведена в переживаемое ею тяжелое состояние вследствие развала армии и поднимется снова только при содействии армии: армия для него была сердце России152. Как он говорил большевистской следственной комиссии после ареста, никаких сложных больших реформ он производить был не намерен, так как смотрел на свою власть как на временную: «Стране нужна во что бы то ни стало победа, и должны быть приложены все усилия, чтобы достичь ее. Никаких решительно политических целей у меня нет; ни с какими партиями я не пойду, не буду стремиться к восстановлению чего-либо старого, а буду стараться создать армию регулярного типа, так как считаю, что только такая армия может одерживать победы»153. Приняв власть, Колчак издал лаконичное воззвание:
«18 ноября 1918 года Всероссийское Временное Правительство распалось.
Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне — адмиралу Русского Флота, Александру Колчаку.
Приняв Крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, — объявляю:
Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.
Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам»154.
28 ноября Колчак признал иностранные долги России и обещал их выплатить155. В другом случае он заявил, что считает себя связанным всеми обязанностями и законами, которые признавало в 1917 г. Временное правительство156. Дальше этого он не пошел. Подобно другим военачальникам белых армий, он полагал, что политические и гражданские манифесты, особенно в такой неспокойной стране, как Россия, создают излишние проблемы при борьбе с большевиками: «только вооруженная сила, только армия, явится спасением; все остальное должно быть подчинено ее интересам и задачам...»157
Верховный правитель Восточной России и Сибири родился в 1873 году в семье военного158. Он также избрал военную карьеру и поступил в Морскую академию. Колчак принимал участие в трех полярных экспедициях, причем выказал незаурядное мужество и заслужил себе прозвище «Колчак-Полярный». Он принимал участие в военных действиях против Японии при Порт-Артуре, в результате получил назначение в Генеральный штаб Флота. В течение Первой мировой войны служил в Балтийском флоте, затем получил повышение и был назначен командующим Черноморского флота. Его задачей была подготовка и проведение морского похода на Константинополь и Проливы, назначенного на следующий год. Летом 1917-го Временное правительство отправило его с заданием в США. Большевистский переворот затруднил возвращение адмирала на родину. Он попытался въехать в Россию через Дальний Восток. В Японии Колчак встретил генерала Нокса, на которого произвел чрезвычайно сильное впечатление: английский генерал считал, что у него «больше мужества, отваги и честного патриотизма, нежели у любого другого русского в Сибири»159. После заключения Брест-Литовского договора, явившегося, по мнению Колчака, началом покорения России Германией, он предложил свои услуги Британской армии. Получив назначение в Месопотамию, он уже направлялся туда, однако английское его начальство переменило планы (по-видимому, под воздействием Нокса) и попросило Колчака вернуться в Восточную Азию. Первые месяцы 1918 г. он провел в Маньчжурии, где ему было поручено обеспечение безопасности Китайской Восточной железной дороги. В октябре 1918 г., направляясь на Дон для соединения с силами Деникина, Колчак проезжал через Омск, где генерал Болдырев предложил ему в Директории пост министра обороны.
У Колчака было много выдающихся качеств: замечательная честность и неподкупность, испытанное мужество, бескорыстный патриотизм. Он да, пожалуй, еще Врангель были самыми достойными руководителями Белого движения. Другой вопрос, имелись ли у него качества, необходимые для руководства кампанией в гражданской войне. Во-первых, он был абсолютно чужд политики: по его собственному признанию, он вырос в военной среде и «мало интересовался политическими проблемами и вопросами». Себя он видел просто как «военного инженера»160. Как он писал в воззвании от 18 ноября, свои новые обязанности он воспринимал как «крест». Жена выслушивала его жалобы об «ужасающем бремени верховной власти» и признания, что «как боевой офицер он не хотел иметь ничего общего с проблемами государственного управления»161. Не имея политического образования, Колчак обращался для объяснения современных ему событий к упрощенной модели заговора: по некоторым сведениям, «Протоколы сионских мудрецов» были его любимым чтением. [Гинс Г.К. Сибирь, союзники, Колчак. Т. 2. С. 368. В то же время, в отличие от Деникина, Колчак открыто заявлял, что не потерпит никаких антисемитских эксцессов.].
Во-вторых, Колчаку непросто было строить отношения с людьми: замкнутый, неразговорчивый, весьма легко поддающийся переменам настроения, он был посторонним и в правительстве, и вне его. Наблюдая адмирала в Директории посреди министров, полковник Уард составил о нем мнение как о «маленьком, рассеянном, одиноком и озабоченном существе без единого друга, незваном госте на общем пиру»162. Коллега и сослуживец писал о нем: «Характер и душа адмирала настолько налицо, что достаточно какой-нибудь недели общения с ним для того, чтобы знать его наизусть.
Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее и России; несомненный неврастеник, быстро вспыхивающий, чрезвычайно бурный и несдержанный в проявлении своего неудовольствия и гнева; в этом отношении он впитал весьма несимпатичные традиции морского обихода, позволяющие высоким морским чинам то, что у нас в армии давным-давно отошло в область преданий. Он всецело поглощен идеей служения России, спасения ее от красного гнета и восстановления ее во всей силе и неприкосновенности территории; ради этой идеи его можно уговорить и подвинуть на все, что угодно; личных интересов, личного честолюбия у него нет, и в этом отношении он кристально чист.
Он бурно ненавидит всякое беззаконие и произвол, но по несдержанности и порывистости характера сам иногда неумышленно выходит из рамок закона, и при этом преимущественно при попытках поддержать этот самый закон и всегда под чьим-нибудь посторонним влиянием.
Жизни в ее суровом, практическом осуществлении он не знает и живет миражами и навязанными идеями. Своих планов, своей системы, своей воли у него нет, и в этом отношении он мягкий воск, из которого советники и приближенные лепят что угодно, пользуясь тем, что достаточно облечь что-нибудь в форму необходимости, вызываемой благом России и пользой дела, чтобы иметь обеспеченное согласие адмирала»163.
Другой сослуживец писал о Колчаке: «Он добр и в то же время суров; отзывчив — и в то же время стесняется человеческих чувств, скрывает мягкость души напускною суровостью. Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит — и потом остывает, делается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать»164.
На фотографиях Колчака видно выражение муки: сведенные брови, сжатые губы, выражение глаз, свидетельствующее о маниакально-депрессивном складе личности. Неспособный понять людей и общаться с ними, он стал дурным руководителем, и от его имени совершались непростительные по своей жестокости и коррумпированности действия, которые сам он находил отвратительными.
Несмотря на честность, мужество и патриотизм, Колчак не обладал качествами, необходимыми для несения обязанностей, возложенных на него омскими политическими деятелями. Трагический оттенок отметил последний год его жизни — год, когда он исполнял обязанности диктатора, которых вовсе не искал; год, отмеченный несколькими мимолетными победами и поставивший его перед большевистским расстрельным взводом.
ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: КУЛЬМИНАЦИЯ (1919—1920)
Кампании, которым суждено было предрешить исход гражданской войны, открылись весной 1919 г. и закончились семью месяцами позже, в ноябре, сокрушительным поражением основных белых армий.
Советское правительство осенью 1918 г. всерьез приступило к созданию постоянной армии. Согласно начальному плану, личный состав армии должен был равняться одному миллиону человек; однако 1 октября 1918 г. Ленин приказал к следующей весне «для содействия международной пролетарской революции» создать войско в три миллиона. За приказом последовала всеобщая мобилизация, в процессе которой были поставлены под ружье сотни тысяч крестьян. [Ленин. ПСС. Т. 50. С. 186. Вначале 1919 г. И.Вацетис сообщал Ленину, что армия насчитывает 1,8 млн. человек, но что боевых единиц — лишь 383000. («Исторический архив», № 1. 1958. С. 42—43, 45.) На протяжении всей гражданской войны соотношение «бойцов» к «едокам» составляло 1:10.].
Создание столь большой армии поставило руководство страны перед проблемой командования. Было ясно, что с миллионами солдат не смогут справиться заслуживавшие безусловного политического доверия выборные командиры и ветераны партии: мало кто из них имел военный опыт, еще меньше было тех, кому приходилось командовать воинским подразделением крупнее батальона. У властей не оказалось выбора: им пришлось согласиться призвать на службу десятки тысяч бывших царских офицеров. Считая этих последних заведомыми врагами, большевики собирались держать их в строгости при помощи политического контроля и террора. Это важное решение, принятое Лениным и Троцким сначала не без колебания, оказалось вполне оправданным. Небольшое количество офицеров, повинуясь голосу совести, решило рискнуть жизнью и присоединиться к белым; [Одним из таких офицеров был полковник Ф.Е.Махин, член партии эсеров, получивший, по некоторым сведениям, от своего ЦК задание проникнуть в Красную Армию для шпионажа. Он исчез в Уфе, где занимал должность начальника штаба армии, в результате чего летом 1918-го город был взят чехословаками (см.: Майский И. Демократическая контрреволюция. М., 1923. С. 53). Другим был П.Е.Княгнитский, командующий Девятой армией на Украине (см.: Mawdsley T. The Russian Civil War. Boston, 1987. P. 179). Можно также упомянуть историю полковника В.Э.Люндеквиста, начальника штаба оборонявшей Петроград Седьмой армии (см. ниже).] основная же масса, надев красноармейский мундир, отнеслась к делу профессионально и выиграла в результате гражданскую войну для большевиков.
Первыми офицерами, сражавшимися в рядах Красной Армии, стали добровольцы, записавшиеся в феврале и марте 1918-го, во время перерыва в переговорах в Брест-Литовске, когда германские войска уже продвигались по России. Тогда в ответ на призыв советского правительства в армию вступило более 8 тыс. бывших царских офицеров, из них — 28 генералов и полковников1. Они собирались защищать родину от немцев; но ожидаемая советско-германская война так и не началась, и весьма скоро им пришлось сражаться против своих же русских2.
В конце июля 1918 г. мобилизация командных кадров пошла полным ходом: бывшие царские офицеры, военно-медицинский персонал и военные чиновники в возрасте от 21 до 26 лет получили приказ лично зарегистрироваться в органах местной власти. В противном случае им угрожал революционный трибунал3. Написанный Троцким декрет от 30 сентября возрождал средневековую русскую практику круговой поруки, делая членов офицерских семей («отцов, матерей, сестер, братьев, жен и детей») заложниками их лояльности4. Затем, 23 ноября, было приказано пройти регистрацию всем бывшим офицерам в возрасте до 50 и генералам до 60 лет, — как и в прошлый раз, под угрозой жестокой расправы5.
Приказы Ленина и Троцкого относительно мобилизации совместно с крестьянами и бывших царских офицеров встречали определенное сопротивление. Полемика относительно привлечения к службе в Красной Армии «военных специалистов» шла параллельно с дискуссией о «буржуазных специалистах» в промышленности. На Восьмом съезде партии в марте 1919 г. эти споры вышли на первый план. Троцкий, которому пришлось срочно выехать на Восточный фронт, на съезде не присутствовал, но написанные им «Тезисы» стали предметом закрытых прений. [Троцкий Л. Как вооружалась революция. М., 1923. Т. 1. С. 186—195. Протоколы закрытых заседаний, на которых обсуждались эти вопросы, были опубликованы через 70 лет: Известия ЦК КПСС. 1989. № 9(296). С. 135— 190; 1989. № 10(297). С. 171-189; 1989. № 11(298). С. 144-178]. В «Тезисах» Троцкий призывал к жестокой централизации командования.
Доступные большевикам офицерские ресурсы были велики (около 250 тыс.) и разнообразны по социальному составу, поскольку большая часть офицерства, произведенного в Первую мировую войну, состояла из представителей низших сословий. Российский офицерский корпус на заре революции не изобиловал знатью: из 220 000 младших офицеров, произведенных во время войны, 80% составляли крестьяне, а 50% не имели аттестата о среднем образовании7. Офицерство отличалось от рядовых не происхождением, не состоянием, но уровнем культуры: с точки зрения солдата-крестьянина каждый образованный — тот, кто когда-то учился в средней школе, пусть даже ее не закончив, — был «интеллигентом», т.е. «барином», «хозяином»8. Не самой малой из российских бед было то, что с точки зрения ее населения в целом получение образования выше основ грамоты немедленно делало из человека чужака, а следовательно, потенциального врага.
Офицеры после развала старой армии, при большевиках, вели нищенское существование. Режим преследовал их как «контрреволюционеров», гражданское население, запуганное ЧК, их избегало, пенсии им были упразднены9. Правда, и другие потерпевшие поражение в войне страны проявляли мало заботы о возвращавшихся домой ветеранах, но только в большевистской России демобилизованных офицеров бесчестили и преследовали, как бешеных собак. Участие сотен офицеров в заговоре Савинкова и восстании в Верхнем Поволжье в июле 1918 г. привело к организации регулярной охоты на них, в которой многие погибли10. К октябрю 1918 г. не менее 8 тыс. бывших офицеров содержались в тюрьмах в качестве заложников по условиям красного террора11. Однако к концу года ситуация переменилась: бывшие офицеры понадобились коммунистам, чтобы командовать красными вооруженными силами; офицерам, в свою очередь, нужны были оклады и статус, ограждающий их от преследования. Зимой 1918—1919-го одни — добровольно, другие — под нажимом, они начали записываться в Красную Армию и принимать командование над вновь создаваемыми полками, бригадами, дивизиями и армиями.
Преобладавшая в Красной Армии во второй, решающей фазе гражданской войны система управления представляла собой оригинальное смешение полномочий: коммунистическая партия осуществляла жесткий политический контроль над офицерством, предоставляя ему, однако, большую свободу действий в области планирования военных операций. Эта система была введена в начале сентября 1918 года, когда Красную Армию сильно потрепали чехословаки.
Вслед за принятым 4 сентября решением превратить Советскую Россию в «военный лагерь» правительство учредило Революционный военный совет республики, или Реввоенсовет (РВСР)12, который заменил Высший военный совет и принял командование над всеми военными делами страны. [Этот Совет не нужно путать с Советом рабочей и крестьянской обороны, созданным в ноябре 1918-го, председателем которого стал Ленин, а зампредседателя — Троцкий. Этот орган занимался координированием военной и гражданской политики (см.: Deutscher I. Prophet Armed. London, 1954. P. 423; Шатагин Н.И. Организация и строительство Советской Армии в 1918-1920 гг. М., 1954. С. 98)]. Новый совет действовал непосредственно под руководством ЦК Компартии. Председателем его стал нарком по военным делам Троцкий; во время частых отлучек Троцкого на фронт советом управлял его заместитель Э.М.Склянский, старый большевик, врач по профессии. РВСР подчинялись Революционные военные советы (РВС) четырнадцати армий, в которые входили командарм и его комиссары. Члены центрального Реввоенсовета часто отправлялись на фронт с тем, чтобы служить там «органом связи, наблюдения и руководства»; они получили строгий приказ не вмешиваться в военные решения, принимаемые профессиональными офицерами. В Реввоенсовет входил Главнокомандующий всеми вооруженными силами Республики — «военспец», наделенный широкими полномочиями в стратегических и оперативных делах. Распоряжения его приобретали силу, однако только после утверждения их гражданскими членами Реввоенсовета. Главнокомандующий также пользовался правом рекомендовать назначения и отстранения от должности остальных подчиненных ему офицеров13. Под руководством Главнокомандующего работал Полевой штаб Реввоенсовета, отдававший ежедневные оперативные распоряжения. Во главе его стояли четверо бывших царских генералов14. Реввоенсовет обладал необъятной властью не только над всеми военными учреждениями, но и над всеми государственными институтами, причем последним предписывалось обслуживать все его запросы в первую очередь.
К этому же времени армии были сведены во «фронты», как это практиковалось в царское время. Во главе каждого фронта стоял собственный Реввоенсовет, состоявший из одного «военспеца» (практически всегда — бывшего царского офицера) и двух политкомиссаров, задачей которых было рассмотрение и утверждение распоряжений первого. Подобное же устройство доминировало и в армиях. На уровнях ниже армии (дивизия, бригада, полк) политический надзор осуществлял один комиссар. Традиционные виды воинских подразделений совсем вытеснили «отряды» в 700—1000 человек под началом выбиравшихся солдатами командира и двух помощников, которые получили распространение в первые годы коммунистического правления15.
В течение гражданской войны в Красной Армии несли службу 75 тыс. бывших царских офицеров, из них — 775 генералов и 1726 офицеров бывшего императорского Генерального Штаба16. Преобладание офицеров старой школы в командной структуре Красной Армии периода гражданской войны легко показать статистически. Они составляли 85% командующих фронтами, 82% командующих армиями, 70% начальников дивизий17. Степень интеграции бывшего царского офицерского корпуса в новый, советский, хорошо иллюстрируется тем, что два последних царских военных министра, А.А.Поливанов и Д.С.Шуваев, и военный министр Временного правительства, А.И.Верховский, служили в Красной Армии. Советское руководство мобилизовало также многие тысячи низших чинов бывшей царской армии.
Несмотря на то что немногие офицеры «из старых» симпатизировали большевистской диктатуре или даже вступали в компартию, основная их часть сохраняла верность русской традиции, согласно которой военные должны оставаться вне политики. Старые фотографии показывают их неискоренимо старорежимные черты, муку и неудобство, причиняемые им дурно пошитой, грубой революционной военной формой.
Осуществляя жесткий политический контроль над командирами, большевистское руководство не вмешивалось, как правило, в разработку военных операций. Главнокомандующий представлял рекомендации на рассмотрение Реввоенсовета, который, после обычно формального обсуждения, передавал их на исполнение. С.С.Каменев, бывший полковник царской армии, назначенный Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики в июле 1919-го, писал, что Главнокомандование «всецело ответственно за военные операции»18.
Человеком, который «создал великую армию и привел ее к победе»19, рисовали обычно Троцкого, хотя сам он о себе так никогда не говорил. Решение о создании регулярной армии, укомплектованной бывшими царскими офицерами, было принято не лично им, а большинством ЦК, хотя Троцкий и приложил большие усилия для этого. Ведение же военных действий находилось всецело в руках профессионалов, генералов бывшей царской армии. У самого Троцкого не было никакого военного опыта, а стратегическое чутье его оставляло желать много лучшего. [К примеру, в конце 1918 г., когда ожидалась широкомасштабная высадка союзников на Украине, Троцкий призывал сосредоточить главные силы Красной Армии на юге, а не на Урале, где в то время стремительно наступал Колчак. К счастью для большевиков, он не смог этого добиться. Годом позже у него возник фантастический план создания кавалерийских сил на Урале с целью вторжения в Индию — в то самое время, когда Красная Армия билась не на жизнь, а на смерть с войсками Деникина (см.: The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 620—625). В сообщении, отправленном Троцким Ленину из Киева 6 августа 1919-го, сообщается, что основные силы Деникина ведут наступление на Украину, в то время как на самом деле деникинцы наступали на Москву (там же. Т. 1. С. 629)]. Генерал Советской Армии и историк Д.Волкогонов, изучив архивные материалы, относящиеся к деятельности Троцкого в период гражданской войны, пришел к выводу, что в военных вопросах тот был «дилетант»20. Тем не менее Троцкий исполнял несколько важных функций. Он брался разрешать несогласия, возникавшие между красными генералами, обычно после согласования с Москвой, и обеспечивал выполнение ими постановлений центра. Разъезжая под охраной латышей по фронтам в своем специальном поезде, оборудованном телеграфом, радиопередатчиком, печатным станком, гаражом и даже оркестром, в сопровождении фотографа и кинематографа, Троцкий мог оценить ситуацию на местах и принимать быстрые и радикальные решения по вопросам, касающимся людей и снаряжения. Кроме того, его появление и речи часто производили электризующее воздействие на деморализованные войска21: в этом отношении он являлся, подобно Керенскому, «главноуговаривающим». Директивы Троцкого за этот период полны призывов, пестрят назидательными заголовками и часто заканчиваются восклицательными знаками: «Южный фронт, подтянись!», «На облаву!», «Пролетарий, на коня!», «Стыд и срам!», «Еще раз: не теряйте времени!» и т.п.22 Троцкий явился инициатором введения жестоких дисциплинарных мер в Красной Армии, включая смертную казнь за дезертирство, паникерство, неоправданное отступление: командиры и комиссары несли ответственность наряду с солдатами. В общем и целом, он управлял войсками при помощи террора. Оправданием ему служило следующее соображение: «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади»23.
На практике меры эти, как мы еще увидим, применялись нечасто и несистематически, иначе пришлось бы уничтожить более половины личного состава Красной Армии.
Что касается Ленина, то его роль в военной кампании сводилась к отправке фронтовым командирам и комиссарам возбужденных посланий, в которых он требовал удерживать позиции любой ценой, «до последней капли крови»24, или немедленно переходить в наступление и смять врага, иначе «завоевания революции» будут потеряны. Вот, например, типичное его обращение к комиссару Южного фронта, написанное в августе 1919 г., когда Красная Армия отходила назад под натиском наступавших войск Деникина:
«Опоздание наступления в Воронежском направлении (с 1 августа по 10!!!) чудовищно. Успехи Деникина громадны.
В чем дело? Сокольников говорил, что там (под Воронежем) у нас в 4 раза больше сил.
В чем же дело? Как могли мы так прозевать?
Скажите Главкому, что так нельзя. Надо обратить внимание серьезно.
Не послать ли в РВС Южного фронта (копия Смилге) такую телеграмму:
шифром.
Совершенно недопустимо опаздывать с наступлением, ибо это опоздание всю Украину отдаст Деникину и нас погубит. Вы отвечаете за каждый лишний день и даже час проволочки с наступлением. Сообщите тотчас Ваши объяснения и срок, когда, наконец, начинаете решительное наступление.
Предсовобороны Ленин»25.
Представляется маловероятным, что призывы эти повлияли существенным образом на ход военных действий.
Ленин, помимо этого, без устали побуждал офицеров к запугиванию гражданского населения: «постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу хоть на 1 версту и повесить там 100—1000 их чиновников и богачей)»26. В феврале 1920 г. он грозил «перерезать» все население Майкопа и Грозного за саботаж местных нефтяных промыслов — и, «наоборот», «даровать» жизнь всем, если эти два города «передадут в целости»27.
Что же касается третьей ключевой фигуры, Сталина, приписавшего себе впоследствии главные заслуги за победу в гражданской войне, вот что говорит о нем недавно вышедшая в России работа: «Внимательное ознакомление с протоколами заседаний ЦК РКП(б) и Совнаркома РСФСР позволяет уверенно утверждать: за все годы гражданской войны Сталин ни разу не выступал там с самостоятельными конструктивными идеями или предложениями по крупным проблемам военного строительства и стратегии»28.
В некоторых случаях большевистские вожди коллективно разрабатывали ключевые стратегические решения. По словам Троцкого, это становилось необходимым в силу того, что офицеры старой школы не могли вполне оценить значение различных социальных и политических моментов29. Весной 1919 г. руководство партии разделилось в дискуссии по вопросу, стоит ли занять оборонительную позицию в отношении Колчака и сконцентрировать основные силы на Южном фронте, где ситуация казалась более опасной, или следует сначала покончить с Колчаком. Троцкий и его ставленник И.И.Вацетис, тогда Главнокомандующий, придерживались первой точки зрения; Сталин и командующий Восточным фронтом С.С.Каменев — последней. Следующее разногласие возникло по поводу направления главного удара против Деникина, — Троцкий хотел направить его на Донбасс, в то время как С.С.Каменев при поддержке Сталина предпочитал нанести удар в район Донского казачьего войска. Осенью 1919-го возник конфликт вокруг обороны Петрограда, который Ленин считал уже потерянным и хотел оставить.
Троцкий, на этот раз поддержанный Сталиным, убедил Политбюро, что Петроград крайне важно было сохранить. И, наконец, летом 1920-го во время войны с Польшей ЦК пришлось урегулировать сложный вопрос, следует ли остановить наступление Красной Армии у линии Керзона или продолжать движение на Варшаву.
За короткое время новая армия стала во многом напоминать старую. Была восстановлена практика формальных воинских приветствий. В январе 1919 г. были введены нарукавные знаки различия: красная звезда, серп и молот, красный треугольник — для низших чинов, квадраты — для командиров вплоть до равных бывшему полковнику, ромбы — для командующих воинским соединением от бригады и выше. В апреле учреждена единая армейская форма; самым символическим ее элементом стала так называемая «богатырка», напоминающая шлемы древних русских богатырей, но с некоторого расстояния начинающая удивительно походить на чудовищные немецкие островерхие шлемы, Pickelhaube. [Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской Армии (1918—1958) / Под ред. О.В.Харитонова. Л., 1960. Принятые в царской армии погоны, символизировавшие для многих революционеров черную реакцию и часто навлекавшие смерть на тех, кто показывался в них на улице в 1917-м, были вновь введены Сталиным во время Второй мировой войны.].
Красная Армия выиграла гражданскую войну. Можно было бы предположить, что у нее было, таким образом, лучшее командование и более боеспособные войска. Подробное ознакомление с имеющимися данными не позволяет, однако, сделать такой вывод. У Красной Армии были те же проблемы, что и у ее противника: повальное дезертирство, склонность некоторых командиров не подчиняться полученным приказам, трудности при мобилизации, неэффективное снабжение, плохо налаженная медицинская служба. Решать эти проблемы помогало Красной Армии ее колоссальное численное превосходство.
Общее число уклонений от призыва в армию и дезертирств было, судя по архивным источникам, исключительно велико30. За период с октября 1918-го по апрель 1919-го правительство объявило о мобилизации 3,6 млн. человек; из них 917 тыс., или 25%, не явились на призывные пункты. В украинских губерниях призыву в начале 1919 г. подчинилось так мало народу, что приказы о мобилизации приходилось в некоторых случаях отменять31. Статистика такова: количество дезертиров за период между июнем 1919-го и июнем 1920-го оценивается в 2,6 млн. человек. [Figes О. // Past and Present. 1990. № 129. P. 200. Дезертиры, в большинстве своем — крестьяне, оправдывались плохим снабжением в армии и необходимостью помочь дома по хозяйству: (см.: Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. Л., 1926. С. 10, 13—14). Примерно четверть опрошенных дезертиров указывала как причину бегства приказ о переброске их части на фронт (см.: Figes О. Loc. cit.). Дезертирством в Красной Армии называлось не только покидание своей части военнослужащими, но и неявка гражданских лиц на призывные пункты по повестке о мобилизации (см.: Гриф секретности снят / Под ред. Г.Ф.Кривошеева. М., 1993. С. 37).]. Во второй половине 1919-го из рядов Красной Армии дезертировало каждый месяц больше солдат, чем служило во всей Добровольческой армии белых. Большинство беглецов возвращалось в течение двух недель обратно; поведение их в таком случае расценивалось как «слабоволие», что приравнивалось к «самовольной отлучке». Наказания за оставление службы были предусмотрены весьма строгие, но по вполне понятным причинам неукоснительное их применение было проблематичным. Вернувшихся просто ставили на прежние места в свои подразделения, некоторых приговаривали к принудительным работам. Во второй половине 1919 г. было казнено 612 дезертиров33. Дезертирство не снизилось и в 1920-м. Например, в феврале 1920-го дивизия, переброшенная в ожидании войны с Польшей на Западный фронт, недосчиталась 50% личного состава34. Повальные обыски, проведенные на Украине в течение пяти месяцев того же года, выявили 500 тыс. дезертиров35. Принимая во внимание все сказанное выше, невозможно пребывать в убеждении, будто Красная Армия состояла из политически грамотных, вдохновленных революционным пылом масс. Советский исследователь-филолог показал, что многие красные солдаты не имели понятия о значении слов, используемых правительством и командованием в пропагандистской работе; в частности, им было недоступно содержание понятия «классовый враг»36.
Дезертирство из Красной Армии в 1919 г.32
февраль 26 115 март 54 696 апрель 28 236 май 78 876 июнь 146 453 июль 270 737 август 299 839 сентябрь 228 850 октябрь 190 801 ноябрь 263671 декабрь 172 831 Всего: 1 761 105Редкую возможность ближе ознакомиться с проблемами Красной Армии дают нам результаты исследований, проведенных в декабре 1918 г. Сталиным и Дзержинским, тогда уже председателем ЧК, по приказу Ленина, требовавшего выяснить причины поражения Третьей армии в Перми. Информация, неблагоприятная для репутации всей Красной Армии, как правило, содержалась в закрытых архивах, но в тот раз Сталин приказал ее опубликовать, чтобы дискредитировать Троцкого. Составленный Сталиным и Дзержинским отчет о «пермской катастрофе» выглядит так, будто его, не считая некоторых исключений, писали белогвардейцы. «Это не было, строго говоря, отходом, — докладывали составители, — ...это было форменное беспорядочное бегство наголову разбитой и совершенно деморализованной армии со штабом, неспособным осознать происходящее и сколько-нибудь учесть заранее неизбежную катастрофу». Артиллерия позволила окружить себя, не сделав ни единого выстрела. Советские чиновники в Перми, большинство из которых сохранило должности со времен царского режима, оставили свои посты. Среди прочих причин, помешавших армии исполнить свой долг, Сталин и Дзержинский упоминают плохое продовольственное снабжение, упадок сил, враждебное отношение со стороны местного населения: в Пермской и Вятской губерниях, докладывают они, население настроено к коммунистам резко отрицательно, отчасти вследствие реквизиций продовольствия, отчасти в результате пропаганды со стороны белых. В этих условиях Красной Армии приходилось обороняться не только с фронта, но и с тыла37.
Содержащиеся в сообщении сведения подтверждаются и из других источников. Проинспектировав в апреле 1919 г. фронт в Самаре, Троцкий доносил, что раненым не оказывалось никакой помощи, поскольку не было врачей, медикаментов, санитарных поездов38. В том же месяце Г.Зиновьев, комендант Петрограда, жаловался, что в городе скопились запасы обуви, а солдаты, защищающие Петроград, босы39. Посылаемые войскам обувь и одежда по дороге на фронт обычно разворовывались. В августе 1919 г. Троцкий докладывал, что красноармейцы голодают, от трети до половины личного состава не имеют обуви и что «на Украине винтовки, патроны имеются у всех, кроме солдат»40.
Невероятная суровость дисциплинарных мер, применявшихся в Красной Армии, может свидетельствовать о том, что проблема обеспечения надежности и боевого духа войск стояла чрезвычайно остро. Жестокие наказания, включая смертную казнь, ожидали командиров не только за предательство, но и за поражение в бою. Мы уже упоминали распоряжение Троцкого о том, что залогом надежности офицеров становилась жизнь их семей. В секретном распоряжении он приказал собрать сведения о семейном положении всех бывших царских офицеров и государственных служащих, находившихся на советской службе: впоследствии должности были сохранены только за теми из них, чьи семьи проживали на советской территории. Каждый бывший царский офицер был проинформирован, что судьба его ближайших родственников находится в его руках41. Даже если офицер просто вел себя «подозрительно», его следовало признать виновным и расстрелять42. 14 августа 1918 г. «Известия» опубликовали распоряжение Троцкого, чтобы в случае «самовольного» отступления какой-либо части первым расстреливали комиссара части, а вторым — командира43. В соответствии с этим распоряжением реввоенсовет Тринадцатой армии потребовал, чтобы комиссаров и командиров всех частей, отступавших без приказа, судил, «беспощадно» расстреливая виноватых, полевой революционный трибунал: «Части могут и должны погибнуть все, но не уходить, и это должны понять командиры и комиссары и знать, что дороги назад нет, что позади их ждет позорная смерть, впереди безусловная победа, так как противник наступает малыми силами, обессилен и действует только нахальством»44. Первый известный нам случай массовых расстрелов в войсках имел место по приказанию Троцкого и с одобрения Ленина в августе 1918 г. на Восточном фронте. Был применен принцип казни каждого десятого взятого из строя, всего расстреляно двадцать человек, включая комиссара и командира полка45.
Ленин, для которого казни вообще и расстрелы в частности были любимым способом избавления от проблем, уничтожал, не колеблясь, даже высший командный состав. 30 августа 1918 г. — за несколько часов до того, как сам он был ранен выстрелом и едва не убит, — он писал Троцкому относительно неудач красных у Казани, что неплохо было бы расстрелять командующего Восточным фронтом Вацетиса, дабы избежать поражений в будущем. Вацетис за два месяца до того, во время восстания левых эсеров, силами латышских стрелков спас Ленина и все его правительство в Москве46.
Террор затрагивал не только командиров, но и рядовой состав47. До сведения каждого солдата, поступающего на военную службу, доводилось, что его товарищи не только имеют право, но даже обязаны пристрелить его на месте в случае бегства с поля боя, неисполнения приказа, даже жалоб на недостаток продовольствия. В некоторых советских частях комиссары и командиры получали полномочия расстреливать без суда и соблюдения каких бы то ни было формальностей всех «шкурников» и «предателей». Документы свидетельствуют о том, что в некоторых случаях расположенные в тылу резервные батальоны получали приказ пулеметным огнем останавливать отступающие части Красной Армии. В августе 1919 г. Троцкий создал на Южном фронте «заградительные отряды», укомплектованные надежными и хорошо вооруженными солдатами, большая часть которых была коммунистами. Заградотряды должны были патрулировать дороги в тыловой зоне, непосредственно примыкающей к фронтовой линии. Нам неизвестно, какое количество красноармейцев казнено в течение гражданской войны; однако согласно статистике в 1921-м, когда бои уже закончились, было убито 4337 солдат48.
Драконовские меры превосходили по жестокости все, что было когда-либо известно в царской армии времен крепостничества. Ничего подобного не практиковалось и у белых в армии: солдат, дезертировавших из Красной Армии и оказавшихся у белых в плену, поражало там отсутствие дисциплины49. Наличие зверских расправ указывает на то, что проблема надежности личного состава и воинского уставного порядка стояла в Красной Армии чрезвычайно остро. По мнению Вацетиса, применявшиеся к солдатам методы воздействия были непродуктивны: «Та дисциплина, которая вводилась и вводится в нашей Красной Армии, основанная на жестоких наказаниях, повела лишь к устрашению и к механическому исполнению приказов, без какого-либо воодушевления и сознания долга»50.
Введение новых карательных мер сопровождалось интенсивной пропагандой и агитацией среди личного состава фронтовых частей51. Все армии и некоторые дивизии были снабжены походными типографиями, где печатались плакаты и газеты. Вдоль фронта непрерывно курсировали агитпоезда. Задачей этих усилий было укоренить в сознании войск мысль о непобедимости Красной Армии и о том, что победа белых неминуемо приведет к восстановлению монархии, возвращению помещиков, репрессиям против рабочих. Достигла ли эта попытка наведения массового гипноза на войско своей цели, представляется сомнительным, учитывая известные нам проблемы дисциплины, дезертирства и паники во время боя.
* * *
Невозможно говорить о гражданской войне в России, не упоминая об иностранных державах, особенно Великобритании. Конечно, не было ничего и близко напоминающего «империалистическую интервенцию», — сконцентрированного, целенаправленного похода западных держав против коммунистического режима. Западное присутствие на территории и участие в делах России, особенно после ноября 1918 г., страдало от отсутствия ясной цели и от серьезных разногласий как между союзными державами, так и между различными политическими группировками внутри каждой из них. Вместе с тем без западного вмешательства на стороне белых никакой гражданской войны в России (в военном смысле этого слова) не было бы, поскольку бесконечное превосходство большевиков в людях и вооружении привело бы к быстрому подавлению любого военного сопротивления режиму.
Цели интервенции были вполне определенными вплоть до заключения перемирия в ноябре 1918-го: они состояли в оживлении Восточного фронта союзников путем оказания помощи России, готовой продолжать войну против Германии. После 11 ноября они стали менее ясными. Итог новому положению дел подвел британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж: «Наш почетный долг перед остатками русской армии, которая, несмотря на подписание Брест-Литовского договора, осталась в строю и продолжает войну против Германии, ставит нас в неловкое положение, когда мы оказываемся обязаны поддерживать одну из сторон в русской гражданской войне»52. Если бы решение зависело исключительно от него самого, премьер-министр немедленно положил бы конец участию в российских делах: его политический инстинкт подсказывал, что народ Британии не одобрит участия еще в одной войне, к тому же не затрагивающей ее территориально, только чтобы уладить внутренние разногласия в иностранной державе. Но вопрос так просто не решался. В консервативных кругах бытовали сильные антикоммунистические настроения, и энергичным их выразителем стал Уинстон Черчилль. В результате выборов в декабре 1918 г. вновь сформировалось коалиционное правительство, причем лейбористская партия осталась в меньшинстве, внутри нее произошел раскол, и Ллойд Джордж оказался в сильной зависимости от поддержки тори. «Лично я, — писал Ллойд Джордж в своих воспоминаниях, — предпочел бы отнестись к Советам как к Российскому правительству de facto. У президента Вильсона было такое же мнение. Но мы оба согласились с тем, что не сможем переубедить наших коллег в Конгрессе и не изменим общественного мнения в наших странах, напуганного жестокостью большевиков и опасающегося ее территориального распространения»53. В результате он маневрировал и изворачивался, совершая не вполне искренние попытки расположить тори к себе и тем самым успокоить профсоюзы и лейбористскую партию.
Колебания в политике союзников по отношению к Советской России на протяжении всей гражданской войны объясняются, с одной стороны, отвращением к большевизму и страхом перед ним, а с другой — нежеланием взять на себя серьезную ответственность по борьбе с новой властью. Ллойд Джордж обосновывал свой отказ в эффективной поддержке белым разными соображениями: французская революция доказала-де бессмысленность попыток иностранных держав подавить ее силой; большевики не удержатся, если им не будет оказана народная поддержка; способность большевиков сохранять в своих руках власть доказывает, что они такой поддержкой пользуются; белые — это монархисты, решительно пытающиеся возродить экспансионистскую империю, которая может нанести британским интересам больший вред, нежели большевизм. Американский президент Вудро Вильсон британскому премьер-министру, в общем, поддакивал.
После заключения перемирия у победоносных союзников остался один общий интерес: стабилизация обстановки в России и создание в ней правительства, с которым можно будет достичь соглашения относительно границ послевоенной Финляндии, прибалтийских республик, Польши, закавказских государств и Прикаспия. Президент Вильсон высказал эту мысль просто: «Европа и весь мир не могут пребывать в мире, если Россия воюет»54. Ллойд Джордж был с ним вполне согласен: «Никакого мира не наступит, пока мир не наступит в России. Война в России означает войну на половину Европы и почти на половину Азии... Цивилизованный мир не может позволить себе оставить Россию в изоляции и запустении...»55 Государственных деятелей, собравшихся в Париже в начале 1919 г., гораздо больше волновало, будет ли вообще в России единое правительство, чем то, кто именно ею будет управлять. В идеале им хотелось бы, чтобы враждующие российские стороны так разобрались между собою, чтобы между ними не приходилось выбирать; однако, поскольку это оказалось невозможно, союзники приняли решение договариваться с Москвой.
Помимо указанного общего интереса, у каждой из союзных держав имелась и глубоко личная заинтересованность в данном регионе. Британия, конкурировавшая на протяжении всего XIX века с Россией на Ближнем Востоке, колебалась между желанием, чтобы большевизм уступил место более привычной системе власти, и страхом, что в этом случае Россия снова начнет угрожать Индии и посягать на восточное Средиземноморье. Франция желала вернуть капиталовложения, утраченные ею вследствие большевистских экспроприации и отказа советской республики от финансовых обязательств, а также предотвратить сближение последней с Германией. У Соединенных Штатов не существовало четко выработанной политики в отношении России, поскольку не было территориальных или сколько-нибудь значимых финансовых претензий к ней; они стремились только к восстановлению стабильности, предпочтительно (но не исключительно) демократическими средствами. В случае развития событий в нежелательном направлении Вашингтон был готов предоставить Россию ее судьбе. Самые определенные намерения высказывала Япония: она хотела аннексировать российские дальневосточные губернии. Политическая ситуация осложнялась тем, что внутри каждой страны существовали конкурирующие группировки, одни из которых призывали к уничтожению коммунистического режима, другие — к соглашениям с ним; в этом конфликте сталкивались Черчилль и Ллойд Джордж, министр иностранных дел США Роберт Лэнсинг выступал в нем против президента Вудро Вильсона и его советника полковника Эдварда Хауза. Неудивительно, что идея интервенции получала большую поддержку, когда белые одерживали победы. В итоге иностранное вмешательство в российской гражданской войне никогда не достигало того единства и целеустремленности, которых ожидал от него Ленин и которые приписывались этому вмешательству советскими историками.
Поначалу Британия и США пытались решить русскую проблему, уговаривая враждующие стороны сесть за стол переговоров.
Ленин никогда не сомневался в том, что, как только боевые действия на Западе прекратятся, победители и побежденные объединят силы для «крестового похода» против большевистского режима. В начале 1919 г. командование Красной Армии ожидало массированной интервенции военных сил союзников в поддержку белых. Чтобы предотвратить такую угрозу, Ленин решился прибегнуть к упредительным мирным переговорам. Поскольку он сильно переоценивал готовность западных союзников посылать военные силы в Россию, то был готов на большие уступки, подобные тем, какие были сделаны им в Брест-Литовске в угоду Германии. У нас имеются все основания верить, что Ленин искренно собирался следовать большей части предложений, заявленных им зимой 1918-1919 гг.
В навечерие Рождества 1918 г. Максим Литвинов, старый большевик и заместитель комиссара иностранных дел, направил из Стокгольма президенту Вильсону ноту, составленную таким образом, чтобы воздействовать на сентиментальную натуру президента. В этом документе он предлагал от лица своего правительства разрешить посредством переговоров все претензии, имевшиеся у Запада по отношению к России, включая долги последней и вопрос о коммунистической пропаганде за рубежом56. Вашингтон направил в Стокгольм эмиссара для встречи с Литвиновым. Эмиссар известил, что предложение, по всей видимости, добросовестное, после чего Ллойд Джордж с согласия президента Вильсона предложил, чтобы стороны, задействованные в российской гражданской войне, встретились в Париже. Когда выяснилось, что Франция не готова предоставить гостеприимство подобной конференции, ее проведение назначили на Принцевых островах, неподалеку от Константинополя57. Москва не замедлила принять приглашение, подтвердив готовность признать иностранные долги России, принять территориальные поправки, заключить концессии по разработке недр и приостановить враждебную пропаганду58. Авторы официальной истории советской дипломатии объясняют, что эти уступки являлись «дипломатическим маневром», предпринятым не для того, чтобы удовлетворить претензии западных держав, но с тем, чтобы «сорвать с них маску» и продемонстрировать их истинные цели59. Однако торгашеский тон ответа советского правительства произвел впечатление обратное тому, на которое оно рассчитывало: оскорбленные главы западных держав заявили с негодованием, что отвергают «какие бы то ни было предположения о том, будто их военное присутствие в России обусловлено подобными целями», и что «наивысшее желание союзников — восстановление мира в России и учреждение в ней правительства, избранного волей широких масс российского народа»60.
Конференция на Принцевых островах не состоялась, поскольку белые генералы, придя в ужас от самой мысли о переговорах со своими смертельными врагами, наотрез от нее отказались. Предложение казалось им настолько вопиющим, что, когда советники Колчака впервые услышали о нем по радио, они решили, что в передачу вкралась ошибка и что союзники на самом деле имели в виду проведение конференции всех антибольшевистских сил61. Существует, тем не менее, точка зрения, согласно которой несправедливо обвинять только белых генералов в срыве намечавшейся встречи. Согласно этой версии белые настолько зависели от помощи союзников, что, окажи последние на них существенное давление, им ничего не оставалось бы, как согласиться и уступить, тем более если единственной альтернативой стал бы сепаратный мир союзных держав с Лениным62. Если такое давление все-таки не было оказано, причину следует искать в установках французского правительства, выступавшего против идеи встречи на Принцевых островах и давшего представителям белых в Париже конфиденциальный совет ее игнорировать. Черчилль, только что принявший полномочия военного министра, высказался в том же духе и обещал военную поддержку вне зависимости от того, явятся белые на переговоры или нет63.
Упорно стремившийся развить мирную инициативу Вильсон при молчаливой поддержке Ллойд Джорджа (который говорит, что «мы отнеслись к этому так же, как виги Фокса к французской революции»64) [Виги — политическая партия в Великобритании. Фокс Чарльз Джеймс (1749—1806) — лидер левого радикального крыла вигов. Сочувствовал французской революции 1789—1794, был противником войны с Францией (ред.)] предпринял ряд секретных шагов, чтобы выяснить, возможно ли достичь договоренности с Москвой без участия белых65. Для этой цели главный советник Вильсона по внешней политике полковник Хауз использовал американскую светскую знаменитость, Вильяма Буллита, в то время сотрудника американской разведывательной службы в Париже. Буллит уже выражал симпатию к Советам, что, по-видимому, и определило этот выбор, поскольку других необходимых для исполнения миссии качеств у него не было: всего двадцати восьми лет от роду, он не имел никакого дипломатического опыта. Формально он получил задание определить реальное положение дел в Советской России, частным же образом полковник Хауз дал ему полномочия уточнить условия, на которых советское правительство готово заключить мир. За подписание мира Буллит должен был предложить Ленину щедрую экономическую помощь66. Миссия Буллита была окутана такой тайной, что в нее были посвящены только четыре особы; министр иностранных дел США, французское правительство и министерство иностранных дел Британии оставались в полном неведении. Чрезвычайные эти предосторожности порождались страхом, что те, кто сорвал конференцию на Принцевых островах, могут помешать и налаживанию прямого контакта с Москвой. Буллит взял с собой в Россию капитана Уолтера У.Петтита из военной разведки и известного своими прокоммунистическими симпатиями журналиста Линкольна Стеффенса.
Трое американцев прибыли в советскую столицу в середине марта 1919-го, вскоре после закрытия первого съезда Коммунистического Интернационала (см. ниже гл. 4). Происходившее на съезде, как и его резолюции, не представляли для приехавших никакого интереса. Те, кто принимал их с советской стороны, были преисполнены дружелюбия и благих намерений. 14 марта Центральный Комитет вручил Буллиту список условий, при соблюдении которых Советы готовы были заключить мир с белыми67. Претенденты на власть в России по этим условиям оставляли за собою территории, которые они контролировали на данный момент; силы союзников постепенно выводились с российской территории, а их помощь белым сразу же прекращалась. Русские, боровшиеся против Советского государства с оружием в руках, подлежали амнистии. Все стороны российского конфликта брали на себя равную ответственность за долги России. Проблема компенсации за национализированное иностранное имущество в условиях не затрагивалась.
Миссия Буллита была, безусловно, безнадежной. Только люди, не имевшие ни малейшего представления о природе конфликта в России и о страстях, которые были им вызваны, могли придумать такой нереалистичный проект. Автор плана Стеффенс склонен был рассматривать его как захватывающее приключение: «У меня такое чувство, будто мне покажут хорошую пьесу в хорошем театре», — признался он. [Steffens L. Letters. New York, 1938. P. 460. По словам Буллита, Стеффенс создал афоризм, принесший ему впоследствии славу: «Я видел будущее, и оно действует!» — пока они ехали на поезде через Швецию, прежде чем он увидел Советскую Россию (Thompson J.M. Russia, Bolshevism, and the Versailles Peace Princeton, 1966. P. 176)].
Вполне возможно, что, будь условия советской стороны приняты, положение в Восточной Европе несколько стабилизировалось бы. Во всяком случае, на некоторое время. Самым значимым пунктом в российском предложении было условие немедленно прекратить помощь белым. При его соблюдении большевики, прекращая военные действия против последних, чувствовали бы себя в безопасности. Отрезанные от единственного доступного им источника вооружений, белые неизбежно капитулировали бы как под напором трехмиллионной армии красных, так и вследствие подрывной деятельности изнутри.
Буллит отослал в Париж оптимистичный отчет, в котором писал про Ленина, наркома иностранных дел Георгия Чичерина и Литвинова, будто они «полны чувства необходимости мира для России» и безусловной решимости выплатить российские иностранные долги68. Другим странам предоставлялась, таким образом, уникальная возможность наладить отношения с Советской Россией, где «недалекий и неопытный молодой народ предпринимает неловкие, но благонамеренные попытки отыскать, ценой большого страдания для себя самого, путь к лучшей жизни, жизни ради общественного блага»69. На основании данного отчета полковник Хауз был уже готов рекомендовать заключение сепаратного мира с Москвой70. Но миссия Буллита оказалась сведенной на нет стараниями французской оппозиции и трепетавшего перед тори Ллойд Джорджа. Оскорбленный в лучших чувствах, Буллит отправился на Ривьеру «валяться на песке и наблюдать, как весь мир катится в тартарары». [Kennan G.F. Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston, 1960— 1961. P. 134. В 1933-м он был назначен первым американским послом в СССР, вследствие чего превратился в ярого антикоммуниста (см.: Farnsworth В. William С. Bullitt and Soviet Union. Bloomington, Ind., 1967)]. Попытки наладить отношения с Москвой были оставлены.
Следующие шесть месяцев союзники следовали политике вялой интервенции на стороне белых. Вялой потому, что правительства не знали, чего хотят ею добиться, имели серьезные сомнения в жизнеспособности Белого движения и не достигли согласия между собой относительно того, нужна ли интервенция вообще. Из трех стран, имевших непосредственное отношение к интервенции — Британии, Франции и Соединенных Штатов, — только первая оказывала серьезную помощь белым. Франция утратила вкус к военному вмешательству, как только ее войска на Украине получили трепку от местных партизан и восстали, вслед за чем она сосредоточила внимание на создании «cordon sanitaire», санитарного заграждения, чтобы оградить Европу от коммунистической России. Соединенные Штаты вывели все свои силы, оставив лишь контингент, необходимый для предотвращения захвата Восточной Сибири Японией. В основном история военного участия союзников в российской гражданской войне — это история участия в ней Британии, поскольку именно она понесла основные расходы, связанные с помощью белым. Активные действия Британии были обусловлены позицией Уинстона Черчилля, ранее других европейских государственных деятелей понявшего, какую угрозу для Запада содержит в себе российский коммунизм.
Ослабленная в результате Первой мировой войны, Британия оставалась тем не менее лидирующей мировой державой, и ее глобальные интересы были непосредственно связаны с тем, что происходило в России. Отношение Британии к правительству этой страны вряд ли можно было назвать последовательным. Протоколы прений в британском кабинете министров свидетельствуют о разнонаправленных его действиях, предпринимавшихся вследствие нерешительности и растерянности. Эти же источники подтверждают, что опубликованные в британской прессе сведения о зверствах большевиков, в частности об убийстве царской семьи, вызвали всеобщее возмущение, но не повлияли существенным образом на британскую политику.
Политика Британии в отношении Советской России направлялась в основном двумя соображениями: страхом перед возможным сближением нынешней России и Германии и живой еще памятью о том, как Россия царская угрожала британским интересам на Ближнем Востоке. Эти соображения рождали фундаментальный вопрос: какое русское правительство будет больше соответствовать британским интересам — правительство Ленина или то, какое устроят в случае победы белые? В этой же связи возникала также дилемма: что предпочтительнее — расчленить Российскую империю или сохранить ее территориальную целостность. У обоих вариантов имелись свои преимущества.
Несмотря на то что у большевистского руководства отсутствовали поклонники в британском руководстве, у него находились там защитники, утверждавшие, что с точки зрения интересов Британии Советы предпочтительнее любого мыслимого альтернативного правительства. С момента битвы при Ватерлоо (1815) и вплоть до нарождения в начале двадцатого столетия агрессивной милитаристской Германии центральной задачей британской дипломатии всегда оставалось сдерживание России. Чем слабее будет она, тем меньшую будет представлять угрозу: дурное правление большевиков, казалось, обеспечило бы немощь России в будущем. Соображения, легшие в основу данной позиции, были сродни тем, что заставили Германию в 1917—1918 гг. побороть свое отвращение к большевикам и предложить им помощь, буквально их спасшую: Ленин и его партия разрушали страну и таким образом уменьшали опасность, грозившую Германии с Востока71. Этого взгляда придерживался Ллойд Джордж, на протяжении всей гражданской войны отдававший свое молчаливое одобрение победам большевиков, даже в те моменты, когда, премьер коалиционного правительства и член находившейся в меньшинстве партии, он должен был уступать давлению тори и выступать на стороне белых. 12 декабря 1918 г. он заявил на заседании Военного кабинета, что не думает, будто большевистская Россия «хоть в какой-то степени представляет такую же опасность, как некогда Российская империя с ее воинственными чиновниками и многомиллионной армией». Эта оценка получила поддержку министра иностранных дел, тори Артура Бальфура. [Minutes, Imperial War Cabinet, December 12, 1918, Cab. 23/42. In: Ullman R. Britain and the Russian Civil War. Princeton, 1968, P. 75--76. Ряд лиц, близких к Ллойд Джорджу, считал, что у того имелись личные симпатии к Ленину и Троцкому (как впоследствии и к Гитлеру). Лорд Керзон, например, заметил однажды: «Трудность с премьер-министром в том, что он и сам немного большевик» (см.: Davies N. White Eagle, Red Star. London, 1972. P. 90).]. В другом случае Ллойд Джордж заверял Военный кабинет, что «большевики не захотят содержать армию, поскольку их задачи в основе своей антимилитаристские»72. Он не делал секрета из того, что не хочет вмешательства в российские дела: на заседании Кабинета 31 декабря 1918 г. премьер заявил, что он «против военного вмешательства в какой бы то ни было форме»73. Выражая подобные взгляды, основанные более на интуиции и принятии желаемого за действительное, чем на знании реального положения дел, премьер-министр пользовался поддержкой большинства в Кабинете, которое в течение всего 1919 г. возражало против военного участия в российской гражданской войне: по словам биографа Черчилля, ни один министр, кроме самого Черчилля, не выступил за помощь Деникину. [Gilbert M. Winston S. Churchill. Boston, 1975. Vol. 4. P. 309-310. Черчилль пользовался безоговорочной поддержкой лорда Керзона, который был за вмешательство Британии, но считал, что оно должно ограничиться Кавказом.].
Таковы были политические реалии, предварявшие колебания Британии по поводу ее вмешательства в российские дела. Подобно начальнику Польши маршалу Юзефу Пилсудскому, бросившему белых в беде во время переломного момента гражданской войны, Ллойд Джордж и Бальфур считали, что угроза со стороны восстановленной национальной России может быть больше, чем со стороны международного коммунизма.
Кроме того, у Британии имелись веские внутренние причины, по которым было нежелательно настаивать на проведении политики в пользу белых. Лейбористы яростно противились интервенции, поскольку в их глазах она становилась попыткой подавить первое в мире рабочее правительство. Перемирие привело к серьезным экономическим и социальным сдвигам в Британии, и продолжительное военное участие в делах России грозило внутренними беспорядками. В июне 1919 г. Военному кабинету намекнули, что растущее недовольство рабочих в стране вызвано преимущественно непопулярностью интервенции в России74. В течение года враждебное отношение к интервенции со стороны лейбористской партии и Конгресса профсоюзов Британии все нарастало. Фактор этот сыграл, видимо, главную роль в решении Ллойд Джорджа уйти из России к концу 1919 года.
Самым яростным сторонником интервенции был Уинстон Черчилль, и когда он возглавил военное министерство в январе 1919 г., то немедленно встал на антикоммунистическую, не на антироссийскую позицию. В этом его поддерживал сэр Генри Вильсон, начальник Имперского Генерального штаба, но из видных лиц более никто. Черчилль пришел к выводу, что Первая мировая война открыла новую историческую эпоху, в которой узконациональные интересы и конфликты уступят место интересам и конфликтам наднациональным и идеологическим. Убеждение это помогло ему понять значение как коммунизма, так и национал-социализма глубже и лучше, чем другим европейским государственным деятелям, которые тяготели к интерпретации этих явлений как сугубо внутренних по происхождению и масштабу. Черчилль считал коммунизм чистейшим злом, сатанинской силой: безо всякого смущения он называл большевиков «зверями», «мясниками», «павианами». Он был убежден, что цели Белого движения совпадают с целями Британии. В меморандуме, написанном 15 сентября 1919 г., когда Британия готовилась отвернуться от белых, Черчилль предостерегал: «Большое заблуждение думать, будто весь этот год мы сражались на стороне антибольшевистски настроенных русских. Напротив, это они сражались за нас; и истина эта станет мучительно очевидной, как только белые будут уничтожены и армия большевиков воцарится на всей огромной территории российской империи»75.
Несмотря на то что Черчилль оказывался в меньшинстве и даже в одиночестве в Кабинете, он играл ведущую роль в определении государственной политики в отношении России — потому, что возглавлял военное министерство, а также оттого, что обладал мощным даром убеждения.
Опасность возникновения альянса между реакционной или революционной Россией и реакционной или революционной Германией волновала британский кабинет даже до капитуляции последней76. Но ни на кого такая перспектива не действовала столь угнетающе, как на Черчилля, и никто не был готов делать из нее логические выводы. Черчилль предвидел возможность «совпадения интересов и политики» этих двух государств-парий, что сведет их в «массу, перед которой западным державам будет довольно трудно отстоять свои права и от которой, по прошествии нескольких лет, им будет трудно защититься»77. «Не будет мира в Европе, пока Россия не восстановлена» — и «восстановлена», по мнению Черчилля, конечно, с некоммунистическим правительством. С пророческой прозорливостью предсказывал он альянс Советской России, Германии и Японии, действительно возникший двадцать лет спустя и почти погубивший Англию и ее империю:
«Если мы отвернемся от России, Германия и Япония от нее не отвернутся. Новые государства, которые могут теперь возникнуть в Восточной Европе, будут смяты и уничтожены русским большевизмом и Германией. Утвердив свое влияние на Россию, Германия приобретет много больше, чем потеряла со своими заморскими колониями и западноевропейскими территориями. Япония, без сомнения, придет к такому же выводу на том конце Транссибирской магистрали. Через пять лет или даже меньше станет очевидным, что плоды всех наших побед утрачены на Мирной конференции, что Лига Наций превращена в бессильное чучело, что Германия стала сильнее, чем когда-либо, и что британским интересам в Индии нанесен непоправимый урон. После всех наших побед нам придется покинуть поле брани униженными и побежденными». [Gilbert M. Churchill. Vol. 4. P. 254. Беспокойство Черчилля по поводу возможности германо-советско-японского сближения было отчасти вызвано предупреждением, которое основатель геополитики Г.Д.Маккиндер высказал в адрес Мирной конференции: договор, который готовит Мирная конференция, говорил последний, породит враждебный военный блок. «Если мы заглянем в далекое будущее, — спрашивал Маккиндер, — не увидим ли мы, что нам придется, возможно, мириться с тем, что в один прекрасный день большая часть Великого континента подчинится единой власти?» (См.: Democratic Ideals and Reality. New York, 1919. P. 89.) Согласно Маккиндеру, добейся Германия контроля над Россией, это нацелило бы ее на мировое господство. Нацистский геополитик Карл Хаусхофер использовал идеи Маккиндера, чтобы сформулировать концепцию «неизбежности» союза Германии, России и Японии.].
Черчиллю принадлежит идея политики сдерживания в отношении Советской России78 — идея, на которую в его стране не обратили должного внимания, но взяли на вооружение США после Второй мировой войны. Если бы он смог поступить по-своему, западные державы организовали бы международный крестовый поход против большевистской России. Следующим шагом, требующим, по его мнению, немедленного осуществления, было натравить Германию на большевиков. Страх перед большевизмом и возможным союзом между ним и Германией заставил Черчилля после подписания перемирия выступать за примирительную политику в отношении Германии («Кормите Германию; сражайтесь с большевиками; заставьте Германию сражаться с большевиками»79). В то время, когда подавляющая часть его коллег считала, что способность большевиков побеждать политических соперников говорит об их общественной поддержке, Черчилль понимал, что она основана на неограниченном терроре.
Несмотря на то что Черчилль был прекрасным диагностом, изыскиваемые им средства оказались нереалистичными. Приходившие ему в голову мысли об интернациональном крестовом походе против Советской России являлись чистейшей фантазией: не было ни малейшего шанса, что великие державы, потрепанные четырьмя годами войны, согласятся направить сотни тысяч солдат на завоевание бескрайних российских снегов. [Союзники содержали на территории Германии несколько миллионов русских военнопленных, которых могли направить к Деникину, Юденичу или Колчаку. На деле же они предпочли, чтобы судьбу узников решила Германия, и та обменяла их на собственных военнопленных в России. Лишь немногие из русских военнопленных приняли участие в военных операциях против красных на Балтике; некоторые добивались убежища в Западной Европе; большинство же было репатриировано (Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 328—330; Williams R. // Canadian Slavonic Papers 1967. Vol 9. № 2. P. 270—295)]. Ллойд Джордж сообщил Черчиллю — и в этом был, по-видимому, прав, — что, если Британия объявит России войну, в ней самой начнется революция. Германия же, говорил он, не только не станет сражаться против русских, но войдет с ними в секретное соглашение. В конце концов Черчиллю пришлось довольствоваться беспорядочными военными выступлениями на стороне белых — участие это было слишком мелким, чтобы существенно повлиять на ход гражданской войны, но достаточно крупным для того, чтобы дать коммунистам у власти возможность представить борьбу за собственное выживание как оборонительную войну России против иностранного вторжения.
Британский Кабинет предпринял первые шаги по организации интервенции 14 ноября 1918 г. Отвергнув неосуществимую идею об «крестовом походе», он решил поддерживать материально и дипломатическими средствами антибольшевистские силы в России, а также страны, бывшие некогда составными частями империи и отделившиеся от нее80. В начале 1919 года Ллойд Джордж представил общий план:
«1. Не следует делать попыток завоевать Советскую Россию силой оружия.
2. Поддержка должна оказываться постольку, поскольку на территориях, контролируемых Деникиным и Колчаком, население выказывает антибольшевистские настроения.
3. Антибольшевистские военные силы не должны использоваться для реставрации царского режима в России... [или] для возвращения крестьянства к старым феодальным условиям [!] пользования землей»81.
Идея британского военного участия была одобрена, для него было определено несколько форм: 1) снабжения антибольшевистских сил военной амуницией, начиная с обмундирования и кончая вооружением вплоть до танков и самолетов, в основном из оставшихся на складах со времен Первой мировой войны; 2) содержания на российской территории и вдоль береговой линии британского военного и военно-морского контингента, основной задачей которого становилось несение сторожевой службы и обеспечение блокады, с правом в случае непосредственной угрозы вести оборонительные бои; 3) подготовки офицерского состава для белой армии и, в конечном счете, 4) эвакуации остатков разбитых белых армий. Помощь эта, хотя и гораздо меньшая, чем позволяли возможности Британии, белым была жизненно необходима.
По поводу отколовшихся от России окраин Британия оставалась в полной нерешительности. Понимая, что образование новых государств ослабляло Россию и уменьшало ее агрессивный потенциал, лорд Керзон убедил правительство в конце 1918 г. признать de facto независимость Азербайджана и Грузии и расположить небольшие контингент войск в Закавказье и Прикаспии для защиты Индии. Зимой 1918—1919 гг. британские военно-морские силы принимали также участие в защите Эстонии и Латвии от советского вторжения. В целом же, однако, позиция Британии состояла скорее в том, чтобы поддерживать территориальную целостность России в пределах бывшей империи, хотя бы и под властью красных, — отчасти чтобы избежать отталкивания российского населения, а отчасти с тем, чтобы помешать Германии закрепиться на некоторых окраинах и занять там доминирующее положение. Понуждая руководство белых принять демократические формулировки, Британия не возражала против лозунга «Россия единая и неделимая».
Позиция Франции по русскому вопросу была менее отягощена привходящими соображениями, поскольку она, хотя и являлась колониальной империей, была по преимуществу державой континентальной. Главной своей задачей она ставила не допустить возрождения Германии, способной вести новую войну. С этой точки зрения налаживание дружеских отношений со стабильной, сильной Россией оставалось, как и до 1914 г., делом первостатейной важности; кроме этого, Франции требовалось создание цепи зависимых государств вдоль восточной границы Германии. Франция понесла больше потерь, чем другие государства, от ленинских декретов о национализации и отказа выплатить иностранные долги, и она намеревалась вернуть утраченное. Полагая, что Ленин, несмотря на свои периодические заявления о готовности возместить царские займы и иностранные инвестиции, вряд ли собирался это делать, Франция оставалась более последовательной в своем антикоммунизме, чем другие великие державы. Поддержка же, оказываемая ею белым, выглядела скорее символической. Лидеры Франции не очень-то верили в их успех и уже в марте 1919 г. побуждали союзников предоставить антибольшевистское движение судьбе и заняться превращением Польши и Румынии в «заграждение из колючей проволоки», чтобы сдерживать коммунизм82. Основой заграждения предстояло служить независимой Польше, которой назначалась роль изолятора между Россией и Германией, поскольку для националистической Германии и большевистской России Польша, продукт Версальского договора, явилась общим объектом как ненависти, так и сотрудничества, начавшегося еще в 1919 г. и завершившегося через двадцать лет четвертым разделом этой страны.
Американская политика, сформулированная президентом Вильсоном, заключалась в том, что после подписания перемирия союзникам не следовало оставлять войска на территории России: их надо было вывести, предоставив русским возможность улаживать внутренние распри самостоятельно83. Он полагал, что «всегда опасно ввязываться в иностранные революции»: «Пытаться остановить революционное движение заграждением из армий — все равно, что пытаться разогнать метлой наводнение... Единственный путь борьбы с большевизмом — это устранение его причин». К несчастью, признавался президент США, «нам даже неизвестно в точности, каковы его причины»84. Помимо невмешательства Вильсон придерживался принципа непризнания советского правительства и сохранения территориальной целостности России85.
Политика Японии в отношении России была самой последовательной и самой незамаскированной. Первые ее войска по инициативе Верховного командования союзников высадились на русском Дальнем Востоке еще весной 1918-го; их намеревались использовать в военных действиях против Германии на вновь задействованном Восточном фронте. Из идеи этой ничего не вышло, и не только в силу ее непрактичности, но и потому, что Япония не изъявляла ни малейшего желания воевать с Германий. Интересы ее были чисто грабительские: она намеревалась воспользоваться российской смутой, чтобы захватить и присоединить губернии Приморья. Соединенные Штаты, зная об этих планах, командировали в Восточную Сибирь свои войска, но американские части никогда не сражались против красных ни на Дальнем Востоке, ни на северо-востоке России. [«Соединенные Штаты направили войска только в два региона России: на север Европейской части, в район Архангельска на Белом море, и в Восточную Сибирь. Обе эти зоны далеко отстояли от основных театров военных действий российской гражданской войны, шедшей в то время полным ходом. В обоих случаях войска командировались с неохотой... Ни в одном случае решение это не было продиктовано намерением использовать эти силы для свержения советского правительства. Ни в одном случае решение не было бы принято, если бы не усматривалась связь со все еще длившейся мировой войной и с целями, относившимися непосредственно к участию в этой войне» (Kennan G. // Foreign Affaires. 1976. Vol. 54. P. 671. Ср.: Graves W.S. America's Siberian Adventure. New York, 1931. P. 92)].
* * *
23 декабря 1917 г., через две недели после вступления в силу перемирия между Россией и странами Четверного союза, Франция и Британия поделили российскую территорию на «сферы ответственности» ввиду возможного ведения там боевых операций: Франция взяла на себя российско-германский фронт, Британия — российско-турецкий. Британская зона включала также казачьи области, Кавказ, Армению, Грузию и Курдистан. Территории к западу от Дона — Украина, Крым и Бессарабия — попадали во французский сектор86. Весь последующий год деление это не приводило ни к каким действиям, поскольку затронутые им части бывшей империи находились либо под германской, либо под турецкой оккупацией.
Как только на Западном фронте смолкли выстрелы, союзники направили экспедиционные силы к Черному морю. 23 ноября 1918-го небольшой сводный британско-французский отряд десантировался в Новороссийске87. Месяц спустя Франция высадила дополнительные войска в незадолго до этого оставленных немцами Крыму и Одессе, а англичане отбили у турок Баку и установили военный контроль над Каспийским морем. Британские боевые корабли примерно в то же время заняли позиции на восточной Балтике, неподалеку от российских берегов. Все эти перемещения производились по плану блокады Германии, созданной союзниками после подписания перемирия с тем, чтобы отрезать эту страну от иностранной экономической помощи, пока она не примет предложенных ей союзниками условий заключения мира. [Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 55—56. После подписания перемирия Британия обложила блокадой также и Советскую республику, отрядив военно-морские силы в Финский пролив, сократив свои торговые поставки в Россию и понуждая страны, придерживавшиеся нейтралитета, последовать ее примеру. Действия эти оправдывались тем, что целью их было предотвращение попадания предметов первой необходимости в Германию: они были как бы естественным продолжением блокады Германии (Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 325). Однако, даже когда договор с Германией был подписан и блокада с нее снята, Совет Четырех принял 9 мая постановление продолжать блокаду России. Вильсон заявил 17 июня, что решение это было неоправданным, и это, конечно, так. В любом случае решение имело лишь символическое значение, поскольку у России не было ни денег, ни товара для обмена, и она не могла заниматься внешней торговлей. Основные прорывы в блокаде осуществлялись при содействии Швеции (см.: Министерство иностранных дел СССР. Документы внешней политики СССР. М., 1958. Т. 2. С. 621—629). Обстоятельства блокады сыграли на руку советской пропаганде, которая стала вполне успешно сваливать на них все неудачи большевистской экономики, от нехватки карандашей для школьников до голода 1921 года.]. И белые, и красные считали при этом, что перемещенные силы союзников являются авангардом многочисленной армии, направленной на защиту тылов войск Деникина в то время, когда он будет вести наступление на Москву. Советское правительство восприняло опасность донельзя всерьез: обсуждая планы военной кампании 1919 г., штаб Красной Армии исходил из того, что на Юге ему придется противостоять экспедиционному корпусу союзников численностью от 150 000 до 200 000 человек88. На самом же деле, конечно, никто не планировал проводить такое массированное вторжение, поскольку Великобритания не могла себе позволить, по словам Бальфура, «наблюдать, как ее вооруженные силы после четырех годов напряженных боевых действий растворяются в бескрайних просторах России, чтобы провести политические реформы в стране, которая уже не является ее военным союзником»89. Франция, разумеется, тоже придерживалась такой позиции.
Небольшие экспедиционные силы, которые откомандировала в Россию Франция, не принесли ей славы. В марте 1919-го ее военный контингент на Черном море насчитывал 65000— 70 000 личного состава и был этнически смешанным: малую часть составляли французы, главная масса комплектовалась из греков, поляков, румын, сенегальцев и жителей других французских колоний. Части эти послали не сражаться, а занять оставленные Германией территории между Херсоном, Николаевом, Березовкой и Тирасполем. Но среди бушующей гражданской войны они не могли вести себя как мирные оккупационные войска и вскоре были втянуты в оборонительные бои. 10 марта расквартированные в Херсоне греческий батальон и две французские роты подверглись нападению шайки украинских мародеров во главе с бандитом Никифором Григорьевым, выступавшим в то время на стороне Красной Армии. После восьми дней отчаянного сопротивления, понеся многочисленные потери, иностранное войско оставило Херсон90. Григорьев пошел на город Николаев, а захватив его, двинулся к Одессе.
В это время французские моряки в Севастополе подняли мятеж, поддавшись коммунистической антивоенной пропаганде. У французов было мало желания ввязываться в бой. По словам одного из их офицеров, «сохранивши свою голову под Верденом и на полях Марны, ни один из французских солдат не согласится сложить голову на полях России после того, как эта голова осталась целой в результате таких сражений»91. Узнав обо всех этих неудачах и о севастопольском мятеже и получив сведения от командующего французскими оккупационными силами генерала Франше д'Эспере, что он не может снабдить Одессу предметами первой необходимости, Париж приказал немедленно выводить собственные силы и войска французского подчинения, даже не побеспокоившись поставить Деникина в известность о принятом решении92. Франше д'Эспере заявил, что находившиеся под его командованием войска — 4000 французов, 15 000 греков и 3000 русских добровольцев — эвакуируются из Одессы за три дня. Они управились за два: «Эвакуация [французов] происходила в такой спешке и смятении, что близко напоминала бегство.
Лишь немногие из гражданского населения добились для себя разрешения следовать с ними. Тысячи толпились на пристани, умоляя французов увезти их хоть куда-нибудь. Многие кончали с собой. В городе было настоящее столпотворение, поскольку все знали, что, как только пушки французских крейсеров отойдут на достаточное расстояние, город займут красные»94. В Севастополе приготовления к отходу были согласованы с большевистским Советом, так что последний принял на себя власть во все еще оккупированном французами городе. Французские военные корабли взяли на борт 10 000 русских военных и 30 000 русских гражданских лиц95, среди них — вдовствующую императрицу и великого князя Николая Николаевича.
Дальше этого участие Франции в русской гражданской войне не пошло. И хотя она оставалась на протяжении длительного времени самым ярым противником красных и саботировала все попытки Америки и Британии к сближению с Москвой, покуда сама не ощутила готовность пойти на него, — все тяготы военного участия пришлись на долю Британии.
* * *
Осенью 1918 г., когда служившие в Красной Армии латыши отбили у чехословаков несколько волжских городов, ситуация на Восточном фронте стала выглядеть с точки зрения московского руководства весьма удовлетворительно; после ноября, когда вышли из боя чехословаки, она стала еще лучше. Обстоятельства позволяли высшему командованию Красной Армии начать перебрасывать военные силы с востока на юг. Однако канун Рождества преподнес красным неприятный сюрприз: войска Колчака неожиданно напали на Третью красную армию под Пермью и разбили ее. Потеря Перми взволновала Москву, поскольку создавала возможность для войск Колчака соединиться с военным контингентом союзников в Архангельске96.
Адмирал Колчак плохо разбирался в наземных военных действиях. Он препоручил стратегические разработки Лебедеву, 36-летнему ветерану Императорского Генерального штаба, одному из лидеров выступления против Директории в ноябре 1918-го. Лебедев окружил себя многочисленными помощниками: на пике наступления план операции, в которой должны были принимать участие 140 000 человек, разрабатывали 2000 офицеров, тогда как в Первую мировую войну Генеральный штаб обходился тремястами пятьюдесятью офицерами, которые управляли действующей армией в три миллиона человек97. Большинство колчаковских офицеров были юнцами, призванными во время войны; мало кто имел опыт штабной работы98.
Колчак оказался убийственно плох и как гражданский управляющий. Омск, его столица, кишел увернувшимися от фронта симулянтами, которые спекулировали чем ни попа-дя, особенно, конечно, британскими товарами: говорили, что у штабных офицеров и членов их семей было право преимущественного доступа к заморскому обмундированию и прочему довольствию, которое пересылалось через Омск на передовую. Спекулянты подкупали железнодорожных служащих, чтобы те снимали с поездов военные грузы и помещали на их место предметы роскоши, потребные для гражданского рынка99. Колчак вынужден был кормить войско в 800000, хотя численность боевых частей не превосходила 150 000. Штаб чешского генерала Рудольфа Гайды, командующего колчаковской Северной армией, под началом которого находилось менее чем 100 000 человек, выписывал довольствия на 275 000 человек. Расследование, проведенное по поводу его заказов, показало, что только 35—65% мяса, обмундирования, обуви, отосланных на фронт в Пермь из Екатеринбурга, достигало места назначения. Овощи, свежие и консервированные, разворовывались полностью100. Многие русские офицеры, включая и тех, кто находились во фронтовой зоне, размещались с женами или любовницами в хорошо обставленных железнодорожных вагонах, служивших и командным пунктом и квартирой одновременно101. Оставленные для связи с русской армией британские офицеры приходили в неистовство от окружавшей их продажности. Омские остряки называли главу британской военной миссии генерала Нокса «главным интендантом Красной Армии»: он даже получил изготовленное ими письмо, якобы от Троцкого, в котором выражалась благодарность за помощь, оказанную в экипировании красных частей102.
Самым большим несчастьем Восточной белой армии был плохой транспорт. Все материально-техническое снабжение Колчак получал по одноколейной Транссибирской железной дороге, связывавшей Омск с Владивостоком. Восточная ее часть, которая находилась под контролем японцев и их протеже, атаманов Семенова и Калмыкова, часто становилась объектом диверсий партизан-большевиков и рядовых бандитов. Ситуация несколько улучшилась весной 1919 г., когда американская армия взяла на себя охрану одного из важнейших участков дороги, а другой сторожили чехи, но и тогда обстановка была далеко не удовлетворительной. Даже и при идеальных условиях поездам требовалось несколько недель, чтобы доставить грузы от тихоокеанского порта.
Основная вина за чудовищное состояние армейских тылов должна быть возложена на Колчака, который позволил себе заниматься исключительно военными проблемами и воспринимал все остальное, включая гражданское управление, как недостойные его внимания мелочи. В октябре 1919-го, когда его армия была уже на пути к полному уничтожению, Колчак сказал своему штатскому помощнику: «Знаете, я безнадежно смотрю на все ваши гражданские законы и оттого бываю иногда резок, когда вы меня ими заваливаете. Я поставил себе военную цель: сломить Красную Армию. Я — Главнокомандующий и никакими реформами не задаюсь. Пишите только те законы, которые нужны моменту. Остальное пусть делают в Учредительном собрании». Когда ему возразили, что законы нужны хотя бы для того, чтобы его самого не считали реакционером, он ответил: «...бросьте, работайте только для армии. Неужели вы не понимаете, что, какие бы мы хорошие законы ни писали, все равно нас расстреляют, если мы провалимся!»103
После двухмесячного затишья боевые действия на Восточном фронте возобновились в марте 1919-го, перед началом оттепели; в наступлении белых приняло участие 100 000 человек. Согласно плану операции, основной удар должна была нанести самая многочисленная и хорошо экипированная Северная армия Гайды. Целью прорыва был Архангельск, куда следовало продвигаться через Вятку и Вологду; задачей — соединение с союзническим и русским контингентом войск, находившимся там под командованием генерал-майора Эдмунда Айронсайда, и получение еще одного, гораздо ближе расположенного порта, через который могла бы идти британская помощь. Центральным фронтом, нацеленным на Уфу и Казань, командовал генерал М.В.Ханжин. На Юге действовали уральские и сибирские казаки и башкирские части, все под командованием атамана Александра Дутова. Им ставилась задача захватить Самару и Саратов с двойной целью: соединения с Добровольческой армией и изоляции частей Красной Армии в Средней Азии.
Красная Армия на Восточном фронте претерпела несколько реорганизаций, итогом которых стало деление ее на две группы: Северную, под командованием В.И.Шорина (Вторая и Третья армии), и Южную, под началом М.Н.Тухачевского (Первая, Четвертая, Пятая и Туркестанская армии). Общее руководство Восточным фронтом поручалось С.С.Каменеву. На 1 марта, согласно оценкам красных, войска фронта насчитывали 96 000 человек и 377 полевых орудий, в то время как Колчак имел 112 000 человек и 764 орудия104. Это был редкий случай численного перевеса белых, но вскоре на Восток стало прибывать красное пополнение, и ситуация изменилась. Согласно секретным донесениям советского командования, силы двух войсковых объединений стали примерно равными, хотя белые имели значительное преимущество в численности и подготовке офицерского состава105. Это последнее обстоятельство сильно беспокоило красноармейских военачальников, поскольку в условиях войны в Сибири на полевого командира ложилась вся тяжесть принимаемых решений: «Тактические особенности гражданской войны, когда на широком фронте действовали сравнительно небольшие массы войск, когда бои распадались на отдельные очаги и велись главным образом силой полка, в лучшем случае бригады, при отсутствии надлежащей связи и других технических средств, при огромной маневренности частей, требовали от командиров, комиссаров и бойцов большой самостоятельности, инициативы, смелости в принятии решений и своих действиях»106.
Армии Колчака быстро продвигались вперед, покрыв за первый месяц приблизительно 600 км. Их наступлению способствовали крестьянские антибольшевистские восстания, происходившие в тылу Красной Армии в Симбирской, Самарской, Казанской и Вятской губерниях. Советские войска отступали с небольшим сопротивлением или вовсе без него; Пятая армия красных, казалось, была особенно не расположена останавливаться и принимать бой107. К середине апреля белые вышли на линию Глазов—Оренбург—Уральск, дальше которой им не суждено было двинуться. В тот момент они находились менее чем в ста километрах от Волги, иногда всего в тридцати пяти километрах от нее. Они заняли территорию в 300 000 квадратных километров с населением свыше пяти миллионов человек108.
Наконец красное командование осознало, насколько оно недооценивало угрозу с Востока. 11 апреля Центральный Комитет принял решение присвоить Восточному фронту приоритетный статус109. Был отдан приказ мобилизовать середняков и бедноту, по 10—20 человек с каждой волости. Попытка выполнить его натолкнулась, по-видимому, на сильное сопротивление, поскольку в итоге призвали всего 25 000 крестьян110. Зато с большим успехом прошла мобилизация партийцев и членов профсоюзов. Восточный фронт пополнил личный состав и получил материально-техническое подкрепление; к 12 июня красные превосходили колчаковцев на 20 000— 30 000 человек111. В течение нескольких следующих недель разрыв этот увеличивался небывалыми темпами.
В мае, с наступлением оттепели, стратегическое положение колчаковской армии изменилось к худшему. В конце зимы боевые действия велись вдоль хорошо намеченных дорог, но теперь, когда «ручьи превратились в реки, а реки — в моря», фронт как бы расширился112. В новых обстоятельствах численное превосходство Красной Армии оказалось решающим преимуществом. На бумаге положение Колчака все еще выглядело блестящим, однако войска его противостояли численно превосходившему их противнику и были измотаны быстрым наступлением, в котором сильно обогнали интендантские поезда.
Чтобы получить широкую поддержку внутри страны, Колчаку требовалось дипломатическое признание союзных держав. Это было важно с психологической точки зрения, чтобы придать его правительству больший авторитет в глазах населения113. В 1918 г. большевики сильно выиграли от того, что пользовались, по мнению общественности, поддержкой Германии. Следствие, проведенное советскими властями по поводу дезертирства из Красной Армии, показало, что одной из приводимых беглецами причин самовольного ухода с фронта было чувство, будто бесполезно воевать против «грозной силы» прежних союзников России114.
Но союзники медлили. 26 мая 1919 г. Верховный совет союзнических сил информировал Колчака, что не надеется более договориться с советским правительством и готов поставлять его армии вооружение, боеприпасы и продовольствие — о дипломатическом признании не упоминалось, — если он примет следующие условия: 1) согласится провести, в случае победы, демократические выборы в Учредительное собрание и созвать его; 2) разрешит проведение на подконтрольных ему территориях свободных выборов в органы самоуправления; 3) отменит классовые привилегии, воздержится от возврата к «старой земельной системе» и «не сделает ни малейшей попытки восстановить тот режим, конец которому положила революция»; 4) признает независимость Польши и Финляндии; 5) примет помощь Мирной конференции в решении территориальных споров России со странами Балтии, Кавказа, Закаспийскими республиками; 6) присоединится к Лиге Наций; 7) подтвердит ответственность России за долги115.
Это был причудливый набор условий, призванных успокоить электорат стран-союзниц относительно Колчака, которого большевистская и социалистическая пропаганда представляла реакционным монархистом. Условия должны были служить и еще одной цели: дать уверенность в том, что, если Колчак победит (а в мае это казалось вероятным), он будет проводить нужную им политику116. Несмотря на то что от Колчака требовался прежде всего созыв Учредительного собрания, которое, видимо, и должно было бы решить все последующие вопросы, союзники заранее добивались отказа от реставрации монархии и от возвращения земель их прежним законным владельцам, а также того, чтобы окраины бывшей империи, отделяющие их самих от России, — Финляндия и Польша и, как на это недвусмысленно намекалось, страны Балтии и Закавказья и Закаспийские республики — были признаны суверенными государствами. Другими словами, несмотря на все демократические посулы, союзники брали на себя труд определять государственное устройство и границы будущей России.
Колчак находился не в таком положении, чтобы торговаться: все военное снаряжение его армии присылалось из-за границы; каждый винтовочный патрон у его солдат был британского производства. С октября 1918 по октябрь 1919-го Британия выслала в Омск 97 000 тонн вооружения и снаряжения, включая 600000 винтовок, 6831 пулемет, более 200000 комплектов обмундирования117. (Франция поставила только несколько сотен пулеметов, изначально предназначавшихся для чехов.)
Колчак составил ответ с помощью генерала Нокса и 4 июня отправил его. Он согласился со всеми предложенными ему условиями, оговорив только вопрос о финской независимости, которую готов был признать de facto, но считал, что сделать это de jure должно все же Учредительное собрание. Он особенно подчеркнул, что «не может быть никакого возврата к режиму, существовавшему в России до февраля 1917 года». Далее он подтверждал, что его правительство признало все «обязательства и декреты», принятые Временным правительством в 1917 г.118.
Желая помочь Колчаку получить иностранное признание, Деникин 12 июня объявил, что признает его законным Верховным правителем. По некоторым сведениям, это восстановило против генерала его союзников-казаков, которые считали Колчака и сибиряков слишком либеральными119.
Несмотря на то что Колчак принял их условия, главы союзных государств вовсе не торопились дать ему дипломатическое признание, о чем их просили Черчилль, Керзон и британский Генеральный штаб. Отсрочка была вызвана враждебной позицией президента Вильсона, который вообще не доверял адмиралу и, в частности, сомневался, что тот выполнит условия, как обещает120. В отношении России Вильсон находился под сильным влиянием Александра Керенского, которого считал рупором российской демократии. Керенский, неустанно добивавшийся дискредитации Колчака в глазах западного мира, говорил американским дипломатам, что, если адмиралу удастся взять власть, он «установит режим не менее кровавый и репрессивный, чем у большевиков»121. Ллойд Джордж под впечатлением боевых побед Колчака совсем было склонился в пользу признания, но в этот критический момент войска Верховного правителя вынужденно отступали, и Ллойд Джордж немедленно утратил к нему интерес. В середине июня 1919 г., когда Верховный совет собрался в Париже, чтобы решить, как поступить с Колчаком, его армии терпели поражение. Больше побед они не одерживали. И дипломатическое признание не состоялось.
* * *
В марте—мае 1919-го, когда Колчак оказался на вершине удачи, армии Деникина находились в глубинке, на казачьих территориях. Британия решила, что деникинский фронт — второстепенный, в соответствии с этим и помощь, какую она ему поставляла, стала значительно менее щедрой.
С приближением весны Деникину пришлось заново определять близлежащие цели. В январе его штаб подготовил план похода на Царицын и Астрахань для соединения с левым крылом армий Колчака122. Однако от этих намерений пришлось отказаться, поскольку в марте—апреле красные разгромили донских казаков и вскоре должны были занять их территорию, область войска Донского. Московское руководство стремилось захватить Донбасс с его углем: в воззваниях к Красной Армии Троцкий заявлял, что уступить белым контроль над Донбассом окажется большим несчастьем, нежели потеря Петрограда123. 12 марта Южный фронт Красной Армии получил приказ начать операцию по захвату угольного бассейна и очистке его от белых. Помимо этого, как стало недавно известно, Красная Армия получила еще одно задание — ликвидировать казачество. Секретная директива из Москвы предписывала «полное, быстрое, решительное уничтожение казачества как особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, вообще всех верхов казачества»124. Когда казачество ответило на эти меры восстанием, Троцкий, выполняя ленинский мандат, потребовал: «Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены... Каины должны быть истреблены»125.
Деникин был преисполнен такой же решимости отстоять Донбасс от красных. Прознав кое-что о директивах, идущих из Москвы, он 15 марта атаковал Восьмую армию к юго-востоку от Луганска126.
Однако основное стратегическое решение все еще не было принято. Деникин стоял перед альтернативой: послать основные силы на Царицын и оставить таким образом Донбасс или спасти Донбасс и донское казачество с его армией, отказавшись от возможности соединить фронт с армией Колчака. Позже в воспоминаниях он писал: «Без малейших колебаний я принял второе решение...»127 Сделать выбор было, видимо, не так уж просто. Решение Деникина вызвало сильное сопротивление генералитета, выразителем которого стал командир Кавказской армии и, возможно, самый способный среди белых генерал, Петр Врангель. Последний подверг стратегические планы Деникина сокрушительной критике. Донбасс, говорил Врангель, отстоять нельзя, им следует пожертвовать. Донские казаки должны прикрывать фланг Добровольческой армии, когда она поведет наступление: «Главнейшим и единственным нашим операционным направлением, полагаю, должно быть направление на Царицын, дающее возможность установить непосредственную связь с армией адмирала Колчака. При огромном превосходстве сил противника действия одновременно по нескольким операционным направлениям невозможны»128. Действительно, в то время левый фланг армии Колчака, состоявший из уральских казаков под командованием Дутова, находился всего в 400 км от Царицына и в 200 км от Астрахани. Деникин отверг предложение Врангеля на том основании, что донские казаки, будучи предоставлены сами себе, не удержат Донбасса ни одного дня; Ростов, следовательно, окажется в руках врага129.
Деникин разделил армию на две части: меньшая под командованием Врангеля была послана на Царицын, основные силы — в Донбасс. Некоторые военные историки считают это фатальной ошибкой, решившей участь Белого движения. Нелишне здесь поэтому упомянуть, что один из красных полководцев, А.И.Егоров, которому суждено было разбить деникинскую армию в 1919-м, в своих воспоминаниях положительно оценивает стратегическое решение Деникина, поясняя, что больше всего Советы опасались не захвата Царицына и соединения Добровольческой армии с Колчаком, а наступления белых на Донбасс и Орел130. Тем не менее непосредственным результатом решения Деникина стала личная его размолвка с самым выдающимся генералом его армии, со временем выросшая в настоящую вражду и расколовшая офицерский корпус на проденикинскую и проврангелевскую фракции.
В январе 1919 г. Деникин издал декрет, подтверждавший, что все принятые Временным правительством законы остаются в силе131. Весной под давлением британцев он пошел еще дальше и обнародовал заявление относительно своих политических целей. Они состояли в уничтожении большевизма, воссоединении России, созыве Учредительного собрания, децентрализации власти и установлении гражданских свобод132. По земельному вопросу Деникин высказывался намеренно туманно, боясь отпугнуть казачество. Он вообще чуждался четких, детализированных программ, поскольку чувствовал, что все антибольшевистские группы, консерваторы и либералы различных ориентации, составляют некую коалицию, сохранить единство которой может не издание разделяющих платформ, а патриотический призыв освободить Россию от коммунизма133.
Поначалу события как бы оправдывали принятые Деникиным военные решения. Его войска продвигались вперед замечательными темпами, отчасти потому, что руководство Красной Армии, решившее сконцентрировать все силы для борьбы с Колчаком, ослабило Южный фронт. Деникину также были на руку возникшие в марте в тылах красных Восьмой и Девятой армий казачьи восстания, которые с большим трудом были подавлены большевиками при участии отрядов ЧК134.
Выйдя из ростовского окружения, Добровольческая армия двинулась в нескольких направлениях, вычистила силы красных из Донбасса, затем (21 июня) захватила Харьков и (30 июня) Екатеринослав. Кульминацией наступления было падение Царицына, который был взят 30 июня Кавказской армией Врангеля. Во время этой выдающейся операции белая кавалерия и пехота прошли 300 км по калмыцкой степи, лишенной растительности и воды. Царицын был подготовлен к обороне и окружен рядами окопов и колючей проволоки. Победы достигли с помощью нескольких танков, управлявшихся британскими добровольцами: они сминали заграждения из колючей проволоки и проходили поверх окопов, заставляя защитников города в ужасе разбегаться. В Царицыне белые захватили 40 000 военнопленных и баснословную добычу, в частности тысячи грузовиков, груженных военным снаряжением135.
Однако к тому времени, как была одержана эта блистательная победа, Царицын утратил стратегическое значение, поскольку Красная Армия, отступив на юге, сильно продвинулась вперед на востоке. К концу июня армии Колчака отогнали назад, и соединение двух сил оказалось более невозможным.
* * *
Контрнаступление красных на востоке началось 28 апреля мощным ударом по центру фронта возле Уфы136. В этот момент некоторые части белых подняли мятеж и перешли на сторону врага, но в целом силы Колчака показали себя хорошо и заставили командование Красной Армии пережить несколько тревожных моментов. В конце мая белые предприняли контрнаступление, но силы были неравны, и им пришлось отступить. Бои развернулись очень тяжелые.
Уфа перешла в руки красных 9 июня; белые, однако, все еще удерживали Пермь на севере и Оренбург и Уральск на юге. Согласно донесениям С.С.Каменева, в его войсках возникли антибольшевистские мятежи137. Красная Армия имела небольшое численное преимущество в центре и на левом фланге, где у нее было 81 000 против 70 500 белых; на севере перевес был у белых138. Но у них оказалось меньше возможностей компенсировать боевые потери.
Поворотный момент в ходе боевых действий наступил в конце июня, когда Пятая армия перешла Урал, единственный естественный оборонительный рубеж в регионе. Командующий армией 27-летний Михаил Тухачевский был дворянином по рождению, и его военный послужной список включал пребывание в офицерской должности в элитном гвардии Семеновском полку во время Первой мировой войны. Тухачевский присоединился к большевикам в апреле 1918 г. и быстро продвигался по службе. Как только Пятая армия преодолела восточные склоны Урала — она заняла Челябинск 24— 25 июля, — Колчак не мог больше ее сдерживать. Поскольку центр белых откатывался на сотни километров назад, северный и южный фланги вынуждены были отходить за ним. Это явилось горьким разочарованием для Гайды. Удаленный с поста командующего Северной армией, он порвал с Колчаком и направился во Владивосток, где в середине ноября организовал против адмирала при поддержке эсеров неудавшийся переворот.
Сообщения о поражениях Колчака оказали существенное действие на мнение Британии по поводу интервенции. За этим последовала тщательная переоценка британской политики в отношении России, результатом которой стало принятое в начале августа решение отказаться от дальнейшей помощи Верховному правителю139.
Колчаковские войска, тем не менее, были вовсе не разбиты, и на следующие два месяца (с середины августа по середину октября) им удалось с успехом закрепиться на реках Тобол и Ишим в 500 км к востоку от Омска; отчаянно сопротивляясь, они остановили наступление красных140. Дело их в общем оказалось проиграно, но приносимая ими жертва спасла Деникина, чье наступление в тот момент шло полным ходом. Сопротивление Колчака теперь было настолько успешным, что ограничило число войск, которые красное командование могло перебросить на Южный фронт. Это стоило многих жизней: с 1 сентября по 15 октября армия Колчака потеряла убитыми и ранеными 1000 офицеров и 18 000 солдат, т.е. более четверти боевого состава. Некоторые дивизии белых лишились до половины личного состава141. Восполнить эти потери было невозможно, поскольку в резерве у Колчака находилось всего 1500 человек. Красная Армия, напротив, имела практически неисчерпаемый источник комплектования. В сентябре Москва направила на Восточный фронт десятки тысяч свежих новобранцев; к середине октября силы большевиков удвоились. 14 октября, отдохнув и пополнив свои ряды, красные возобновили наступление и перешли реку Тобол. Белые продолжали оказывать упорное сопротивление: замечательное мужество показала их дивизия, сформированная из восставших против большевиков рабочих Ижевского оружейного завода. Однако, несмотря ни на что, исход кампании к концу ноября не вызывал уже никаких сомнений, и красное командование начало забирать с Восточного фронта войска, чтобы послать их против Деникина142. Остатки колчаковской армии отошли в Омск.
* * *
После того как Царицын пал, туда приехал Деникин и созвал совещание штаба, чтобы определить следующие по очередности стратегические задачи. В то время (на 1 июля) фронт проходил от Царицына на Балашов—Екатеринослав— Херсон, причем фланги упирались в Волгу и Днепр143. Все генералы согласились с тем, что следует двигаться на Москву, но снова Деникин и Врангель поспорили, как это сделать наилучшим образом. Для разобщенных, лишенных каких-либо средств координировать свои действия белых армий ситуация была типичной: Деникин предпринимал наступление на Москву в то время, как Колчак отступал. [В защиту Деникина можно высказать то соображение, что он имел лишь весьма смутное понятие о происходившем на Восточном фронте, поскольку у него не было прямой связи со штабом Колчака за исключением редких курьеров, прорывавшихся сквозь линии красных или же обходным путем — через Париж и Лондон (см.: Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 88—90)].
3 июля Деникин издал приказ за номером 08878, получивший известность как «Московская директива»144. В качестве следующей и, возможно, последней задачи армии в ней обозначалось взятие столицы. Осуществить его намечалось посредством тройной атаки: 1) Врангелю во главе Кавказской армии предстояло выступить на Саратов—Ртищево—Балашов, выручить находившиеся там части донских казаков, затем направиться через Пензу, Арзамас, Нижний Новгород и Владимир на Москву; 2) В.И.Сидорину, возглавлявшему Донскую армию, приказывалось направить несколько частей на взятие Воронежа и Рязани, а остальные двинуть на Оскол, Елец, Волотово и Каширу; 3) В.З.Май-Маевский во главе Добровольческой армии имел задачу наступать со стороны Харькова через Курск, Орел и Тулу. Это являлось главным направлением удара, поскольку представляло собой наикратчайший путь к столице. Для защиты своего левого фланга Май-Маевскому предлагалось отрядить часть войска, чтобы занять Киев, а остальным частям — занять Херсон и Николаев, за три месяца до того оставленные французами.
Наступление намечалось широким фронтом, от Самары на востоке до Курска на западе, что составляло 700 км; после проведения запланированных на Украине операций линии фронта предстояло увеличиться до 1000 км. Деникин посылал в наступление весь свой боевой состав, не оставляя практически никакого резерва. Фронт вытягивался, увеличивалась и потребность в бойцах, поэтому осенью ряды Добровольческой армии пополнились за счет призывников и военнопленных.
Врангель возражал против планов Деникина, напоминая о том, как опасно растягивать фронт, не имея достаточных резервов и надежного, хорошо обеспеченного тыла. Он предложил альтернативный вариант, согласно которому удар концентрировался в направлении Саратова, в его собственном секторе. По словам Врангеля, Деникин воскликнул, выслушав его: «Ну, конечно, первыми хотите попасть в Москву!»145. [Белое дело. Т. 5. С. 160.]. С точки же зрения Врангеля, замысел Деникина являлся не чем иным, как «смертным приговором армиям Юга России», поскольку, отказываясь выбрать единое главное направление удара, он игнорировал все принципы военной стратегии146.
Это была, конечно, отчаянная попытка — «все или ничего», азартный ход, сделанный в осознании того, что, не будь Москва взята до начала зимы, Британия прекратит всякую помощь. Постоянное ощущение, что терпение Британии истощается, играло не последнюю роль в выборе Деникиным стратегии, при которой он, обычно чрезвычайно осторожный, ставил разом все свои силы на кон. Но и еще одно соображение стояло за этой готовностью идти на риск: Красная Армия росла не по дням, а по часам, и с каждым днем разрыв в боевых возможностях противников увеличивался не в пользу Деникина.
Деникин прекрасно отдавал себе отчет: растягивая линию фронта, он нарушает традиционные стратегические принципы, однако считал, что в тех нетривиальных условиях, в каких ему приходилось сражаться, он должен и вести себя нетривиально: «Стратегия внешней войны имеет свои законы — вечные, неизменные... не допускает разброски сил и требует соразмерной им величины фронта... Мы занимали огромные пространства, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно сил его. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила... Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче... Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами»147. Н.Какурин, бывший полковник царской армии на службе у красных, в своей авторитетной истории гражданской войны соглашается с Врангелем в том, что Деникин слишком растянул свой фронт по сравнению с размерами армии и что сконцентрированный прорыв в сторону Саратова оказался бы эффективным. В то же время он сходится с Деникиным во мнении, что в сложившихся обстоятельствах тому ничего другого не оставалось, как только выбросить стратегию на ветер и поставить все на одну карту в надежде, что она выиграет148.
Несмотря на то что летом 1919 г. силы Деникина возросли за счет мобилизованных, Красная Армия продолжала наращивать численное превосходство. По данным советской стороны, ее Южная армия насчитывала 140 000 пехотинцев, 20 600 сабель и 541 полевое орудие — этому со стороны белых противостояли 101 600 пехоты, 50 750 кавалерии и 521 полевое орудие (включая «глубокие резервы»). По сведениям штаба Деникина, к середине июля у красных на Юге было 180 000 человек, у белых — 85000. Каким бы цифрам мы ни доверяли больше, численное превосходство красных не вызывает сомнения, и оно еще возросло в течение боевых действий, когда поступило подкрепление в 60 000 новобранцев.
В течение следующего полугодия на Юге шли крайне тяжелые бои, сопровождавшиеся страшными зверствами, особенно со стороны Красной Армии. Троцкий запретил казнить военнопленных, но этот запрет часто игнорировали, особенно в отношении захваченных белых офицеров, а иногда и по приказу верховного командования. Так, в августе, когда кавалерийский отряд белых под началом донского казачьего генерала К.К.Мамонтова совершил набег на территорию красных и чуть не попал в окружение, главнокомандующий С.С.Каменев приказал: «Пленных не брать»149. «Раненых или взятых в плен офицеров не только добивали и расстреливали, но всячески мучили. По количеству звездочек на погонах вколачивали в плечи гвозди, вырезали на груди ордена, на ногах лампасы. Отрезали детородные члены и вставляли в рот»150. Белые также казнили многих захваченных красных командиров и комиссаров, но, насколько известно, не пытали их.
10 августа Деникинское наступление переживало крупный успех: донские казаки Мамонтова совершили в этот день набег на Тамбов. Силы казаков, не превышавшие 8000 сабель, совершили прорыв между Восьмой и Девятой армиями и прошли 200 км вперед по советской территории. Они перерезали линии связи, взорвали склады с военным снаряжением, разрушили железнодорожные пути. При появлении казаков крестьяне стали подниматься против Советской власти. Красные войска, посланные для перехвата налетчиков, так перепугались, что отказывались выходить из железнодорожных вагонов, доставивших их на фронт: Ленин приказал расстреливать каждого такого отказчика151. Двадцать тысяч новобранцев, направленных для пополнения Красной Армии, взяли без сопротивления в плен и зачислили в белые войска. Мамонтовская кавалерия, почти не встретив сопротивления, вошла в Тамбов, вслед за чем заняла Воронеж. Если бы этот рейд продолжался в прежнем темпе, он нанес бы красным неисчислимые потери. Однако донские казаки прекратили воевать и занялись мародерством, а двигаться вперед стали едва ли не ползком, поскольку тащили за собой вагоны награбленного добра. Вскоре многие из мамонтовцев вообще двинулись по домам, чтобы припрятать трофеи и помочь собрать урожай. 19 сентября, когда операция закончилась, от кавалерийского корпуса оставалось меньше 1500 человек152. Основным следствием этого набега было то, что красное командование обратило наконец внимание на важность кавалерии, которой оно вначале пренебрегало. Вскоре был создан Первый конный корпус под командованием Семена Буденного, нанесший в октябре и ноябре сокрушительный удар по войску Деникина.
В течение августа и сентября деникинская армия продолжала наступление по всем направлениям. Добровольцы Май-Маевского вырвались вперед и 20 сентября взяли Курск. К этому времени красные вдоль всего фронта от Курска до Воронежа были разбиты в пух и прах153. Одержавший эти победы генерал вовсе не походил на героя; по словам Врангеля, «если бы на нем не было мундира, вы бы приняли его за комедианта из провинциального театра: кругл, как бочка, пухлое лицо и нос картошкой»154. Прекрасный стратег, Май-Маевский отличался несчастной страстью к женщинам и выпивке и часто предавался ей даже в разгар боя.
Май-Маевский командовал тремя отборными полками Добровольческой армии, носившими имена погибших генералов Корнилова, Маркова и Дроздовского. Ядро их составляли добровольцы, страстно ненавидевшие большевиков. Для восполнения боевых потерь к ним добавили призывников и военнопленных, причем полки развернули в дивизии из 3—4 полков. Это неминуемо привело к падению нравов и снижению боевого духа155. Растянутый на 1000 км фронт белых напоминал по форме клин, основание которого начиналось на западе от Киева и на востоке от Царицына, верхушкой же служил Курск. Структура фронта была не единая, плотная, а пористая — некий историк описывает его как «довольно часто проезжающие дозорные отряды и иногда — медленно продвигающиеся колонны войск без резервов»156. Между ними лежали обширные ничейные земли, которые легко могли стать добычей противника в случае контрнаступления: «Этот путь Добровольческой армии лежал, главным образом, по железнодорожным магистралям. В силу общих стратегических соображений и особенностей гражданской войны, которая велась вообще не сплошным фронтом, а вдоль железнодорожных и водных путей, занятие Добровольческой армией, по мере ее продвижения с востока на запад (и с юга на север), какого-либо железнодорожного пункта, особенно узлового, означало очищение советской (или петлюровской) армией целой полосы территории восточнее (или севернее) этого пункта, который, таким образом, доставался победителю без боя. Механически были завоеваны большие площади территории одним фактом занятия железнодорожно-стратегического пункта; не было никакой необходимости выбивать противника из большинства мест; мирно занимали их исправники и стражники»157. При таком способе ведения войны возникала возможность быстро продвигаться вперед с малыми силами; но это же делало наступающие войска чрезвычайно уязвимыми для контрнаступления.
Единственным «плотным» сектором белого фронта был небольшой участок между Ржавой и Обоянью. Здесь, на линии фронта шириной в 12 км, белые сконцентрировали почти 10 000 человек — около 800 на каждый километр: небывало плотное для гражданской войны сосредоточение войск. Они предназначались для решающего прорыва и взятия Москвы158.
* * *
Важной проблемой, вставшей перед белыми генералами и решавшейся большевиками в своей характерной циничной манере, была проблема нерусских окраин. Лидеры Белого движения, видевшие в себе попечителей российской государственности, полагали, что не в их власти менять границы государства: это должно было находиться в компетенции Учредительного собрания. Они считали также, что националистическая платформа, призванная привлечь к ним многочисленных сторонников, требовала постулировать идеал России единой и неделимой: никто, писал Деникин, не стал бы жертвовать жизнью за федеративную Россию159. На этом основании предводители белых отказывались признать независимость отделившихся государств. Это была самоубийственная политика: отказ Колчака признать de jure независимость Финляндии и нежелание Деникина удовлетворить требование Польши сыграли роковую роль в судьбе их движения, лишив их иностранной помощи в критические моменты войны.
Белые генералы и их дипломатические представители в Париже соглашались с тем, что Польша в конце концов отделится от России, но представляли себе эту независимость как подобие Царства Польского, игрушечного государства, созданного Венским конгрессом в 1815 г. Намерения поляков были гораздо смелее. Из-под более чем столетнего иностранного владычества должна была восстать Великая Польша, в идеале простирающаяся от Балтийского до Черного моря, а в более реальной перспективе присоединившая земли белорусов и украинцев, когда-то часть Речи Посполитой. Во всех конфликтах, возникающих между поляками и русскими по поводу их встречных территориальных претензий, белые вели себя несговорчиво, а красные весьма уступчиво.
Юзеф Пилсудский, глава независимой Польской республики, знал русских лучше, чем главы других европейских государств. Особенно хорошо он знал русских социалистов, поскольку долго пробыл с ними: его арестовали в 1887-м по делу о подготовке покушения на Александра Третьего, тому самому, по которому был казнен брат Ленина Александр, и сослали на пять лет в Сибирь. Придя к власти, Пилсудский обратился к проблеме восточной границы Польши (ее оставила открытой Версальская конференция). Патриот, наделенный глубоким пониманием истории, он хотел обеспечить Польше независимость, чтобы встретить во всеоружии тот день, когда Россия и Германия, восстав из праха, снова объединятся против нее. Стратегия Пилсудского состояла в том, чтобы воспользоваться временной слабостью России, отсоединить от нее западные и южные окраины (Литву, Белоруссию и Украину) и превратить их в буферные государства. В результате должно было возникнуть новое равновесие сил в Восточной Европе, способное противостоять российскому экспансионизму: «Замкнутая в пределах границ времен шестнадцатого века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, неспособной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. Польша же, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор»160.
В достижение поставленной цели польские войска на востоке начиная с февраля 1919 г. и без формального объявления войны непрерывно вступали в бои с силами Красной Армии, постепенно занимая спорные территории.
Пилсудский «прозондировал» мнение Деникина и дипломатических представителей белых в Париже и получил совершенно не удовлетворившие его ответы. В конце сентября 1919 г. он направил в штаб Деникина в Таганрог миссию во главе с генералом Карницким, бывшим царским офицером. [Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 175. T.Kutrzeba (Wyprawa kijowska 1920 roku. Warszawa, 1937. P. 24) допускает, по-видимому, ошибку, относя это событие к июлю. См. кроме того: Fischer L. The Soviets in World Affairs. Princeton, 1951. Vol. 1. P. 239-241; Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917-1923. New York, 1953. Vol. 3. P. 154-155]. Тот быстро понял, что русский генерал не готов удовлетворить территориальные требования Польши161. Независимые дипломатические источники подтвердили его оценку. На основании полученной информации Пилсудский сделал вывод, что в интересах Польши помочь Красной Армии разбить Деникина. Рассуждал он, как впоследствии разъяснил один из его генералов, таким образом: «Поражение Красной Армии привело бы к упрочению власти Деникина и, как следствие этого, к непризнанию полной независимости Польши. Было меньшим злом помочь Советской России разбить Деникина, даже хотя и было понятно, что мы, в свою очередь, не избежим военного столкновения с Советами, если захотим мира, соответствующего нашим интересам. Поэтому постольку, поскольку существовала армия Деникина, война Польши с Советами оставалась войной за Россию, в то время как после падения Деникина она стала бы войной за Польшу»162. Карницкий дал также неблагоприятную оценку состояния армии Деникина, и это позволило Пилсудскому предугадать, что, несмотря на текущий успех, белым не удастся захватить Москву и они будут отброшены назад к Черному морю163. В беседе с послом Британии, состоявшейся 7 ноября, прежде чем решающие битвы между белыми и красными закончились в пользу последних, Пилсудский оценил качество военных сил обеих сторон как одинаково низкое и выразил мнение, что к весне Красная Армия оправится от нанесенных ей ударов164.
Недоброжелательное отношение Пилсудского к белым питалось не только соображениями о границе. Некоторые польские дипломаты считали, что, как только белые сойдут со сцены, Польша станет главным реципиентом французской, а возможно, и английской помощи, точкой приложения усилий дипломатии союзников в Восточной Европе165. Мнение это было совершенно ошибочным, оно преувеличивало международное значение Польши и недооценивало готовность союзников пойти на контакт с большевиками, как только кончится гражданская война.
Вот по каким соображениям Пилсудский принял осенью 1919 г. решение отказать белым в военной помощи: он хотел избавиться от Деникина, чтобы иметь дело со слабой, изолированной большевистской Россией. В конце 1919 г. польские вооруженные силы на Востоке, сильно углубившиеся в спорную территорию и находящиеся в состоянии фактической войны с Советской Россией, получили приказ не предпринимать операций против Красной Армии, если те могут быть на руку Деникину166.
Большевистские вожди не преминули отреагировать на изменения в польской политике. Они желали любой ценой предотвратить сговор между Деникиным и Пилсудским, предлагая Польше не только безусловную независимость, но практически любое территориальное решение, которое ее устроило бы. Уступки эти являлись тактическим маневром, сделанным в расчете на то, что вскоре не только российские территории, на которые претендовала Польша, но и она сама станут коммунистическими. По словам Юлиана Мархлевского, польского коммуниста, служившего посредником между Варшавой и Москвой, «члены советского руководства, так же как и другие товарищи, с мнением которых считались, включая меня, были глубоко убеждены, что в ближайшем будущем все границы утратят значение, поскольку революционный переворот в Европе, а следовательно и в Польше, был только делом времени, делом нескольких лет»167.
Деникин, чья политическая проницательность оставляла желать лучшего, был, казалось, в полном неведении относительно производимых Пилсудским расчетов и возможности польско-большевистского сближения. При подготовке броска на Киев он всерьез рассчитывал объединить усилия с польским войском, передовые отряды которого находились менее чем в 200 км от украинской столицы, в тылу красной Двенадцатой армии168.
Фундамент договоренности между Варшавой и Москвой о кампании против Деникина был заложен в марте 1919 г. во время секретных переговоров между Мархлевским и Юзефом Беком, заместителем министра внутренних дел и отцом будущего министра иностранных дел Польши. Мархлевский провел годы войны в Германии, где принял участие в организации экстремистского радикального «Союза Спартака», а в начале 1919-го — и в социалистической революции. Впоследствии стал крупным функционером Коммунистического Интернационала. Он внушил Беку, что белые представляют смертельную опасность не только для большевиков, но и для поляков169. Немедленных результатов эта встреча не принесла. В мае 1919-го Мархлевский отбыл в Москву, где предложил советскому правительству вступить в переговоры с Польшей. В начале июля, когда дела у Красной Армии пошли неважно, предложение приняли. Начавшиеся в том же месяце переговоры касались якобы обмена военнопленными. Когда весной 1919 г. поляки оккупировали Вильнюс, они арестовали несколько местных коммунистов. Русские в ответ взяли в заложники не одну сотню проживавших в России поляков170. Мархлевский предложил Центральному Комитету превратить эту размолвку в прикрытие для дипломатических переговоров: поляки, убеждал он, легко откажутся от участия в гражданской войне, если пойти на территориальные уступки. С благословения советского правительства он вступил в середине июля в охотничьей избе в Беловежской пуще в неформальные переговоры с представителями Польши, в процессе которых пояснил, что советское руководство готово пойти на щедрые территориальные уступки в пользу Польши171. Поляки отреагировали сдержанно из-за боязни, что секретные сношения с Москвой могут восстановить против них союзные державы. В августе и сентябре переговоры были приостановлены, и польские войска продолжали продвигаться на восток.
Переговоры возобновились 11 октября в Микашевичах, небольшой железнодорожной станции, и продолжались до 15 декабря172. Уверенный, что все козыри у него на руках, Пилсудский велел своим дипломатам говорить, что Польша не уступит уже оккупированных ею территорий, и даже, по возможности, настаивать на восстановлении границ 1772 года.
Мархлевский уверял поляков, что Россия готова уступить Белоруссию и Украину: «территориальный вопрос не стоит, Польша получит то, что хочет». [Wandycz P. Soviet-Polish Relations. Cambridge, Mass., 1969. P. 139. Or Карла Радека нам известно, что Москва предложила Польше всю Белоруссию до реки Березина, так же как Подол и Волынь: Radek К. Die Auswfcrtige Politik Sowiet-Russlands. Hamburg, 1921. S. 56]. Решимость Пилсудского пойти на сговор с большевиками только усилилась после того, как польская разведка и дипломатические источники на Западе донесли, что белые, почувствовав скорую победу, готовились предоставить Польше независимость исключительно в границах Царства Польского и собирались настаивать на эвакуации польских войск со всех занятых ими российских земель173. 26 октября представитель Пилсудского капитан Игнатий Бернер сказал Мархлевскому: «Нам важно, чтобы вы победили Деникина. Берите свои полки, посылайте их против Деникина или против Юденича. Мы вас не тронем»174. Верные своему слову, польские войска, расположенные в тылу красных, не пошевелились, когда красные и белые вступили в бой у Мозыря в Волыни. Здесь располагался неприкрытый крайний правый фланг красных. Если бы поляки начали наступление на Чернигов, они смогли бы взять в окружение большую часть красной Двенадцатой армии. Бездействие их было намеренным. Обещание Польши о невмешательстве сослужило бесценную службу Красной Армии, которой перед этим пришлось выставить против нее третий по величине контингент войск: оно позволило Москве перебросить с Западного фронта 43 000 человек на борьбу с Деникиным175.
14 ноября, выслушав доклад Мархлевского, Политбюро согласилось на условия Польши за одним ограничением: они не хотели обещать, что откажутся от нападения на Петлюру, командующего Украинской народной армией176. 22 ноября Мархлевский вернулся в Микашевичи. По требованию польской стороны секретный документ оформили не как договор, а только как соглашение об обмене заложниками: Пилсудскому не понравились ленинские оговорки насчет Петлюры, относительно которого у него самого имелись определенные замыслы. Он не хотел заключать формальный договор с большевиками и по другой причине: это могло скомпрометировать его в глазах союзников. Пилсудский вообще не доверял обещаниям Советов и считал, что вопрос о границах будет решаться силой следующей весной177.
Впоследствии Пилсудский хвалился через своего представителя, что намеренное бездействие его войск при Мозыре решило, по всей вероятности, исход гражданской войны178. Деникин и некоторые другие белые тоже увидели в этом тайном сговоре большевиков и поляков основную причину своего поражения179. Тухачевский и Радек соглашались в том, что, если бы Пилсудский пришел на помощь Деникину, итог сражения мог оказаться иным180.
22 декабря, всего через неделю после завершения переговоров в Микашевичах и когда войско Деникина было уже полностью разбито, военное министерство Польши получило приказ к началу апреля 1920 г. подготовить войска к «окончательному решению русского вопроса»181.
Таково было влияние польских проблем. Почти так же разрушительно сказался на судьбе Белого движения отказ его руководителей удовлетворить требования финских и эстонских националистов. В начале 1919 г. несколько русских генералов, поддержанных Национальным центром, начали формировать в Эстонии армию для захвата Петрограда. Войско состояло преимущественно из военнопленных, освобожденных немцами в странах Балтии. Основателем того, что стало впоследствии называться Северным корпусом, а затем Северо-Западной армией, был Александр Родзянко, известный кавалерийский царский генерал; в июне Н.Н.Юденич, герой Первой мировой войны, был назначен Колчаком командующим войсками Балтийского региона, а в октябре встал во главе новой армии. Силы были невелики — в мае они насчитывали 16000 человек, — хотя они пользовались поддержкой британских военно-морских сил на Балтике, но не смогли бы справиться с поставленной задачей без помощи эстонцев и финнов.
Тут-то вопрос о финской и эстонской независимости и оказался непреодолимым препятствием. Финляндия объявила о своей частичной самостоятельности в июле 1917 г., в то время ее иностранные дела и военные силы все еще находились в ведении России. 4 ноября (по новому стилю) Финский сейм провозгласил полную независимость. Правительство Ленина законодательно признало суверенитет Финляндии 4 января 1918 г. (н.с.) и мгновенно попыталось его нарушить. В ночь с 27 на 28 января (н.с.) финские коммунисты при содействии русской армии и военно-морского гарнизона в 40 000 человек подняли путч, в результате которого установили контроль над Хельсинки и южной частью страны. Коммунистическое правительство распустило финский сенат и сейм и развязало гражданскую войну с перспективой превращения Финляндии в Советскую республику.
Финские националисты создали в ответ Оборонительный корпус под командованием генерала Карла Маннергейма, служившего в свое время в царской армии. Его добровольцы без труда освободили от коммунистов Северную Финляндию, но на освобождение юга у них не хватило сил. Германские части, находившиеся здесь для снабжения и боевой подготовки Оборонительного корпуса, сомневались, что финны смогут вести войну в одиночку. Опасаясь, что Четверное согласие откроет с опорой на Мурманск новый Восточный фронт, Германия решила помочь финнам своими войсками. Несмотря на возражения Маннергейма, в начале апреля немецкие части под командованием генерала Р. фон дер Гольца высадились в Финляндии. Они быстро расправились с коммунистами и 12 апреля захватили Хельсинки. К концу месяца, когда германо-финские силы заняли Выборг, сторонников Ленина в Финляндии совсем не осталось.
Через год после того войско Юденича, получившее подкрепление из 20 000 эстонцев, развернулось в Эстонии. 13 мая 1919 г. оно перешло границу, углубилось в советскую территорию и стало с юга двигаться к Петрограду. С помощью разведки, производившейся агентами Национального центра, Юденич захватил Псков и приблизился к бывшей столице на угрожающее расстояние, хотя его силы были недостаточны для того, чтобы захватить город. Генерал непрерывно ездил в Хельсинки, пытаясь получить помощь от Маннергейма182. Овладение Петроградом стало бы несравненно более легкой задачей, если бы производилось с финской территории, через Карельский перешеек, особенно если бы в нем приняла участие только что сформированная финская армия.
Юденич побуждал Маннергейма помочь ему, пойдя в одновременное с ним наступление через Карелию. Колчак поддерживал эту просьбу183. Союзники же занимали до странности противоречивую позицию. 12 июля Совет Четырех направил правительству Финляндии ноту, в которой говорилось, что, если та пожелает «удовлетворить просьбу адмирала Колчака и повести наступление на Петроград... правительства союзных держав... не будут иметь никаких возражений против проведения подобной операции»184. В то же время они отрицали, что намеревались оказывать какое бы то ни было давление на Финляндию относительно этого вопроса. Частным же образом британская сторона предупреждала Маннергейма, чтобы тот не предпринимал наступления. Лорд Керзон, министр иностранных дел, говорил генералу сэру Губерту Гофу, направлявшемуся на Балтику, чтобы принять командование над военной миссией союзников, что «он должен быть крайне осторожен и не поощрять генерала Маннергейма... выступать на Петроград... Мне следовало подробно разъяснить ему [Маннергейму], что не следует ожидать британской помощи или одобрения, если он предпримет подобную операцию»185. Керзон, кроме того, посоветовал Гофу не «ориентироваться исключительно» на точку зрения Черчилля186. Ни Британия, ни Франция не захотели дать правительству Финляндии тех финансовых гарантий, которые оно желало получить в компенсацию своего участия в русской гражданской войне на стороне белых187. У нас нет, таким образом, недостатка в доказательствах того, что союзники не хотели захвата Петрограда белыми. Отношение это возникло скорее всего из-за страха перед сотрудничеством Финляндии и Германии, на это указывает и тот факт, что Британия запретила Юденичу принять помощь боеприпасами, предложенную командующим германскими силами в Балтии. Служащий британского министерства иностранных дел заявил в октябре 1919-го, что лучше, если Петроград вообще не будет взят, чем захвачен немцами, — под последними он, должно быть, подразумевал финнов, опирающихся на германскую поддержку188. Ивен Модели справедливо замечает, что, если бы союзники всерьез собирались свергнуть режим большевиков, открытие петроградского фронта стало бы идеальной отправной точкой для этого189.
Все это важно помнить при попытке дать объяснение противоречивому отношению союзников к идее интервенции, при том что готовность Маннергейма послать войска в Россию была вовсе не очевидной. Социалисты, державшие прочное большинство в финском сейме, противились вмешательству в российские дела; такого же мнения придерживалось большинство в правительстве Маннергейма190. Существовал определенный страх, что интервенция вызовет общественные волнения в Финляндии191. Донкихотская же позиция белых по вопросу о ее независимости разрушила и ту небольшую вероятность финского участия в наступлении Юденича, которая существовала.
Признание независимости Финляндии было бы по сути дела простой формальностью, поскольку она к тому времени стала суверенным государством и была уже признана в этом качестве рядом стран, включая Францию, Германию и Советскую Россию. Но политические советники Колчака в Париже, предводительствуемые бывшим министром иностранных дел Сергеем Сазоновым, однозначно воспротивились возможности признания Финляндии до созыва Учредительного собрания.
Юденич, понимая, что без помощи Маннергейма его дело будет проиграно, согласился под сильным давлением Британии единолично признать независимость Финляндии; новые границы должны были быть определены путем плебисцита. Согласно дополнительному военному соглашению Маннергейм становился во главе русских вооруженных сил, принимающих участие в планируемом захвате Петрограда, с оговоркой, что русские офицеры станут во главе как своих, так и финских частей, едва только город будет взят192. Уступку, сделанную Юденичем, аннулировал Колчак, который телеграфировал ему 20 июля, что с Финляндией не следует заключать никаких договоренностей, поскольку ее условия неприемлемы, а готовность оказывать помощь сомнительна193. Маннергейм телеграммой сообщал Колчаку, что готов оказывать помощь, но только при условии выдачи ему «необходимой гарантии», понимая под этим формальное признание194. Не получив его, он не только отказался помогать военной силой, но, что было не менее существенно, не позволил белым вести наступление с финской территории195. Вскоре после этих событий (25 июля), проиграв на очередных выборах, Маннергейм отбыл в Париж для участия в Мирной конференции.
После отставки Маннергейма Юденич выехал вместе со своим небольшим штабом в Ямбург, чтобы принять командование над русскими вооруженными силами в Эстонии. Он собирался привлечь на свою сторону эстонцев, но последние решили воздержаться от участия в походе из страха, что небольшевистская Россия откажется признать их суверенитет, в то время как советское правительство предлагало им признание независимости на единственном условии прекратить сотрудничество с белыми196.
Как и в случае с Польшей, Москва не замедлила воспользоваться возможностью перессорить своих врагов между собой. 31 августа большевики предложили мир Эстонии, a ll сентября — Латвии, Литве и Финляндии197. 14—15 сентября представители четырех государств на встрече в Ревеле решили открыть переговоры с Советами198. Представители трех стран Балтии информировали Москву, что готовы к встрече дипломатов не позднее 25 октября199. Британия выразила протест против этого решения и одновременно призвала Деникина и Колчака признать эти страны, но получила твердый отказ200.
В течение следующих двух месяцев Северо-Западный фронт белых не давал о себе знать. Операция против Петрограда возобновилась в конце сентября, одновременно с наступлением Деникина на Украине. Снова белые оказались вынужденными атаковать старую столицу с юга, а не с северо-запада.
* * *
Деникину приходилось противостоять не только Красной Армии, но и многочисленным бандам, обычно именуемым «зелеными», ведшим войну и против красных, и против белых. На левом его фланге возникло анархистское движение Нестора Махно, возглавившего войско в несколько тысяч партизан. Программа их была — уничтожение всякой государственной власти, цель — грабеж. Родившийся в бедной украинской семье, Махно рано стал анархистом и провел много лет на царской каторге201. Если доверять его мемуарам, то в июне 1918 г. он встретился в Москве с Лениным и Яковом Свердловым, и последний помог ему переправиться на Украину для борьбы с немцами202. Склонный к доминированию и причудливой жестокости, Махно привлекал дезертиров и авантюристов, а также отбросы анархистской интеллигенции. После взятия его войском в декабре 1918-го Екатеринослава Троцкий назначил Махно командиром отряда Красной Армии, который к 1919 г. вырос до 10000—15000 сабель. Несмотря на все это, отношения между ним и большевистским руководством оставались напряженными, поскольку, даже сотрудничая с ним, Махно возражал против продразверстки и деятельности чека. 1 августа 1919 г. он издал «Приказ № 1», в котором призывал к истреблению богатых буржуев и коммунистов-комиссаров, которые «использовали силу для восстановления буржуазного строя»203. Действуя в Крыму и вдоль восточного побережья Азовского моря, 40 000 приспешников взрывали по его приказу мосты и склады боеприпасов. В октябре Деникину пришлось выслать против Махно шесть полков, хотя они отчаянно требовались ему самому для операций против Красной Армии. Этот отток сил болезненно отозвался на ходе сражения под Орлом и Курском, решившего исход гражданской войны204 .
Белым приходилось также бороться и с украинскими националистами под командованием Петлюры. Части белых и войска Петлюры вошли в Киев почти одновременно, 30—31 августа, и, дабы избежать конфликта, провели демаркационную линию, оставлявшую город под контролем белых205. Силы Петлюры рассматривались белым командованием как враждебные, и на их нейтрализацию приходилось постоянно отряжать войска. Со временем Петлюра отошел с остатками своей армии в польскую Галицию и вступил в переговоры с Пилсудским, оказавшие влияние на ход советско-польской войны год спустя.
У Красной Армии в тылу также постоянно возникали проблемы с партизанами, но и в этих случаях ее численный перевес сослужил ей бесценную службу. Летом 1919 г. на подавление внутреннего сопротивления было послано 180 000 красноармейцев — количественно это составляло более половины всех сил, задействованных в войне с белыми206.
* * *
Поражение Колчака явилось горьким разочарованием для тех немногих британских государственных деятелей, кто не был совершенно против идеи интервенции. 27 июля, узнав, что Красная Армия взяла Челябинск и, следовательно, перевалила за Урал, Керзон записал: «Дело проиграно»207. Новости привели к переоценке британского участия в русских делах в тот самый момент, когда Деникин готовился совершить свой последний бросок на Москву.
Военный Кабинет назначил на 29 июля совещание для обсуждения русской ситуации. Новости о неудачах Колчака придали смелости тем, кто с самого начала хотел договариваться с Лениным. Их образ мысли нашел отражение в меморандуме, представленном Кабинету чиновником Казначейства Э.М.Харви208. В документе была представлена сильно искаженная картина внутреннего положения в России, на основании которой выдвигалось требование отказаться от помощи Белому движению. Исходной посылкой являлось рассуждение, будто в гражданской войне выигрывает сторона, пользующаяся большей поддержкой народа, и из этого делался вывод, что, поскольку Ленин и его правительство разбили всех своих противников, за ними стоят народные массы: «Устойчивость большевистского правительства нельзя объяснить исключительно террором... Когда судьба большевиков, казалось, была уже решена, они начали такое мощное наступление, что силы Колчака до сих пор отступают. Для этого недостаточно терроризма, недостаточно крайней неуступчивости — для такого нужно нечто подобное энтузиазму. Мы должны признать таким образом, что настоящее российское правительство принимается большинством российского народа». Обещание белых немедленно после одержания победы созвать Учредительное собрание обесценивалось, поскольку не оставалось никакой уверенности, что «Россия, приведенная к избирательной урне, не изберет снова (!) большевиков». Неприемлемые особенности ленинской манеры управлять государством оказывались в большой степени навязанными ему врагами: «Государственные нужды заставляют его оправдывать многочисленные акты насилия, в то время как в состоянии мира его правление станет по необходимости прогрессивным или падет. В связи с этим мы решаемся настаивать на том, что самый надежный способ избавиться от большевизма или, по крайней мере, устранить его порочные свойства, это прекратить нашу помощь движению Колчака и окончить таким образом гражданскую войну». Рассуждения автора документа неизбежно подводили к мысли, что необходимо также прекратить помощь Юденичу и Деникину, хотя сам он этого не формулировал. [В 1920 г. Харви станет одной из тех влиятельных персон, кто торопил Ллойд Джорджа признать Советскую Россию и вступить с нею во взаимные торговые отношения с целью ее «цивилизовать» (см.: Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 344-345)].
Некоторое время Военный Кабинет не реагировал на меморандум Харви. Он вынес решение продолжать поддерживать белых, но сосредоточить внимание на Деникине209. По этому поводу Ллойд Джордж высказался вслед за Харви в том смысле, что «если бы за Деникиным действительно стоял народ, большевики бы его никогда не победили»210 — словно одерживаемая в бою победа является чем-то вроде результатов голосования.
Противники интервенции максимально старались использовать психологические преимущества, полученные ими в результате колчаковских неудач, и стали требовать, чтобы правительство опубликовало цифры, показывающие, во сколько вторжение в Россию обойдется Британии. 14 августа военное министерство опубликовало документы, в которых была постатейно расписана помощь, оказанная непосредственно Британией белым (включая страны Балтии) в течение года после заключения перемирия на Западном фронте. Сумма затрат оказалась равной 47,9 млн. фунтов стерлингов (т.е. 239,5 млн. долларов211). Через неделю Керзон сообщил Бальфуру, что к концу года эта сумма должна возрасти до 94 млн фунтов (470 млн. долларов, или 730 т золота212). Черчилль оценил эти цифры как «абсурдное преувеличение»: «Действительные расходы, помимо снаряжения, не превосходили и десятой части этой суммы. Само снаряжение, хотя его производство и стоило дорого, являлось нереализуемым остатком от Первой мировой войны, и ему нельзя поэтому приписать никакой денежной стоимости. Если бы оно находилось у нас, пока не рассыпалось в прах, это потребовало бы дополнительных расходов по складированию, уходу и ремонту»213.
12 августа военное министерство приняло предложение Остина Чемберлена, канцлера казначейства и ярого противника интервенции, выдать Деникину «последний пакет», который почти полностью должен был состоять из «нереализуемых» товаров. Белому генералу следовало также сообщить, что впредь дотаций он не получит214. Премьер-министр пришел таким образом к компромиссному решению: поддержку Деникину окажут, но количество будет оговорено, и, когда поставка ее закончится, ничего больше не воспоследует. Черчилля попросили представить необходимые сведения.
Французы, крайне скупо помогавшие белым, также выходили из терпения: в сентябре они объявили, что прекращают все поставки в кредит и согласны продолжить их только за деньги или в обмен на товары. Деникин открыл переговоры о поставках во Францию зерна, угля и прочих товаров с Юга России, но, прежде чем их успели отправить, армия генерала рухнула215.
Ограничения на поддержку, и это следует подчеркнуть, наложили в тот момент, когда Деникин казался ближе всего к победе; как и многое в поведении союзников в то время, это решение вызывает вопрос, каковы же были истинные намерения Лондона и Парижа.
Белые ощутили себя покинутыми, и чувство это еще усилилось при оставлении союзниками северных портов, — соответствующее решение было принято еще в начале марта, но Колчака поставили в известность только в конце апреля216. На исходе сентября 23 000 человек войск союзников и 6500 русских вывезли из Архангельска; находившийся в Мурманске контингент отбыл 12 октября. Их место заняли 4000 британских добровольцев, ветеранов Первой мировой войны. Эвакуация представляла собой сложный маневр, поскольку силы большевиков, расположенные по периметру баз союзников, изготовились к нападению. Чтобы защитить своих людей, генералу Айронсайду пришлось отдать приказ о наступлении, в котором приняли участие британские и русские добровольцы; операция эта проводилась 10 августа и стоила британцам 120 жизней217. Всего потери Британии за время оккупации ею Русского Севера составили 327 человек. Америка потеряла 139 солдат и офицеров (всех вследствие ранений и несчастных случаев218).
7 октября Добровольческая армия с боями шла на Орел, в 300 км от Москвы, а Юденич планировал второе наступление на Петроград, когда британский Кабинет принял решение по «Завершающему вспомоществованию генералу Деникину», которое должно было составить 11 млн. фунтов (55 млн. долларов) в остаточной технике, не имевшей рыночной стоимости, 2,25 млн. фунтов (11,25 млн. долларов) в остаточных ходовых товарах и 750 000 фунтов (3,15 млн. долларов) деньгами, в основном для оплаты транспорта219.
Зерна предательства были брошены в ниву. После того как Колчак был вынужден отступить, сердце Британии уже не лежало к интервенции, а ее правительство начало изыскивать пути отхода от русских дел. Не оставалось никакого сомнения в том, что, как только Деникин потерпит первое серьезное поражение, и в любом случае еще до конца текущего года, он тоже будет оставлен на произвол судьбы. [Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 211—212. 1 октября 1919 г. польский посол в Лондоне направил в Варшаву телеграмму, что Деникину осталось пользоваться помощью всего несколько недель; если ему не удастся взять Москву до наступления зимы, всякая помощь прекратится, и Россию «вычеркнут» (см.: Polska Akademia Nauk. Dokumenty i materialy do historii stosunkow Polsko-Radzieckich. Warszawa, 1961. Vol. 2. P. 388)].
Таким образом, помимо всех имевшихся проблем, Деникин получил в подарок бомбу с часовым механизмом, и она стала отсчитывать время.
* * *
В лагере большевиков летом 1919 г. возникли сильные разногласия вокруг стратегической ситуации. После того как Уфа была отбита и наступление Колчака сдержано, Троцкий и его ставленник, главнокомандующий Вацетис, считали необходимым занять оборонительные позиции вдоль Урала и перебросить все высвободившиеся войска на Южный фронт. Сталин предпочитал сначала полностью разделаться с Колчаком. Он выдвигал на пост главнокомандующего С.С.Каменева, возглавлявшего до этого операцию против адмирала. Поскольку Каменев имел одинаковую со Сталиным точку зрения, Троцкий отказывался ставить его главнокомандующим. Однако Центральный Комитет взял верх над Троцким и принял решение утвердить Каменева вместо Вацетиса. На этом посту он оставался до 1924 г. Комитет также критиковал Троцкого за плохое управление военным комиссариатом220. Разобидевшись, Троцкий 5 июля предложил выйти из состава Политбюро и оставить место Председателя Реввоенсовета Республики на том якобы основании, что его частые отлучки на фронт препятствуют участию в принятии политических и военных решений в центре. Он советовал отдать эти должности кому-нибудь, кто не сможет быть обвинен в «пристрастии к бюрократизму и методам репрессии»221. Политбюро единодушно отклонило это предложение, а Ленин, дабы задобрить Троцкого, дал ему carte blanche на пользование собственной подписью в тех случаях, когда кто-то усомнится в принимаемых им решениях.
* * *
Гражданская война сопровождалась устрашающими погромами по всей правобережной Украине, масштабами и жестокостью сравнимыми разве что с теми, что происходили во времена Богдана Хмельницкого за триста лет до того.
К началу Первой мировой войны примерно две трети всех евреев мира жило на территории Российской империи. Статус их был чрезвычайно неустойчив. Царское законодательство вынуждало всех евреев, за исключением горстки самых образованных и богатых, проживать в пределах черты оседлости — в Западной Украине, в Белоруссии, Литве и в Польше, где они уже обитали к тому моменту, когда России после раздела Польши достались эти территории. Жившим там евреям как представителям мещанского сословия приходилось селиться в городах и добывать пропитание торговлей и ремесленничеством. Существовали квоты на доступ евреев к среднему и высшему образованию. Они абсолютно не допускались (являясь единственной национальной группой, на которую было наложено подобное ограничение) к гражданской службе; на военной службе им были недоступны офицерские звания. К ним относились как к касте парий, что было анахронизмом и противоречило основной тенденции к гражданскому равенству, наблюдавшейся в Российской империи позднего периода. Особенно страдали от лишения гражданских прав евреи, утратившие религиозные и культурные связи с их национальными сообществами, но тем не менее постоянно заводимые в тупик ограничениями, накладываемыми на них доминирующим православным сообществом.
В начале двадцатого века просвещенная часть российской бюрократии стала выступать за то, чтобы евреям было гарантировано если не полное, то хотя бы частичное равенство222. Их аргументом было: средневековое законодательство России ставило ее в неловкое положение за рубежом и затрудняло получение ссуд из международных банков, в которых евреи играли важную роль. Помимо этого, ограничения, искусственно создаваемые на пути получения образования и продвижения по службе, выталкивали еврейскую молодежь в сферу революционной деятельности. Однако благие советы остались без употребления, отчасти из-за сопротивления министерства внутренних дел, боявшегося проникновения политического и экономического влияния еврейства в деревню, а отчасти вследствие антисемитизма Николая Второго и его окружения.
Черта оседлости отменилась естественным образом во время Первой мировой войны, когда несколько сот тысяч евреев снялись с места и переселились во внутренние части России; некоторые оттого, что их насильно эвакуировали, другие потому, что приближалась линия фронта. Тогда примерно полмиллиона евреев служило в царской армии рядовыми — первые получившие производство в офицеры евреи появились только при Временном правительстве223, которое официально упразднило черту оседлости и отменило еще существовавшие гражданские неравенства. Евреи продолжали расселяться по внутренним территориям России в течение гражданской войны и после нее. К 1923 г. еврейское население Великороссии выросло с 153 000 в 1897-м до 533 000 человек. В то же время в черте оседлости евреи переселялись из маленьких местечек, где две трети их жило до революции, в большие города224. После 1917 г. евреи впервые в русской истории стали назначаться на государственную службу. Так случилось, что в результате революции евреи неожиданно стали появляться в тех частях страны, где их не видывали раньше, и на таких должностях, какие ими никогда до того не исполнялись.
Это было фатальное стечение обстоятельств: для многих русских появление евреев совпало по времени с невзгодами коммунистического режима, стало идентифицироваться с ними. По словам еврея — современника событий, «русский человек никогда прежде не видал еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Бывали и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей — во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной Армии, совершеннейшего механизма самоистребления. Он видит, что проспект Св. Владимира носит теперь славное имя Нахимсона, исторический Литейный проспект переименован в проспект Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь еврея и судьей, и палачом; он встречает на каждом шагу евреев, не коммунистов, а таких же обездоленных, как он сам, но все же распоряжающихся, делающих дело Советской власти, она ведь всюду, от нее и уйти некуда. А власть эта такова, что, поднимись она из последних глубин ада, она не могла бы быть ни более злобной, ни более бесстыдной. Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, утверждается в мысли, что нынешняя власть еврейская и что потому именно она такая осатанелая»225.
Следствием было мгновенное и заразительное распространение антисемитизма, поначалу в России, затем и за рубежом. Точно так же, как социализм явился идеологией интеллигенции, а национализм — идеологией старого гражданского и военного истеблишмента, юдофобия стала идеологией масс. В конце гражданской войны русский публицист записывает следующее наблюдение: «Ненависть к евреям — одно из самых примечательных свойств современной русской жизни; может быть, даже и самое примечательное. Евреев ненавидят повсюду, на севере, на юге, на востоке и на западе. К ним относятся с отвращением все социальные слои, все политические партии, все национальности и лица всех возрастов». [Masloff S.S. Russia After Four Years of Revolution. London—Paris, 1923. P. 148. F.A.Mackenzie пишет в The Russian Crusifixion (London, n.d.), что и в коммунистических, и в некоммунистических кругах евреев ненавидели «с такой силой, что это трудно описать»: население только выжидало, чтобы устроить погром, перед которым померкли бы все предыдущие погромы (Р. 125)]. К концу 1919 г. яд антисемитизма проник даже в среду либеральных кадетов226.
Непосредственной причиной этой безумной ненависти, естественной для общества, находящегося в состоянии морального и физического разложения, было ощущение, что революция принесла разорение всем, и только евреи, они одни, выгадали от нее. Убеждение это легло в основу вывода, будто вся революция была задумана евреями. Подобные взгляды находили себе фальшивое теоретическое обоснование в так называемых «Протоколах Сионских мудрецов», литературной подделке, изготовленной царской полицией; не встреченные должным вниманием во время выхода их в свет в 1902-м, «Протоколы» теперь получили всемирное распространение. Основная их мысль — что евреи будто бы устроили секретный заговор с целью подчинить себе весь мир — обретает в свете событий в России силу пророчества. Ассоциативная связь между евреями и коммунизмом, возникшая после революции и экспортированная в Веймарскую Германию, была немедленно усвоена Гитлером и превращена им в основное оправдание нацистского движения.
Большевики не допускали открытых проявлений антисемитизма и тем паче погромов на подконтрольных им территориях, поскольку отлично понимали, что антисемитизм стал прикрытием для антикоммунизма227. Но по этой же самой причине они не предпринимали никаких попыток предать гласности антисемитские эксцессы белых, чтобы не сыграть случайно на руку тем, кто обвинял Советы в защите «еврейских» интересов. В 1919 г., пока шли погромы на Украине, большевистское правительство хранило, за исключением нескольких случаев вялого протеста, благоразумное молчание, явно из опасения вызвать сочувствие к белым в среде собственного населения. [Создавшийся миф подкреплялся определенными символическими действиями. Например, в первые годы коммунистического правления общественные здания украшались иногда шестиконечной звездой Давида (см., напр.: Красный Петроград: Вторая годовщина великой пролетарской революции. Пг, 1920. С. 17). Пятиконечная звезда, которую взяла себе эмблемой в 1918 г. Красная Армия, была известным масонским символом, а для многих русских масонство было синонимом еврейства.].
Парадокс, осложнявший ситуацию, заключался в том, что, несмотря на общепринятое мнение, будто они трудились на благо своего народа, большевики еврейского происхождения не только не думали о себе как о евреях, но и противились тому, чтобы их воспринимали подобным образом. Еще во времена царизма, вынужденные брать себе конспиративные клички, они всегда выбирали русские фамилии и никогда — еврейские. Они разделяли взгляд Маркса, считавшего евреев не нацией, а социальной кастой, причем весьма зловредного, эксплуататорского свойства. Им хотелось, чтобы евреи как можно скорее ассимилировались, и верилось, что это произойдет, как только их заставят заняться «производительным» трудом. В двадцатые годы советский режим прибегал к помощи большевиков-евреев и членов еврейского социалистического Бунда, чтобы разрушить налаженную жизнь еврейских сообществ в России.
Причиной подобного отступничества было то, что для еврея, желавшего по той или иной причине отойти от своего еврейства, открывалось всего две возможности. Один способ был креститься. Но для неверующего еврея это не могло стать выходом. Альтернативная возможность была — присоединиться к «нации без национальности», к радикальной интеллигенции, образовавшей космополитическую общину, равнодушную к национальным или религиозным корням, преданную идеям равенства и свободы: «Большевизм привлекал евреев-маргиналов, застрявших меж двух миров — еврейского и христианского, — творивших для себя новую родину, содружество идеологов, решивших переделать мир по своему образу. Евреи эти совершенно намеренно и сознательно порывали со стеснительной социальной, религиозной и культурной жизнью еврейских общин в черте оседлости и подвергали нападкам светскую культуру еврейских социалистов и сионистов. Отбросив свои корни и свою идентичность, но не найдя для себя русской жизни, не разделяя ее с русскими и даже не будучи вполне допущенными к ней (кроме как в жизни партийной), евреи-большевики нашли свой идеологический дом в революционном универсализме»228. Действовавшие в рядах большевиков и прочих радикальных партий евреи были, как правило, псевдоинтеллигентами, получившими благодаря различным «дипломам» право проживать за чертой оседлости229; они порвали со своей средой, но не обрели права войти в русскую среду, где им доступна была только та часть, которая состояла из людей, подобных им.
Троцкий — этот сатанинский «Бронштейн», пугало русских антисемитов, — бывал, как правило, глубоко обижен, если кто-нибудь осмеливался назвать его евреем. Когда прибывшая еврейская делегация призвала его оказать помощь своим собратьям, он пришел в ярость: «Я не еврей, а интернационалист»230. Сходным же образом он отреагировал на просьбу петроградского раввина Айзенштадта выделить немного муки на приготовление пасхальной мацы, причем заявил, что «никаких евреев знать не хочет»231. В другой раз он сказал, что евреи интересуют его не больше, чем болгары232. Согласно одному из его биографов, после 1917 г. Троцкий «устранился от еврейских проблем» и «в общем стал относиться к еврейскому вопросу несерьезно»233. Он и действительно стал относиться к этому настолько несерьезно, что, когда евреи начали тысячами погибать во время погромов, он, казалось, этого просто не замечал. В августе 1919 г. Троцкий был на Украине, ставшей тогда местом чудовищных кровавых избиений евреев. Британский ученый обнаружил в советских архивах свидетельства того, что Троцкий «получал сотни донесений о погромах и грабежах, чинимых его солдатами в украинско-еврейских поселениях»234. Тем не менее, ни в его публичных выступлениях, ни в его секретных донесениях в Москву не содержалось и намека на имевшие место зверства: в предметном указателе к сборнику текстов его речей и распоряжений за 1919 г. мы не найдем даже слова «погром»235. Более того, на заседании Политбюро 18 апреля 1919 г. Троцкий сетовал на то, что слишком много евреев и латышей оказывается в прифронтовых отрядах ЧК и на канцелярской работе в различных учреждениях, и рекомендовал более равномерно распределять их между фронтом и тылом236. Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что на протяжении всего этого изобилующего убийствами евреев года он ни разу ни словом, ни делом не вступился за тот самый народ, на благо которого, как говорили, он трудился. Остальные евреи из ленинского окружения проявляли ничуть не большую заинтересованность положением своих соплеменников, то же можно сказать и о таких демократах и социалистах, как, например, Мартов. С этой точки зрения белые генералы, в некоторых случаях открыто признававшиеся в нелюбви к евреям, производят лучшее впечатление, поскольку, хотя и они почти ничего не делали для того, чтобы предотвратить зверства, тем не менее осуждали их и впоследствии выражали сожаление, что погромы имели место237.
Стремление некоторых большевиков-евреев растождествиться с собственным еврейством и отмежеваться от своего народа принимало подчас гротескные формы, как, например, в случае с Карлом Радеком, который сказал знакомому немцу, что хотел бы «истребить» (ausrotten) всех евреев, и говорил, извращая мысль Гейне, что еврейство — это «болезнь». [Разговор с Альфонсом Паке 10 сентября 1918 (см.: Von Brest-Litovsk zur deutschen Novemberrevolution / Ed. by W.Baumgart. Gottingen, 1971. S. 152). На самом деле Гейне сказал не что еврейство это «болезнь», а что иудаизм — «несчастье» (ein Ungluck) (там же).].
Белое движение в первый год своего существования было свободно от антисемитизма, во всяком случае от его открытых проявлений. Евреи служили в рядах Добровольческой армии и принимали участие в первом Кубанском (Ледяном) походе238. В сентябре 1918 г. генерал Алексеев объявил, что не потерпит антисемитизма в Добровольческой армии; кадет М.М.Винавер, еврей, подтверждал в ноябре 1918 г., что не сталкивался в рядах белых ни с чем подобным239.
Зимой 1918—1919 гг. все это изменилось. В Южной белой армии возникло враждебное отношение к евреям, и для этого явилось три повода. Одним стал красный террор, в возникновении которого становилось все более обычным обвинять евреев, не только потому, что они играли подозрительно активную роль в ЧК, особенно в ее провинциальных отделениях, но и потому, что евреи меньше от нее пострадали. [Следуя инструкциям Дзержинского, ЧК брала мало заложников-евреев. Политика эта не являлась следствием оказываемого евреям предпочтения. Заложники должны были служить гарантами того, что белые не станут казнить взятых в плен большевиков. Поскольку, по общему мнению, белым было все равно, кто и что сделает с евреями, брать их заложниками становилось бессмысленным.]. Второй оказался связан с последствиями эвакуации германских сил из России, когда было подписано перемирие на Западе. В 1917—1918 гг. российские антибольшевики убедили себя в том, что ленинский режим был детищем Германии, не имел национальных корней и должен был пасть, как только немцы проиграют войну и уберутся из России. Однако немцы ушли, а большевики остались. Стране потребовался новый козел отпущения, на которого можно было свалить все беды, и по причинам, указанным выше, евреи поразительно хорошо подходили на эту роль. Кроме того, совершено было убийство царской семьи, подробности которого стали известны зимой 1918—1919 гг. В злодеянии немедленно обвинили евреев, которые на самом деле играли в нем второстепенную роль; судьба злополучного царя сравнивалась со страстями Христовыми и понималась в свете «Протоколов сионских мудрецов» как еще один шаг, сделанный сионистами на пути к мировому господству.
Деникин вспоминает, что, когда белые вошли на Украину, весь регион был во власти оголтелого антисемитизма, охватившего все слои населения, в том числе и интеллигенцию. Южная армия, признается Деникин, тоже «не избегла общего недуга» и запятнала себя «еврейскими погромами на путях своих», по мере продвижения на запад240. Деникин оказался под сильным давлением, понуждавшим его очистить ряды военных и гражданские службы армии от «предательских» евреев. (Для Колчака это не являлось проблемой, поскольку в Сибири евреев проживало крайне мало.) Деникин пытался противиться увольнению офицеров-евреев, чего требовали русские, не желавшие служить вместе с ними, но ему это не удалось. Приказы его игнорировались, пришлось перевести евреев в резервные части. По этим же самым причинам из тех евреев, которые добровольно вступали или призывались на службу в Южную белую армию, формировались отдельные части241. К 1919 г. на территориях, занимаемых белыми, стало обычной практикой требовать увольнения всех «евреев и коммунистов» с любых управленческих должностей. В августе 1919 г. в оккупированном белыми Киеве учредили городское управление, где, согласно приказам белого генерала Драгомирова, не оказалось ни одного еврея242. Опасаясь заслужить репутацию «юдофила», Деникин отклонял все просьбы (даже просьбу Василия Маклакова, российского посланника в Париже) назначить для видимости хотя бы одного еврея в свое гражданское управление243.
По мере приближения к Москве армия Деникин все больше заражалась ненавистью к «жидам» и страстным желанием отомстить им за все те беды, которые они будто бы навлекли на Россию. Конечно, абсурдно, рисуя картину Белого движения, искать в нем зерна нацизма и видеть в антисемитизме «центр его мировосприятия»244 — центром этим был национализм, но верно, что белый офицерский корпус, не говоря уж о казачестве, заражался им все больше. Но даже и в этом случае неправильно усматривать прямую связь между этой имеющей эмоциональную природу ненавистью и антисемитскими эксцессами, происходившими во время гражданской войны. С одной стороны, как нами будет показано, большинство злодеяний совершалось не российскими белыми частями, а украинскими бандами и казаками. С другой стороны, погромщиками двигало скорее не религиозное и националистическое рвение, а обыкновенная жадность: самые чудовищные зверства среди белых совершали терские казаки, никогда до этого евреев не знавшие и видевшие в них исключительно источник поживы. Несмотря на то что еврейские погромы имели и собственные, уникальные черты, в более широкой перспективе они представляют собой не что иное, как разновидность общего погрома, распространившегося в то время по всей России: «Свобода была понята как освобождение от ограничений, налагаемых на людей самим фактом их совместной жизни и взаимозависимости между ними. Поэтому уничтожались раньше всего те, в ком воплощена была в каждом данном месте идея государства, общества, строя, порядка. В городах — полицейские, администраторы, судьи; на фабриках — владелец или управитель, само присутствие которых напоминало о том, что нужно работать, чтобы получать плату... в деревнях — соседняя, ближайшая усадьба, символ барства, т.е. власти и богатства одновременно...»245 В маленьких местечках за чертой оседлости этим символом стали евреи. Как только погромы и бандитизм стали обыденным явлением, евреи с неизбежностью стали главными их жертвами: они воспринимались как чужаки, они были беспомощны, и их считали богатыми. Те же инстинкты, которые лежали в основе разгрома деревенских усадеб и операций по борьбе с кулачеством, приводили к насилию против евреев и их собственности. Большевистский лозунг «грабь награбленное» сделал евреев особенно беззащитными против насилия, поскольку, вынужденные царским законодательством заниматься исключительно торговлей и ремесленничеством, они постоянно имели дело с деньгами, а потому автоматически попадали в разряд «буржуев».
Антиеврейские эксцессы начались во время оккупации Украины немцами в 1918 г. при гетмане Скоропадском246. Они усилились после того, как в конце 1918 г. немцы оставили Украину и на Юге и Юго-Западе России воцарилась анархия. Самым тяжелым выдался 1919 г., в котором прошли две волны погромов, первая в мае, вторая — в августе—октябре. Белая армия принимала участие только во второй: еще до того, как она появилась в августе в Центральной Украине, погромы учинялись казацкими бандами Петлюры, а также разнообразным сбродом под командованием различных «батек», самым печально известным из которых стал Григорьев.
Погромы проходили по определенной схеме.
Как правило, устраивались они не местными жителями, которые достаточно мирно уживались с евреями, а пришлыми, либо бандами проходимцев и дезертиров, объединившихся специально с целью грабежа, либо казацкими частями, для которых грабеж являлся отдыхом и развлечением после военных действий. [«Местное нееврейское население в большинстве случаев не принимало участия в погромах, относясь к ним равнодушно или даже с открытым неодобрением, — пишет еврей-ученый, современник событий. — ...в большинстве случаев местное христианское население принимало в судьбе евреев живое участие, прятало их у себя в домах, защищало их, направляло в их защиту делегации к [военному] командованию... Нет никаких сомнений в том, что многие евреи были обязаны этому жизнью, и без этого количество жертв оказалось бы неизмеримо большим» (Штиф Н.И. Погромы на Украине. Берлин, 1922).]. Местные крестьяне участвовали в погромах на правах прихлебателей, подбирая то, чем побрезговали грабители или от чего те отказались из-за невозможности унести с собой.
Главной целью погрома во всех случаях становился грабеж; физическое насилие применялось к евреям в основном для вымогания денег, хотя и случаи бессмысленного садизма не были редкостью: «В подавляющем большинстве случаев убийство и пытки имели место лишь как орудие грабежа»247. Ворвавшись в еврейский дом, бандиты сначала требовали денег и ценностей. Если им сразу же не давали желаемого, они прибегали к насилию. Большинство убийств было следствием нежелания или неспособности жертвы раскошелиться248. Мебель и другие вещи погружались обычно в военные поезда для отправки на Дон, на Кубань, в терские поселения; иногда вещи уничтожали или отдавали крестьянам, находившимся неподалеку с тележками и сумками наготове. Процесс этот, вершителями которого были вооруженные люди, проходившие, благодаря капризам военного счастья, много раз из конца в конец тех же самых территорий, привел к тому, что у евреев методично и раз за разом изымались все их накопления и имущество; первыми жертвами становились богатые, а когда у тех ничего не оставалось, очередь доходила до бедных.
Практически везде погромы сопровождались изнасилованиями. Жертв насилия нередко убивали.
Иногда погромы принимали религиозный оттенок, приводя к осквернению еврейских молелен, уничтожению свитков Торы и других предметов культа; в целом, однако, религиозные соображения играли здесь значительно меньшую роль, чем мотивы экономические и сексуальные.
Первый большой погром произошел в январе 1919 г., в городке Овруч на Волыни, где атаман по имени Козырь-Зирка, один из сподвижников Петлюры, порол и убивал евреев, добиваясь от них денег249. Затем прошли погромы в городах Проскуров (15 февраля) и Фельштин250. За ними последовали убийства в Бердичеве и Житомире.
Петлюра, бандами которого производилась большая часть этих акций, сам насилия против евреев не поощрял — например, в июле 1919 г. он даже издал приказ, запрещающий антисемитскую пропаганду251. Однако у него не существовало полного контроля над войсками, которые если что-то и связывало воедино, это антибольшевизм, легко переходивший в антисемитизм. Когда, вслед за германской эвакуацией, Красная Армия заняла Украину, проводимая ею политика в короткое время восстановила все местное население против большевиков; а поскольку среди них было немало евреев, различия между теми и другими начали стираться. Антонов-Овсеенко, находившийся на Украине в качестве ленинского проконсула, указывал в секретном донесении в Москву как одну из причин враждебного отношения украинского населения к Советам «полное пренебрежение к предрассудкам местного населения в области отношения к еврейству», под чем он безусловно подразумевал использование евреев как деятелей советских органов государственной власти252.
В начале 1919 г. на Украине появились банды Григорьева, опустошившие нижнее Приднепровье от Екатеринослава до Черного моря. Армейский офицер, служивший в Первую мировую войну, он сначала поддерживал Петлюру, однако в феврале 1919 г. переметнулся к большевикам, назначившим его начдивом. Стоявший во главе 15-тысячного отряда, набранного в основном из крестьян Южной Украины, имевший полевые орудия и броневики, Григорьев представлял грозную силу: достаточно грозную, как мы уже видели, чтобы в марте 1919 г. одержать победу над находившимся под командованием французов Херсонским гарнизоном. В начале апреля он захватил Одессу.
К концу того же месяца Григорьев начал, однако, выступать против комиссаров-коммунистов и евреев. Открыто он порвал с большевиками 9 мая, отказавшись повиноваться приказу переместиться со своими силами в Бессарабию для поддержки коммунистического правительства в Венгрии: его бунт нарушил планы Москвы воссоединиться с коммунистической Венгрией и привел к падению этого будапештского правительства253. Восстав, Григорьев захватил Елизаветград, где издал «Воззвание», призывающее крестьян идти на Киев и Харьков и свергать там Советскую власть. Именно в Елизаветграде его людьми был совершен самый страшный по тем временам погром, настоящая оргия грабежа, убийств и изнасилований, продолжавшаяся три дня (с 15 по 17 мая)254. Григорьев поносил «носатых комиссаров» и поощрял своих людей грабить Одессу, имевшую значительное по численности еврейское население, покуда она «не рассыпется в пух и прах»255. В конце того же месяца банда Григорьева была уничтожена Красной Армией; всего она совершила 148 погромов. Сам атаман расстался с жизнью, попав к Махно, который заманил его на переговоры и приказал убить256. Люди Григорьева, «вдохновленные этим проявлением бандитского искусства, по большей части перешли к Махно»257.
Сразу вслед за гибелью Григорьева волна погромов приостановилась, но затем снова возобновилась и приняла беспрецедентно жестокие формы в августе, когда деникинские казаки и петлюровские украинцы стали приближаться к Киеву, оставляя за собою разруху и опустошение258.
В августе и сентябре, когда Добровольческая армия шла от победы к победе и взятие Москвы казалось неотвратимым, белые утратили последнюю осторожность: им стало все равно, что о них думают в Европе. Продвигаясь на запад и захватывая последовательно Киев, Полтаву и Чернигов, служившие в рядах белых казаки одну за другой одерживали победы и в погромах. Опыт тех летних месяцев, по словам одного историка, продемонстрировал, что там, где речь шла о евреях, было позволительно с полной безнаказанностью давать волю животным инстинктам259. Не предпринималось никаких попыток оправдать эти зверства; в тех случаях, когда оправдание все же требовалось, евреев обычно обвиняли в симпатии к коммунистам, в предательском отношении к белым, на которых они якобы «нападали из-за угла».
Погром, учиненный в Киеве между 17 и 20 октября терскими казаками, унес примерно 300 жизней. Ночь за ночью группы вооруженных людей вламывались в еврейские жилища, грабили, избивали, убивали, насиловали. В.В.Шульгин, монархист и редактор антисемитской ежедневной газеты «Киевлянин», описывает виденное им следующим образом: «По ночам на улицах Киева наступает средневековая жуть. Среди мертвой тишины и безлюдья вдруг начинается душу раздирающий вопль. Это кричат "жиды". Кричат от страха. В темноте улицы где-нибудь появится кучка пробирающихся "людей со штыками", и, завидев их, огромные многоэтажные дома начинают выть сверху донизу. Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат нечеловеческими голосами, дрожа за жизнь. Жутко слушать эти голоса послереволюционной ночи... Но все же это подлинный ужас, настоящая "пытка страхом", которой подвержено все еврейское население»260. По мнению Шульгина, евреи сами навлекли на себя свои беды, и беспокоился он только, не вызовут ли погромы симпатии к ним.
Самый страшный погром из всех произошел в местечке Фастов, небольшом процветающем торговом центре к юго-западу от Киева, где жило 10 000 евреев; там с 23 по 26 сентября бригада терских казаков под командованием полковника Белогорцева провела нечто вроде нацистской Aktion: не хватало только фургонов со специальными приспособлениями для напускания угарного газа. Вот описание, которое дает очевидец: «Казаки рассыпались на множество отдельных групп, человека в три-четыре каждая, не более. Но действовали они не зря... а по одному общему плану... Ворвется группа казаков в еврейский дом, первое их слово: "деньги!». Если окажется, что тут были уже казаки и все уже забрали, то они немедленно требуют хозяина дома... ему наматывают на шею веревку; один казак берет веревку за один конец, другой — за другой конец и начинают душить, а то и повесят, если на потолке окажется крюк. Если при этом кто-нибудь из присутствующих заплачет или начнет просить пощады, то его — будь это даже ребенок — бьют смертным боем. Само собою разумеется, что семья отдает последнюю копейку, лишь бы избавить родного от муки и смерти. Если же денег все-таки нет, то казаки душат свою жертву до потери сознания, затем отпускают веревку; несчастный падает, таким образом, замертво на землю, и тогда его ударами приклада или даже обливанием холодной водой приводят в чувство. "Дашь деньги?" — спрашивают его мучители. Несчастный божится, клянется, что у него уже ничего нет, что все отобрано прежними посетителями. "Ничего, — говорят ему злодеи, — дашь". Опять набрасывают ему веревку на шею и опять душат и вешают. Это повторяется раз пять-шесть... Я знаю о многих домохозяевах, которых казаки заставляли поджечь свои собственные дома, а затем саблями и штыками загоняли их, а также тех, которые выбежали из сгоревших квартир, обратно в огонь, заставляя их, таким образом, сгореть живыми в огне...»261 В Фастове жертвами становились в основном люди пожилые, женщины и дети: молодые и здоровые мужчины, по-видимому, разбежались и попрятались. Убиваемых заставляли раздеваться донага, иногда пытали, приказывали им кричать: «Бей жидов, спасай Россию» и рубили кавалерийскими саблями; трупы бросали на съедение собакам и свиньям. Сексуальные надругательства имели место практически так же часто, как грабежи: женщин насиловали повсеместно, иногда на глазах у публики. Избиение в Фастове унесло, по некоторым сведениям, до 1300—1500 жизней. [Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. Берлин, 1932. С. 109—114. См. также свидетельства других очевидцев: Там же. С. 333—348. Посетивший Фастов с инспекцией вскоре после указанных событий белый генерал Бредов, командующий фронтом к юго-западу от Киева, сообщал, что ничего плохого там не произошло (Там же. С. 347-348)].
Несмотря на то что казацкие отряды Южной армии творили многочисленные зверства (ни одно из которых не может быть приписано Добровольческой армии), тщательная летопись погромов, составленная еврейскими организациями, показывает, что самые чудовищные преступления совершались независимыми украинскими бандами. [Осенью 1919 г., когда происходили погромы, обычно приписываемые Добровольческой армии, три добровольческие дивизии вели боевые действия в окрестностях Брянска, Орла и Ельца — это были великорусские территории, на них практически не существовало еврейского населения. Наибольшее количество погромов произошло в Киевской губернии, следующие по величине — в губерниях Подольской и Екатеринославской. В этих областях действовали кубанские и терские казаки. По этой причине неуместно говорить о погромах, «совершенных Добровольческой армией».]. Согласно проведенному ими исследованию, на протяжении гражданской войны было совершено 1236 актов насилия против еврейского населения, из них 887 могут классифицироваться как погромы, а остальные — как «эксцессы», т.е. насилие в этих случаях не достигало массовых размеров262. Из общего количества погромов 493, или 40%, было совершено украинцами Петлюры, 307 (25%) — независимыми атаманами, среди которых выделялись Григорьев, Зеленый и Махно, 213 (17%) — войсками Деникина, а 106 (8,5%) — частями Красной Армии (по поводу последних исторические источники хранят удивительное молчание). [Gergel N. // YIVO Annual of Jewish Social Science. 1951. Vol. 6. P. 244 Исключение составляют воспоминания меньшевика Давида Далина о погромах, произведенных Красной Армией в Могилеве и других городах Юго-Западной России (Социалистический вестник. 1921. № 11.8 июля. С. 13—15). См. также описание погрома, учиненного Красной Армией в Одессе 2 мая 1918: Бунин И. Окаянные дни. М., 1990. С. 128]. Та часть белой армии, которая совершала эти преступления — казаки, — снялись с насиженных мест не от упования видеть Русь возрожденной и объединенной, но от желания пограбить и понасиловать: один казацкий командир говорил, что после тяжелых боев его ребятам нужно дать четыре-пять дней «погулять», чтобы набрать сил для следующих ратных подвигов263.
Таким образом, неправильно было бы возлагать всю вину за избиение евреев на белую армию, но правда и то, что Деникин бездействовал перед лицом творимых злодеяний, которые не только порочили репутацию его армии, но и деморализовали ее. Деникинский отдел пропаганды, Осваг, нес серьезную ответственность за распространение антисемитской агитации, а наносимый ею вред еще усиливался терпимостью, проявленной Деникиным к антисемитским изданиям Шульгина и прочих.
Сам Деникин не являлся типичным образцом антисемита того времени: во всяком случае, во всей его пятитомной хронике гражданской войны не найти обвинений евреев в распространении коммунизма или в поражении белых. Даже напротив, он выражает раскаяние, что добровольцы плохо относились к евреям, стыдится погромов, демонстрирует полное понимание того, какое разлагающее действие это оказывало на боевой дух армии. Но он был слабым, политически неопытным человеком и мог лишь в незначительной степени контролировать поведение своих войск. От страха показаться юдофилом и от ощущения бессмысленности борьбы против возобладавших настроений он поддался давлению антисемитски настроенного офицерского корпуса. В июне 1919 г. Деникин сообщил еврейской делегации, убеждавшей его издать «особый торжественный акт» в осуждение погромов, что «слова здесь бессильны», что «всякий лишний шум вокруг этого вопроса» только утяжелит положение евреев, «вызывая раздражение в массе и обычные обвинения: "продался жидам"». [Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 150. Это была проблема, общая для всех сторон-участниц гражданской войны. Винниченко, радикал-социалист и член украинской Директории, сказал евреям, просившим его осудить погромы: «Не ссорьте меня с армией» (см.: Марголин А. Украина и политика Антанты. Берлин, б.д. С. 325)].
Какими бы извинениями ни прикрывалась подобная бездеятельность перед лицом избиения гражданского населения, она создавала и у армии и у местных жителей впечатление, что командование белой армии относится к евреям настороженно и если не одобряет погромов, то не делает и ничего, чтобы их пресечь.
Было высказано утверждение, будто среди «тысяч документов в архивах белой армии нет ни одного, который осуждал бы погромы»264. Утверждение это безусловно неправильно. Деникин говорит, и факты свидетельствуют в пользу его правдивости, что и он, и его генералы издавали приказы, осуждающие погромы и предписывающие строго наказывать их участников265. 31 июля 1919 генерал Май-Маевский потребовал одинакового обхождения для всех граждан; лица, нарушившие этот принцип, подлежали наказанию. Он же уволил терского генерала, замешанного в погромах266. 25 сентября, когда убийства и грабежи были в самом разгаре, Деникин приказал генералу Драгомирову подвергнуть всех его людей, повинных в них, суровому воинскому наказанию267. Однако антиеврейская истерия делала невозможным проводить эти распоряжения в жизнь. [Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 149. Шехтман подтверждает, что при царившей тогда атмосфере подобные приказы и предупреждения не могли возыметь никакого действия (см.: Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 188)]. Например, генерал Драгомиров, выполняя полученные от Деникина инструкции, приказал судить полевым судом всех офицеров, замешанных в погромах, и под его давлением троих приговорили к смертной казни. Однако он был вынужден отменить приговор, когда другие офицеры пригрозили отомстить за казни таким погромом в Киеве, в котором погибнут сотни человек268.
Антисемитизм Южной армии хорошо документирован и широко оглашен. Реакции на него советской стороны освещены гораздо хуже. Имеются сведения, что Совнарком издал 27 июля 1918 призыв бороться с антисемитизмом, угрожавший за погромы наказанием269. Однако на следующий год, когда волна их стала нарастать, правительство хранило подозрительное молчание. 2 апреля 1919 г. Ленин выступил в печати с осуждением антисемитизма: он говорил, что не всякий еврей является классовым врагом — подразумевая, таким образом, что некоторые евреи ими все же были, но не объясняя, как отличить одних от других270. В июне советское правительство выделило средства для помощи некоторым жертвам погромов271. И все же Ленин осуждал погромы на Украине не больше Деникина и, видимо, по тем же причинам. Советская пресса их игнорировала272. Как выяснялось, «обыгрывать» жестокости не было в пропагандистских интересах коммунистов273. По сходным причинам не было это и в пропагандистских интересах белых. [Согласно недавно обнаруженным в русских архивах документам, в ноябре 1919, когда Красная Армия вновь отбила Украину у белых, Ленин направил украинским советам инструкцию «не пускать евреев в органы власти (разве в ничтожном проценте, в особо исключительных случаях, под классовый контроль...)» (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 11800). В конце 1920 г. Евсекции западных губерний по крайней мере дважды направляли Ленину тревожные сообщения о том, что отступающая из Польши Красная Армия устраивает жестокие погромы, и требовали помощи. В обоих случаях Ленин начертал на посланиях «В архив», что означало: никаких действий предпринято не будет (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 454, 717)].
Единственной видной общественной фигурой, однозначно и открыто осудившей постыдное явление, стал глава православной церкви патриарх Тихон. В опубликованном 21 июля 1919 г. послании он писал, что насилие против евреев — это «бесчестье для тебя, бесчестье для Святой Церкви»274.
Число погибших вследствие погромов 1918—1921 гг. трудно оценить с достаточной степенью точности, но оно заведомо велико. По существующим данным, земле был предан 31071 человек275. В это число не вошли те, чьи останки сгорели или остались без погребения. Поэтому исходное число обычно удваивается или даже утраивается, колеблясь от 50 000 до 200000 человек. [Нора Левин в книге Jews in the Soviet Union since 1917. New York-London, 1988 Vol. 1. P. 43 говорит о 50 000-60 000 жертв. С.Этингер в книге A History of the Jewish People / Ed. by H.H.Ben-Sasson. Cambridge, Mass., 1976. P. 954 говорит о 75 000 жертв. Гергель считает число жертв равным 100 000 (YIVO Annual of Jewish Social Science. 1951. Vol. 6. P. 251), С.Гусев-Оренбургский в «Книге о еврейских погромах на Украине в 1919г.» (Пг., б.д. С. 14) оценивает их количество как не меньшее 100000. Цифра в 200000 приводится в книге Ю. Ларина «Евреи и антисемитизм в СССР» (М.-Л., 1929. С. 55)]. Потери близких сопровождались массовым разорением уцелевших: украинские евреи остались нищими, многие лишились жилья и предметов первой необходимости.
Во всех отношениях, кроме разве что отсутствия центральной организации для руководства избиениями, погромы 1919 г. стали репетицией Холокоста и прелюдией к нему. Стихийные грабежи и убийства оставили по себе наследие, которое двадцать лет спустя привело к систематическому массовому истреблению евреев нацистами: еврейство было связано смертельными узами с коммунизмом.
С точки зрения той роли, которую играло это обвинение в подготовке пути к массовому истреблению европейского еврейства, вопрос о связи еврейства и большевизма приобретает более чем академическую значимость. Именно обвинение в том, что «международное еврейство» изобрело коммунизм как орудие уничтожения христианской (или «арийской») цивилизации, подвело идеологические и психологические основания под «окончательное решение» нацистов. В 1920-х идея эта широко распространилась на Западе, а «Протоколы» стали международным бестселлером. Причудливая дезинформация, распространяемая российскими экстремистами, заставляла думать, что все вожди Советского государства были евреями276. Многие иностранцы, так или иначе связанные с российскими делами, разделяли это убеждение. Так, генерал-майор Г.К.Хольман, глава британской миссии при Деникине, сообщил еврейской делегации, что из тридцати шести московских «комиссаров» только Ленин был русским, остальные — евреями. Американский генерал, оказавшийся по делам службы в России, был убежден, что известные чекисты М.И.Лацис и Я.Х.Петерс, бывшие на самом деле латышами, тоже евреи277. Сэр Аир Кроу, крупный чиновник министерства иностранных дел Британии, отвечая на меморандум Хаима Вайцмана, посвященный протесту относительно погромов, заметил: «То, что может представляться г-ну Вайцману насилием против евреев, в глазах украинцев может выглядеть как возмездие за ужасы, творимые большевиками, которых организуют и направляют евреи». [Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 219. Такая точка зрения превалировала в британских правительственных кругах, особенно в министерстве иностранных дел: изо всех государственных деятелей Британии только Уинстон Черчилль, казалось, понимал чудовищную суть погромов и побуждал Деникина положить им конец: Churchill W. The World Crisis. P. 225; Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 218-219]. С точки зрения некоторых деятелей российского Белого движения любое лицо, не поддерживавшее безоговорочно их дело, будь то русский или западноевропеец, президент Вильсон или Ллойд Джордж, непременно должно было оказаться евреем.
Каковы же факты? Нельзя отрицать, что и в партии большевиков, и в раннем советском аппарате евреи составляли непропорционально большую по сравнению с их общей численностью в России часть. Количество евреев, занятых в коммунистическом движении в России и за рубежом, было удивительно велико: в Венгрии, например, они составили 95% в окружении диктатора Белы Куна278. Непропорционально много насчитывалось их и среди коммунистов Германии и Австрии во время происходивших там в 1918—1923 гг. революционных выступлений, а также в аппарате Коммунистического Интернационала. Но евреи и вообще очень активный народ, проявивший свои таланты в самых различных областях. Если была подозрительна их роль в коммунистических кругах, то не менее подозрительна была она и в капиталистических (согласно мнению Вернера Зомбарта, они вообще изобрели капитализм), не говоря уже об исполнительских искусствах, литературе, научной деятельности. Составляя менее 0,3% населения всего мира, в течение первых семидесяти лет существования института Нобелевских премий (1901—1970) евреи получили 24% премий по медицине и физиологии и 20% премий по физике. Согласно Муссолини, четверо из семи основателей фашистской партии были евреями; [Процент евреев в фашистском движении был «гораздо выше, чем в населении вообще» (см.: Sternhell Z. The Birth of Fascist Ideology. Princeton, 1994. P. 5). Согласно итальянской статистике, в фашистскую партию вступило 22,5% итальянских евреев, при том что они составляли всего 6,12% всего населения (См.: De Felice R. Storia degli italiani sotto il fascismo. Torino, 1972. P. 74; Cannistrano P.V. Historical Dictionary of Fascist Italy. Westport, Conn., 1982. P. 400—407). Информация любезно предоставлена мне г-ном Марио Шнайдером] по словам Гитлера, они были и среди первых спонсоров нацистского движения279.
Засилье евреев в коммунистическом руководстве вовсе не означало, что российское еврейство было прокоммунистическим. Евреи в большевистских рядах — Троцкие, Зиновьевы, Каменевы, Свердловы и радеки — не говорили от лица евреев, поскольку порвали со своей средой задолго до революции. Они никого не представляли, кроме себя самих. Не следует забывать также, что в течение революции и гражданской войны партия большевиков оставалась партией меньшинства, самоизбранным органом, члены которого не выражали политических чаяний масс: Ленин признавал, что коммунисты были каплей воды в море народа280. Другими словами, хотя многие коммунисты были евреями, немногие евреи были коммунистами. Когда российское еврейство получало возможность выразить свои политические предпочтения, как это случилось в 1917 г., оно отдавало их не большевикам, а либо сионистам, либо партиям демократическо-социалистического направления. [«Когда большевики пришли к власти, безусловно преобладающей силой в жизни российского еврейства был сионизм» (Levin N. Jews in the Soviet Union. Vol. 1. P. 87). На Всероссийском еврейском съезде в 1917 г. сионистские кандидаты получили 60% голосов (Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet Politics. Princeton, 1972. P. 79)]. Результаты выборов в Учредительное собрание показали, что большевики получили поддержку не в тех районах, где имелась высокая концентрация еврейского населения (в черте оседлости), но в вооруженных силах и в великорусских городах, то есть там, где евреев почти не было. [В тех губерниях, где происходили самые тяжелые погромы, за большевиков голосовало меньшинство: в Волынской — 4,4%, в Киевской — 4,0%, в Полтавской — 5,6%. Только в Екатеринославской губернии большевики собрали 17,9% голосов, но даже и это было значительно ниже, чем среднее по стране — 24%, собранное ими в основном в северных великорусских губерниях (см.: Спирин A.M. Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968. С. 416-419)]. Перепись своих членов, проведенная компартией в 1922 г., показала, что только 959 евреев присоединились к партии до 1917-го. [Трайнин И.П. СССР и национальная проблема. М., 1924. С. 26—27. Можно вспомнить еще и то, что евреев было непропорционально много среди шпионов царской охранки (см.: Daly J. The Watchful State. Ph. D. dissertation. Harvard University, 1992. P. 144)]. Так что когда главный раввин Москвы Яков Мазех, услышав, как Троцкий отрицает свое еврейство и отказывается помогать своему народу, сказал на это, что Троцкие делают революцию, а бронштейны платят по счетам, это было не совсем шуткой281.
В ходе гражданской войны еврейское сообщество, зажатое в тиски бело-красного конфликта, все чаще стало принимать сторону коммунистов: делало оно это не от действительного предпочтения, но из инстинкта самосохранения. Когда летом 1919 г. на Украину пришли белые, евреи приветствовали их, потому что успели настрадаться от большевистской власти — если не как евреи, то как «буржуи»282. Политика белых, терпимая к погромам и изгонявшая евреев с управленческих должностей, быстро их отрезвила. Отведав власти белых, украинское еврейство стало искать защиты у Красной Армии. Возник порочный круг: евреев обвиняли в симпатиях к большевикам и подвергали гонениям, что в результате заставляло их в целях выживания бросаться к большевикам; смена политических симпатий оправдывала в глазах гонителей дальнейшие преследования.
* * *
Армия адмирала Колчака практически перестала существовать в ноябре 1919 г., когда она превратилась в неуправляемую толпу, руководствовавшуюся принципом — спасайся, кто может. Тысячи офицеров с женами и сожительницами, толпы солдат и гражданских лиц устремились беспорядочно на восток: кто мог позволить себе, ехал на поезде, остальные довольствовались лошадью с телегой, а то и шли пешком. Раненых и больных бросали на месте. На ничейных землях между наступающей и отступающей армиями грабили, убивали и насиловали мародеры, преимущественно казаки. Исчезло всякое подобие власти. Русские привыкли, чтобы им говорили, что делать; традиционно политическая инициатива принимала у них ту или иную форму протеста. Теперь же, когда не осталось никого, кто мог отдавать приказы и кому можно было бы противиться, они пришли в смятение. Иностранные наблюдатели изумлялись при виде фатализма русских перед лицом бедствий: один из них отмечал, что в горе женщины, как правило, плачут, а мужчины запивают.
Все устремились в Омск в надежде, что найдут там защиту: приток беженцев увеличил население города со 120 000 до 500000 человек: «Когда основной контингент войск Колчака прибыл в Омск, они стали свидетелями невыразимо тяжелых обстоятельств. Беженцы запрудили улицы, железнодорожный вокзал, общественные здания. Колеса транспорта по втулку увязали в дорожной грязи. Солдаты и члены их семей бродили от дома к дому, прося хлеба. Офицерские жены занимались проституцией, чтобы спастись от голода. Тысячи человек, у кого были деньги, тратили их на пьяные дебоши в трактирах. На тротуарах насмерть замерзали матери с младенцами. Дети теряли родителей, бесчисленное количество сирот гибло в тщетном поиске тепла и пищи. Магазины часто грабили, некоторые из них испуганные хозяева закрывали вообще. Военные оркестры пытались поддерживать жалкое подобие веселья в общественных местах, но им это плохо удавалось. Омск погружался в трясину скорби... Положение раненых невозможно описать. Страдальцы часто лежали по двое на одной кровати, а в некоторых госпиталях и общественных зданиях их клали просто на пол. На бинты нарезали простыни, скатерти, женское нижнее белье. Антисептиков и опиатов практически не существовало»283.
Колчак намеревался оборонять Омск, но генерал М.К.Дитерихс, которого он назначил вместо Лебедева начальником штаба, его отговорил. 14 ноября город был оставлен. Красные взяли его без боя: к этому времени они уже превосходили противника численно в два раза, имея под ружьем 100 000 человек против колчаковских 55 000284. Победители захватили богатую добычу — то, что белые собирались, но не успели взорвать при отступлении, поскольку противник подошел слишком быстро: три миллиона патронов, 4000 железнодорожных вагонов; в плен попали 45 000 новобранцев, только что призванных на службу, и 10 генералов285.
После падения Омска волны устремившихся на восток беженцев слились в бурный поток. Наблюдавший это бегство английский офицер вспоминает о нем, как о кошмаре: «Десятки тысяч мирных жителей, наводнивших в то время Сибирь, бежали от красного террора без пожиток, только в том, что было на них надето, подобно людям, выбегающим в ночном платье из горящего дома; подобно крестьянам со склонов Везувия, бегущим что было силы от потока огнедышащей лавы. Крестьяне покидали свои земли, студенты оставляли книги, врачи бросали свои клиники, ученые — лаборатории, ремесленники — мастерские, писатели — законченные рукописи... Нас всех смели и повлекли за собою обломки деморализованной армии»286. Мучительные обстоятельства усугублялись тифом, с переносчиком которого, платяной вошью, было трудно бороться в тогдашних антисанитарных условиях, особенно зимой. Уже заболевшие мало заботились о том, что могут заразить других, вследствие чего тиф бесконтрольно распространялся среди войск и гражданских беженцев, сея вокруг смерть: «Когда 3 февраля 1920 г. я проезжал Новониколаевск, — писал тот же английский очевидец, — в городе было 37 000 заболевших тифом, и уровень смертности, никогда до этого не превышавший 8%, поднялся уже до 25%. В течение всего полутора месяцев в городе умерло 50 докторов, за городом лежало более 20 000 непогребенных трупов... Условия в больницах были неописуемые. В одной... главного врача оштрафовали за пьянство, другой доктор появлялся ненадолго раз в день, а сестры создавали видимость деятельности только в присутствии врача. Постельное белье и одежду пациентов вообще не меняли, большинство из них лежало в грязи на полу в том, в чем ходили каждый день. Больных никогда не мыли, а санитары дожидались периодических приступов бреда, характерных для тифа, чтобы воровать в это время у пациентов кольца, ценности, часы, даже еду»287. Поезда, целиком забитые больными, умирающими и трупами, стояли тут и там вдоль Транссибирской магистрали, затрудняя движение. Страшной эпидемии можно было бы избежать или хотя бы сдержать ее, соблюдая минимальные санитарные предосторожности. Находившиеся в центре бушевавшей эпидемии чехословацкие войска смогли уберечься от заболевания, так же как и находившиеся в Сибири американские солдаты.
Колчак выехал из Омска в свою новую столицу Иркутск 13 ноября, почти застигнутый Красной Армией. Он вывел шесть поездов, в одном из них, состоявшем из двадцати девяти вагонов, находилось золото и другие ценности, захваченные в Казани чехословаками и переданные ему. Колчака сопровождали 60 офицеров и 500 рядовых. Отрезок магистрали между Омском и Иркутском контролировался чехо-словаками.
Они жили в поездах, опрятно и почти что в роскоши: обменивая французские франки, получаемые из Парижа через Токио, на быстро обесценивающиеся рубли, они скупали (когда не крали) все, что представляло хоть какую-то ценность288. По приказанию своего генерала Яна Суровы, тесно сотрудничавшего с генералом Жаненом, они задерживали русские составы, двигавшиеся в восточном направлении, почти месяц продержав Колчака на запасных путях между Омском и Иркутском, чтобы пропустить вперед собственные поезда289. В конце декабря, через несколько недель после того, как он покинул Омск, Колчак окончательно застрял в Нижнеудинске, в 500 км от Иркутска, всеми позабытый и содержащийся в изоляции своими стражами.
В навечерие Рождества 1919 г. коалиция левых партий, где преобладали эсеры, но были также меньшевики, лидеры местных органов самоуправления и представители профсоюзов, сформировали в Иркутске «Политический центр». После двух недель, проведенных попеременно то в схватках, то в попытках провести переговоры с проколчаковским элементом, Центр взял власть в городе. Объявив Колчака низложенным, он провозгласил себя правительством Сибири. Адмирал — «враг народа» и другие споспешники его «реакционной политики» должны были предстать перед судом. Некоторые из министров Колчака смогли укрыться в поездах военных миссий союзников; большинство, переодевшись, бежали во Владивосток. Узнав 4 января 1920 г. о произошедших событиях, Верховный правитель заявил о своей отставке в пользу Деникина и о назначении атамана Семенова главнокомандующим всеми военными силами и гражданским населением в Иркутской губернии и на территориях к востоку от озера Байкал. Затем он отдал себя и государственный золотой запас под защиту чехословаков и, по их требованию, распустил свою свиту. Увешав поезда Колчака флагами Англии, США, Франции, Японии и Чехословакии, те взялись отконвоировать их в Иркутск и там передать на руки миссиям союзников290. Пока происходили эти события, Семенов продолжал уничтожать в Восточной Сибири социалистов и либералов, включая заложников, взятых проколчаковской группировкой после иркутского переворота. [Позднее Семенов бежал в Японию. Во время Второй мировой войны он, по всей видимости, сотрудничал с нацистами. В конце войны взят в плен Советской Армией, казнен (см.: Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. London. 1963. P. 234)].
То, что произошло после, до сих пор не получило удовлетворительного объяснения. Насколько нам известно, Колчак был предан генералами Жаненом и Суровым и в результате вместо того, чтобы оказаться под защитой союзников, был сдан большевикам. [Рассказ о том, что произошло, приводится со слов Сурового в книге: Rouquerol J. L'Aventure de l'Amiral Kolchak. Paris, 1929. P. 184-186. Суровый утверждает, что доставил Колчака в Иркутск, а потом бросил его на произвол судьбы, поскольку тот отдал Семенову распоряжение взорвать мосты и туннели на пути во Владивосток, что сделало бы невозможным для Чехословацкого корпуса покинуть Россию. Мемуары генерала Жанена об этом предмете вообще умалчивают (см.: Ma Mission en Siberie, 1918-1920. Paris, 1933).]. Жанен, который с самого своего появления в Сибири относился к Колчаку как к британской марионетке и не чаял от него избавиться, воспользовался удобным случаем. Чехословакам не терпелось попасть домой. Французский генерал, формально являвшийся их командующим, вступил от их лица в сговор с Политическим центром, предлагая разрешить им свободный проезд до Владивостока и сохранение всего награбленного при условии выдачи Колчака и захваченного золота. Добившись согласия сторон, Жанен покинул Иркутск.
Вечером 14 января, по прибытии в Иркутск, чехословаки проинформировали адмирала, что по приказанию генерала Жанена должны передать его местным властям. На следующее утро Колчака, его любовницу, 26-летнюю А.В.Книпер, и его премьер-министра В.Пепеляева сняли с поезда и поместили в тюрьму.
20 января до Иркутска дошли сведения, что самый верный и храбрый колчаковский генерал В.О.Каппель приближается во главе военного отряда с целью освободить Колчака. Услышав эту новость, Политический центр, которому так и не удалось осуществить хоть сколько-нибудь эффективную власть, самораспустился и вручил полномочия Военно-революционному комитету. Военревком согласился позволить чехословакам следовать на Восток, а те передали ему колчаковские сокровища. [В апреле 1920 г. золото было вывезено в Москву (см.: The Trotsky Papers. Vol 2. P. 144—147. Ср.: Кладт А., Кондратьев В. Быль о золотом эшелоне. М., 1962)].
Для «расследования» дела Колчака и обстоятельств его правления иркутский РВК создал возглавленную большевиком комиссию, куда вошли еще один большевик, двое эсеров и меньшевик. Комиссия заседала с 21 января по 6 февраля 1920 г., допрашивая Колчака относительно его прошлого и деятельности на посту Верховного правителя. Адмирал повел себя с большим достоинством: протоколы его показаний дают нам портрет человека, полностью владеющего собой, знающего, что он обречен, но убежденного, что ему нечего скрывать и история его оправдает291.
Расследование, нечто среднее между дознанием и судом, было резко завершено 6 февраля, и иркутский ревком тут же приговорил Колчака к смертной казни. Когда несколько недель спустя сведения о расправе получили огласку и дело потребовало официального разъяснения, объявили, что в Иркутске узнали о приближении к городу генерала Войцеховского, который сменил умершего 20 января Каппеля. [По другим данным — 25-го. (Ред.)]. Возникала будто бы опасность, что Колчака вызволят из плена292. Однако документ, обнаруженный в архиве Троцкого в Гарвардском университете, возбуждает серьезные сомнения в правдивости подобного объяснения и позволяет думать, что, как и в случае убийства царской семьи, оно было сфабриковано, дабы скрыть, что приказ о казни отдал Ленин. Распоряжение, нацарапанное Лениным на оборотной стороне конверта и адресованное И.Н.Смирнову, председателю Сибирского ревкома, звучит следующим образом: «Склянскому: пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку. Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. 1. Беретесь ли сделать архи-надежно? Написано рукой тов. Ленина. Январь 1920»293. Издатели архива Троцкого соблюдали естественную осторожность и, впервые публикуя этот документ, предположили, что дата «январь 1920» была ошибочной и что на самом деле документ был написан после 7 февраля, т.е. дня, когда Колчака расстреляли294. Для такого предположения нет оснований. Вся предлагаемая Лениным процедура близко напоминает другую — ту, какая служила прикрытием в деле убийства царской семьи, — т.е. казнь, произведенная якобы по инициативе местных властей из опасения, что пленника могут отбить, причем о расстреле центр узнает только задним числом. Разъяснения эти имели цель снять с Ленина ответственность за убийство побежденного военачальника, к тому же высоко ценимого в Англии, с которой Советская Россия как раз начинала вести переговоры о торговле. Ленинские инструкции были отправлены безусловно до расстрела Колчака, может быть, даже до смерти Каппеля 20 января. [В РЦХИДНИ, где хранится оригинал документа, на нем стоит дата «до 9 января» (Ф. 2. Оп. 1. Д. 24362)]. Послание, вероятно, пришло в Иркутск 6 февраля, в результате чего следствие по делу Колчака было столь внезапно прекращено. Приговор, вынесенный иркутским ревкомом, написан довольно бессвязно и звучит следующим образом: «Бывшего Верховного Правителя адмирала Колчака и бывшего Председателя Совета Министров Пепеляева — расстрелять. Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв»295.
Адмирала разбудили среди ночи, он спросил: «Значит, суда не будет?» Обвинение так и не предъявили. Спрятанный в носовом платке яд отобрали. В последнем свидании с Книпер было отказано. Когда рано утром выводили на расстрел, он попросил чекиста передать жене, находившейся тогда в Париже, что благословляет сына. «Если не забуду, то сообщу», — ответил чекист296. Колчака расстреляли 7 февраля в 4 часа утра вместе с Пепеляевым и уголовником-китайцем. Он запретил завязывать себе глаза. Тела запихали под лед реки Ушаковки, притока Ангары.
7 марта Красная Армия взяла Иркутск. Только тогда, хотя зарубежная пресса уже давно писала об этом, Смирнов, следуя ленинским указаниям, проинформировал Москву, что месяц назад Колчак был расстрелян, предположительно по приказу местных властей и с целью избежать его захвата белыми или чехами (!)297.
В Иркутске красные задержались, поскольку не могли позволить себе вступить в боевые действия с Японией и теми русскими военачальниками, которые пользовались ее покровительством298. На некоторое время Сибирь восточнее Байкала отдали японцам. 6 апреля 1920-го советское правительство создало в Восточной Сибири фиктивную Дальневосточную республику со столицей в Чите. Когда Япония через два с половиной года (в октябре 1922) вывела из Сибири свои войска, Москва присоединила эти территории к Советской России.
* * *
Как это ни удивительно, ЧК совершенно не принимала во внимание существования антисоветской подпольной организации, Национального центра, и ее разведывательной деятельности и вспомнила о ней только летом 1919 г., когда цепь случайных совпадений навела на след.
Сначала подозрения ЧК возбудило предательство в Красной Горке — стратегически важном укреплении, защищавшем подходы к Петрограду, — имевшее место во время наступления белых в мае 1919-го299. В тот раз у человека, пытавшегося пробраться в Финляндию, обнаружили пароли и коды для связи Юденича со своими сторонниками в Петрограде300. Расследование вскрыло существование созданного еще в июне 1918 г. в Москве Национального центра, занятого шпионажем и другой разведывательной деятельностью.
В третью неделю июля советский пограничный патруль арестовал еще двоих, пытавшихся пройти в Финляндию. Во время допроса один из них попытался избавиться от пакета, где оказались зашифрованные тексты, содержавшие информацию относительно размещения частей Красной Армии в Петрограде, добытые укрывшейся в городе подпольной организацией301. Видимо, оба пленника стали давать показания, поскольку через несколько дней ЧК нагрянула на квартиру инженера Вильгельма Штейнингера. Найденные у него бумаги свидетельствовали, что он являлся центральной фигурой в петроградском отделении Национального центра302. По приказанию ЧК Штейнингер подготовил записки об этом центре, Союзе возрождения России и других подпольных организациях. Несмотря на то что арестованный пытался осторожничать и не выдавать никаких имен, ЧК удалось идентифицировать и задержать нескольких его сообщников. Их доставили в Москву для допроса в «специальном отделе» ЧК, где в результате получили данные о существовании тайной организации, гораздо более разветвленной, чем это изначально представлялось советскому руководству. Ввиду приближения к столице Деникина необходимо было вскрыть подполье полностью; еще одна Красная Горка могла иметь уже гибельные последствия. Однако следствие давало мало ключей к решению задачи.
Еще одно случайное совпадение помогло наконец ЧК решить головоломку. 27 июля советский патруль задержал в Вятской губернии человека, не имевшего удовлетворительного удостоверения личности; при досмотре у него изъяли почти миллион рублей и два револьвера. Пойманный назвался Николаем Павловичем Крашенинниковым; он показал, что обнаруженные при нем деньги вручены ему правительством Колчака для передачи неизвестному лицу, которое должно было встретить его на Николаевском вокзале в Москве. Крашенинникова отправили на Лубянку, но дополнительных сведений не добились. Тогда ЧК подсадила к нему в камеру провокатора, офицера, якобы члена Национального центра. Последний предложил Крашенинникову передать с помощью своей жены письма друзьям на волю. Тот поддался на уловку. 20 и 28 августа он написал два сообщения, причем во втором, адресованном Н.Н.Щепкину, просил прислать яду303.
Шестидесятипятилетний Щепкин, член партии кадетов и земский деятель, избирался в Третью Государственную думу. В 1918 г. присоединился сразу к Правому центру и к Союзу возрождения России, став одним из немногих лиц, принадлежавших к обеим организациям. После того как большинство его товарищей, спасаясь от красного террора, покинули Россию, он оставался на месте и налаживал связь между Деникиным, Колчаком и Юденичем. Типичное послание, направленное им в мае или июне 1919 г. в Омск и подписанное «дядя Кока», содержало описание настроений населения под властью коммунистов, критику социалистической интеллигенции и Деникина, а также побуждало Колчака обнародовать последовательное программное заявление304. Щепкин знал об арестах в Петрограде и об опасности, которой подвергался сам. В конце августа он сказал другу: «Чувствую, что круг сжимается все уже и уже... чувствую, что мы погибнем, но это неважно, я давно готов к смерти, жизнь мне не дорога, только бы дело наше не пропало»305.
28 августа в 10 часов утра ЧК, воспользовавшись адресом, указанным на втором послании Крашенинникова, арестовала Щепкина в его деревянном домике на углу Неопалимовского и Трубного переулков и отправила на Лубянку, оставив на месте нескольких агентов. Зная, что события могут принять неблагоприятный оборот, Щепкин и его друзья-конспираторы постарались принять меры предосторожности, дабы последствия провала оказались минимальными: если дома все спокойно, на окне должен стоять горшок с белыми цветами; если горшка на окне нет, в дом заходить нельзя. После ареста Щепкина ввиду присутствия в доме агентов снять цветок с окна не удалось; в результате многие конспираторы угодили в ловушку306. Во время допросов, несмотря на давление и угрозы, Щепкин не дал никакой информации, которая могла бы повредить другим307. Но в саду при его доме в коробке нашли секретные бумаги с военными и разведывательными данными, среди них — предполагаемые тексты лозунгов, которые рекомендовалось выдвигать Деникину, приближаясь к Москве («Долой гражданскую войну, долой коммунистов, свободная торговля и частная собственность — о Советах умалчивайте»308).
23 сентября советская пресса опубликовала имена расстрелянных 67 членов «контрреволюционной и шпионской» организации. Список начинался именем Щепкина, в него входили имена Штейнингера и Крашенинникова; большинство составляли офицеры, члены военной организации Национального центра. Редакционная статья в «Известиях» заклеймила жертв как «кровожадных пиявок», на совести которых якобы были смерти бесчисленных рабочих. [Известия. 1919. № 211(763). 23 сент. С. 1. По сообщению П.Е.Мельгуновой-Степановой (Памяти погибших. Париж, 1929. С. 74), число людей, расстрелянных по делу Национального центра в сентябре 1919 г., значительно превосходило 67 человек, чьи имена были опубликованы.].
* * *
12 сентября 1919 г. Деникин отдал приказ всем своим войскам «от Волги до румынской границы»309 перейти в общее наступление на Москву. 20 сентября Добровольческая армия взяла Курск.
Испуганные темпами продвижения противника, советские вожди 24 сентября обозначили «линию упорной обороны», которая шла от Москвы до Витебска, к Днепру, Чернигову, Воронежу, Тамбову, Шацку и обратно в Москву. На всей означенной территории, включая столицу, вводилось военное положение310. В строжайшей тайне разрабатывались планы эвакуации советского правительства в Пермь: составлялись списки подлежавших вывозу учреждений и служащих; Дзержинский дал ЧК инструкции разделить 12 тысяч взятых заранее заложников на категории, чтобы знать, кого уничтожать в первую очередь, не допустив их освобождения белыми311.
Белые вскоре прорвали оборонительное кольцо, взяв 6 октября Воронеж, а 12 октября — Чернигов. 13—14 октября, в то время как войска Юденича вели бои на Гатчине и подходили к Царскому Селу, Добровольческая армия заняла Орел. Это была высшая точка наступления белых: здесь их войска находились всего в 300 км от Москвы и в 25—45 км от Петрограда. Казалось, наступления не остановить, тем более что объявлялось все больше перебежчиков к белым из рядов Красной Армии. Следующей целью добровольцев было взятие Тулы, последнего крупного города на пути к столице, представлявшего особую ценность для красных ввиду сосредоточения там крупных оборонных предприятий312. Красные намеревались предотвратить сдачу Тулы любой ценой.
Советское командование продолжало переброску войск с Восточного фронта, где боевые действия практически закончились. Вдобавок открылась возможность перевозить солдат также и с Западного фронта: вот когда обещание Пилсудского не вести военных действий против Красной Армии сослужило свою службу. В целом за период с сентября до ноября на Южный фронт доставили дополнительно 270 000 человек, что давало красным неизмеримое численное превосходство в надвигавшихся сражениях313.
* * *
11 октября, когда бои на юге были в самом разгаре, Юденич начал второе наступление на Петроград. Прежняя столица не имела практически никакой стратегической ценности, хотя и являлась центром оборонной промышленности; однако падение Петрограда могло оказать необратимое воздействие на боевой дух коммунистов. К началу кампании силы Юденича состояли из 17 800 пехоты, 700 сабель, 57 орудий, 4 бронепоездов, 2 броневиков и шести танков с английскими экипажами. Ему противостояла красная Седьмая армия с 22 500 пехоты, 1100 саблями, 60 орудиями, 3 бронепоездами и 4 броневиками. Однако к тому моменту, когда белые подошли к Петрограду, силы красных утроились314. Британская военная миссия обещала Юденичу заблокировать город и дать военно-морское подкрепление для ведения действий против Кронштадта, военно-морской базы, расположенной на острове в Финском заливе, и против защищавших Петроград артиллерийских батарей, размещенных в береговых фортах.
Накануне наступления Юденич издал декларацию, в которой объявлялось, что его правительство представляет все слои и сословия народонаселения, отвергает царизм и гарантирует крестьянам право на землю, а рабочим — право на восьмичасовой рабочий день315.
Войска Юденича быстро продвигались вперед, тесня деморализованную Седьмую армию. 16 октября они находились уже в Царском Селе, старой императорской резиденции, всего в 25 км от Петрограда. Белые, в числе которых было много офицеров, исполнявших функции рядовых, сражались блестяще и использовали ночь как прикрытие для того, чтобы дезориентировать и запугать противника, создав впечатление, будто наступающие обладают большим количественным перевесом. Появление танков неизменно обращало красных в стремительное бегство. Юденичу оказывал помощь бывший полковник В.А.Люндеквист, начальник штаба Седьмой армии, поставлявший противникам сведения о дислокации своих частей и их боевых планах316. В действиях войск Юденича принимали участие части Королевских военно-воздушных и военно-морских сил Британии, предоставившие артиллерию для прикрытия сил белых и обстрела Кронштадта и потопившие, захватившие в плен и выведшие из строя одиннадцать советских кораблей, включая два линкора. [Bennett G. Cowan's War. London, 1964; Agar A. Baltic Episode. London, 1963. В этих операциях Британия потеряла 128 человек, 17 кораблей и 37 самолетов (Bennett G. Op. cit. P. 228—229)].
С точки зрения Ленина, ситуация в Петрограде выглядела безнадежно, и он был готов уже отдать бывшую столицу, чтобы удержать оборону Москвы против Деникина. Троцкий, однако, думал иначе: ему удалось переубедить Ленина и настоять, чтобы тот подписал директиву защищать Петроград «до последней капли крови». В то же время велись тайные приготовления к эвакуации317. Зиновьев находился в состоянии, близком к нервному срыву, и в Петроград для налаживания обороны был командирован Троцкий. Приехав туда 17 октября, он нашел, что армия деморализована, отказывается идти в бой и отступает в «постыдной панике», за которой следует «бессмысленное бегство»318. Первой задачей Троцкого стало поэтому возрождение боевого духа армии, и с нею он справился блестяще. Он сменил командующего Седьмой армией С.Д.Харламова генералом Д.Н.Надежным, пользующимся большим доверием в войсках. В обращении к солдатам председатель Реввоенсовета Республики развеял их страхи, уверив, что они намного численно превосходят неприятеля и что тот нападает по ночам, дабы скрыть свою слабость. Танк он насмешливо обозвал «особого устройства» металлической телегой319. По приказанию Троцкого Путиловский завод спешно переделал несколько автомобилей в некоторое подобие танков. Оборона Петрограда стала единственным эпизодом гражданской войны, на исход которого решительно повлияло личное присутствие Троцкого. Все решения он принимал в одиночку. Советы Ленина были бессмысленны: 22 октября он требовал от Троцкого собрать «тысяч десять буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича»320. Когда красные перестали паниковать, исход кампании, в силу их большого численного превосходства, был предрешен. Белые, у которых имелись всего 14 400 человек и 44 орудия, очутились лицом к лицу с Седьмой армией, насчитывавшей 73 000 личного состава и 581 орудие321. Положение Юденича усугублялось тем, что южнее дислоцировалась еще одна армия красных, Пятнадцатая.
Ближе всего солдаты Юденича подошли к Петрограду 20 октября, когда заняли Пулково. Троцкий верхом объезжал разбегающиеся войска и гнал их обратно в бой322. Критическим моментом в поражении Юденича стало непослушание одного из офицеров, стремившегося первым войти в захваченный Петроград и не исполнившего приказа перерезать железнодорожную линию на Москву. Это позволило красному командованию подбрасывать подкрепление, среди которого находились 7000 рвущихся в бой коммунистов и военных курсантов, чье прибытие укрепило боевой дух войск и решительно изменило ход сражения.
21 октября Седьмая армия перешла в контрнаступление. Она быстро прорвала оборонительные рубежи белых, за которыми не находилось никакого резерва. Люди Юденича продержались еще некоторое время в Гатчине, но затем в наступление пошла Пятнадцатая армия, взяв 31 октября Лугу и угрожая их тылам. Армии Юденича не оставалось ничего другого, как отступить в Эстонию, где ее разоружили.
13 декабря Эстония и Советская Россия подписали договор о перемирии, 2 февраля 1920 г. последовало заключение мирного договора. Литва, Латвия и Финляндия подписали мирный договор с Советской Россией позже в том же году.
В знак признания роли, которую Троцкий сыграл в описанных событиях, Гатчина получила в 1923 г. его имя. Троцк стал первым советским городом, названным в честь коммунистического деятеля.
* * *
В конце сентября 1919 г. красное высшее командование в большой тайне сформировало между Брянском и Орлом Ударную группу войск. Ядром ее стала Латышская стрелковая дивизия, одетая в уже знакомые всем кожанки, переброшенная сюда с Западного фронта для того, чтобы в очередной раз оказать большевистским властям неоценимую услугу323. К ним присоединили бригаду красных казаков и несколько мелких воинских частей; впоследствии Ударную группу усилили за счет Эстонской стрелковой бригады324. Общие силы теперь составляли 10 000 пехоты, 1500 сабель и 80 орудий325. Командование вверили А.А.Мартусевичу, начальнику Латышской стрелковой дивизии.
Трудно определить, каково было распределение войск в самом начале решающей кампании. Согласно Деникину, в начале октября у Красной Армии было 140 000 человек на Южном и Юго-Западном фронтах. Его собственные силы не превосходили 98 000 человек326. Согласно командующему красным Южным фронтом, у него было 186 000 человек327.
На самой заре решающих побед Красной Армии над Южной армией белых Троцкий направил в ЦК типичное для него длинное сварливое письмо. Весь план кампании по борьбе с Деникиным, утверждал он, был неправилен с самого начала, поскольку вместо того, чтобы ударить в районе Харькова и отрезать Деникина от сочувствующего ему казачества, Красная Армия напала на казаков, толкая их тем самым в объятия Деникина и помогая ему занять Украину. В результате ситуация на Юге стала проигрышной, под ударом оказалась даже Тула. Ленин записал вкратце о послании Троцкого: «Получил 1.Х (ничего кроме плохих нервов). На пленуме не поднималось. Теперь странно поднимать»328.
11 октября командующим Южным фронтом был назначен А.И.Егоров. Кадровый офицер, в юности он был членом партии эсеров; в течение Первой мировой получил несколько ранений и дослужился до чина подполковника. В июле 1918 г. вступил в Коммунистическую партию. Совместно с главнокомандующим Каменевым Егоров явился архитектором победы красных. [В 1930-х Егоров стал Маршалом Советского Союза, и в 1937 г. после казни Тухачевского заступил на его место. Вскоре и он сам погиб в жерновах сталинской «чистки» (см. The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 97)]. Егоров усилил Ударную группу, создав к востоку от Воронежа новое кавалерийское формирование под началом Семена Буденного, «иногороднего» с Дона, люто ненавидевшего казаков. [С.С.Каменев говорит о Егорове как о создателе «Конармии» (см. Директивы главного командования Красной Армии. М., 1969. С. 675)].
Советское высшее командование разработало стратегический план, главной задачей которого было отделить Добровольческую армию от донского казачества и направить в образовавшуюся брешь конницу Буденного. Добровольцам пришлось бы при этом либо отступить, либо оказаться в ловушке329. [По мнению некоторых западных историков, большая часть действий, предпринятых на Южном фронте в октябре—ноябре 1919-го, была результатом импровизации (см., напр.: Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 203—205). Действительно, в директивах командования Красной Армии, изданных в октябре, не предусмотрены имевшие место в ноябре боевые действия (см. также Егоров А.И. Разгром Деникина, 1919. М., 1931. С. 148).]. Контрнаступление красных началось раньше, чем было запланировано, поскольку Егоров опасался, что дальнейшие отступления вконец деморализуют войска и приведут их к «полному развалу»330.
18—19 октября, в то время как Добровольческая армия продвигалась по направлению к Туле, Вторая и Третья латышские бригады неожиданно атаковали левый фланг Дроздовской и Корниловской дивизий. В напряженной битве латыши разбили изможденных добровольцев и вынудили их 20 октября оставить Орел под угрозой быть отрезанными от тылов. В этом решающем эпизоде гражданской войны главная ударная сила коммунистов, латыши, потеряли убитыми и ранеными более 50% офицеров и до 40% рядовых331.
Ситуация, в которой оказалась Добровольческая армия, была опасной, но далеко не катастрофической. Однако тут с востока неожиданно явилась другая угроза, Буденновская конница, усиленная 12000 пехотинцев, 19 октября разбила казаков генералов К.К.Мамонтова и А.Т.Шкуро, уничтожив цвет донской кавалерии, а вслед за этим, 24 октября, взяла Воронеж. Согласно Деникину, несчастье это стало возможным благодаря упрямству донских казаков, более заинтересованных в защите своих территорий, нежели в разгроме красных, и отказавшихся развернуть достаточные силы под Воронежем332. От Воронежа Буденный двинулся на запад и 29 октября переправился через Дон. Он получил приказ захватить Касторное, важный железнодорожный узел, соединявший Курск с Воронежем, а Москву с Донбассом. Наступление на Касторное началось 31 октября. Бой был яростным и тяжелым. Наконец 15 ноября красная кавалерия взяла город, положив конец надеждам белых дойти до Москвы. Под угрозой быть отрезанными от Дона три добровольческие дивизии были вынуждены отступить. Не теряя боевого порядка, они отошли к Курску. Однако их командующий, генерал Май-Маевский, растерялся и совершенно распустился, проводя время в кутежах, волокитстве и пополнении запасов награбленного333. В итоге он был отстранен от должности и заменен Врангелем.
Посреди этих тяжелых испытаний на белых обрушился еще один удар. 8 ноября Ллойд Джордж в речи на банкете, данном лорд-мэром в лондонской ратуше, заявил, что большевизм нельзя победить силой оружия, что наступление Деникина на Москву захлебнулось и что следует «изыскивать иные методы» для восстановления мира. «Мы не можем позволить себе... продолжать такую дорогостоящую интервенцию в бесконечной гражданской войне»334. Речь эта, не согласованная с Кабинетом, удивила многих британцев335. Обращаясь к палате общин 17 ноября, премьер-министр дал объяснение резкому изменению концепции, из которого следовало, что оно было основано не на боязни поражения, но на страхе перед победой белых. Дизраэли, напомнил премьер-министр, всегда предостерегал против «огромной, гигантской, колоссальной, растущей России, сползающей, подобно леднику, в сторону Персии, границ Афганистана и Индии, как против самой большой опасности, с которой может когда-либо столкнуться Британская империя». Борьба Колчака и Деникина за «воссоединенную Россию» оказывалась, таким образом, не в интересах Британии.
По мнению Деникина, приведенные заявления оказали сокрушительное воздействие на его армию, почувствовавшую, что ее покинули в критический момент336. Это суждение подтверждается словами британского свидетеля событий: «Воздействие слов г-на Джорджа было совершенно электрическое. До этого момента добровольцы и их сторонники утешались мыслью, что они ведут бои завершающей фазы великой войны и что Англия все еще первый их союзник. Теперь же они поняли внезапно и с ужасом, что Англия считает войну завершенной и воспринимает бои в России просто как гражданский конфликт. В считанные дни атмосфера на Юге России полностью переменилась. Твердость, с которой ранее принимались все поставленные цели, была настолько подорвана, что и худшее стало возможным. Мнение г-на Джорджа, будто дело добровольцев обречено, обрекло их и впрямь на верный конец. Я каждый день внимательно прочитывал русские газеты и видел, как даже самые пробританские из них не устояли под ударом г-на Джорджа»337.
17 ноября белые оставили Курск. В это же время стало известно, что тремя днями ранее Колчак покинул Омск. В середине декабря, после того как были оставлены Харьков и Киев, отступление белых превратилось в бегство. Завоеванные месяцами тяжелейших боев территории отдавались врагу без боя. 9 декабря Врангель сообщал Деникину в письме, где он перечислял свои предупреждения и то, насколько они оправдались, что «армии как боевой силы нет»338.
Как бы повторяя происходившее в Сибири, толпы военных и гражданских лиц, нагоняемые сзади красной кавалерией, устремились на юг к Черному морю. «Тысячи и тысячи несчастных, некоторые из которых провели уже недели в попытках уйти от приближающихся большевиков, снова снимались с места без друзей, без продовольствия, без одежды. Бессмысленно было бы обзывать этих людей богатеями и буржуями, бегущими народного гнева; у большинства из них не было ни гроша за душой, каковы бы ни были когда-то их состояния, и многие из них были рабочими и крестьянами, вкусившими уже большевистской власти и желавшими избежать повторного свидания с нею. В одном из больших городов Юга России при эвакуации населения случались чудовищные сцены. Однажды вечером последний русский госпитальный поезд готовился к отправке; в тусклом свете станционных фонарей видны стали странные фигуры, ползущие вдоль платформы. Они были серыми и бесформенными, как большие волки. Фигуры приблизились, и с ужасом в них распознали восемь русских офицеров, больных тифом, одетых в серые госпитальные халаты. Офицеры эти, не желая оставаться и быть замученными и убитыми большевиками, поскольку именно такова была бы их судьба, проползли весь путь от госпиталя до вокзала по снегу на четвереньках в надежде, что их возьмут на поезд. Было проведено следствие и выяснилось (мне сообщили), что, как обычно это и случалось, несколько сот офицеров было брошено на произвол судьбы в тифозном бараке. В тот самый момент, как доктора Добровольческой армии покидали госпитали, санитары начинали развлекаться тем, что переставали обращать на несчастных офицеров какое бы то ни было внимание. Что бы с ними всеми стало, если бы до них добралась толпа, страшно даже подумать»339.
Толпы бегущих собирались в Новороссийске, главном порту союзников на Черном море, в надежде покинуть страну на иностранных военных судах. Здесь, посреди разгулявшейся эпидемии тифа, с большевистской кавалерией, ожидающей в пригородах, пока отплывут последние корабли союзников, чтобы сразу рвануться в город, также разыгрывались ужасные сцены: «В конце марта 1920 г. на Новороссийск всем своим весом рухнула человеческая лавина. Безликая масса солдат, дезертиров, беженцев наводнила город, и запуганное население оказалось затянутым в общее море муки и страдания. Тиф собирал свою смертельную жатву среди толп, запрудивших порт. Всякий знал, что только бегство в Крым или куда-либо еще может спасти это огромное количество людей от кровавого возмездия, когда Буденный и его конница возьмут город, однако количество мест на кораблях было ограничено. По нескольку дней люди бились за место на транспортных судах; это была борьба не на жизнь, а на смерть...
Утром 27 марта Деникин стоял на мостике французского военного корабля "Капитан Сакен", бросившего якорь в Новороссийской гавани. Вокруг неясно вырисовывались транспортные суда, вывозящие русских военных в Крым. Ему было видно, как на пристани мужчины и женщины становились на колени, умоляя союзных морских офицеров взять их на борт. Некоторые бросались в море. Британский военный корабль "Императрица Индии" и французский крейсер "Вальдек-Руссо" вели артобстрел дорог, возле которых выжидала красная конница. Посреди лошадей, верблюдов, фургонов и контейнеров с припасами, которыми была загромождена пристань, находились его солдаты и их семьи, они протягивали руки к кораблям, их голоса стлались по воде и доходили до слуха нервных командиров, знающих, что палубы уже забиты и что остающимся на берегу предстоит либо встретить смерть, либо бежать кто куда сможет. Корабли приняли пятьдесят тысяч человек. Пользуясь паникой и суматохой, на борт проскальзывали уголовники, чтобы поживиться, подобно вампирам или кладбищенским ворам, добром беззащитных людей. Беженцы, не сумевшие проложить себе путь на корабль, должны были ожидать сурового приговора красных, поднимавших уже дорожную пыль на подходах к городу.
В тот же день, когда произошла последняя эвакуация, Новороссийск был занят большевиками, и сотни белых русских, гражданских и военных, заплатили жизнью за сопротивление серпу и молоту нового режима»340.
Прибыв 2 апреля в крымский порт Севастополь, Деникин попал под давление недовольного офицерства, требовавшего его отставки. Он повиновался в тот же день. Голосование, проведенное среди старших офицеров, единогласно избрало на его место Врангеля. Тот, к тому моменту уже покинувший армию и живший в Константинополе, немедленно сел на британский корабль, отбывающий в Крым.
К этому времени Красная Армия, горя жаждой мести, уже углубилась в казацкие территории. Некоторые коммунисты призывали к полной «ликвидации» казачества «огнем и мечом». Не дожидаясь обещанного, казаки толпами снимались с места и пускались в бега, оставляя свои села и нечестно нажитое добро иногородним; в некоторых районах численность населения упала в два раза341. Десять лет спустя, во время коллективизации, казачество было упразднено и в значительной части физически уничтожено.
* * *
Врангель обладал тонким стратегическим чутьем. Помимо этого, он понимал и важность политики. В отличие от своих предшественников, он давал себе отчет в том, что в гражданской войне друг другу противостоят не только армии, но правительства, и победа зависит от способности мобилизовать гражданское население. Он окружил себя способными советниками, среди которых были Петр Струве (ему поручили ведение иностранных дел) и А.В.Кривошеий, в прошлом министр земледелия, взявший на себя ответственность за внутренние дела, оба — консервативно-либеральных убеждений. Врангель уделял много внимания гражданскому управлению и налаживанию дружественных отношений с нерусскими меньшинствами342. Но даже несмотря на это дело его было обречено. Если он и смог продержаться в Крыму пять месяцев, то только лишь благодаря тому, что вскоре после принятия им командования Красная Армия отвлеклась на борьбу с польским вторжением. Находясь в двойной должности главнокомандующего 100 000—150 000-й армией и гражданского правителя над 400 000 скопившихся на Крымском полуострове беженцев, Врангель сталкивался с непреодолимыми трудностями, что бы он ни решил делать: эвакуироваться или возобновить вооруженную борьбу.
Без британской помощи нельзя было предпринять ничего, но ее Врангель был лишен. 2 апреля, когда он покидал Константинополь, британский верховный комиссар вручил ему ноту, в которой белых призывали немедленно прекратить «неравную борьбу»: со своей стороны, королевское правительство предлагало вступить в переговоры с Москвой в расчете добиться для белых общей амнистии. Генералитету обещали дать убежище в Великобритании. Если же белые откажутся от сделанного предложения, грозно сообщалось в ноте, правительство «прекратит снабжать [их] ...отныне и впредь какой бы то ни было помощью или дотациями»343.
Предложение Британии добиться советской амнистии для белых было легкомысленным, и Врангель не обратил на него никакого внимания. Он вполне готов был решить в пользу эвакуации, если только это не значило бросить полмиллиона белых и симпатизирующих гражданских лиц на милость коммунистов. Белое командование пришло к заключению, что эвакуация была единственным выходом. Дабы в будущем оградить себя от возможных обвинений, будто он повел себя недостойно и уклонился от вооруженной борьбы, Врангель потребовал и получил от своего генералитета подписи под документом, где говорилось, что ввиду предъявленного Британией ультиматума его задачей стало добиться неприкосновенности и безопасности всем, кто не желал полагаться на добрую волю Советов344. 4 апреля в ответе на британский ультиматум Врангель подтвердил готовность пойти на прекращение огня и эвакуироваться из Крыма при условии, что союзники обещают убежище не только ему и командному составу, но и «всем тем, кто предпочел бы оставление своей Родины принятию пощады от врага»345.
Британия не побеспокоилась даже ответить на это требование; поскольку же переговоры с Москвой относительно амнистии Врангель считал бессмысленными, у него не осталось иного выбора, как подготовиться к длительному пребыванию в Крыму. К началу мая, после того как поляки захватили Киев, возможность закрепиться на полуострове стала выглядеть вполне реалистично, тем более что французы, желая уменьшить нажим на поляков и, соответственно, поддерживать занятость Красной Армии на Юге России, начали вести себя дружелюбно. Таким образом, силою обстоятельств явилась идея превратить Крымский полуостров в анклав, в оазис России национальной и демократической. Врангель и его советники считали, что, если бы союзники гарантировали правительству Юга России дипломатическое признание, как они это сделали с некоторыми другими отделившимися окраинными территориями России, это удержало бы Советы от вторжения. На проходившей 11 апреля пресс-конференции генерал заявил: «Не триумфальным шествием на Москву можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа»346. С концепцией этой чем-то перекликалась другая, принятая китайскими националистами после того, как они эвакуировались в 1949 г. на Тайвань, с той лишь разницей, что, в то время как последние получили надежную дипломатическую и военную поддержку от США, правительство Врангеля оказалось практически в одиночестве.
Приняв командование, Врангель немедленно восстановил дисциплину в армии. Войско к тому времени было полностью деморализовано; у пехоты не хватало оружия, большую часть которого побросали в Новороссийске, а у казаков не было лошадей. Стали применяться суровые наказания вплоть до смертной казни для офицеров и солдат за неисполнение приказов, пьянство во время несения службы или мародерство. Это возымело мгновенное действие; войско Врангеля, переименованное в Русскую армию, стало, по отзывам, напоминать Добровольческую армию 1918 года, «когда она еще не была разбавлена насильственной мобилизацией и коррумпирована пьянством и грабежами»347.
Врангель не мог долго оставаться запертым в Крыму, поскольку полуостров не производил продовольствия достаточно, чтобы прокормить сильно увеличившееся население. Помимо этого, Франция ставила свою помощь в зависимость от весьма обременительных условий, в частности требовала снабжать ее сельскохозяйственной и прочей продукцией, которой здесь не хватало. По этим причинам Врангель пренебрег предупреждениями Британии и произвел 6 июня неожиданную вылазку на материк в районе побережья Азовского моря, в Северной Таврии. Операция прошла успешно, и отвоеванные приморские районы вскоре расширились до вполне обширных территорий, дававших обильную сельскохозяйственную продукцию. Чтобы добиться расположения населения, Врангель издал воззвание, в котором обещал защищать веру, обеспечить гражданские права и свободы, предоставить народу самому выбрать правительство. Одновременно с воззванием был опубликован приказ, которым большая часть земель, захваченных крестьянством в 1917—1918 гг., признавалась его собственностью, с оговоркой, что прежние владельцы получают обратно в собственность небольшие наделы, размер которых устанавливался законом348.
В июле и августе Врангель направил вторую военную экспедицию на Кубань, но там ему закрепиться не удалось.
Перспективы Врангеля в большой степени зависели от исхода советско-польской войны. Когда в сентябре после разгрома Красной Армии под Варшавой военные действия в Польше были приостановлены и стороны вступили в мирные переговоры, судьба Врангеля была решена. 20 октября Красная Армия начала наступление на Крым, напав на позиции белых на Перекопском перешейке: против 133 600 красных стояло всего 37220 белых349. Наступающих поддерживали партизанские части под командованием Махно, которые были посланы в атаку на самый укрепленный редут белых и ценой тяжелых потерь осуществили прорыв. Имеются сведения, что после сражения Троцкий приказал казнить 5000 оставшихся в живых махновцев. [Мороз И. // Аргументы и факты. 1990. № 37(518). С. 7. В отместку на следующий год Махно казнил всех коммунистов, какие только попадали к нему в руки на Украине. В августе 1921-го Махно был разбит частями Красной Армии под командованием Михаила Фрунзе, остатки его армии ушли в Румынию. Умер Махно во Франции в 1934 г.].
Удерживая Красную Армию на расстоянии, Врангель делал приготовления к эвакуации. Трудное отступление было осуществлено с показательной четкостью, войска дрались и отходили, не теряя строя. 14 ноября гражданская война формально закончилась: 83 000 военных и гражданских беженцев погрузились на 126 британских, российских и французских кораблей и отбыли в Константинополь. Врангель взошел на борт последним. Примерно 300 000 антибольшевиков были оставлены; многие офицеры были массовым образом расстреляны красными350.
Впоследствии многие и многие тысячи военнопленных были заключены в лагеря. В ноябре 1920 г. Ленин получил из отвечавшей за лагеря ЧК встревоженные донесения, в них говорилось, что только в Екатеринбурге 100 000 военнопленных и изгнанных из поселений казаков живут в «невероятных условиях». В харьковских лагерях содержалось 37 000 военнопленных из армии Врангеля. ЧК просила сделать что-то, чтобы улучшить условия этим людям. Ленинский ответ был: «В архив»351.
Донских казаков массами выгоняли из их усадеб. С целью заново заселить и реконструировать обезлюдевшие районы советское правительство провело в 1922-м переговоры с германским концерном Круппа, предлагая сдать ему в аренду целых 700 000 га пахотной земли в районе Новороссийска352. Однако, даже когда размеры снизили до 65000 га, немцы не решились пойти на сделку, и из переговоров ничего не вышло.
* * *
По причинам, изложенным в начале этой книги, победа Красной Армии была предрешена, особенно принимая во внимание ее бесконечное численное и техническое превосходство, а также преимущества ее геополитического положения. Относительная слабость белых еще усугублялась их неспособностью следовать логике гражданской войны и настойчивым отказом признать отделение нерусских территорий. Ими совершались и стратегические ошибки, самой дорогостоящей из них оказалась неспособность соединиться с Колчаком. Были допущены и другие серьезные ошибки и просчеты, например, отсутствие хорошо налаженного гражданского управления. Фатальным оказалось неумение и бессилие держать войска в строгом порядке. Учитывая эти обстоятельства, правомерно усомниться в том, что более умная политика или лучшее стратегическое планирование могли бы отвратить поражение белых. Если бы после смерти Корнилова не Деникин, а Врангель принял верховное командование, агония бы продлилась, но исход, вероятнее всего, оказался бы таким же. Слишком уж неблагоприятными для белых армий оказались «объективные» факторы. [См. также заключение кн.: Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 272—290.].
Среди обстоятельств, оказавших влияние на итоги событий и могущих быть названными «объективными», хотя они имели не материальную, но культурную природу, следует особо отметить слабую развитость у русского населения чувства патриотизма. Белые вдохновлялись примером русского национального восстания против иноземных захватчиков, имевшего место в начале XVII столетия и положившего конец «Смутному времени». Они взывали не к классовым инстинктам, то есть не к чувствам обиды или алчности, но к чувству национальной гордости. Этот призыв нашел ответ у небольшой группы, состоявшей в основном из офицеров и студентов: ситуация общая и для Колчака, и для Деникина353. Ни русское крестьянство, ни нерусские меньшинства (к которым в данном случае следует отнести и казачество) не могли вдохновиться призывом освободить Россию. Царскому правительству не удалось создать у своих подданных чувства национального единства и общности интересов: призыв большевиков грабить, дезертировать из армии и отделяться от империи казался им более привлекательным. Когда закончилась гражданская война и большевики заторопились начать коммунистическое строительство, им пришлось в свою очередь взывать к патриотизму, и ответом им стало, конечно же, все то же безразличие. На него большевики отреагировали перманентным террором.
Для историков, занимающихся русской революцией, обычным стало приписывать поражение белых их неспособности завоевать массовую поддержку населения; подразумевается при этом, что причиной тому стало нежелание белых принять прогрессивную социально-политическую платформу. Заявляется, в частности, что белые потеряли опору в российском крестьянстве, поскольку не смогли вовремя узаконить собственность на земли, захваченные в 1917—1918 гг. Предположение это нельзя ни доказать, ни опровергнуть, поскольку не проводилось ни референдумов, ни опросов общественного мнения, на основании которых можно было сделать подобные выводы. Это не заключение, выведенное из наблюдения, но априорное предположение: в союзнических кругах, особенно в Америке и Британии, было твердо установлено, что режим, прочно утвердившийся у власти, заведомо опирается на поддержку масс; если же режим не удерживается у власти, значит, доверием народа он не пользуется. Однако посылка, основанная на опыте демократий, где власть получают вследствие голосования, никак не приложима к обществам, где власть добывается и удерживается силой. На вопрос: «Как могут стоять у власти большевики, если не опираясь на большинство народа, которое их поддерживает»?» — генерал Уард, командующий британскими силами в Омске при Колчаке, ответил вполне уместным вопросом: «А как единоначальное управление просуществовало в России от Ивана Грозного до Николая Второго?»354.
Гражданская война — не соревнование в популярности. Нет никакой уверенности в том, что русские или украинские крестьяне, дай им право выбора между красными и белыми, выбрали бы первых. Поскольку, если и правда то, что красные отдали общинам частные помещичьи угодья и земли состоятельных крестьян и что отношение белых к подобной политике было неоднозначным, красные утратили завоеванную этой политикой популярность вследствие жестокости, проявленной при продразверстке и классовой войне в деревне. Доступные источники информации свидетельствуют, что в гражданской войне крестьянство держалось особняком, поносило обе воюющие стороны и мечтало, чтобы его оставили в покое. Практически все наблюдавшие события современники свидетельствуют, что, когда власть переходила к красным, местное население тосковало по белым, но если на некоторое время устанавливалась власть белых, крестьяне желали, чтобы вернулись красные. Наличие подобной позиции, «чума на оба ваши дома», многократно подтверждалось и русскими консерваторами, и либералами, и радикалами, и иностранными наблюдателями: она явилась следствием вековых традиций, рассматривавших народ как объект управления и не пытавшихся внушить ему даже подобия гражданственности. Петр Струве, проживший 1918 г. под большевиками, пишет: «Население всегда составляло либо совершенно пассивный элемент, либо, в лице зеленых и иных банд, элемент одинаково враждебный обеим сторонам. Гражданская война между красными и белыми велась всегда относительно ничтожными меньшинствами при изумительной пассивности огромного большинства населения»355. Деникин отмечал в крестьянине «его беспочвенность и сумбурность. В нем не было ни "политики", ни "Учредительного собрания", ни "республики", ни "царя"»356. Меньшевик Мартов писал, что в гражданской войне «самым слабым местом революции оказались равнодушие и пассивность масс»357.
Большевикам удалось с помощью меньшевиков и эсеров привлечь массы промышленного рабочего класса на свою сторону, но сомнительно, что рабочих при этом набиралось достаточно (их было менее одного миллиона), чтобы склонить весы в их сторону.
Борис Савинков, бывший террорист, а теперь патриот, имевший возможность лично наблюдать гражданскую войну практически на всех фронтах, объяснял Черчиллю и Ллойд Джорджу положение в российской глубинке. Как вспоминает Черчилль, «это было в некотором отношении подобно истории индийских деревень, по которым прокатывались в прошедшие века волны завоевателей, подступая и отступая. У них была земля. Они убили или изгнали ее прежних владельцев. Деревенское сообщество завладело новыми, хорошо возделанными полями. Они могли теперь распоряжаться этими давно вожделенными владениями. Никаких больше землевладельцев, никакой арендной платы. Земля во всей ее полноте — не больше и не меньше... Не для них теперь человеческая суета. Коммунизм, царизм, мировая революция, святая Русь, империя или пролетариат, цивилизация или варварство, тирания или свобода — в теории все было для них одно и то же; более того — кто бы ни победил — и на деле оказывалось то же самое. Там они были и там они и остались; тяжелым трудом добывали они насущный хлеб. Однажды утром прибывает казачий патруль. "Христос Воскресе; союзники на подходе; Россия спасена; вы свободны". "Советов больше нет". И крестьяне ворчат, и послушно избирают совет старейшин, и казачий патруль отбывает восвояси, взяв с них все, что с них можно взять, и нагрузивши столько, сколько может увезти. Затем вечером через несколько недель, а может и несколько дней, приезжает большевик на побитом автомобиле с полдюжиной стрелков и тоже оповещает: "Вы свободны; цепи ваши разорваны; Христос — это обман; религия — опиум для демократии; братья и товарищи, радуйтесь, занимается утро нового великого дня". И крестьяне ворчат. И большевик говорит: "Долой совет старейшин, эксплуататоров бедноты, главное орудие реакции. Изберите вместо них сельский Совет, и да будет он отныне серпом и молотом вашего пролетарского права". Итак, крестьяне разгоняют совет старейшин и избирают посредством примитивной процедуры сельский Совет. Однако избирают они в точности тех же людей, которые до того входили в совет старейшин, и земля также остается в их руках. И теперь большевик со своими стрелками заводит авто и шум мотора затихает по мере того, как он удаляется в никуда, а может, в объятия казацкого разъезда»358. «Настроение крестьянства — это безразличие, — замечает другой современник. — Они хотят только, чтобы их оставили в покое. Пришли большевики, — они говорят "хорошо"; ушли большевики, — они говорят "ну и ладно". Есть пока хлеб, так давайте же молиться Богу, и кому нужны [бело] гвардейцы? Пусть уж они дерутся между собой, а мы постоим в стороне»359.
Свидетельств подобного рода набирается чрезвычайно много, и все они указывают на то, что настроения «масс», особенно в провинции и на селе, не могли сказаться на исходе гражданской войны. Ленин не заблуждался на этот счет и не думал, что его власть пользуется популярностью: ни в дискуссиях с соратниками, ни в разговорах с иностранными гостями он не пытался создать такого впечатления. Он одинаково презирал и русских рабочих, и крестьян. Во всяком случае, Ленин никогда не заявлял, что большевики выиграли гражданскую войну, потому что их поддержал народ. По этой же причине большевики и слышать не хотели о созыве Учредительного собрания — к мысли о котором с таким постоянством возвращались все белые власти — и заставили эсеров снять этот лозунг. Никогда большевики не поступили бы подобным образом, будь у них хоть малейшая возможность получить преимущество на всероссийских выборах.
Основную поддержку большевики получали не от народа в целом, не от «масс», но от аппарата коммунистической партии, который в течение гражданской войны разрастался не по дням, а по часам: к концу боевых действий в партии состояло от 600 000 до 700 000 человек. Люди набирались без тщательной проверки — необходимо было увеличить число управленческих кадров и укрепить рады армии. Партийцы были заведомо лояльны: в случае победы белых их ожидала кара, возможно смерть. Люди вступали в партию, поскольку членство давало привилегии и безопасность в обществе, где ужасающая нищета и насилие стали нормой жизни. Как все успешные революционеры, большевики создали клиентуру, кровно заинтересованную в сохранении существующего режима: они добивались этого, распределяя среди своих сторонников различные блага и рабочие места. Пользующиеся этой щедростью за чужой счет готовы были любой ценой предотвратить реставрацию монархии или установление демократии. Число их было относительно невелико — около трех миллионов, если считать вместе с иждивенцами, — однако в стране, где, кроме деревни, не осталось никакой формы организованной жизни, эти подчиняющиеся партийной дисциплине кадры являли собой большую силу.
* * *
Число потерь в русской гражданской войне практически невозможно установить. Данные, недавно полученные из архивов Красной Армии, свидетельствуют, что между 1918 и 1920-м в боях погибло 701 847 человек (не считая тех, кто пропал без вести или не вернулся из плена360). К этим цифрам следует прибавить число потерь, понесенных при подавлении крестьянских восстаний, по некоторым оценкам — около четверти миллиона человек (см. ниже). В целом потери, понесенные Красной Армией в гражданской войне, составляли примерно три четверти от потерь, понесенных русской армией во время Первой мировой (оцениваемых в 1,3 млн человек). Потери белых подсчитать еще труднее: один российский демограф определяет их в 127 000361.
К потерям в бою следует прибавить жертвы эпидемий, а также умерших от недоедания, холода и самоубийц: по некоторым данным, эпидемии унесли около 2 млн жизней362. Известно также, что 91% жертв гражданской войны составили гражданские лица363.
Боевые потери и потери мирного населения затронули в основном Великороссию, контролировавшуюся в течение гражданской войны большевиками. Территории, частично или полностью находившиеся под контролем белых (Северный Кавказ, степные районы Средней Азии, особенно Сибирь), испытали приток населения364.
Наконец, к потерям населения, которые понесла Россия в результате гражданской войны, следует прибавить тех, кто эмигрировал за рубеж; число их составляет от полутора до двух миллионов. Основная масса беженцев направилась в Германию и Францию, каждая из этих стран приняла по 400 000 человек. Примерно 100 000 человек нашли прибежище в Китае365.
Русская эмиграция отличалась от эмиграции времен французской революции. 51% французских эмигрантов составляли представители низших слоев, 25% — духовенство, 17% — аристократия366. Большинство русских эмигрантов были чиновниками, представителями свободных профессий, купцами, интеллектуалами. Они составляли в свое время основу предреволюционной российской правящей европеизированной элиты. Кроме того, в то время как большинство французских эмигрантов вернулось впоследствии домой, русские этого не сделали: за небольшими исключениями, они оканчивали дни за рубежом. Их потомство ассимилировалось. Для России поэтому эмиграция стала невосполнимой утратой.
Российская эмиграция вывезла с собой политические убеждения и разногласия. Монархисты тяготели в сторону Германии, где налаживали связи с нарождающимся национал-социалистическим движением и вносили в него антикоммунистические настроения. В 1920 году во время русско-польской войны некоторые представители правой эмиграции стали просоветскими. С точки зрения лидера этого направления Н.В.Устрялова, восстановление России как «могучего и целостного» государства являлось высшим приоритетом: в той мере, в какой большевики, несмотря на все их грехи, стали носителями русской государственности, они должны были рассчитывать на поддержку всех русских, и долг эмигрантов был вернуться назад и помочь им переделать страну. Ленин отнесся к этому движению, известному под названием «Смена вех», как к небесполезному и оказал ему финансовую поддержку. Устрялов и некоторые из его «национал-большевистских» последователей вернулись в Россию: их терпели недолго, большинство из них ждала насильственная смерть.
Эсеры и меньшевики пошли в эмиграции своим путем. Хотя и критически относясь к коммунизму, они отвергали возможность вооруженного противостояния на том знакомом уже основании, что оно послужит сплочению масс в поддержку режима, который, будучи предоставлен сам себе, уступит со временем место здоровым демократическим силам. Они уповали на естественную эволюцию коммунизма в сторону социализма и демократии.
Либералы пережили в эмиграции раскол. Милюков примкнул к социалистам, в то время как основная масса его соратников по партии желала продолжать в той или иной форме сопротивление коммунистическому режиму. Петр Струве, изолировавшийся ото всех политических течений, но национально-либеральный по убеждениям, призывал эмигрантов сосредоточиться на сохранении русской национальной культуры вплоть до того дня, когда родина станет свободной. Он не признавал за коммунизмом возможности эволюционировать: вследствие специфического взаимоотношения политики и экономики в Советской России, считал он, «эволюция большевизма будет условием и сигналом для революции против большевизма»367.
Ветераны русской белой армии держались в стороне от этих разногласий, хотя вследствие враждебного отношения социалистов и лево-либералов к их борьбе они приблизились к правым монархистам. Врангель обосновался в Югославии, где и умер в 1928 г. Деникин закончил свои дни в Соединенных Штатах.
Многие русские верили, подобно Струве, что основной задачей и национальной миссией диаспоры было поддержание русской культуры. При финансовой помощи чехословацкого и югославского правительств они развернули энергичную культурную деятельность, создавая университеты, школы, научные институты, издавая книги, журналы и газеты. В 1920 г. за рубежом появилось 138 новых газет на русском языке; только в Берлине выходило 58 русских ежедневных и периодических изданий368. Русские писатели, музыканты и художники, многие из которых пользовались мировой известностью, зачастую в невыносимо тяжелых условиях продолжали заниматься творчеством. На десятой годовщине большевистского переворота Владимир Набоков обратился к эмигрантскому сообществу как хранитель истинной России: «Мы волна России, вышедшей из берегов, мы разлились по всему миру, — но наши скитания не всегда бывают унылы... и хотя нам кажется иногда, что блуждают по миру не одна, а тысяча тысяч России, подчас убогих и злобных, подчас враждующих между собой, — есть, однако, что-то связующее нас, какое-то общее стремление, общий дух, который поймет и оценит будущий историк.
И заодно мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, быть может, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем все сказать, все написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды. Мы свободные граждане нашей мечты»369.
ГЛАВА 3. КРАСНАЯ ИМПЕРИЯ
Первая в Российской империи перепись населения, проведенная в 1897 г., показала, что ее население (за исключением Великого княжества Финляндского) составляло 126 млн человек. [Данная глава представляет собой краткое изложение моей книги «Образование Советского Союза: коммунизм и национализм, 1917—1923», впервые опубликованной в США в 1954 г.; пересмотренное издание было выпущено десятью годами позднее. Эта работа опиралась на обширную документацию, вполне достаточную для моего исследования, за исключением новых материалов, ставших доступными после 1964 г. и заставивших меня пересмотреть некоторые положения.]. Численность русских при этом зависела от того, как было определено само понятие «русский». Царское правительство объединяло под этой категорией три группы славян, которые в двадцатом столетии были признаны отдельными народами: собственно русских, или «великороссов» (56 млн); украинцев, или «малороссов» (22 млн); и белорусов (6 млн). Вместе они составили две трети населения империи. [Приводимые цифры взяты из кн.: Общий свод... первой всеобщей переписи населения... 1897 года / Под ред. Н.А.Тройницкого. В 2 т. СПб., 1905]. Если бы к украинцам и белорусам отнеслись тогда как к отдельным народам, русское (или, точнее, русскоязычное) население осталось бы в меньшинстве и составило 41,2%. Именно для того, чтобы скрыть этот нелицеприятный факт, царский режим и подавлял с такой примерной жестокостью украинский национализм, вплоть до запрета издавать печатную продукцию на украинском языке.
Белорусы и большинство украинцев исповедовали общую с великороссами религию, а в те времена, когда конфессиональная принадлежность брала верх над национальной, это являлось определяющим фактором. В том, что касалось продвижения по гражданской и военной службе, царское правительство относилось к трем славянским православным группам одинаково, и это способствовало ассимиляции. Ассимиляции способствовали и смешанные браки: согласно переписи 1926 г., в которой раздельно регистрировались национальность и языковые предпочтения, каждый седьмой украинец и белорус считал русский своим родным языком.
Тем не менее различия между тремя группами восточных славян были значительнее, нежели сходство между ними. С четырнадцатого по восемнадцатый век украинцы и белорусы являлись подданными польско-литовского содружества, Речи Посполитой, — государства католического, культурно тяготевшего к Западной Европе. В результате вплоть до середины восемнадцатого века (когда они попали под российское владычество) обе эти группы находились под значительно более сильным влиянием Запада, нежели великороссы. В частности, и украинцы, и белорусы имели гораздо менее длительный опыт общения с теми институтами, которые в значительной степени определили бытие великороссов: наследственной монархией, крепостным правом и общинным землевладением. К началу XX века ни одна из этих групп не была полностью сформировавшейся нацией в современном значении этого слова, и чувство культурной самобытности свойственно было в основном тонкому слою национальной интеллигенции. Подобно великороссам, большинство украинцев и белорусов видели в себе членов православного сообщества и граждан той губернии, где им случилось проживать. Украинское националистическое движение, поощряемое и финансируемое Австрией с целью ослабления России, получило сколько-нибудь значимое распространение только во время революции и гражданской войны.
Перепись 1897 г. показала, что в России проживали представители 85 языковых групп, самые мелкие из них исчислялись сотнями человек. Интересные для антрополога и этнографа, для историка они имеют весьма небольшое значение.
С политической точки зрения самой активной национальной группой в России являлись 8 млн проживавших в ней поляков. В российское подданство они попали вследствие раздела Польши в восемнадцатом веке и Венского конгресса 1815 г. В наказание за два восстания (1830—1831 и 1863—1864) к 1900 г. поляки были лишены права на самоуправление: в 1863 г. все следы польской государственности были уничтожены, само название «Польша» исчезает с русских географических карт. Хотя поляки и были славянами, их католицизм заставлял русских относиться к ним как к чужакам. [Несколько миллионов украинцев, живших в западных губерниях, приняли в шестнадцатом веке католицизм с условием, что им позволят придерживаться восточного обряда. Царское правительство и православные власти относились к униатам как к изменникам.]. Трудно понять, каким образом Россия надеялась удержать в постоянном подчинении древний, в культурном отношении гораздо более развитый, чем большинство ее населения, народ. Однако империя слишком нуждалась в Польше, чтобы от нее отказаться: если украинцы и белорусы давали русским возможность удерживать за собою численное превосходство в государстве, то Польша служила форпостом и позволяла распространять политическое и военное влияние на Европу. Некоторые польские мыслители считали, что Россия может претендовать на статус европейской державы, только удерживая Польшу.
Следующими по численности оказывались татары и народы Средней Азии, исповедующие ислам и населяющие широкие пространства от Черного моря до Тихого океана. По большей части они являлись потомками кочевых народов, завоевавших в тринадцатом веке Киевское государство, а также мигрантов, пришедших в свое время от китайской границы в южные русские степи. Некоторые из них продолжали кочевой образ жизни или сезонные кочевки вместе со скотом, другие осели и занялись торговлей и ремесленничеством. Селились они в основном в трех районах. Самым обширным была Средняя Азия, где жило 7 млн мусульман, некоторые из них тюркского, другие — персидского происхождения, часто они мешались между собой. Следующий район поселения мусульман, и самый древний за время российского владычества, помещался в среднем течении Волги и на Урале. Там жило 2 млн татар, занимавшихся торговлей и земледелием, и 1,3 млн башкир, по большей части — кочевников. Третье средоточие мусульманских поселений находилось на Северном Кавказе и к югу, в Закавказье (там жили азербайджанцы, дагестанцы, чечены и т.д.), а также на Крымском полуострове. Всего в России проживало примерно 14—15 млн мусульман, что составляло 11% населения империи.
Правительство относилось к ним снисходительно, поскольку не видело в них политической опасности. В 80-х гг. девятнадцатого века среди волжских и крымских татар возникло культурное движение, известное как джадидизм; так же, как и у еврейского движения Просвещения, главной задачей его была реформа образования. Потенциально националистическое, движение это до революции не ставило перед собой политических задач. Кочевые тюркские племена вели автономное существование, и в девятнадцатом веке правительство воспрепятствовало вторжению славян на их пастбища. Большинство мусульман освобождались от призыва на военную службу.
Россия получила Финляндию в 1809 г. от Швеции, как подарок Наполеона. Финляндия в пределах Российской империи представляла собой полусуверенное государство с собственной легислатурой: русский царь правил ею как великий князь, подчиняясь ограничениям, налагаемым на его деятельность конституцией. Население Финляндии не подчинялось общероссийским законам, в том числе и воинской повинности. Такое положение дел удовлетворяло обе стороны вплоть до конца девятнадцатого века, когда российская бюрократия начала посягать на автономные права Финляндии. В результате возникло финское националистическое движение.
В Балтийских губерниях, называемых тогда Курляндией, Лифляндией и Эстляндией, преобладающим политическим элементом были немцы; они владели большей частью земель и контролировали торговлю. Ни одна национальная группа в России не выказывала большей лояльности по отношению к царскому режиму, чем прибалтийские немцы, и в знак признательности российское правительство давало им свободу в управлении этими губерниями. Латыши и эстонцы составляли низшие сословия — крестьянство и промышленный рабочий класс.
Грузины (1,4 млн) и армяне (1,2 млн), проживавшие в Закавказье, являлись православными христианами, но подчинялись автокефальным церковным властям. Живя в окружении враждебно настроенных по отношению к ним мусульман, они для безопасности искали союза с русскими. В конце восемнадцатого века грузины попросили русской помощи и подписали соглашение о протекторате России, которое та нарушила в 1801 г., присоединив Грузию к себе. Армения была присоединена к России в начале девятнадцатого века, после отделения от Оттоманской империи, где продолжало проживать большинство ее населения.
5 миллионов российских евреев имели особый статус. Напуганные зародившейся в давние времена новгородскомосковской ересью «жидовствующих», православные власти настояли на том, чтобы иудеям не было доступа на собственно русские территории. Эта политика нашла поддержку среди российского купечества, которому в силу низкого уровня профессиональной культуры было трудно конкурировать с торговцами-евреями. До середины восемнадцатого века евреев в России не было. Затем ситуация резко изменилась, поскольку в результате трех разделов Польши Россия приобрела более миллиона подданных-евреев. Прирост среди еврейского населения шел крайне быстрыми темпами: несмотря на постоянный отток эмигрантов, к началу нынешнего века оно составляло самую большую неславянскую национальную группу в Российской империи. Более того, это стало самой многочисленной еврейской колонией в мире, а Россия сделалась центром талмудической учености, еврейской культуры и сионизма.
Екатерина Вторая сделала попытку распространить на евреев гражданские права, но должна была отказаться от нее под давлением по-прежнему враждебно настроенного к ним купечества и поляков. К началу девятнадцатого века установилось правило, согласно которому евреи, за малыми исключениями, могли проживать только на территориях, принадлежавших до того Речи Посполитой (регионы эти стали известны под именем «черты оседлости»). Помимо этого еврейство причислили к мещанскому сословию, что вынуждало его жить исключительно за счет ремесленничества и торговли и делало недоступными занятие сельским хозяйством, гражданскую и военную службу. Материальное положение евреев, быстро обраставших огромными семьями и не имевших возможности выбраться за пределы маленьких городков (местечек) в черте оседлости, было тяжелым и ухудшалось день ото дня: многие начали бежать от трудностей и от начавшихся в 1881—1882 гг. погромов в Западную Европу и Америку. Некоторые смогли все же закрепиться в самой России, либо получив необходимое для этого образование, либо дав взятку в полиции; многие, особенно молодежь, занялись революционной деятельностью. Высшее чиновничество считало евреев самой опасной национальной группой — не только ввиду участия их в радикальных движениях, но также из-за противления ассимиляции, связей российской колонии с иудеями за рубежом и из-за распространения в их среде капиталистического предпринимательства, что, по мнению властей, могло дестабилизировать сельскохозяйственную экономику в стране.
Евреи сталкивались с враждебным отношением не только со стороны царских властей. В черте оседлости они сформировали социоэкономическую группу, главным признаком которой стало религиозное единство, заняв место среднего класса между католической и православной аристократией с одной стороны и православным крестьянством с другой. Культурно превосходя свое окружение, евреи, выделявшиеся уровнем образования (практически все мужчины среди них были грамотны), крепкими семейными связями и трезвым образом жизни, вызывали зависть, что подготовило почву для погромов периода гражданской войны.
Если не считать поляков, претендовавших на полный суверенитет и расширение своего государства за счет российских территорий, и, может быть, финнов, прочее нерусское население империи не доставляло царским властям особенных хлопот. То, что получило впоследствии название «национального вопроса», представляло в те годы скорее потенциальную, нежели реальную угрозу целостности империи в том смысле, что распространение массового просвещения и грамотности и секуляризация жизни вели в результате к повышению национального самосознания. Как правило, отношение властей к национальным меньшинствам находилось в обратно пропорциональной зависимости от уровня культурного развития последних: чем выше поднимался их уровень жизни и образования, тем опаснее они представлялись и тем более внимательного присмотра требовали.
Национальное сознание среди нерусского населения получило дополнительный стимул во время революции 1905 г. и последовавших за ней конституционных преобразований. В 1905—1906 гг. основные национальные группы собирали съезды, на которых выражали свои претензии и формулировали требования. Во время кампании по выборам в Государственную думу многие меньшинства выставляли собственных кандидатов. Часто они примыкали к русским партиям, обычно либеральным (кадетам) или к социалистам, но при этом у них сохранялась своя повестка дня и велись фракционные совещания. Значительное количество украинцев голосовало за Украинскую социал-революционную партию (УГТСР) и за Украинскую социал-демократическую партию (УСПД). Мусульмане — члены Думы сформировали Мусульманский совет, включавшийся в разработку законодательных программ, имевших отношение к их избирателям. Имелись национальные партии, представлявшие армян (среди которых лидировала националистическая, Дашнакцутюн), евреев, азербайджанцев. Все эти партии и группировки (за исключением, как всегда, поляков) стремились расширить права представляемых ими народностей в пределах неделимой Российской империи; их лидеры были уверены, что наступление демократии и расширенное самоуправление в стране в целом само по себе удовлетворит их частные требования.
Принимая во внимание, какую исключительно важную роль предстояло сыграть национальному вопросу в революции и гражданской войне, кажется удивительным, насколько ничтожным вниманием он пользовался в России: даже активно принимавшие участие в политике интеллектуалы считали национализм и национальный вопрос проблемами маргинальными. Подобная установка явилась результатом сочетания определенных исторических и географических факторов. В отличие от европейских империй, образовавшихся только после формирования национальных государств, Российская империя складывалась одновременно с государством: исторически два эти процесса были в ней почти неразличимы. Кроме того, Россия — не морская держава, ее колонии явились территориальным продолжением ее собственных земель и не отделялись от нее океаном, как владения европейских государств. Это географическое обстоятельство делало затруднительным четкое разделение на метрополию и империю. В той мере, в какой большинство образованных русских вообще задумывалось над данной проблемой, они ожидали, что национальные меньшинства в России со временем ассимилируются, а страна их, подобно США, превратится в единую нацию. Для такой аналогии было мало оснований, поскольку Российская империя, в отличие от Штатов, население которых, за исключением вывезенных из Африки рабов и коренных индейцев, состояло из добровольных переселенцев, складывалась исторически из территорий, завоеванных с помощью оружия. Тем не менее установка эта глубоко укоренилась, что мы могли наблюдать на примере белых генералов, выражавших в данном случае общественное мнение.
Российские политические партии относились к национальному вопросу небрежно: ни одна не оказалась готова предвидеть возможный распад империи и национальную рознь. (Большевики после 1913 г. стали исключением из правила, но, как будет показано ниже, борьба их за право наций на самоопределение была не более чем тактической уловкой: Ленин тоже желал, чтобы империя продолжала существовать.) С точки зрения социалистических партий, любое проявление национализма являлось наследием капитализма, орудием, к которому прибегали «правящие классы», чтобы посеять рознь среди масс. Либералы считали, что демократизация и региональная автономия удовлетворят все законные требования национальных меньшинств. Правые партии хотели видеть Россию «единой и неделимой». Царское правительство, со своей стороны, проводило пагубную политику пренебрежения: оно сурово расправлялось с сепаратистскими движениями, особенно в среде поляков, но верило, что время работает на него и что в итоге все меньшинства, уступая политическому и экономическому превосходству России, растворятся в ней. Политика эта могла быть оправдана только при условии, что положение в России оставалось бы относительно стабильным и правительство осуществляло эффективный контроль над жизнью страны.
* * *
В считанные дни после начала Февральской революции национальный вопрос встал чрезвычайно остро. Падение царизма дало разнообразным этническим группам возможность не только заявить свои претензии, но и настаивать на их немедленном удовлетворении. Требования, которые в населенных русскими районах принимали экономический, социальный или политический характер, в нерусских регионах сливались в форме национализма. Так, например, для кочевников — киргизов и казахов — отнявшие их пастбища русские поселенцы становились не классовыми, но национальными врагами. Для украинского крестьянина перспектива делиться полученной в 1917—1918 гг. землей с пришедшими с севера русскими тоже принимала вид национальной проблемы.
Первыми выступили украинцы, сформировавшие 4 марта 1917 г. в Киеве региональный совет, названный Центральной Радой. Поначалу умеренные в своих требованиях, лидеры украинских националистов становились все более радикальными по мере того, как слабло общероссийское правительство. 10 июня Рада издала манифест, названный в память о воззвании казачьих гетманов в семнадцатом веке «Универсалом», и в нем заявила о себе как о единственном органе, уполномоченном говорить от имени украинского народа: отныне, говорилось там, Украина сама будет распоряжаться собственной судьбой. «Универсал» оказался первым открытым вызовом, брошенным Временному правительству национальным меньшинством: несмотря на то, что Рада не потребовала впрямую независимости, она учредила вскоре местное правительство, начавшее вести себя со всех точек зрения как верховный орган. В августе 1917 г. Временное правительство, уже непоправимо ослабшее, вынуждено было, не имея другого выхода, признать все требования Рады.
На этой стадии украинский сепаратизм все еще оставался движением интеллигенции, которую поощряли и поддерживали деньгами австрийцы и немцы. [В книге «Образование Советского Союза» я не уделил практически никакого внимания той роли, которую играли страны Четверного Союза в подъеме национализма среди национальных меньшинств в России в период революции, поскольку тогда, когда писалась эта книга (1950— 1953), архивы Министерства иностранных дел Германии были недоступны для исследователей. Информация, полученная нами с тех пор, позволяет сделать вывод, что поощрение и поддержка националистических настроений среди национальных меньшинств являлась важным элементом в стратегии стран Четверного Союза, направленной на ослабление и развал России.]. Однако в течение 1917 г. оно приобрело массовый характер вследствие специфики аграрного вопроса в этом регионе. Черноземные угодья в южных губерниях Российской империи были более плодородными, чем земли в Великороссии, а потому и более ценными. У украинцев и казаков не было поэтому никакого желания участвовать в общем переделе, потому что тогда им пришлось бы делиться той землей, которой они завладели или надеялись завладеть вследствие революции, с безземельными и малоземельными общинными крестьянами с севера. В соответствии с этим здешние политики настаивали, чтобы вопрос о распределении земель решался локально: массовая Украинская социалистическая революционная партия выступала за создание Украинского земельного фонда, который должен был взять под контроль все земли в регионе и разделить их исключительно среди местного населения.
Начали организовываться и мусульмане. В марте и апреле 1917 г. они провели местные конференции, которые завершились созывом 1 мая в Москве Первого Всероссийского мусульманского съезда. В движении преобладали деятели, близкие к русским либералам: их счет был не к русским, а скорее к консервативно настроенным муллам. Поскольку мусульмане были рассеяны по обширным территориям, их политики не выдвигали территориальных требований. Съезд избрал духовного вождя для руководства всем мусульманским населением и гарантировал женщинам равные права — событие, в истории исламского мира беспрецедентное. По поводу национального вопроса возникло два течения: одно, в котором преобладали волжские татары, стремилось к культурной автономии в составе единого Российского государства; другое призывало к созданию федерации. Когда вопрос поставили на голосование, сторонники федералистской платформы оказались в решающем большинстве. Съезд учредил Всероссийский Центральный мусульманский совет, Милли Шуро, для координации действий живущих в России мусульман.
Центральные институты мусульманской жизни вскоре были ослаблены вследствие общего развала в государстве, и политическая деятельность переместилась в регионы. В Крыму и Башкирии возникли собственные правительства. Самый жестокий национальный конфликт разразился в степях Средней Азии, населенных казахами и киргизами. Еще до революции, в июле 1916-го, казахи и киргизы восстали против царских властей, протестуя против указа о мобилизации их на строительные работы в тылу — в этом акте они усмотрели нарушение своей традиционной привилегии, освобождения от воинской повинности. Во время беспорядков примерно 2500 русских и казаков были убиты, а 300 000 казахов и киргизов выселены и бежали в пустыню и соседний Китай1.
В апреле 1917 г. в Оренбурге открылся Казахско-киргизский съезд. Через три месяца организаторы съезда создали национальную партию под названием Алаш Орда, призывавшую к казахско-киргизской автономии. В ответ на это местные русские и казаки потребовали выдворения беженцев 1916 года, к тому времени вернувшихся и претендовавших на бывшие свои земли. В Семиречье, ставшем местом самых жестоких схваток между славянами и тюрками, в сентябре 1917 г. было введено военное положение.
Еще южнее, в Туркестане, где мусульман было больше, чем русских — чиновников и переселенцев, — примерно в 17 раз, возник в апреле 1917 г. Туркестанский Мусульманский центральный комитет. В него входили пятеро русских и четверо местных жителей, назначенных Временным правительством для управления этими территориями, однако у Комитета не оказалось никакой власти, и он вскоре прекратил существование. И здесь, как в Казахстане, русские всех политических ориентации (совместно с обрусевшими украинцами) объединились против общего врага — местного тюркского населения. Съезд Советов, совершивший в начале ноября большевистский переворот в Ташкенте, столице Туркестана, вынес вопиющую резолюцию, запрещавшую мусульманам служить в советах. В 1918—1919 гг. Средняя Азия стала ареной яростной борьбы, в которой социальные («классовые») конфликты находили выражение чаще всего в национальной и даже расовой вражде.
На Кавказе ситуация усугублялась тем, что там в тесноте и смешении проживало множество этнических групп; обстоятельства еще осложнились вследствие немецкой и турецкой интервенции.
В политическом отношении самой передовой национальной группой в этом регионе были грузины. Грузия являлась оплотом социал-демократического движения, особенно меньшевизма; в 1917 г. грузины-марксисты вроде Ираклия Церетели и Николая Чхеидзе играли ведущую роль в Петроградском Совете. Национальные упования грузин были тесно связаны с российским демократическим движением: стремление к независимости обнаружилось здесь лишь после того, как большевистский переворот в России уничтожил надежду на демократическое будущее.
Большинство армян, которых тогда насчитывалось до 3 млн, проживало за границей России, в Оттоманской империи, в основном в восточной Анатолии. Примерно треть армян жила в России. Во время Первой мировой войны турки, предъявив армянам обвинение в прорусских настроениях, приказали им покинуть восточную Анатолию, причем происходившая в 1915 г. депортация приняла форму избиений, в результате которых сотни тысяч армян были уничтожены. Положение оставшихся в живых стало, особенно в 1917—1918 гг., ненадежным: окруженные недружелюбно настроенными мусульманами, они не могли больше рассчитывать на русскую помощь. В идеале им хотелось бы оказаться под защитой дружественной европейской державы, но, поскольку это было невозможно, они не возражали и против установления российского протектората, хотя это означало большевизацию.
Азербайджанцы-шииты жили частью в Иране, а частью на русском Кавказе. Во всех отношениях — культурном, экономическом и политическом — они являлись самой слаборазвитой из закавказских этнических групп. И наконец, горы Кавказа стали прибежищем для более чем миллиона мусульман разной этнической и конфессиональной принадлежности, проживавших в аулах, отделенных друг от друга высокими грядами гор.
По сравнению с остальными частями Российской империи Закавказье пребывало на протяжении 1917 г. в относительном спокойствии. Как и в других регионах страны, представители различных населявших его народов вели дискуссии и издавали прокламации, но законы при этом нарушались меньше. Армяне и грузины уповали на то, что Россия прикроет их от подавляющего мусульманского большинства, а азербайджанцы, если и мечтали о независимости, хранили свои предпочтения в тайне, боясь быть обвиненными в предательских протурецких настроениях.
* * *
Когда Российская империя стала распадаться, представляющие различные национальные меньшинства политики повели себя более уверенно. То же можно сказать и о тех, кого они представляли. Результаты выборов в Учредительное собрание в конце ноября 1917 г. показали, что большинство нерусских избирателей голосовало за своих национальных кандидатов. Некоторые из национальных партий продолжали по традиции сотрудничать с российскими, но, когда те к концу года развалились под нажимом большевистского террора, они обособились и превратились в полноценные националистические партии. Если в начале года национальные меньшинства желали обеспечить себе необходимые права в рамках демократической России, то позднее, в октябре, они начали ограждать себя от большевистской диктатуры и начавшейся гражданской войны.
Через несколько дней после прихода к власти большевики издали за подписями Ленина и Сталина Декларацию прав народов России. В ней без каких бы то ни было исключений и оговорок утверждалось право наций на самоопределение вплоть до отделения. Большевики стали единственной партией в России, провозгласившей столь радикальное положение; а поскольку оно шло вразрез с их централистской политической установкой, необходимо дать некоторые пояснения, что за этим стояло2.
Подобно Марксу и другим социалистам, Ленин предпочитал большие государства маленьким, поскольку в первых быстрее развивался капитализм, что, в свою очередь, приводило к усугублению классовых противоречий. Если в стране победит коммунизм, на крупной территории легче станет осуществлять «диктатуру пролетариата». Ленин не испытывал симпатии ни к какой форме национализма, ему были в одинаковой мере чужды и патриотизм, и ксенофобия. Он стремился ускорить ассимиляцию нерусских меньшинств, а поэтому отвергал любые решения национального вопроса, институционализировавшие национальные различия. В начале века среди социал-демократов наибольшей популярностью пользовались такие концепции, как «экстратерриториальная культурная автономия» и федерализм. Первая, сформулированная австрийскими социалистами Карлом Реннером и Отто Бауэром в качестве средства сохранения политического единства империи Габсбургов, требовала гарантировать представителям этнических меньшинств право получать образование на родном языке и принимать участие в национальной культурной жизни независимо от того, где они проживали. Программа эта нравилась многим националистам, поскольку удовлетворяла то, что они считали законными запросами меньшинств, одновременно стирая этнические противоречия и не позволяя распасться империи. Ленин, однако, эту формулировку отверг, поскольку она закрепляла и даже усиливала культурные различия между народностями. Федералистский путь решения проблемы не нравился ему по той же самой причине. Его устраивала только ассимиляция, но он понимал, что с тактической точки зрения такой лозунг оказался бы неприемлем, лишил бы большевиков симпатий половины населения России.
Его решением поэтому стало еще в 1913 г. «право нации на самоопределение», лозунг социал-демократов, переформулированный им так, что самоопределение стало означать исключительно отделение от России. Каждая национальная группа получала право на государственный суверенитет, если таково было ее желание. Если же национальная группа решала не пользоваться этим правом, она не могла претендовать ни на какие специальные привилегии в границах единого Российского государства. Когда среди большевиков возникли возражения, что это может превратить Россию в Балканы, Ленин выдвинул два контраргумента. Во-первых, развивающийся в Российской империи капитализм привел к возникновению такой экономической взаимозависимости различных ее регионов, что реальная вероятность отделения какой-либо из окраинных территорий была крайне невелика. Во-вторых, право наций на самоопределение понималось как подчиненное принципу «пролетарского самоопределения». Под этим подразумевалось, что, если, несмотря на экономические обстоятельства, некоторые или даже все окраинные территории решат отложиться от России, у большевистского правительства найдется возможность вернуть их в родное лоно. Таким образом, крайне либеральная политика по национальному вопросу сулила большевикам существенное преимущество — поддержку национальных меньшинств — и не заставляла ничем рисковать.
Ход событий не соответствовал ленинским ожиданиям и заставил его нарушить обещание самоопределения. Некоторые из территорий, когда-то бывшие частью Российской империи, оказались в конце 1917 г. под немецкой оккупацией, и, поскольку политика Германии была направлена на расчленение России, кайзеровское правительство поощряло эти территории требовать суверенитета. 6 декабря 1917 г. Финляндия объявила о своей независимости. Ее примеру последовала Литва (11 декабря), затем Латвия (12 января). Эстония откололась в феврале 1918 г. Тогда же в Брест-Литовске страны Четверного Союза признали Украину независимым государством и подписали с ней сепаратный мирный договор. Под нажимом противника Москве пришлось начать переговоры, ведущие к дипломатическому признанию Украины. Когда в январе—феврале 1918 г. большевики в нарушение своих обещаний начали наступление на Киев, Германия ввела свои войска и заставила их отойти назад. С той поры и вплоть до вывода немецких войск Украина оставалась номинально самостоятельной политической единицей под немецкой оккупацией.
В других регионах бывшей Российской империи центробежные тенденции подогревались, как правило, желанием оградиться от большевистского режима. Важность, придававшаяся этому соображению, можно проиллюстрировать на примере Сибири, которая весной 1918 г. объявила о своей независимости и надежде воссоединиться со временем с отечеством3.
Закавказье отделилось от России в начале 1918 г. в основном под давлением турок и немцев. Когда русский фронт на Кавказе рухнул и турецкая армия пошла в наступление, грузины, армяне и азербайджанцы согласились учредить совместное правительство. 11 ноября (по старому стилю), через две недели после захвата большевиками власти в Петрограде, был сформирован Закавказский комиссариат, фактически ставший региональным органом власти, но не провозгласивший независимости. Понукаемый турками, видевшими в этой территории свою законную зону влияния, а также под напором немцев, 22 апреля 1918 г. Комиссариат провозгласил создание Независимой Закавказской федерации. По самой своей природе это государственное образование носило временный характер, поскольку входящие в него три основные национальные группы имели мало общего между собой, за исключением географического соседства.
В Средней Азии сепаратистское движение подавили проживавшие там русские, учредившие что-то вроде колониального правительства, против которого у мусульман не нашлось сил и возможности бороться. Русские же хранили лояльность по отношению к Москве независимо от того, кто был там у власти.
В начале 1918 г. Ленин оказался в ситуации, какой не хотел и не предвидел. Империя распалась. Лозунг о «праве наций на самоопределение» не только не смог убедить меньшинства поддержать новую власть, но и дал им законный повод для отделения. При каждой являвшейся возможности Ленин отряжал проболыпевистские войска на подавление новообразующихся националистических режимов: на Украину, в Белоруссию, в Финляндию, в страны Прибалтики. Не всегда ему удавалось вернуть их, но даже неудачи не дают возможности заподозрить его в нежелании сделать это.
Что ему оставалось? Ленин, с легкостью находивший при необходимости новые тактические решения, решил теперь отказаться (на деле, но не на словах) от принципа национального самоопределения в пользу федерализма. Правда, не настоящего федерализма, когда государства — члены федерации равны и пользуются свободой самоуправления на своих территориях, но специфического псевдофедерализма, не дающего ни равенства, ни самоуправления. При системе, которую вождь установил в России, государственная власть в стране формально принадлежала иерархически организованным, демократически избранным советам. В действительности же последние являлись только фасадом, за которым укрывался истинный суверен, Коммунистическая партия. Такое устройство оказалось удобным при решении национального вопроса. Как только заселенные нерусскими территории вновь завоевывались и вводились в состав новой, советской империи, они получали фикцию государственности при условии, что их учреждения тоже начинали контролироваться («парализоваться», по словам Ленина) РКП(б). Что же касается партии, ее Ленин вовсе не собирался дробить по национальному принципу. Результатом становился федерализм по видимости со всеми признаками государственности, способными якобы удовлетворить основные требования нерусского населения и скрывающими жестко централизованную диктатуру с центром в Москве. Именно на такой модели Ленин остановился, именно на ней основана структура созданного в 1922—1924 гг. Союза Советских Социалистических Республик. Он ожидал, что по мере того, как другие страны будут становиться коммунистическими, они станут присоединяться к СССР на тех же основаниях.
* * *
Как только Германия проиграла войну и вывела войска с Украины, поставленное ею марионеточное правительство гетмана Скоропадского перестало существовать (декабрь 1918). Украина стала ареной кровавых битв, в которые включились местные националисты, казачьи головорезы под командованием соперничающих между собой атаманов, коммунисты, «зеленые», а со временем и белая Добровольческая армия. Год 1919-й ознаменовался разгулом лютой анархии: «Вся территория распалась на множество районов, изолированных как друг от друга, так и от остального мира, на которых хозяйничали вооруженные крестьянские банды и уголовники, грабившие и убивавшие с полной безнаказанностью. В Киеве сменяли друг друга правительства, издавались указы, проходили правительственные кризисы, проводились дипломатические переговоры — остальная же страна вела самостоятельную жизнь, в которой право принадлежало только силе оружия. Ни одно из правительств, провозглашенных на Украине в год после падения гетмана Скоропадского, никогда не обладало действительной властью»4.
Вслед за кратким периодом, когда они присоединялись к силам гетмана, коммунисты и украинские националисты сделались врагами. В Киеве утвердилась политическая и военная власть Директории под руководством Симона Петлюры. Москва натравила на него Украинскую коммунистическую партию (КП(б)У), ту часть Российской коммунистической партии, которая состояла из украинцев и русских, лояльных по отношению к российскому руководству, но выступавших за самоуправление. В конце ноября 1918 г. по приказанию Ленина КП(б)У сформировала свое правительство, которое возглавил Г.Л.Пятаков. Возглавленные им военные силы, состоявшие из частей Красной Армии и нескольких перешедших на сторону коммунистов банд, открыли военные действия против Директории: в январе они оккупировали Харьков, в феврале — Киев. Потерпев поражение, Директория переместилась на Западную Украину.
В марте была избрана новая власть — ЦИК во главе с Г.И.Петровским, коммунистический орган, опиравшийся исключительно на городское население. ЦИК смог править не лучше, чем его предшественник. Союзники-партизаны (Махно, Зеленый, Григорьев) вскоре оставили его, чтобы заняться грабежами и еврейскими погромами.
Когда летом 1919 г. на Украину вошла Добровольческая армия и выступавшие с ней казаки, коммунисты оказались неспособны оказать им сопротивление. В течение августа и сентября восточная и центральная части Украины перешли в руки Деникина, а западная находилась под контролем поляков и Петлюры. Руководящие украинские коммунисты бежали в Москву.
Затем сложилась ситуация, которой было суждено повторяться снова и снова в отношениях коммунистического руководства и его нерусских сторонников. В принципе коммунисты, действовавшие вне Великороссии, признавали необходимость централизованного строения партии и подчинения приказам центрального руководства. На практике же их нередко задевало то, что столица, незнакомая с местными условиями и особенностями, отдавала неадекватные распоряжения. Местные коммунисты желали, чтобы их выслушали. Московское руководство, убежденное, что они не могут видеть картину в целом и презирая их за неспособность удерживать власть, не допускало такой возможности. В результате возникал конфликт, неизменно заканчивавшийся тем, что Центр убирал доставлявших беспокойство активистов, заменяя их на более послушных. Феномен, получивший после Второй мировой войны название «титоизма», проявился в Российской компартии уже в 1919 г. Феномен этот брал начало во внутреннем несоответствии между задачами притязающего на полновластие централизованного движения и бесконечно сложной действительностью, требующей приспособления к местным особенностям и, вследствие этого, некоторой степени децентрализации.
Смещенные со своих постов чиновники КП(б)У перешли либо к «центристам», либо к «федералистам». Последние хотели основать новую партию, сотрудничающую с радикальными националистами, располагавшую большей свободой в принятии решений относительно украинских дел. Москва рассматривала это желание как предательство и поддерживала «центристов». Российское руководство распустило Центральный комитет КП(б)У и сформировало новый орган, укомплектованный послушным персоналом. Именно эта группа в конце 1919 г. после победы над Деникиным взяла власть в Советской Украинской республике. Весь регион считался особенно враждебным по отношению к советской власти, поэтому Москва дала ЧК чрезвычайные исполнительные полномочия для борьбы со здешними «кулаками» и «бандитами»5.
* * *
Среди мусульманской интеллигенции большевики сторонников почти не имели; во-первых, она была малочисленна, а во-вторых, даже если и проявляла интерес к социалистической теории, отдавала предпочтение меньшевикам и эсерам. Поэтому руководство Компартии страны начало делать дружественные жесты в адрес лидеров Всероссийского движения мусульман, несмотря на то, что давало себе отчет в явно недоброжелательном отношении последних к себе. Находившийся в должности комиссара по делам национальностей Сталин сделал первый шаг и предложил мусульманским политикам работать вместе с советским правительством. Когда те отказались от сотрудничества, их организацию распустили. Теперь новый режим сосредоточился на том, чтобы заработать симпатии отдельных представителей мусульманской интеллигенции. Тем, кто пошел на сотрудничество, предоставили работу в Мусульманском комиссариате, отделении Комиссариата по делам национальностей, чтобы они распространяли идеи коммунизма среди своих единоверцев в России и за рубежом.
Когда попытка объединения всех российских мусульман провалилась и Всероссийская организация мусульман была разогнана, движение распалось: единство уступило место регионализму. Попытки создать исламские республики сделали в Татарстане и Башкирии, Киргизии (Казахстане), Туркестане и Азербайджане! [Об Азербайджанской республике будет сказано ниже в связи с событиями в Закавказье.].
Район Башкирии был населен полукочевыми пастушескими народностями, выразителем их чаяний стал в 1917 г. Ахмет-Зеки Валидов, 27-летний учитель. Стоявший во главе небольшой армии Валидов присоединился к белым, но, разочаровавшись в отношении Колчака к национальным меньшинствам, в феврале 1919 г. перебежал вместе со своим войском к красным. В награду ему обещали создать автономную республику для его народа. Отношения Валидова с коммунистами вскоре зашли в тупик — во-первых, потому что башкиры восприняли данное им обещание как разрешение выдворить русских поселенцев, во-вторых, вследствие того, что они ошибочно приняли автономию за независимость. И компартия, и советы на территории Башкортостана были укомплектованы русскими, всегда бравшими сторону русских поселенцев и принципиально противившимися башкирской автономии. В мае 1920-го, после того как правительство в Москве опубликовало ограничивающий башкирское самоуправление декрет, который Валидов воспринял как нарушение данного ему обещания, местное правительство в полном составе бежало на Урал. Русские рабочие и крестьяне с готовностью присоединялись к карательным отрядам, направленным на борьбу с башкирскими повстанцами. В новое правительство, учрежденное летом 1920-го, не вошел ни один местный житель. [Валидов бежал в Среднюю Азию, где стал организатором и идеологом антикоммунистического партизанского движения так называемых басмачей, а после его подавления оказался в Европе. Начав заниматься наукой, он стал под именем Ахмета-Зеки Велиди Тогана профессором тюркологии в Стамбульском университете.].
Жившие по соседству с башкирами казанские татары, более зажиточные и образованные, притязали на создание Волго-Уральской (Идель-Уральской) республики, в которую вошла бы и Башкирия. В Москве на этот план отреагировали отрицательно и после долгих и сложных интриг согласились на создание Татарской автономной республики (первой автономии в составе РСФСР). Чувашам, марийцам и удмуртам дали более низкий статус автономных областей с еще меньшим правом на самоуправление.
Средняя Азия состояла из двух географических зон, отличавшихся как по экономическим условиям, так и по демографической структуре. На севере располагались степные территории, поросшая травой равнина, где жили казахи и киргизы, чьим основным занятием было выращивание овец и крупного рогатого скота. Представлявшая интересы казахов и киргизов политическая партия, Алаш Орда, тоже, как это случилось и у башкир, сначала сотрудничала с белыми, но потом переметнулась к красным. Им тоже сулили автономию, но и в их случае обещание это саботировалось русскими поселенцами и городскими жителями, которые отказывались признавать коренное население равным себе. Протесты, направленные в Москву, принесли мало пользы, и основанная в октябре 1920 г. Киргизская автономная республика оказалась автономной лишь на словах. [Позже она была переименована в Казахскую республику. Новая Киргизская республика была сформирована в 1924 г. из части Туркестана. Сейчас — государство Кыргызстан.]. В отношении земель московское руководство согласилось остановить дальнейшую колонизацию, но позволило русским поселенцам удержать те участки, которыми они владели издавна или захватили у местных жителей в 1916 и 1917 гг.
Южная часть Средней Азии, Туркестан, являл собою пустыню, по которой было разбросано несколько городов и плодородных долин. Коренное население его было частично персидским, частично тюркским, частично — смесью того и другого. Проживавшие там славяне — в основном государственные чиновники, купцы и военнослужащие — практически все обитали в городах. Царская Россия обращалась с этим регионом, во многих отношениях сходным с британским Египтом, как с колонией, ценя ее в качестве производителя хлопка и как плацдарм для дальнейшего продвижения — в Афганистан и Индию. Оно терпимо относилось к двум достаточно самостоятельным протекторатам, Хивинскому ханству и Бухарскому эмирату, бастионам мусульманского фундаментализма. Основной проблемой здесь была не земля. Конфликт назревал оттого, что чужаки пытались управлять населением, гораздо более преданным исламу, чем жители Волго-Уральского или степного регионов.
Во второй половине 1917 г. в Туркестане возникло два правительства: советское в Ташкенте, столице, и мусульманское в Коканде. Первое пользовалось поддержкой практически всего русского населения, независимо от социального или экономического положения последнего. Здесь социальные конфликты принимали форму национальных в гораздо большей степени, чем в каком-либо другом крае бывшей Российской империи.
В середине ноября 1917 г. большевики и левые эсеры созвали в Ташкенте региональный Съезд Советов, провозгласивший советскую власть в Туркестане. Обсуждая роль местного населения, Съезд не только отверг абсолютным большинством идею создания туркестанской автономии, но и запретил мусульманам, составлявшим 97% населения края (на 1913)6, занимать должности в советских учреждениях. Принятая им резолюция звучала следующим образом: «Включение в настоящее время мусульман в органы высшей краевой революционной власти является неприемлемым как ввиду полной неопределенности отношения туземного населения к власти С.С., Р. и К. Д., так и ввиду того, что среди туземного населения нет классовых пролетарских организаций, представительство которых в органе высшей краевой власти фракция приветствовала бы»7. Советский историк Г.Сафаров вполне справедливо определил ход событий в Туркестане 1917—1918 гг. как «колониальную революцию».
В ответ на подобное обращение политически активные мусульмане перебрались в находящийся в населенной исключительно мусульманами Ферганской долине Коканд, где могли чувствовать себя в полной безопасности от пробольшевистски настроенных русских. Здесь в конце ноября они провозгласили Туркестан автономным краем, «соединенным с Российской демократической федеративной республикой». Особенности автономии должно было определить Всероссийское Учредительное собрание. Было создано временное правительство, в котором две трети мест отдали мусульманам и треть — русским.
Большевистский и пробольшевистский элемент в Ташкенте не мог спокойно отнестись к подобным действиям. В середине февраля в Коканд выступил отряд русских солдат, пополненный австрийскими и германскими военнопленными. Защитников города уничтожили, после чего войска получили разрешение на убийства и грабежи. Прежде чем покинуть город, они облили бензином и сожгли дотла большую его часть.
Получив не сулившие ничего хорошего донесения из Туркестана, в Москве забеспокоились и приняли решение вмешаться. По приказу центрального руководства в апреле 1918 г. местные коммунисты объявили край автономной республикой. Мера эта была чистой формальностью, поскольку отрезанный от центра белыми армиями и свободный от контроля сверху ташкентский Совет продолжал действовать, как и раньше. Следующей жертвой он наметил себе Бухарский эмират (март 1918), но фанатичные жители отбили военное нашествие.
Колониалистские приемы крохотного русского меньшинства, которое не только политически доминировало над местным населением, но и не давало ему ни малейшей возможности участвовать в управлении, привели к созданию режима, который советский историк и свидетель событий определяет как «феодальную эксплуатацию русским красногвардейцем, переселенцем и чиновником широких масс коренного населения»8. Это привело к национальному восстанию, сначала вспыхнувшему в Ферганской долине и распространившемуся на весь Туркестан. Тюркские партизаны, известные как басмачи, образовывали независимые отряды, почти всегда конные, и были весьма похожи на современные им украинские банды, сочетая, подобно им, разбой с борьбой против советской власти.
Только в 1919 г. Москве удалось продиктовать Туркестану свою волю. Подчиняясь требованиям Центра, местные русские позволили коренному населению вновь открыть базары, пригласили их вступать в Компартию и участвовать в деятельности госучреждений. Уступки эти несколько успокоили местное население и даже приглушили басмачество, но не надолго. Как только русские после разгрома Колчака почувствовали себя увереннее, они ввели практику изъятия продовольствия и ряд других мер, против которых стало выступать (не из национальных, но из экономических соображений) коренное население. Движение басмачей вспыхнуло с новой силой, достигнув апогея в 1920—1922 гг. Полностью подавили его только к концу десятилетия.
В феврале 1920 г. Красная Армия взяла Хиву. Бухара была отдана на милость Михаилу Фрунзе, командующему красной Туркестанской армией9. Осенью он двинул на нее войска и после жестокого боя взял город. В обоих случаях нападавшие опирались на поддержку пятой колонны, радикальных молодежных организаций («Молодые хивинцы», «Молодые бухарцы»). Эмир Бухарский бежал в Афганистан. Басмачи получили свежее пополнение.
Специфическое отношение пробольшевистски настроенных русских к жителям Азии привело к тому, что самый известный советский мусульманин-коммунист занялся пересмотром классической марксистской теории классовой борьбы. Татарин Мирза Султан-Галиев служил в юности учителем в реформированной школе. В конце 1917 г. стал большевиком и сделал под протекцией Сталина головокружительную карьеру в наркомате по делам национальностей10. В статьях, опубликованных к концу 1919 г. в официальном органе комиссариата, Султан-Галиев писал, что фундаментальной ошибкой является ожидание мировой революции с Запада, поскольку самым слабым звеном в империалистической цепи является Восток. В Кремле снисходительно отнеслись к этим взглядам, поскольку они не противоречили учению Ленина об империализме. Но Султан-Галиев не остановился на достигнутом, а начал разрабатывать собственные идеи, дойдя до полной ереси, в которой отдельные историки усматривают предвосхищение маоизма11. Он выказывал сомнение в том, что революция, даже если она победит в развитых промышленных странах, улучшит положение жителей колоний. Западный рабочий класс хотел, по его мнению, не устранить колониализм, но обратить его себе на пользу. «Мы считаем, — якобы говорил он, — что рецепт, предлагающий замену диктатуры над миром одного класса европейской общественности (буржуазии) ее антиподом (пролетариатом), т.е. другим ее классом, никакой особенно большой перемены в социальной жизни угнетенной части человечества не производит. Во всяком случае, если и произойдет какая-либо перемена, то не к лучшему, а к худшему... В противовес этому мы выдвигаем другое положение, концепцию о том, что материальные предпосылки социального переустройства человечества могут быть созданы лишь установлением диктатуры колонии и полуколонии над метрополиями». [Цитируется по кн.: Аршаруни А., Габидуллин X. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931. С. 78—79. Цитаты эти известны нам только по сталинским историческим источникам, поэтому не следует относиться к ним с полным доверием.]. Для осуществления своих идей Султан-Галиев призвал к созданию «Колониального Интернационала», который должен был уравновесить европейский Коммунистический Интернационал. Он также призывал к созданию мусульманской коммунистической партии. За эти идеи его в апреле 1923 г. исключили из партии и поместили в тюрьму по обвинению в создании нелегальной националистической организации12. Л.Каменев назвал его впоследствии первой жертвой сталинской чистки. Освобожденный после принесенного «покаяния», Султан-Галиев был вновь арестован в 1928 г. и сгинул либо в тридцатые, либо во время Второй мировой войны.
* * *
В 1918 г. Кавказ оказался во власти стран Четверного Союза. Германия была заинтересована в Грузии, где находились богатые залежи марганца, и в Баку, центре добычи нефти. Некоторые немцы, среди них генерал Людендорф, наслаждались предвкушением того, как Грузия станет ядром находящегося под владычеством Германии «Кавказского блока»13. У турок тоже имелись притязания на этот регион, особенно на Азербайджан, с населением, родственным им по крови и языку. Кавказ остался бы под оккупацией турок, вторгшихся туда весной 1918 г., если бы не интересы Германии. Получив от Берлина обещание помощи, Грузия 26 мая 1918 г. отделилась от Закавказской Федерации и провозгласила независимость. Через два дня ее примеру последовали Армения и Азербайджан.
Турки захватили Баку в сентябре. Скоро они пришли в состояние конфликта с азербайджанским правительством, где преобладали социалисты из партии Мусават, выступающие за радикальную земельную реформу, и это выставило завоевателей в невыгодном свете в глазах местного населения. После подписания на Западе перемирия турки эвакуировались из Баку, и город занял небольшой британский экспедиционный корпус.
Армянская республика находилась в отчаянном положении: ее запрудили толпы бегущих от турецких и азербайджанских погромов. Кроме того, она была в дипломатической изоляции. У азербайджанцев были турки, грузинам обещали поддержку немцы, и только армянам оказалось не к кому обратиться в случае нужды. Генерал Деникин, чьи отношения с Грузией и Азербайджаном были осложнены, оставался единственным другом Армении, но не мог ничем помочь. В мае 1919 г. армянское правительство крайне непредусмотрительно оккупировало и аннексировало территории в восточной Анатолии, на которых до резни 1915 проживало большинство армян. Оккупация стала причиной враждебного отношения к Армении нового национального правительства Турции во главе с Мустафой Кемалем (Ататюрком) и усугубило ее изоляцию.
Из трех бывших членов Закавказской Федерации самым удачливым оказалась Грузия. С мая по ноябрь 1918 г. она находилась под фактической оккупацией Германии, то есть в состоянии относительной стабильности. Правительство — его возглавлял Ной Жордания — состояло в основном из меньшевиков, имевших лучшее образование и более широкие международные связи, чем армянские и азербайджанские члены той же партии. Осуществляя программу по земельной реформе, правительство изымало излишки сверх сорока акров: изъятое подвергалось переделу и либо сдавалось в аренду, либо продавалось крестьянам. Были национализированы крупные промышленные предприятия и транспорт. В результате произведенных социалистических преобразований в 1920 г. 90% грузинских рабочих оказались занятыми на государственных или кооперативных предприятиях. Серьезные трудности возникли у Тифлиса с национальными меньшинствами, особенно с осетинским и абхазским, требования которых о самоуправлении он отказывался признать и удовлетворить. Тем не менее за три года независимого существования Грузия доказала свою способность выжить как государство.
Зимой 1919—1920 гг., когда белые армии на Юге России стремительно бежали, Верховный Совет союзников в Париже гарантировал трем закавказским республикам признание де-факто. Он отказал им, однако, в просьбе о вступлении в Лигу Наций; Сенат США, со своей стороны, отверг внесенный президентом Вильсоном законопроект о превращении Армении (по просьбе партии дашнаков) в американскую подмандатную территорию. Таким образом, когда британские части в августе 1919 г. ушли из Баку, Закавказью пришлось считаться с возможностью большевистского вторжения.
Москва никогда не переставала претендовать на этот регион, который поставлял в Россию две трети всей потребной ей нефти, три четверти всего марганца, четверть меди, а также большую часть всех специфических для субтропиков сельскохозяйственных продуктов (фруктов, табака, чая, вина). Повторное завоевание этого края велось в два приема — в апреле 1920 и в феврале 1921-го — с применением тщательно разработанной тактики, совмещавшей внешнюю агрессию с подрывной деятельностью изнутри. Основным фактором, способствовавшим Советской России заново утвердить здесь свое влияние, был фактор дипломатический. Москва добилась дружественного нейтралитета со стороны Кемаля Ататюрка, нуждавшегося в ее поддержке против стран Четверного Союза. [См. ниже главу 4]. Кемаль отказался от всех пантюркских и панисламских притязаний и уступил России право на повторное завоевание Закавказья в обмен на обещание не вести коммунистической пропаганды на территории Турции. Российско-турецкое сотрудничество поставило под удар независимость республик; незаинтересованность союзных государств положила ей конец.
Приготовления к кавказской кампании пошли полным ходом с 17 марта 1920 г., когда Ленин приказал захватить Азербайджан и Грузию14. В следующем месяце ЦК РКП(б) создал с целью установления советской власти на Кавказе и расширения помощи «антиимпериалистическим силам» на Ближнем Востоке так называемое Кавбюро, которое возглавил близкий друг Сталина, грузин Серго Орджоникидзе. Бюро работало в тесном сотрудничестве со штабом Одиннадцатой армии, которая и должна была осуществить всю операцию. Был разработан подробный план захвата власти во всех трех республиках, учитывавший действия регулярных войск, партизанских отрядов и подрывную деятельность15.
Азербайджану суждено было пасть первым. В полдень 27 апреля ЦК азербайджанской компартии вручил бакинскому правительству ультиматум об передаче ему власти в течение двенадцати часов. Еще до того, как время истекло, Одиннадцатая армия пересекла границу и подошла к столице республики; отдельные коммунистические части захватили стратегические точки в городе. На следующий день Одиннадцатая армия вошла в Баку, не встретив сопротивления. Приехавший в тот же день со своим заместителем С.Кировым Орджоникидзе ввел режим террора, чем впоследствии было отмечено все его правление здесь. Сопротивление советской оккупации в провинции жестоко подавили. Орджоникидзе арестовал и казнил нескольких азербайджанских лидеров, в том числе премьер-министра и начальника штаба низложенного правительства.
Не задерживаясь, Одиннадцатая армия продолжала наступление, приближаясь к Эривани и Тифлису. 4 мая Орджоникидзе телеграфировал Ленину и Сталину, что рассчитывает быть в столице Грузии не позднее 12 мая16. Но этому не суждено было произойти, поскольку в это самое время польско-украинская армия, вторгшаяся 25 апреля на Украину, стала подходить к Киеву. Ситуация складывалась угрожающая, и в Москве решили приостановить операции в Закавказье. 4 мая Ленин послал Орджоникидзе приказ отвести части Красной Армии, вошедшие в Грузию17. Благодаря русско-польской войне Грузии и Армении выпала временная передышка. 7 мая советское правительство подписало с Грузией соглашение, в котором признавало независимость последней и обещало воздерживаться от вмешательства в ее внутренние дела. В секретном дополнении к соглашению Грузия соглашалась легализовать у себя коммунистическую партию18. Москва назначила Сергея Кирова, заместителя Орджоникидзе, посланником в Тифлисе, и он спокойно начал закладывать основы будущего завоевания страны. В следующем месяце Москва признала независимость Армении в пределах границ Эриванской области до 1914 г. И там советская миссия, которую возглавил Борис Легран, стала штабом коммунистической подрывной деятельности.
* * *
Кампания по завоеванию Кавказа возобновилась в декабре 1920 г., когда военный конфликт с Польшей был решен, а белые эвакуировались из России.
Советизация Армении стала результатом ее нерешенного территориального спора о восточной Анатолии, части которой Антанта отдала по условиям мирного договора, подписанного в городе Севре, Турции и которые оккупировала Армения. В конце сентября 1920 турки ввели туда войска. Военное счастье вскоре изменило армянам, и они запросили мира. На переговорах в ноябре турки потребовали, чтобы те отдали им захваченные территории.
Москва не замедлила воспользоваться трудностями, которые испытывала Армения. 27 ноября Ленин и Сталин связались с Орджоникидзе и дали ему инструкции вводить туда войска с целью остановить наступление турок19. Через два дня советская дипломатическая миссия в Эривани предъявила армянскому правительству ультиматум, требуя немедленно передать власть «Революционному комитету Советской социалистической республики Армения», находившемуся в советском Азербайджане. Одновременно в Армению вошла Одиннадцатая армия. Правительство и население единодушно приветствовали ее вторжение, поскольку оно обещало защиту от турок. В декабре Армения стала советской республикой; первое советское правительство республики было коалицией коммунистов и представителей правящей партии Армении, Дашнакцутюна.
Грузия оказалась в окружении. Соблюдая условия подписанного в мае с Москвой соглашения, Тифлис выпустил из тюрем около тысячи коммунистов, помещенных туда ранее по обвинению в подготовке вооруженного восстания. Они немедленно начали подготовку к перевороту под руководством С.Кирова, который оказывал постоянное давление на грузинское правительство, обвиняя его в том, что оно нарушает условия мирного соглашения. Лидер грузинских коммунистов Филипп Махарадзе признался через год, что партия полным ходом готовилась к вооруженному восстанию20. Орджоникидзе не терпелось войти в свою страну победителем: грузинская разведка доносила, что уже 9 декабря советские войска в Азербайджане и Армении готовились, без ведома Москвы, к вторжению21. Встреча местных коммунистов и военного командования, проводившаяся в Баку 15 декабря по инициативе Кавбюро, привела к согласию действовать немедленно. Как только Ленину стало известно об этом решении, он отдал приказ немедленно его отменить. Чичерин телеграфировал Кирову 18 декабря, что Политбюро намеревается вести на Кавказе миролюбивую политику и что его постановления обязательны для всех, в том числе и для грузинских коммунистов22.
В Москве колебались, поскольку получали противоречивые военные донесения и были связаны соображениями международно-дипломатического характера. Командующий Одиннадцатой армией Анатолий Геккер послал в Москву донесение, которое перехватили грузины; в нем сообщалось, что у вторжения есть все шансы на успех, если турки будут придерживаться нейтралитета23. С.С.Каменев, главнокомандующий Красной Армии, придерживался совсем другого мнения и отослал Ленину три донесения, в которых ставил трудные вопросы относительно предполагаемой операции. В последнем из них, датированном 14 февраля 1921 г., когда вторжение в Грузию шло уже полным ходом, он подчеркивал, что Одиннадцатая армия сильно ослаблена дезертирством и не может быть пополнена в скором времени, поскольку войска необходимы для подавления вспыхивающих по всей России восстаний. Он указывал также на возможность участия Антанты и Турции в этом конфликте на стороне Грузии. На основании приведенных соображений Каменев предлагал отказаться от продолжения операции. Он выражал также неудовольствие по поводу привычки командования Одиннадцатой армии принимать самостоятельные решения, которые могли ввергнуть страну в непредвиденные трудности24.
Соображения внешнеполитического характера также говорили не в пользу захвата Грузии. В начале 1921 г. Политбюро, столкнувшись с развалом экономики и широко распространившимися крестьянскими волнениями, задумалось о том, чтобы сменить курс экономической политики с военного коммунизма на более либеральный. Существенным элементом задуманной перестройки должны были стать иностранные кредиты и инвестиции. Ленин считал — как впоследствии оказалось, напрасно, — что военный конфликт на Кавказе снизит шансы России на получение этой помощи; особенно он опасался негативной реакции Британии.
Оказавшись перед угрозой военного вторжения, грузинское правительство разделилось: одна его часть выступала против каких бы то ни было соглашений с Москвой и предлагала искать выход в союзе с Турцией, другая, которую возглавил президент Жордания, считала, что к большевикам можно более или менее приспособиться25. Как бы то ни было, ввиду концентрации красных войск вдоль всей границы Грузии с Азербайджаном и Арменией правительство объявило о частичной мобилизации: оставалась небольшая надежда на то, что иностранные державы придут ему на помощь. Лидеры Второго (Социалистического) Интернационала, превозносившие Грузию как единственную социалистическую страну в мире, сделали ей положительную рекламу: в сентябре 1920 г. делегация светил, в которую входили Карл Каутский, Эмиль Вандервельде и Рамсей Макдональд, посетила ее и вынесла из поездки весьма приятные впечатления. Но у Второго Интернационала не было ни правительства, ни армии. 27 января 1921 г. Верховный Совет союзных держав согласился на дипломатическое признание Грузии де-юре, но и этот шаг, увы, не давал никаких практических выгод. Архивные документы свидетельствуют о том, что Британия — единственная страна, которая могла предотвратить советское вторжение в Грузию, не хотела принимать участия в конфликте и считала падение Грузии неизбежным26.
Она могла бы уцелеть, если бы не постоянное давление на Ленина со стороны Сталина, Орджоникидзе и Кирова. Двое последних приехали в Москву 2 января 1921 г., чтобы лично просить о немедленном начале операции. В поданном в этот день меморандуме они призывали к немедленной «советизации» Грузии на том основании, что меньшевистская республика служила делу контрреволюции, оказывала дурное влияние на советскую Армению, способствовала усилению позиций Турции на Кавказе и ставила под угрозу всю советскую власть в регионе. «Нельзя надеяться на внутренний взрыв. Без нашей помощи советизации Грузии не произойдет... Как повод можно использовать восстания в Абхазии, Аджарии и т.д.», — писали они27. В записке, датированной 4 января, Сталин поддерживает эту просьбу и Ленин пишет на этом же листе: «Не отлагать»28. Существенным фактором, способствовавшим преодолению нерешительности, явились, как принято считать, конфиденциальные заверения, данные Ллойд Джорджем главе советской внешнеторговой миссии в Британии Леониду Красину. Премьер-министр сообщил, что Британия относила Грузию к советской сфере влияния и не имела намерений вступать в военный конфликт на ее стороне29.
26 января пленум ЦК РКП(б) принял набросанную Лениным хитроумную резолюцию, в которой признавалась необходимость оказать давление на Грузию, а в случае, если это не даст желаемых результатов, вводить на ее территорию Одиннадцатую армию30. Это советское территориальное завоевание, последнее вплоть до 1939 г., проводилось по плану, который стал с тех пор классическим. Сначала возникло «восстание» недовольных масс. Оно было разыграно под руководством Кавбюро в Ворчало, районе между Грузией и Арменией, в ночь с 11 на 12 февраля. Вследствие того, что Ленин продолжал сомневаться, военная «помощь» запоздала почти на неделю. Наконец 14 февраля он согласился на вторжение, однако со множеством оговорок. 14 февраля Политбюро одобрило приказы, отданные им Орджоникидзе: Ленин писал, что ЦК был «склонен» разрешить Одиннадцатой армии войти в Грузию при условии, если революционный военный совет армии гарантирует успех операции31. Документ этот не показали С.С.Каменеву, а Троцкому, которого в тот день не было в Москве, ничего не сообщили32.
15 февраля Орджоникидзе послал Сталину шифровку на грузинском языке: «Положение требует начать немедленно. Утром переходим, другого выхода нет»33. 16 февраля части Одиннадцатой армии пересекли из Азербайджана юго-восточную границу Грузии и устремились к Тифлису, находящемуся в 80 км. С ними шла кавалерия Тринадцатой армии под командованием Буденного. Наступление вело более чем стотысячное, хорошо экипированное войско под началом профессиональных офицеров; ему противостояли силы вдвое меньшие, у которых отсутствовала артиллерия. Грузины храбро дрались и почти неделю удерживали численно превосходившего противника. В итоге защитники дрогнули, и 25 февраля Красная Армия вошла в Тифлис. Меньшевистское правительство намеревалось закрепиться в Западной Грузии, но этому помешало вторжение турецких войск, представивших ему 23 февраля ультиматум о сдаче Батума. 18 марта грузинская армия капитулировала, подписав с Красной Армией договор, согласно которому Батум оставался грузинским. В тот же день тифлисское правительство село на итальянский корабль и отбыло в Европу.
Когда Ленина 28 февраля спросили о вторжении, он заявил, что ему ничего об этом не известно34. Так же поступил советский посланник в Тифлисе, сообщивший, что, по его сведениям, конфликт произошел между Грузией и Арменией по поводу Ворчало. До Запада доходили сведения о вторжении, но в целом падение Грузии было принято как совершившийся факт.
Несмотря на то, что правы оказались оптимисты, Ленин все еще беспокоился о возможных последствиях «советизации» Грузии. Он сильно переоценивал популярность свергнутого меньшевистского правительства и соответственно весьма низко оценивал дипломатические способности и такт Орджоникидзе. Он требовал, чтобы последний был готов идти на существенные уступки грузинской интеллигенции и мелкой буржуазии и искать политического компромисса с Жордания и его сторонниками-меньшевиками35. Ленин также указывал ему на необходимость благоразумия в отношениях с грузинскими коммунистами. Этим советом Орджоникидзе и его московский покровитель Сталин пренебрегли, что привело к конфликтам как с местным населением в целом, так и со здешними большевиками, что в скором времени вылилось в общий кризис Коммунистической партии Грузии.
* * *
Советская Россия расширила свои территории до границ, в которых ей будет суждено пребывать вплоть до 1939 г. Формально состоя из шести суверенных республик, она являла собой аномальное государство, поскольку ни отношения между составлявшими ее республиками, ни роль коммунистической партии в новом многонациональном государстве не были формально определены. Структура нового государства, из которого вырос Союз Советских Социалистических Республик, сложилась окончательно в 1922—1923 гг. Она стала предметом жестоких разногласий между умирающим Лениным и возвышающимся Сталиным.
ГЛАВА 4. КОММУНИЗМ НА ЭКСПОРТ
В течение пяти лет ленинского правления внешняя политика Советской России являлась довеском к политической линии РКП(б). И служить она должна была прежде и превыше всего интересам мировой социалистической революции. Необходимо подчеркнуть, что большевики захватили власть не для того, чтобы изменить Россию, а ради использования ее для прыжка в мировую революцию, — факт, который из-за многочисленных понесенных ими на международном поприще неудач и последующего сосредоточения на «построении коммунизма в одной стране» легко можно просмотреть. «Мы утверждаем, — писал Ленин в 1918 г., — что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства»1. Но в той мере, в какой Советская Россия являлась первой, а в течение долгого времени и единственной коммунистической страной в мире, большевики начали отождествлять ее интересы с интересами коммунистического движения в целом. И по мере того, как надежды на мировую революцию сходили на нет, большевики все большее значение начинали придавать интересам своего государства: в конце концов, коммунизм в России стал былью, оставаясь только призраком в других странах.
Стоя во главе страны, обремененной множеством внутренних нужд и являвшейся одновременно штаб-квартирой не признававшей государственных границ мировой революции, большевики разработали своеобразную «двуслойную» политику. Комиссариат иностранных дел, действуя от имени Советской России, поддерживал формально корректные отношения с теми государствами, которые готовы были иметь с ним дело. Пропаганду и организацию мировой революции возложили на созданный в марте 1919 г. Третий, или Коммунистический Интернационал (Коминтерн). Формально независимый как от советского правительства, так и от российской компартии, в действительности он являлся отделом ее ЦК. Формальное разграничение двух структур мало кого могло обмануть, однако Москва получала возможность вести одновременно политику разрядки и подрывную деятельность.
С постоянством, свидетельствующим об искренней убежденности, большевики настаивали на том, что революция в России удержится, только если распространится за рубеж. С убеждением этим они расстались крайне неохотно и только в 1921 г., когда многочисленные попытки экспортировать революцию потерпели крах, наглядно продемонстрировав, что повторения октября 1917 г. ждать не приходится. До того момента большевики поощряли, поддерживали и организовывали революционные движения, где только было возможно. С этой целью они сформировали сеть зарубежных компартий, применив для этого тактику, успешно использованную Лениным в начале 1900-х при создании партии большевиков, т.е. добиваясь раскола социал-демократических организаций и отделяя от них наиболее радикальный элемент. В то же время Москва вела переговоры с правительствами иностранных держав, добиваясь дипломатического признания и экономической помощи.
Усилия по установлению дипломатических отношений увенчались большими успехами, нежели попытки экспорта революции. К весне 1921 г. ведущие европейские державы завязали с Советской Россией торговые отношения, вслед за ними последовало дипломатическое признание. Любая же попытка распространить революцию за рубеж оканчивалась неудачей вследствие полицейских репрессий и недостаточной поддержки населения. Таким образом, в главном ленинская внешняя политика провалилась. Неудача Ленина в попытке добиться слияния России с более развитыми в экономическом и культурном отношении странами Запада означала, что России придется с неизбежностью вернуться к старым самодержавным и бюрократическим традициям. В свою очередь, это делало неизбежным пришествие сталинизма.
Единственным внешнеполитическим успехом Ленина было искусное использование им различных зарубежных политических группировок от коммунистов и «попутчиков» до консерваторов и изоляционистов, которые по той или иной причине желали нормализовать отношения с советским режимом и выступали против интервенции. Лозунг «Руки прочь от России!» воспрепятствовал получению белыми более эффективной помощи с Запада.
Первую попытку экспорта революции Ленин сделал зимой 1918—1919 гг., в Финляндии и Прибалтийских республиках: в первой посредством переворота, в последних — методом военного вторжения. Ни одну из этих акций нельзя назвать интервенцией в прямом смысле слова, поскольку все эти страны являлись совсем недавно частями Российской империи.
В октябре—ноябре 1918 г., когда страны Четверного Союза запросили мира, большевики почувствовали, что долгожданный час пробил. Падение Германии и Австрии создало в Центральной Европе политический вакуум; разруха и общественные беспорядки дополняли картину и создавали, казалось, идеальную питательную среду для революционных выступлений. Потрясшие Германию в конце октября — начале ноября 1918 г. радикальные сдвиги — восстание на флоте, мятежи в Берлине и других городах — не управлялись напрямую из Советской России, но вдохновлялись ее примером. Тем не менее, несмотря на ту роль, которую играл прокоммунистический Союз Спартака в импортировании в Германию некоторых российских институтов, как, например, советы, ноябрьская революция здесь не стала большевистской, поскольку была направлена в первую очередь против монархии и войны: «несмотря на то, что выглядела она как социалистическая... это была буржуазная революция», то есть аналог не Октябрьской, но Февральской в России. Собравшийся 10 ноября 1918 г. в Берлине и провозгласивший создание «советского правительства» Съезд Советов не был даже социалистическим по составу2.
В октябре 1918 г., незадолго до своего падения, правительство Германии выслало из Берлина советскую дипломатическую миссию, в которой немецкие радикалы обучались подрывной деятельности3. Чтобы место не пустовало, Ленин заслал в январе 1919 г. в Германию Карла Радека, австрийского подданного, имевшего там обширные связи и хорошо знакомого с политической ситуацией в стране. Его сопровождали Адольф Иоффе, Николай Бухарин и Христиан Раковский4. Радеку быстро удалось установить контроль над незадолго до того образованной под началом Пауля Леви Коммунистической партией Германии. Однако основные надежды Радека были связаны с Союзом Спартака, созданным из радикального крыла Независимой социал-демократической партии Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург и ее возлюбленным Лео Йогихесом. [Рут Фишер считает, что самые крайние радикалы-экстремисты пришли в германское социалистическое движение из Восточной Европы. Они привнесли в него воинственность и дух ненависти к германскому империализму, превосходившей даже ненависть, питаемую к нему местными социалистами. Среди первых необходимо упомянуть, кроме Люксембург и Йогихеса, еще и Юлиана Мархлевского, организатора польско-советского перемирия в 1919 г. (см.: Fischer R. Stalin and German Communism. Cambridge, 1948. P. 9).]. Не обращая внимания на колебания спартаковцев, Радек призвал немецких солдат и рабочих бойкотировать выборы в Национальное собрание и свергнуть временное социалистическое правительство5.
Опиравшаяся на опыт октября 1917 г. стратегия на этот раз не сработала, потому что германские власти, не желая повторять ошибок российского Временного правительства, приняли энергичные меры, дабы в корне задавить попытку меньшинства проигнорировать волю нации. 5 января 1919 г. спартаковцы при поддержке независимых социал-демократов подняли в Берлине восстание. Как в свое время это сделали большевики в России, они назначили время выступления с таким расчетом, чтобы оно совершилось до выборов в Национальное собрание, назначенных на 19 января. На победу на выборах им надеяться не приходилось. В указанный спартаковцами день десятки тысяч возбужденных рабочих и служащих запрудили улицы столицы — толпа несла красные знамена и ждала только сигнала, чтобы начать действовать. У восставших были вполне реальные шансы на успех, поскольку социалистическое правительство не имело в подчинении регулярной армии. Копируя действия большевиков, руководители движения объявили о низложении правительства и передаче власти в стране военно-революционному комитету. Но дальнейших шагов с их стороны не последовало. Немецкие же социалисты, в отличие от российского Временного правительства, обратились за помощью к военным. Они призвали ветеранов формировать добровольческие отряды, так называемые Freikorps («свободный корпус»). Отряды эти комплектовались в основном офицерами, многие из них придерживались монархических убеждений. 10 января добровольцы выступили против восставших и быстро восстановили порядок. Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы и убиты. Через две недели поместили под стражу Радека6. В посланной в Москву ноте протеста правительство Германии заявило: у него имелись «неопровержимые доказательства» того, что за восстанием стояли российские деятели и русские деньги7.
Спартаковцы бойкотировали выборы в Национальное собрание; независимые социал-демократы получили на них 7,6% голосов: социал-демократы — некогда их соратники, а теперь главные соперники на выборах — 38,0% голосов, они и сформировали коалиционное правительство8. В феврале Исполнительный комитет рабочих и солдатских советов Германии не заявил свое право на власть, но в полную противоположность тому, как это происходило в России, отказался от нее в пользу Национального собрания9.
Коммунисты решили игнорировать неудачу и сделали попытку захватить власть в нескольких городах, в том числе Берлине и Мюнхене. Эти восстания также были подавлены: в Берлине при этом погибло более тысячи человек. Самым драматическим моментом в серии путчей явилось провозглашение 7 апреля в Мюнхене Баварской советской республики. Вожди мюнхенского восстания доктор Эйген Левин и Макс Ливен были ветеранами российского революционного движения; Левин — из числа русских эсеров, Ливен — сын консула Германии в Москве, считавший себя русским10. Программа их, близко повторяющая российскую модель, предусматривала вооружение рабочих, экспроприацию банков, конфискацию «кулацких» земель и создание секретной полиции, имеющей полномочия брать заложников11. Ленин, проявлявший к событиям в Германии живейший интерес, отрядил туда личного представителя с призывом принять широкую программу социалистической экспроприации, включающую фабрики, капиталистические фермерские хозяйства, доходные дома — успешно осуществленную им самим в России12. В этой стратегии отражалось невежество ее автора, не принимавшего в расчет чувство уважения к государственной и частной собственности, столь свойственное немецким рабочим и крестьянам.
В течение закончившегося к лету 1919 г. короткого революционного периода российское правительство действовало на основании убеждения, будто в Германии, как это было в 1917 г. у них, существует двоевластие, и направляло официальные сообщения как правительству Германии, так и Советам рабочих и солдатских депутатов13.
Только в Венгрии попытка экспорта революции увенчалась относительным успехом, и то в силу исключительно националистических причин.
После подписания перемирия здесь была провозглашена республика под руководством графа Михая Кароли, аристократа-либерала, близко сотрудничавшего с социал-демократами. В январе 1919 г. Кароли стал президентом. Два месяца спустя в знак протеста против решения союзных государств отделить Трансильванию — район с преимущественно мадьярским населением, обещанный союзниками Румынии в 1916 г. в награду за вступление в войну на их стороне, — он ушел в отставку. Потеря этого района разожгла в стране националистические страсти.
В Венгрии было мало коммунистов; в основном их ряды пополнялись за счет возвращавшихся из России военнопленных и представителей городской интеллигенции14. Их вождь Бела Кун, в прошлом — журналист социал-демократической ориентации, до возвращения на родину командовал в Советской России Венгерским интернациональным отрядом. Москва отправила его обратно формально для переговоров о возвращении военнопленных, на самом же деле — как своего агента. В то время, когда союзники передавали Трансильванию Румынии, Бела Кун отбывал на родине тюремный срок за коммунистическую агитацию. В камере его навестила группа социал-демократов с предложением сформировать с коммунистами коалиционное правительство: они рассчитывали таким образом получить поддержку Советской России в борьбе против Румынии. Кун согласился, выдвинув несколько условий: социал-демократы должны объединиться с коммунистами в одну «Венгерскую социалистическую партию», в стране устанавливается диктатура, а с российским правительством станут поддерживаться «самые близкие и самые обязывающие отношения с тем, чтобы упрочить власть пролетариата и победить империализм Антанты»15. Условия приняли, и 21 марта 1919 г. коалиционное правительство сформировалось. Ленин, всегда настаивавший на том, чтобы коммунисты как организация ни с кем не смешивались, выразил сильное неодобрение произошедшим по инициативе Куна слиянием Венгерской компартии с социал-демократами и приказал ему развалить коалицию, однако Кун проигнорировал его требование16. Собравшийся в том же месяце Восьмой съезд РКП(б) приветствовал Венгерское советское государство и заявил о том, что сделан первый шаг на пути всемирного триумфа коммунизма! [Восьмой съезд РКП(б): Протоколы. М., 1959. С. 444. В приветственном послании можно выявить уже присутствие того, что впоследствии получило название «доктрины Брежнева»: венгерских коммунистов заверяли, что «пролетариат всего мира... не позволит империалистам поднять руку на новую советскую республику». Слово «пролетариат» означало в коммунистическом тезаурусе «коммунистическая партия». Такие же, хотя и менее определенные заверения давал Чичерин недолговечной Баварской советской республике: «Всякий направленный на вас удар падет на нас» (см.: Известия. 1919. № 77(629). 10 апр. С. 3)]. Нельзя сказать, что в венгерском правительстве нашло справедливое представительство все население страны: 18 из 26 его комиссаров были евреями17; но это и не удивительно, если учесть, что в Венгрии, как и вообще в Восточной Европе, евреи составляли большую часть городской интеллигенции, которую в основном и привлекало коммунистическое движение.
Воспринимаемая венграми как «правительство национальной обороны в союзе с Советской Россией»18, коалиция поначалу пользовалась поддержкой практически всех слоев населения, в том числе и среднего класса. Если бы все шло без изменений, коммунисты надолго обосновались бы в Венгрии. Этого не случилось, потому что Кун, формально — министр иностранных дел, а фактически — глава государства, торопился коммунизировать страну и внедриться в Чехословакию и Австрию. Он отверг предложенные союзниками компромиссные решения венгерско-румынского территориального спора, поскольку его власть основывалась на противостоянии этих двух государств. Кун уничтожил частную собственность на средства производства, включая землю, но отказался распределить национализированные угодья среди фермеров, понуждая последних вступать в производственные кооперативы, чем усилил свой разрыв с крестьянством. Рабочие вскоре также выступили против коммунистов. По мере того, как слабела его власть, Кун все чаще прибегал к террору; и зверства правительства, и растущая инфляция восстановили население против коммунистической диктатуры. Когда в апреле румынские войска вошли в Венгрию, а некогда обещанная помощь со стороны Советской России не подошла, [Ленин приказал послать отряды Красной Армии для присоединения Венгрии к Советской Украине (Полн. собр. соч. Т. 50. С. 286—287). Партизанский атаман Григорьев должен был занять Бессарабию, однако он отказался сделать это и поднял 7 мая мятеж, что положило конец правлению Белы Куна (см.: Директивы главного командования Красной Армии. М., 1969. С. 234).] терпению населения пришел конец. 1 августа Кун бежал в Вену, его правительство ушло в отставку, румынская армия заняла Будапешт. [Бела Кун, принимавший затем участие в революционных событиях в Германии, погиб во время сталинских чисток (1939).]. В марте 1920 г. регентом и главой государства стал контр-адмирал Миклош Хорти; коммунисты при нем были поставлены вне закона и подверглись преследованиям.
В июне, пока еще находясь у власти, Бела Кун сделал попытку организации переворота в Вене, использовав для этих целей проживавшего в Будапеште юриста Эрнста Беттельхейма, которого щедро снабжал фальшивыми банкнотами. Однако единственным свершением венских коммунистов стал поджог здания австрийского парламента.
Таким образом, три попытки устроить революцию в Центральной Европе, причем предпринятые в то время, когда для этого, казалось, были все условия, закончились провалом. Москва, приветствовавшая каждую из них как начало «мирового пожара», не жалела ни денег, ни агентов. Но результатов это не принесло. Европейские крестьяне и рабочие оказались сделаны совсем из другого теста, нежели их российские собратья. Можно, конечно, объяснять провал коммунистов отдельными тактическими промахами; главная же причина неуспеха коренилась в бессмысленности попыток перенести российский опыт на центральноевропейскую почву. «Ленин имел совершенно неверное представление о психологии рабочего класса в Германии, Австрии и Западной Европе. Он не понял традиций местных социал-демократических движений, их идеологии. Ему не удалось постичь действительного равновесия сил в этих странах, и потому он обманывался не только относительно скорости революционного процесса, но и относительно самого характера революций, когда... они стали происходить в странах Четверного Союза. Ленин считал, что они станут следовать тем же путем, что и большевистская революция в России; что левое крыло лейбористского движения отколется от социал-демократических партий и превратится в партии коммунистические, которые затем, в процессе революционной борьбы, вырвут главенство над рабочим классом из рук социалистических партий, свергнут парламентскую демократию и установят диктатуру пролетариата»19. В действительности попытка осуществить социальную революцию в Европе привела к противоположным результатам: коммунисты были дискредитированы, на первое место выдвинулись национал-экстремисты, эксплуатировавшие ксенофобию, подчеркивая роль иностранных деятелей, особенно евреев, в возбуждении общественных беспорядков. В Венгрии падение режима Белы Куна привело к кровавым еврейским погромам, а в Германии инициированные коммунистами мятежи дали основание для антисемитской пропаганды, которую активно вело нарождающееся национал-социалистическое движение. Трудно даже представить, как в Европе периода между двумя войнами столь бросающийся в глаза правый радикализм мог бы расцвести пышным цветом без страха перед коммунистами, впервые возникшего во время путчей 1918—1919 гг.: «Основным следствием данной ошибочной политики был заразивший правящие классы Запада и большинство среднего класса страх перед призраком коммунизма. В то же время большевизм предложил удобную модель контрреволюционной силы, которой стал фашизм»20.
К весне 1919 г. коммунистическая деятельность за рубежом стала более организованной и приняла формальные очертания — возник Коминтерн. Новому Интернационалу предназначалась роль боевого авангарда, который должен в мировом масштабе исполнить то, что большевики совершили в России. Задачи эти были определены в резолюции: «Коммунистический Интернационал ставит перед собой цель: бороться всеми средствами, даже силой оружия, за свержение международной буржуазии и создание международной советской республики»21. Попутно перед ним ставились и оборонительные задачи: предотвращение «крестового похода» капиталистов против Советской России, в частности настраивание «масс» за рубежом против интервенции. Как мы сказали раньше, свою оборонительную задачу Коминтерн выполнил гораздо более успешно, нежели наступательную.
Первый год своего существования (1919—1920) Коминтерн все свои силы обращал на борьбу с социал-демократией. Ленин считал, что поход против «буржуазного» строя требует дисциплинированных кадров из рабочих и вожаков, объединенных организацией, подобной российской партии большевиков. Таких кадров в Европе насчитывалось немного, поскольку социалистические и тред-юнионистские организации изобиловали «ренегатами» и «социал-шовинистами», сотрудничавшими с «буржуазией»: отсюда вытекала необходимость расколоть социал-демократическое движение и оттянуть от него собственно революционный элемент. Особенно это касалось Германии, страны, занимавшей в ленинской стратегии центральное место, поскольку там существовал самый развитой рабочий класс и самое организованное социалистическое движение в мире. Как мы увидим, большевистское руководство готово было пойти на сотрудничество с наиболее реакционными, крайне националистическими элементами в Германии, чтобы подорвать социал-демократическую партию в этой стране. Говорили, что Карла Каутского, этого Нестора немецкой социал-демократии, Ленин ненавидел даже больше, чем Уинстона Черчилля22.
Создать новый интернационал Ленин решил еще в июле 1914-го, когда Второй (Социалистический) Интернационал нарушил свое обещание выступать против войны. Некоторые черты того, что впоследствии стало Коминтерном, можно усмотреть еще в «левой оппозиции» на Циммервальдской и Кинтальской конференциях (1915—1916), где Ленин и его приспешники сделали не вполне удачную попытку перетянуть выступавших против войны социалистов от пацифизма к программе гражданской войны23.
Несмотря на то что вопрос о формировании нового Интернационала в большевистской России был делом решенным, в течение первых полутора лет после прихода к власти у Ленина оказалось много отвлекших его внимание неотложных дел. В течение этого периода предпринимавшимися время от времени попытками наладить подрывную деятельность за рубежом руководил Комиссариат иностранных дел, в котором для этих целей были созданы под управлением Радека специальные иностранные филиалы. Кадры для работы в них подбирались весьма случайным образом. Как вспоминала работавшая секретарем Коминтерна в 1919 г. Анжелика Балабанова, «практически все они попали в Россию в качестве военнопленных. Большинство их вступило в партию недавно, благодаря связанным с членством льготам и привилегиям. Практически никто из них не поддерживал до того контактов с революционным или рабочим движением у себя в стране, не имел ни малейшего представления о социалистических принципах»24.
В конце Первой мировой войны эти агенты, снабженные крупными суммами денег, засылались под прикрытием дипломатической неприкосновенности в дружественные Германию и Австрию, а также в нейтральные Швецию, Швейцарию и Нидерланды для установления контактов и ведения пропаганды. Джон Рид сообщал, что в сентябре 1918 г. Комиссариат иностранных дел содержал 68 агентов в Австро-Венгрии и «значительно больше» — в Германии; неопределенное количество их было также во Франции, Швейцарии, Италии25. Для тех же целей Комиссариат использовал персонал Красного Креста и репатриационных миссий, направленных в Центральную Европу после подписания Брест-Литовского договора для переговоров о возвращении русских военнопленных.
В марте 1919 г. ответственность за подрывную деятельность за рубежом переложили на Коммунистический Интернационал. Непосредственным стимулом к созданию новой организации послужило решение Второго (Социалистического) Интернационала провести в Берне первую послевоенную конференцию. Дабы перехватить инициативу, Ленин в спешке созвал Учредительный конгресс собственного Интернационала, состоявшийся в Кремле 2 марта. Вследствие того, что транспортные и коммуникационные трудности воспрепятствовали установлению прямой связи с потенциальными сторонниками этого начинания за рубежом, конгресс превратился в фарс: большинство делегатов оказались либо членами русской Компартии, либо проживавшими в России и не представлявшими никаких зарубежных организаций иностранцами. Из 52 делегатов от 35 компартий только пятеро прибыли из-за рубежа, и всего один (немец Гуго Эберляйн-Альбрехт) имел официальный мандат своей организации. [Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 69—70. Подобно многим проживавшим в Советской России членам-основателям Коминтерна, Эберляйн сгинул во время сталинских чисток.]. Аптекарю Борису Рейнштейну, российскому уроженцу, возвратившемуся на родину из США, чтобы оказать помощь революции, и выступавшему в качестве «представителя американского пролетариата», засчитали пять мандатов, хотя он представлял исключительно себя самого. Все это напоминало знаменитый исторический эпизод, когда во время Французской революции группу проживавших во Франции чужеземцев нарядили в национальные костюмы различных народов и привели на заседание Национального Собрания в качестве «представителей Вселенной». [«19 июня [1790] ...был неожиданно устроен самый настоящий спектакль, приковавший к себе взгляды толпы: собрали шестьдесят иностранцев, людей без родины, промышлявших в Париже жульничеством и интригами. Им дают пышное наименование посланников всех народов Вселенной; одевают в специально подобранное платье, соблазняют посулом выплатить двенадцать франков каждому — они соглашаются играть предназначенные им роли... Их представляют как пруссаков, голландцев, англичан, испанцев, немцев, турок, арабов, индусов, татар, персов, китайцев, монголов, триполитан, швейцарцев, итальянцев, американцев и граубюндцев. Они одеты в наряды этих народов. Костюмерная театра "Опера" вся пошла в ход. При виде такого чудовищного маскарада все вытаращились и замерли в ожидании пояснений. Когда таковые были даны, зал стал шумно выражать свое одобрение. Галерка, которой лестно было видеть всю вселенную посреди Национального Собрания, забила в ладоши и затопала ногами» (см.: Memoirs du Marquis de Ferrieres. Paris, 1822. Vol. 2. P. 64—65. Процитировано в кн.: Higgins E.L. The French Revolution. Boston, 1938. P. 150-151)].
Надежды, которые питали основатели Коминтерна, были безграничны: состоявшийся в декабре 1919 г. Всероссийский Съезд Советов заявил, что его создание — «величайшее событие в мировой истории»26. Зиновьев, назначенный Лениным председателем Коминтерна, писал летом 1919 г.: «Движение набирает такую головокружительную скорость, что можно с уверенностью сказать: через год мы уже забудем, как Европе пришлось когда-то вести войну за коммунизм, потому что через год Европа станет коммунистической. Борьба же за коммунизм будет перенесена в Америку, может быть, также и в Азию и другие части света»27. Тремя месяцами позже, во время празднования второй годовщины октябрьского переворота, Зиновьев выразил пожелание, чтобы ко времени третьей годовщины «Коммунистический Интернационал одержал победу во всем мире»28.
По мнению Зиновьева, в первый год своего существования Коминтерн являлся не более чем «обществом пропагандистов»29. Тем не менее к заявлению этому не следует относиться с излишней доверчивостью, поскольку большая часть деятельности организации была скрыта от глаз. Например, случайно стало известно, что глава советской миссии Красного Креста в Вене передал местным коммунистам 200 000 крон на основание печатного органа их партии, «Weckruf»30. Поскольку большевики относились к газете как к ядру политической организации, подобное действие выглядит чем-то большим, нежели пропаганда.
Ленин занялся делами Коминтерна всерьез только летом 1920 г., когда гражданскую войну можно было считать законченной. Концепция была проста: превратить Коммунистический Интернационал в филиал РКП(б), с такой же структурой и также подчиненный директивам ЦК. Добиваясь исполнения этой цели, Ленин не терпел никакого противодействия: сопротивление осуществлению принципа «демократического централизма» служило основанием для изгнания из рядов партии. Сам принцип, этот оксюморон, получил в устах Зиновьева такое определение: «безусловная и необходимая обязательность всех решений высших органов для низших»31. Возражения, вызванные им у западных коммунистов, Ленин отмел как меньшевистскую болтовню.
По требованию Зиновьева, желавшего утихомирить находившихся в его распоряжении работников, 19 июля открылся Второй конгресс Коминтерна, на этот раз не в Москве, а в Петрограде. Место проведения съезда до последнего момента держалось в глубокой тайне, чтобы не навлечь на Ленина покушения. Сам он выехал из Москвы в Петроград ночью простым поездом. [Balabanoff A. Impressions of Lenin. P. 110. После этого и вплоть до самой смерти Ленин в Петрограде не бывал.]. Через четыре дня заседания конгресса переместили в Москву, где они продолжались до 7 августа. На этот раз иностранцев собралось больше. Присутствовали 217 делегатов из 36 стран, из них 169 с правом голоса. Русские составляли примерно треть; следующими по величине были делегации из Германии, Италии и Франции. Небрежность, отличавшая подбор «национальных» кадров на конгресс, можно проиллюстрировать тем, что Радек, числившийся на Кинтальской конференции 1916 г. рупором голландского пролетариата и в марте 1919 г. несший обязанности посланника Советской Украины в Германии, появился теперь как представитель рабочих Польши32. Большевики встретили сопротивление со стороны иностранных делегатов относительно составленной ими программы, но в итоге одержали верх. Настроение на конгрессе было эйфорическое, потому что в то время, как шли заседания, Красная Армия приближалась к Варшаве: казалось неизбежным, что скоро появится новая Польская советская республика, а вслед за этим восстания вспыхнут по всей Европе. В состоянии революционного вдохновения, близкого к делирию, Ленин телеграфировал Сталину в Харьков 23 июля шифрованное сообщение: «Положение в Коминтерне превосходное: Зиновьев, Бухарин и также и я думаем, что следовало бы спровоцировать революцию тотчас в Италии. Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может быть также Чехию и Румынию. Надо обдумать внимательно. Сообщите Ваше подробное мнение»33.
* * *
Это поразительное послание может быть понято только в контексте решения, принятого в начале июля 1920 г. в разгар войны с Польшей: распространять революцию на Западную и Южную Европу. Как стало известно из лишь недавно опубликованной речи Ленина перед состоявшимся в сентябре того же года закрытым собранием коммунистической верхушки, Политбюро приняло решение не только выселить поляков с советской территории и не только советизировать Польшу, но и использовать сам конфликт как предлог для разворачивания общего наступления на Запад.
Польша провозгласила независимость в ноябре 1918 г. Версальский договор признал ее суверенитет и определил западные границы государства. Однако местоположение польско-российской границы должно было оставаться неопределенным вплоть до того момента, как гражданская война в России закончится и образуется полномочное правительство, способное вести переговоры. В декабре 1919 г. Верховный совет союзников определил временную пограничную черту между двумя государствами, известную как «линия Керзона», очертания которой определялись по этнографическому принципу. Поляки не признали ее, поскольку лишались таким образом Литвы, Белоруссии и Галиции, на которые у них имелись исторически обоснованные, по их мнению, притязания. [Линия Керзона проходила от Гродно на юг через Брест-Литовск, причем Вильно и Львов оставались русским (поляки захватят их в 1919-1920 гг. и удержат вплоть до 1939-го). Она напоминала границу, установленную для Польши Сталиным в 1945-м.]. Кроме того, в то время как определилась линия Керзона, польская армия находилась уже в 30 км к востоку от нее. Пилсудский был исполнен решимости отхватить как можно больше русских земель, пока эта страна ведет гражданскую войну и не имеет возможности оказать ему достойное сопротивление. Его армии оккупировали Галицию и низложили местное украинское правительство, вслед за чем изгнали силы большевиков из Вильно. В середине февраля 1919 г. польские и советские войска вели короткие перестрелки, обозначившие фактическое начало войны между странами. Пилсудский, однако, не спешил воспользоваться создавшимся у него преимуществом, поскольку, как уже отмечалось выше, желал дать Москве шанс победить Деникина и с этой целью отдал своим войскам осенью 1919 г. приказ приостановить военные действия против Красной Армии. Он ждал, когда Деникин сойдет со сцены, чтобы начать наступление.
В то время Пилсудский еще, возможно, и мог бы заключить с Москвой мир на выгодных условиях. Но у него имелись далеко идущие геополитические проекты, значительно превосходившие, как это доказали события, силы и способности молодой Польской республики.
Вину за начало польско-русской войны обычно приписывают Польше, и неоспоримо, что боевые действия открыли ее войска, вошедшие в конце апреля на территорию Советской Украины. Тем не менее данные, полученные из советских архивов, свидетельствуют, что, если бы Польша не напала именно в то время, Красная Армия сделала бы попытку ее опередить. Советское Верховное командование начало разрабатывать планы операции против Польши уже в конце января 1920 г.34. Севернее припятских болот была создана высокая концентрация советских войск, и не позднее апреля их собирались послать в наступление35. Основной фронт планировали развернуть против Минска, а второстепенный Южный фронт — по линии Ровно — Ковель — Брест-Литовск. Конечная цель наступления держалась в тайне даже от командования фронтами; но, поскольку С.С.Каменев отдал приказ, чтобы оба фронта на польской территории соединились, не остается сомнений, что следующей фазой кампании должно было стать наступление на Варшаву и далее на Запад36. Гипотеза о том, что Москва строила планы захвата Польши, подтверждается недавно рассекреченной телеграммой, датированной 14 февраля 1920 г., посланной Лениным находящемуся с Южной армией в Харькове Сталину: в ней содержится просьба дать информацию о шагах, предпринятых для создания «Галицкого ударного кулака»37.
Наступление поляков сбило все действия, какими должен был открыться, как это станет ясно из обсуждаемого нами ниже проделанного Лениным ретроспективного анализа, общий поход Советов на Западную Европу.
В марте 1920 г. Пилсудский объявил себя маршалом и лично возглавил 300 000 войск, находившихся на Восточном фронте. В течение марта—апреля поляки вели переговоры с Петлюрой, результаты которых вылились 21 апреля в секретный протокол. Согласно ему Польша признавала Петлюру главой независимой Украины и обещала вернуть ему Киев. Петлюра в обмен «уступал» Галицию Польше. [Wandycz P. Soviet-Polish Relations, 1917—1921. Cambridge, Mass., 1969. P. 191—192. Текст соглашения можно найти в кн.: Reshetar J. The Ukrainian Revolution, 1917—1920. Princeton, 1952. P. 301—302. См. также: Davies N. White Eagle, Red Star. London, 1972. P. 102—104. Формулировка условий договора отвергает все предположения, будто Польша собиралась аннексировать Украину.]. Дипломатическое соглашение 24 апреля дополнили тайным военным договором, предусматривающим совместное ведение операций и последующий вывод польских войск с Украины38.
Польская армия, частям которой приходилось биться за разные стороны во время мировой войны, отличалась высоким боевым духом, но была плохо экипирована. Британия отказывалась помогать ей на том основании, что уже оказала содействие белым, а выручать поляков было делом Франции. Французы, как это было всегда им свойственно, ничего не давали даром: вместо непосредственной помощи они предложили полякам кредит в 375 млн франков, что давало возможность приобрести по действующим рыночным ценам не востребованные самой Францией военное снаряжение и боеприпасы, частично в свое время захваченные у Германии. США предложили кредит в 56 млн долларов на приобретение припасов, оставленных их войсками на территории Франции39.
25 апреля численно превосходящая противника польская армия при поддержке двух украинских дивизий взяла Житомир и двинулась на Киев. [Davies N. White Eagle, Red Star. P. 101. Автор полагает, что польское наступление в апреле 1920 г. нельзя считать началом советско-польской войны, но только «изменением в масштабе, интенсивности, задачах военных действий». Трудно согласиться с этой точкой зрения, имея в виду, что предыдущие столкновения двух армий носили характер эпизодических перестрелок и ни у одной из сторон не было ясно обозначенной стратегической цели.]. Двенадцатая красная армия отступила, несмотря на то что готовилась к боям еще в январе: она была ослаблена мятежами и дезертирством, особенно в украинских частях. Красным приходилось также отбиваться от достаточно эффективных действий партизан у себя в тылу. 7 мая поляки заняли столицу Украины: это явилось пятнадцатой сменой власти в Киеве за три года. Потери польской стороны составляли 150 человек убитыми и вдвое больше — ранеными.
Но триумф Польши оказался недолговечным. Ожидавшегося восстания украинского населения не произошло. Более того, вторжение вызвало в России невиданный патриотический подъем, сплотивший социалистов, либералов и даже консерваторов в поддержку коммунистов, защищавших страну от иностранного агрессора. 30 мая советская пресса опубликовала воззвание генерала Алексея Брусилова, командовавшего наступлением русской армии в 1916 г.: он приглашал всех бывших офицеров царской армии, которые еще не успели записаться в Красную Армию, сделать это. [Известия. 1920. № 116. 30 мая. С. 1. В неопубликованном дневнике, который он вел в 1925 г. во время путешествия за рубеж, Брусилов писал, что никогда не предлагал своих услуг Красной Армии и что текст воззвания был получен от него обманным путем (см.: Мои воспоминания, Alexei Brusilov Collection, Bakhmeteff Archive, Rare Bookand Manuscript Library, Columbia university. P. 59—67)].
5—6 июня буденновская кавалерия прорвала линию поляков. 12 июня польская армия оставила Киев и начала отступать с такой же скоростью, с какой до этого продвигалась вперед. Контрнаступление советских войск осуществлялось двумя фронтами, они разделялись непроходимыми припятс-кими болотами. Южная армия двигалась на Львов; Северная, под командованием Тухачевского, шла по Белоруссии и Литве. 2 июля Тухачевский объявил приказ: «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару... На Вильну, Минск, Варшаву — марш!»40. Упоенная победой, 11 июля Красная Армия взяла Минск, а через три дня — Вильно. Гродно пал 19 июля, Брест-Литовск — 1 августа. К этому моменту армия Пилсудского потеряла все территории, захваченные с 1918 г.: Красная Армия стояла уже на Буге, за которым проживало польское население, и готовилась форсировать реку. На всех завоеванных территориях вводились советские методы управления.
В Польше военные неудачи вызвали политический кризис. Под давлением противников украинской авантюры, а их было немало и среди правых, и среди левых, 9 июля правительство уведомило союзников, что готово отказаться от территориальных претензий к Советской России и начать мирные переговоры41. Керзон незамедлительно передал заявление Польши Москве, предложив установить перемирие с временной разделительной линией по Бугу, имея в виду определить постоянную границу позднее. Британия изъявила готовность выступить в качестве посредника. Свои предложения Керзон дополнил предупреждением, что если Советская Россия вторгнется на территорию собственно Польши, то Британия и Франция вступят в войну на стороне последней.
Нота Керзона вызвала разногласия в рядах большевиков. Ленин, которого поддержали Сталин и Тухачевский, считал необходимым отвергнуть сделанное предложение и проигнорировать предупреждение Британии: Красная Армия должна идти на Варшаву. Он был убежден, что появление красных солдат и провозглашение аналогичных большевистским декретов, защищавших интересы рабочих и крестьян, заставит массы поляков подняться против «белого» правительства и согласиться на установление в стране коммунистического режима.
Но за решением Ленина стояли и более веские соображения. Каковы они были, он объяснил 22 сентября 1920 г. на закрытом заседании Девятой партконференции, когда пытался найти объяснение и оправдание тому, что называл «катастрофическим поражением» Советской России в Польше. Ленин просил, чтобы его слова не записывались и не публиковались, но стенографисты продолжали работу: семьдесят два года спустя сказанное было напечатано. [Эта речь, текст которой находится в РЦХИДНИ (Ф. 44. Оп. 1. Д. 5. Л. 127—132), впервые была опубликована в «Историческом архиве» (1992. № 1. С. 14-29).]. Хотя формальной целью продолжения военных действий на территориях, где жили этнические поляки, декларировалась советизация Польши, Ленин обрисовал в свойственной ему разбросанной манере истинные, гораздо более далеко идущие планы: «Перед нами стоял вопрос: принять ли это предложение [Керзона], которое давало нам выгодные границы, и, таким образом, встать на позицию, вообще говоря, чисто оборонительную, или же использовать тот подъем в нашей армии и перевес, который был, чтобы помочь советизации Польши. Здесь стоял коренной вопрос об оборонительной и наступательной войне, и мы знали в ЦК, что это новый принципиальный вопрос, что мы стоим на переломном пункте всей политики советской власти.
До сих пор, ведя войну с Антантой, потому что мы великолепно знали, что за каждым частичным выступлением Колчака, Юденича стоит Антанта, мы сознавали, что ведем оборонительную войну и побеждаем Антанту, но что победить окончательно Антанту мы не можем, что она во много раз сильнее нас...
И вот... у нас созрело убеждение, что военное наступление Антанты против нас закончено, оборонительная война с империализмом кончилась, мы ее выиграли... оценка была такова: период оборонительной войны кончился. (Я прошу записывать меньше: это не должно попадать в печать.)
Перед нами встала новая задача... мы можем и должны использовать военное положение для начала войны наступательной... Мы формулировали это не в официальной резолюции, записанной в протоколе ЦК... Но между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?..
[Нам стало известно], что где-то около Варшавы находится не центр польского буржуазного правительства и республики капитала, а где-то около Варшавы лежит центр всей теперешней системы международного империализма, и что мы стоим в условиях, когда мы начинаем колебать эту систему и делаем политику не в Польше, но в Германии и Англии. Таким образом, в Германии и Англии мы создали совершенно новую полосу пролетарской революции против всемирного империализма...»
Ленин далее заявил, что вторжение Красной Армии в Польшу привело к революционным выступлениям в Германии и Англии. При подходе советских войск немецкие социалисты объединились с коммунистами, а те создали добровольческие вооруженные отряды для помощи русским. Организация в Великобритании «Совета действия» также показалась Ленину началом социальной революции; он считал, что летом 1920 г. Англия оказалась в такой же ситуации, как Россия в 1917-м, и что правительство там утратило контроль над ситуацией в стране.
Но и это еще не все, продолжал Ленин. Южная красная армия вошла в Галицию и тем самым установила прямой контакт с Карпатской Русью, что создало возможность осуществить революцию в Венгрии и Чехословакии.
Завоевание Польши давало уникальный шанс одним махом ликвидировать все постановления Версальского договора. И в данном случае, и в остальных Ленин оправдывал необходимость вторжения в Польшу следующими словами: «Разрушая польскую армию, мы разрушаем тот Версальский мир, на котором держится вся система теперешних международных отношений. Если бы Польша стала советской, Версальский мир был бы разрушен и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы». [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 324—325. Черчилль тоже называл Польшу «опорой Версальского договора». (См.: Churchill W. The World Crisis: The Aftermath. London, 1929. P. 262)].
Короче говоря, Польша являлась тем порогом, переступив через который можно было вести общее наступление на Западную и Южную Европу, отобрать у союзников плоды их побед в Первую мировую войну. Подобную цель, конечно же, следовало держать в тайне: Ленин сам признавался, что его правительство делало вид, будто интересуется исключительно советизацией Польши. Историку остается только дивиться на полное отсутствие реализма во всех этих планах: как это часто происходит, фанатизм изыскивает для достижения утопических целей самые хитроумные способы.
Троцкий возражал против наступательной стратегии, предложенной Лениным: он считал, что следует принять предложение Британии о посредничестве, и призывал дать необходимые обещания относительно суверенитета Польши. [The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 228—231. Некоторые историки сомневаются, действительно ли Троцкий был против наступления, как он это писал в своих записках (Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. Берлин, 1930. С. 193—194. См. также: Idem. Stalin. New York, 1941. P. 327—328). Документы, которые цитируют в подкрепление противоположной точки зрения, датированы 1920 г., когда все решения были уже приняты, а Троцкий, послушный решениям партии как всякий хороший большевик, желал быстрой и решительной победы (см.: Komarnicki T. The Rebirth of the Polish Republic. London, 1957. P. 7, 640—641, а также: Davies N. White Eagle, Red Star. P. 69).]. В этом с ним было солидарно Верховное командование Красной Армии, уверенное, что сможет сокрушить польскую армию в два месяца, но при условии, что союзники дадут обещание не оказывать ей военной помощи; ввиду же предупреждения, сделанного Британией, а также возможности участия в конфликте Румынии, Финляндии и Латвии, оно предпочитало остановить наступление у линии Керзона42. Главные партийные эксперты по польскому вопросу, Радек и Мархлевский, предостерегали против упований на то, что польские крестьяне и рабочие будут приветствовать вторжение русских.
Как это случалось всегда, ленинская точка зрения победила. 17 июля ЦК принял решение продолжать войну на территории Польши, вслед за чем Троцкий и С.С.Каменев отдали приказ игнорировать линию Керзона и вести наступление на запад43. Британии направили вежливую ноту, где отвергалось предложение о посредничестве44. 22 июля С.С.Каменев приказал взять Варшаву не позднее 12 августа. Для управления советизированной Польшей создали Польский революционный комитет (Полревком), куда вошли Дзержинский, Мархлевский и еще три человека. Особенно Москву вдохновило то, что лейбористская партия Британии осудила польское правительство. 12 августа конференция тред-юнионов и лейбористов проголосовала за всеобщую забастовку в случае, если правительство станет упорствовать в своей пропольской и антисоветской политике. Для исполнения постановления создали Совет действия под председательством Эрнста Бевина. В свете этих событий перспектива вмешательства Британии выглядела все менее реальной. Примерно в то же время Международная федерация тред-юнионов в Амстердаме, входящая во Второй (Социалистический) Интернационал, проинструктировала своих членов усилить эмбарго на предназначенные для Польши боеприпасы45.
В процессе вышеупомянутых политических и военных разногласий открыл заседания Второй конгресс Коминтерна. В главном зале повесили карту военных действий, и ежедневное продвижение Красной Армии на запад отмечалось на ней под приветственные возгласы делегатов.
* * *
На Втором конгрессе Коминтерна Ленин преследовал три задачи: во-первых, создание во всех странах коммунистических партий: следовало либо начинать формирование их с нуля, либо действовать методом раскола существующих социалистических объединений. Эту — самую важную — задачу следовало решать, разваливая одновременно Социалистический Интернационал. В резолюциях конгресса указывалось, что зарубежные компартии должны связывать своих членов «железной военной дисциплиной» и требовать от них «полнейшего товарищеского доверия... к партийному Центру», то есть безусловного подчинения Москве46.
Во-вторых, в отличие от Социалистического Интернационала, выстроенного по принципу федерации независимых и равноправных участников, Коминтерн должен был следовать принципу «железного пролетарского централизма»: ему отводилась роль единственного рупора мирового пролетариата. По словам Зиновьева, Интернационал «должен стать единой Коммунистической партией, с отделениями в различных странах»47. Все зарубежные компартии подчинялись Исполнительному Комитету Коммунистического Интернационала (ИККИ). Тот, в свою очередь, являлся отделением ЦК РКП(б) и выполнял директивы последнего. [Balabanoff A. My Life As a Rebel. New York, 1938. P. 269. Отношения между РКП (б) и Коминтерном долгое время не были правильно поняты за рубежом. Даже такой хорошо информированный специалист, как Альфред Деннис из Госдепартамента США, писал в 1924, что РКП(б) «принадлежит» к Коминтерну, в то время как все обстояло как раз наоборот (Dennis A. The Foreign Policies of Soviet Russia. New York, 1924. P. 340).]. Дабы обеспечить себе абсолютный контроль, РКП(б) забрала себе в ИККИ пять мест; всем остальным партиям выделили только по одному. Ведущим принципом при отборе чиновников в аппарат Коминтерна было их послушание Москве. Партии и индивидуальные члены, не оказывавшие послушания ИККИ, изгонялись вон независимо от известности и заслуг. Для контроля за тем, насколько выполняются его указания иностранными компартиями, Исполком получил полномочия формировать за рубежом специальные органы надзора, независимые от местных партийных организаций.
В-третьих, непосредственной задачей всех зарубежных компартий становилась инфильтрация и взятие под контроль всех массовых рабочих организаций, включая и те, которые придерживались «реакционной» политики, а не только «прогрессивные». По инструкции, данной Лениным, коммунистические ячейки должны были внедряться в каждую массовую организацию, где можно — открыто, где нельзя — тайно48.
Конечной задачей Коминтерна было «вооруженное восстание» против существующих правительств49 с целью смещения их и установления коммунистических режимов. Все это являлось подготовительной фазой создания Всемирной Советской Социалистической Республики.
Иностранным делегациям, восхищавшимся достижениями большевиков и их целями, но мало сведущим в большевистской этике, методы работы Ленина показались слишком авторитарными и вызвали их сильное недовольство. Вождю пришлось поэтому сражаться с двумя противниками: с одной стороны его обвиняли в «оппортунизме» за склонность вести работу в парламентской и тред-юнионистской форме, с другой — в недемократичности коминтерновской процедуры.
Некоторые западные коммунисты, вдохновленные примером России, желали начать немедленное и прямое наступление на свои правительства; они не усматривали никакого преимущества в предложенной Лениным тактике постепенной инфильтрации враждебных учреждений. В распространявшейся на Втором конгрессе брошюре «Детская болезнь "левизны" в коммунизме» Ленин отвергал эту стратегию на том основании, что коммунисты за рубежом были слишком немногочисленны и слабы, чтобы начинать наступление. Расстановка сил требовала от них стратегии выжидания, использования каждого разногласия в стане врага, любой возможности пойти на объединение с потенциальным союзником50. Иностранные делегаты, выражавшие недоверие к этому подходу, подвергались критике со стороны русских, которые использовали любую возможность, чтобы не дать им выступить.
В соответствии с ленинской политикой инфильтрации ИККИ настаивал, чтобы все компартии за рубежом принимали участие в парламентских выборах51. Некоторые делегации, и во главе их — итальянская, протестовали, утверждая, что таким образом они лишь выявят, насколько немногочисленны их сторонники, однако Ленин настаивал на своем: он не забыл совершенной им в 1906 г. ошибки, когда приказал большевикам бойкотировать выборы в Первую Государственную Думу. С его точки зрения, заполучить побольше мест в парламенте было не так важно, как использовать депутатский иммунитет для открытой дискредитации правительства и распространения коммунистической пропаганды. Приняв на вооружение тактику, использовавшуюся российскими эсерами и социал-демократами в 1907 г., он уговорил Бухарина провести резолюцию, согласно которой все члены Коминтерна обязывались «использовать буржуазные правительственные учреждения для их же уничтожения»52. Чтобы зарубежные компартии не впали в то, что Маркс называл «парламентским кретинизмом», законодателям-коммунистам вменялось в обязанность помимо официальной депутатской работы заниматься нелегальной деятельностью. Как гласит резолюция Второго конгресса, «каждый коммунист, ставший депутатом парламента, должен иметь в виду, что он является не законодателем, ищущим взаимопонимания с другими законодателями, но агитатором, направленным своей партией в стан врага для осуществления решений партии. Депутат-коммунист подотчетен не расплывчатой массе избирателей, но своей коммунистической партии, легальной или нелегальной»53.
Большие споры вызвала политика в отношении профсоюзов. Для Ленина инфильтрация профсоюзов и подрывная деятельность в них были второй по важности задачей в рабочих планах Коминтерна, поскольку поддержка организованного труда являлась необходимым условием европейской революции. Это, однако, становилось неимоверно сложной задачей, поскольку организованный труд на Западе склонялся к реформистской политике и сотрудничал со Вторым Интернационалом. Европейские тред-юнионисты, присутствовавшие на Втором конгрессе Коминтерна, напрасно пытались пояснить, что их организации абсолютно не были пригодны для революционной работы, ибо их члены ставили перед собой экономические, а не политические задачи. Самое сильное сопротивление исходило от британской и американской делегаций. Британцам не по нраву пришелся приказ вступить в Лейбористскую партию: им было известно, что туда коммунистов не принимают, и потому такая попытка не могла принести им ничего, кроме унижения. Американскому поклоннику большевиков Джону Риду не дали говорить, когда он пытался объяснить, почему коммунисты в США не могут пытаться вступить в Американскую федерацию труда. В конце концов ему удалось внести предложение, но в официальном отчете нет даже упоминания о соответствующем голосовании54. В знак протеста против таких недемократических методов он впоследствии вышел из Интернационала.
На конгрессе была сделана вялая попытка переместить руководство Коминтерна. Первоначальным замыслом большевиков было создать штаб-квартиру Третьего Интернационала в Западной Европе, но они оставили эту идею, боясь разделить участь Люксембург и Либкнехта55. Голландский делегат после того, как внесенное им предложение расположить штаб-квартиру ИККИ в Норвегии отклонили голосованием, сказал, что конгресс не должен делать вид, будто создал действительно международную организацию, тогда как на самом деле он отдал «всю исполнительную власть в руки Российского исполнительного комитета»56. Исполком Коминтерна обосновался в Москве, заняв роскошную резиденцию немецкого сахарного магната, где в 1918 г. размещалось посольство Германии.
Прежде чем закончить работу, Второй конгресс принял самый важный документ, содержащий 21 «условие», на основании которых проводится прием в Коминтерн. Его автор Ленин намеренно сформулировал требования, предъявляемые к кандидатам на вступление, в такой бескомпромиссной манере, чтобы предотвратить соискательство умеренных социалистов. Самыми важными «пунктами» были следующие:
Статья 2. Все вступающие в Коминтерн организации должны были исключить из своих рядов «реформистов и центристов»;
Статья 3. Коммунисты должны были создавать везде «параллельные нелегальные организации», которые в решающий момент обнаружат свое присутствие и возьмут на себя руководство революцией;
Статья 4. Им следовало вести пропаганду в рядах вооруженных сил с тем, чтобы предотвратить использование последних в целях «контрреволюции»;
Статья 9. Им следовало взять на себя руководство профсоюзами;
Статья 12. Они должны были быть организованы по принципу «демократического централизма» и следовать жесткой партийной дисциплине;
Статья 14. Им предписывалось помогать Советской России в ее борьбе с «контрреволюцией»;
Статья 16. Все решения, принимаемые съездами Коминтерна и ИККИ, оказывались обязательными для партий — членов Коминтерна. [The Communist International, 1919—1943. Documents / Ed. by J.Degras. London, 1956. Vol. 1. P. 166—172. Гитлер, перенявший многие методы Ленина, принял «программу в 25 пунктов» для вступления в нацистскую партию (см.: Bracher K.D. Die deutsche Diktatur. Frankfurt a/M, 1979. P. 60)].
Почему делегаты конгресса проголосовали в конце практически единогласно за правила, лишавшие их независимости, несмотря на все сомнения и возражения? Отчасти они сделали это из восхищения большевиками, которые, по их мнению, совершили первую успешную революцию в истории и потому должны были знать лучше остальных, как и что делать. Но высказывается и иная точка зрения: только поверхностно знакомые с теорией и практикой большевизма, члены Коминтерна не представляли себе, какие практические последствия могли иметь подобные требования57.
* * *
Ко времени закрытия Второго конгресса Коминтерна падение Варшавы и установление там советской республики казались делом решенным. Польская армия отступала со скоростью 15 км в день; в ней царили хаос, уныние, не хватало предметов первой необходимости. Численно она также уступала противнику: по оценкам Пилсудского, у Красной Армии под ружьем было в Польше от 200 000 до 220 000 человек, в то время как силы поляков не превосходили 120 00058. [Согласно советским источникам, численное превосходство было за поляками: в них читаем, что у Красной Армии на Юго-Западном (Украинском) фронте было 15 000 пехоты и сабель, а у наступавших поляков — 50 200 (см.: Суслов П.В. Политическое обеспечение советско-польской кампании 1920 года. М., 1930. С. 34).]. Однако у обороняющейся стороны имелось географическое преимущество: наступающая Красная Армия оказалась вынуждена разделиться надвое, двигаясь к северу от припятских болот и к югу от них, польские же военные силы действовали как единое целое59.
Военные круги Германии ликовали, предвкушая неминуемое поражение Польши: как и Ленин, они верили, что это снимет с них проклятие Версальского договора. Веймарское правительство, объявившее о нейтралитете в польско-советской войне, ответило 25 июля отказом на просьбу Франции позволить провезти в Польшу через территорию Германии военное снаряжение и боеприпасы. Чехословакия и Австрия следовали примеру Берлина, так что Польша оказалась практически отрезана от своих западных союзников.
28 июля Красная Армия взяла Белосток, первый польский город к западу от линии Керзона. Два дня спустя Полревком специальным воззванием доводил до сведения населения, что занимается «закладыванием фундамента будущей Польской советской республики» и с этой целью «низлагает предыдущее дворянско-буржуазное правительство». Все фабрики, земли (за исключением крестьянских наделов) и леса объявлялись государственной собственностью60. Ревкомы и советы создавались во всех населенных пунктах, занимаемых Красной Армией. Обращаясь к своим агентам в Польше, Ленин настаивал на «беспощадном разгроме помещиков и кулаков... равно на реальной помощи крестьянам панской землей, панским лесом»61. Ему принадлежит также «прекрасный план» вешать «кулаков, попов, помещиков» и свалить вину на «зеленых»; он даже предлагал выплачивать 100000 рублей за каждого повешенного62. Однако вскоре Ленину пришлось столкнуться с различиями в политической культуре Польши и России, так же как и с трудностью расшевелить примитивные анархистские побуждения в иначе устроенном, более западном окружении. Ни польские рабочие, ни польские крестьяне не откликались с готовностью на призыв убивать и грабить. Даже напротив: перед лицом иностранного нашествия поляки объединились, несмотря на сословное расслоение. К полному изумлению Красной Армии, ей пришлось столкнуться с неприязненным отношением польских рабочих и обороняться от партизанских отрядов.
Силы наступавших были сведены в Юго-Западный фронт под командованием Егорова, туда входили Двенадцатая армия и конница Буденного, и в Западный фронт — в нем под командованием Тухачевского соединялись четыре армии: Третья, Четвертая, Пятнадцатая и Шестнадцатая, усиленные Третьим кавалерийским корпусом генерала Гайка Бжишкяна (Г.Д.Гая), родившегося в Персии армянина, ветерана царской армии. Сталин получил направление в Юго-Западную армию в качестве политкомиссара. (Изначально он был приписан Троцким к буденновской кавалерии63.) Сталин побуждал высшее партийное руководство нацелить основной удар на южный сектор. Его не послушали. 2 августа Политбюро приказало пехотинцам Егорова и конникам Буденного перейти под командование Тухачевского64. Тем не менее, по доселе не выясненным соображениям, С.С.Каменев, протеже Сталина, отложил исполнение этого приказа. Только 11 августа он распорядился временно приостановить операцию по взятию Львова и назначил Тухачевского главнокомандующим как Юго-Западного, так и Западного фронтов. Двенадцатая армия и конница Буденного получили команду идти на Варшаву65. Сталин отказался подчиниться этим инструкциям66. По мнению Троцкого, непослушание Сталина привело в конечном счете к поражению Красной Армии в Польше67.
Терпящие жестокую нужду поляки просили союзников о боеприпасах. Ллойд Джордж, уже довольно сильно углубившийся в торговые переговоры с советскими представителями Красиным и Львом Каменевым, высказал им свое мнение об агрессии России и даже предъявил ультиматум, однако Ленин, справедливо полагавший, что британцы не станут ссориться с ним из-за Польши, счел возможным не обратить на это внимания68. Британский тред-юнионистский Совет действия, находившийся на содержании у советских властей (он получал выручку от продажи тайно ввозимых Каменевым в Англию драгоценностей)69, остановил отправку боеприпасов Варшаве, повторив угрозу начать всеобщую забастовку.
Докеры отказывались производить погрузку на корабли, отправлявшиеся в Польшу.
Скудная помощь, которую все-таки получали поляки, приходила из Франции. Некоторое количество боеприпасов переправили через находившийся в то время под британским контролем Данциг, в основном же французское содействие состояло в подготовке кадров и услугах советников. Несколько сот французских офицеров, приехавших ранее в том же году для подготовки польских войск, объединились с военной миссией, которой руководил генерал Максим Вейган, начальник штаба маршала Фердинанда Фоша, главнокомандующего силами союзников во Франции в 1918 г. Вейган намеревался возглавить польские вооруженные силы, но ему в этом отказали. Несмотря на то что и он, и его офицеры считались впоследствии едва ли не главными творцами «чуда на Висле», на самом деле они практически ничего не сделали для победы по той простой причине, что их держали в изоляции и их стратегический план, рассчитанный на занятие оборонительных позиций, отвергли70. Вейган лично отказывался от приписываемой ему победы над Красной Армией: «Это исключительно польская победа, — заявил он после событий. — Предварительные операции проводились в соответствии с польскими планами, разработанными польскими генералами»71. Французскую миссию он характеризовал как «символическую замену материальной помощи, которую союзники не хотели или не могли предоставить»72.
14 августа Троцкий скомандовал, чтобы Красная Армия безотлагательно взяла Варшаву. Через два дня полревком переместился в село в 50 км от польской столицы, рассчитывая быть в ней через несколько часов. Сам город невозмутимо жил повседневной жизнью: даже когда до столицы стали доноситься звуки артиллерии, варшавские жители спокойно продолжали заниматься своими делами. Английский дипломат докладывал 2 августа, что «невозмутимость местного населения просто невероятна. Можно подумать, что страна не в опасности, а большевики — в тысячах километров отсюда»73. В этот критический момент войны Тухачевский совершил ряд фатальных стратегических ошибок. Вместо того чтобы сконцентрировать силы для удара по Варшаве, он, видимо, считая, что она сдастся на его милость, направил Четвертую армию и кавалерийский корпус к северо-западу от столицы, то есть, по словам Пилсудского, «в пустоту»74. Очевидно, он намеревался нарушить сообщение между Варшавой и Данцигом, чтобы помощь союзников не доходила до осажденного города. [14 августа Реввоенсовет отдал приказ о нападении на Польский коридор, чтобы захватить боеприпасы, которые, как он считал, были складированы в Данциге (см.: Директивы главного командования. С. 655). ]. Позднее он станет уверять, будто хотел окружить Варшаву, зайдя с севера и запада. Однако документы из недавно открытых российских архивов заставляют думать, что он действовал так по приказанию свыше и операции придавался политический смысл: занять Польский коридор и передать его Германии, соединяя таким образом Восточную Пруссию с остальной немецкой территорией и получая в награду поддержку местных националистических кругов. «Приближение наших войск к границам Восточной Пруссии, отделенной Польским коридором, — говорил Ленин 19 сентября 1920 г., — показало, что вся Германия начинает бурлить. Мы получили информацию, что десятки и сотни тысяч [!] немецких коммунистов переходят наши границы. Прилетели телеграммы [об образовании] немецких коммунистических полков. Приходилось принимать решения помочь не публиковать [эти известия] и продолжать заявлять, что мы ведем войну [с Польшей]». [Исторический архив. 1992. № 1. С. 18. Виктор Копп, агент Ленина в Германии, прямо комментирует приближение Красной Армии к Польскому коридору как операцию, призванную восстановить целостность германских территорий, нарушенную Версальским договором (РЦХИДНИ. Ф.5.Оп. 1.Д.2136)].
Не менее губительной оказалась брешь, которой позволили образоваться между осаждающими Варшаву основными силами Тухачевского и левым крылом Красной Армии (Двенадцатой армией и буденновской кавалерией), где командовал Егоров и осуществлял политический надзор Сталин. На этом участке фронт длиной в 100 км держали всего 6600 человек. В исторической литературе благодаря многочисленным ремаркам, сделанным по этому поводу Троцким, главная вина за ход событий возлагается на Сталина, который, как говорят, стремился удовлетворить собственное честолюбие и взять Львов прежде, чем Тухачевский вступит в Варшаву, вследствие чего не успел вовремя прийти последнему на выручку. Однако ввиду того, какой упор Ленин делал на революционизацию Центральной и Южной Европы, — это явствует из его тайных речей и телеграммы Сталину (см. выше), — представляется более правдоподобным, что и эта стратегическая ошибка совершена Лениным, которому, очевидно, хотелось, чтобы Егоров занял Галицию в качестве плацдарма для дальнейшего завоевания Венгрии, Румынии и Чехословакии, тогда как Тухачевский получил ориентацию на Германию.
Пилсудский не замедлил воспользоваться возможностями, которые возникли из-за ошибок, совершенных Красной Армией. В ночь с 5 на 6 августа он сформулировал дерзкий план контрнаступления75. 12 августа он выехал из Варшавы, чтобы принять командование над тайно сформированными южнее столицы ударными боевыми частями численностью 20000 человек. 16 августа, через два дня после того, как русские начали то, что должно было стать завершающим ударом по польской столице, он вступил в дело, послав свои войска в брешь и на север, для удара по тылам основных сил противника. Контрнаступление застигло красное командование совершенно врасплох. Поляки наступали в течение 36 часов, не встречая сопротивления: сам Пилсудский, опасаясь засады, лихорадочно объезжал свой фронт в поисках врага. Тухачевскому, чтобы избежать окружения, пришлось приказать начать общее отступление. Поляки взяли 95 000 пленных, среди них оказалось много солдат, еще недавно служивших в рядах белых; приехавший с инспекцией британский дипломат вынес впечатление, что девять десятых пленных были «смирными крепостными», остальные — «фанатичными дьяволами». Опрос показал, что большая их часть проявляют безразличие к советской власти, уважают Ленина и презирают и боятся Троцкого76.
В битвах, которые последовали за «чудом на Висле», из пяти находившихся на польской территории советских армий одна была полностью разгромлена, остальные понесли тяжелые потери: остатки Четвертой армии и кавалерийского корпуса Гайка Бжишкяна перешли в Восточную Пруссию, где их разоружили и интернировали. По некоторым оценкам, до двух третей советских сил оказалось уничтожено77. Отставших от полков солдат вылавливали и добивали крестьяне. Буденновская кавалерия, отступавшая совместно с двумя пехотными дивизиями, отличилась, устроив массовые еврейские погромы. От коммунистов-евреев Ленин получил подробное описание творимых там зверств и систематического уничтожения еврейских поселений, просьбы о срочном оказании помощи. Он написал на полях: «В архив»78. После того как Троцкий посетил распадающийся фронт и сделал доклад на Политбюро, оно почти единогласно проголосовало за мирные переговоры79. Перемирие вступило в силу 18 октября.
Вместо того чтобы устанавливать в Польше советское правительство и распространять коммунизм с ее территории на Западную Европу, Россия вынуждена была начать переговоры, которые закончились для нее гораздо более плачевно, чем если бы она приняла условия поляков в июле. 21 февраля 1921 г. ЦК под давлением внутренних беспорядков в стране принял решение добиваться мира с Польшей как можно скорее80. В марте 1921 г. в Риге было подписано соглашение, согласно которому Советская Россия уступала Польше территории, лежащие к востоку от линии Керзона, в том числе Вильно и Львов.
Поражение Красной Армии в Польше сильно повлияло на ленинский образ мысли: это оказалось его первым прямым столкновением с силами европейского национализма, и он вышел из него побежденным. Его потрясло, что польские «массы» не поднялись на подмогу его армии. Вместо ограниченного сопротивления польских «белогвардейцев» неудачливым освободителям пришлось столкнуться с отпором сплоченной польской нации. «В Красной Армии поляки видели врагов, а не братьев и освободителей, — жаловался Ленин Кларе Цеткин. — Они чувствовали, думали и действовали не социальным, революционным образом, но как националисты, как империалисты. Революция в Польше, на которую мы рассчитывали, не произошла. Рабочие и крестьяне, обманутые приспешниками Пилсудского и Дашинского, защищали своего классового врага, позволили нашим храбрым красным солдатам голодать, устраивали на них засады и забивали до смерти». [Zetkin С. Reminiscences of Lenin. London, 1929. P. 20. Игнаций Дашинский был лидером польских социалистов, премьер-министром Польши.]. Этот опыт излечил Ленина от ложного убеждения, будто раздувание классового антагонизма, столь успешное в России, всегда и везде станет побеждать националистические настроения. Он потерял охоту посылать Красную Армию сражаться на чужую территорию. Чан Кайши, посетивший Москву в 1923 г. как представитель Гоминьдана, в то время выступавшего заодно с коммунистами, услышал от Троцкого: «После войны с Польшей в 1920 г. Ленин издал новые директивы относительно политики мировой революции. В них говорится, что Советская Россия должна оказывать безусловную моральную и материальную помощь колониям и протекторатам в их революционной войне против капиталистического империализма, но никогда не должна посылать советские войска для прямого участия с тем, чтобы избежать осложнений для Советской России во время революций в различных странах, происходящих по причине [национализма]»81.
* * *
Как только закрылся Второй конгресс Коминтерна, ИККИ принялся исполнять его директивы. Теперь Западная Европа стала свидетельницей последовательности событий, разваливших за двадцать лет до того единую российскую социал-демократию.
Итальянская социалистическая партия оказалась единственной в Европе, посетившей Второй конгресс коммунистов. Она была настоящей массовой организацией, в которой преобладали антиреформисты. В 1919 г. она раскололась на про- и антикоминтерновскую фракции. Большинство, возглавляемое Г.М.Серрати, проголосовало за объединение с Коминтерном: таким образом, ИСП стала первой зарубежной соцпартией, вошедшей в новый Интернационал. Меньшинство под предводительством Филиппе Турати выступило против этого решения, однако ради поддержания социалистического единства подчинилось ему. В результате реформисты не были изгнаны и остались в ИСП. Ленин нашел подобную терпимость недопустимой и настаивал на том, чтобы фракцию Турати изгнали из партии. Когда Серрати отказался подчиниться этому требованию, он стал объектом развязанной Коминтерном злобной клеветнической кампании, ему предъявлялись совершенно безосновательные обвинения во взяточничестве. Травля закончилась изгнанием Серрати из Коминтерна82. Затем ультрарадикальное меньшинство ИСП подчинилось желаниям Москвы и отделилось, сформировав Итальянскую коммунистическую партию. На парламентских выборах, состоявшихся несколькими месяцами позже, она получила всего одну десятую голосов, отданных за социалистов. Итальянские социалисты продолжали, несмотря на гнусное обхождение, считать себя коммунистами и проповедовать солидарность с Коминтерном. Тем не менее форсированный Москвой раскол ИСП значительно ослабил ее и позволил Муссолини захватить власть, что произошло в 1922 г.
Французская социалистическая партия проголосовала в декабре 1920 г. в пропорции три к одному за вступление в Коминтерн. Такой триумф позволил коммунистам взять под контроль орган партии газету «Юманите». Большинство — 160 000 членов — объявили себя коммунистической партией; побежденное меньшинство оставило за собой название социалистической.
В Германии прокоммунистически настроенные деятели сконцентрировались в Независимой социал-демократической партии Германии (НСДП), основанной в апреле 1917 г. социалистами — противниками войны. Радикальная группировка в партии выделилась под именем Союза Спартака. После подписания перемирия с Антантой НСДП получила значительную поддержку населения. В марте 1919 г. она выступила с предложением установить в Германии правительство советского типа и «диктатуру пролетариата», что превращало ее в коммунистическую партию во всем, кроме названия. Лидеры НСДП изъявили готовность вступить в Коминтерн, однако столкнулись с трудностями при попытке убедить рядовых членов партии принять 21 ленинский «пункт». На выборах в июне 1920 г. НСДП получила 81 место в парламенте, ненамного меньше, чем Социал-демократическая партия, у которой оказалось 113 мест, вследствие чего она стала второй по величине фракцией в Рейхстаге. Коммунистическая партия (новое название Союза Спартака) получила только 2 из депутатских 462 мест83. НСДП предприняла окончательную попытку проголосовать по 21 пункту условий вступления в Коминтерн в октябре 1920 г. во время конгресса в Галле, где Зиновьев разразился страстной четырехчасовой речью. Несмотря на предостережения меньшевика Л.Мартова, делегаты приняли решение согласиться на 21 пункт и были приняты в Коминтерн 236 голосами против 156. Из 800 000 тогдашних членов НСДП 300 000 вошли в германскую компартию, 300 000 остались в НСДП, а 200000 оставили социалистическую партийную деятельность84. В результате голосования на конгрессе в Галле произошел раскол партии, которая, казалось, вскоре станет самой крупной в Германии. НСДП была сокрушена, зато Ленин добился своего. Объединенная коммунистическая партия Германии, возникшая от слияния Коммунистической партии и отколовшейся от НСДП фракции, стала членом и агентом Коминтерна в своей стране. В ней было примерно 350 000 членов — она являлась одной из самых многочисленных компартий вне Советской России.
Когда в марте 1921 г. Советское правительство вступило в кризис в связи с повсеместными крестьянскими восстаниями и мятежом на военно-морской базе в Кронштадте, оно решило, что революция в Германии могла бы помочь ему справиться с внутренними волнениями. Не обращая внимания на предостережения со стороны лидеров немецкой компартии, включая Пауля Леви и Клару Цеткин, оно приказало начать путч. Рабочие Германии не поднялись по призыву, восстание было быстро подавлено85. В результате количество членов в немецкой компартии упало почти в два раза — до 180000 человек86. Несмотря на то что сделанные им предупреждения оказались уместными, Пауль Леви был изгнан из партии и из Коминтерна.
Сформированная в январе 1921 г. из небольших разобщенных радикальных групп, куда входили в основном представители интеллигенции и небольшое число шотландских рабочих, Коммунистическая партия Британии к 1922 г. насчитывала всего 2300 членов. Несколько более многочисленной была Независимая лейбористская партия, где в 1919 г. насчитывалось 45 000 человек, но она, хотя и сочувствовала Коминтерну, отказалась в него вступить. Ленин принял решение, что британские коммунисты добьются большего, если вступят в Лейбористскую партию и станут вести в ней подрывную деятельность изнутри. Он продолжал настаивать на данной стратегии даже несмотря на откровенное недоброжелательство лейбористов — в 1920 г. оно послужило причиной того, что предложение о вступлении в Третий Интернационал было забаллотировано у них почти 3 000 000 голосов против 225 00087. Ленин приказал британским коммунистам подать заявление о вступлении в эту партию, и они проделали это, идя против собственной воли, с тем только, чтобы встретить резкий унизительный отказ: на конференции Лейбористской партии в 1921 г. заявление британских коммунистов о вступлении было отвергнуто 4100 000 голосами против 224000. Это повторялось в 1922 г. и в последующие годы88. Крохотная горстка британских коммунистов перебивалась на субсидии, которые им выделял Коминтерн; финансовая зависимость рождала услужливость и подобострастие.
Компартия Чехословакии, имевшая почти полмиллиона членов, проголосовала практически единогласно за вступление в Третий Интернационал в марте 1921 г.
Вторая по степени важности задача Коминтерна — внедрение в профсоюзы и контроль над их деятельностью — оказалась более труднодостижимой, нежели создание компартий: было легче получить поддержку преобладавших в политической жизни интеллектуалов, нежели участвующих в профсоюзах рабочих. Ленин требовал от своих зарубежных приспешников любой ценой добиваться контролирующего влияния на организованный труд. Компартии должны, писал он, «в случае необходимости... прибегать ко всевозможным хитростям, обманам, незаконным приемам, укрыванию и утаиванию правды, чтобы проникнуть профсоюзы, закрепиться в них, вести в них любой ценой коммунистическую работу»89. Для достижения подобной цели Москва основала в июле 1921 г. на Третьем конгрессе Коминтерна подчиняющееся ИККИ формирование, названное Красным Интернационалом Профсоюзов, или Профинтерном. [По данным Lewis L. Lorwin (Labor and Internationalism. New York, 1929. P. 229—231), отдельная профсоюзная организация была создана в угоду французским синдикалистам, не желавшим подчиняться Коминтерну как политической организации. Коминтерн создал еще несколько марионеточных организаций, формально от него независимых, например Красный молодежный интернационал (1919), Спортивный интернационал (1921), Крестьянский интернационал (1923).]. Его задачей было отвлечь представителей организованного труда от участия в Международной федерации тред-юнионов, которая являлась членом Социалистического Интернационала, имела штаб-квартиру в Амстердаме и представляла более 23 млн рабочих Европы и США90. Профинтерн встретил большие трудности на пути к внедрению в профсоюзные организации на Западе, поскольку они были всецело преданы идее улучшения экономических условий для своих членов и не интересовались участием в революции. Большой успех его ожидал лишь во Франции, где оказались сильны традиции синдикализма. Самая крупная французская профсоюзная организация, Общая конфедерация труда, в 1921 г. раскололась, вслед за чем прокоммунистическое меньшинство вступило в Профинтерн.
В прочих странах коммунистам удавалось откалывать от социалистического движения только небольшие группировки91. Группировки эти в основном принадлежали к идущим на спад или нестабильным экономическим секторам и захиревшим предприятиям, таким, как второстепенные угольные разработки в Британии и некоторые порты Австралии и США. Только они становились опорой коммунистам в странах Запада, подобно тому, как Первый Интернационал нашел поддержку в Британии лишь в уходящих в прошлое ремеслах, редко вызывая симпатии рабочих на типично капиталистических современных промышленных предприятиях. В странах континентальной Европы в 1930-х коммунистам приходилось ориентироваться на мелкие производства, потому что на крупных они встречали трудности: «Чем больше фабрика, тем слабее на ней влияние коммунистов; на индустриальных гигантах оно вообще незначительно»92.
Попытка Коминтерна взять под контроль организованный труд в Европе (согласно статье 9 из сформулированных им 21 условия) закончилась неудачей: «В течение следующих пятнадцати лет (1920—1935) коммунисты на Западе не смогли завоевать ни одного профсоюза»93.
Фиаско изумило и обозлило российских коммунистов. В основном оно явилось следствием культурных различий, которые они улавливали с таким трудом, поскольку сами были взращены на идеологии, представлявшей классовую борьбу единственной социальной реальностью. Предупреждения со стороны зарубежных товарищей, что в Европе иные обстоятельства, воспринимались в России как неубедительная попытка оправдаться за бездействие. Однако, как снова и снова показывал опыт, европейские рабочие и крестьяне не были ни анархистами, ни людьми, чуждыми патриотических чувств, — то есть не обладали теми качествами российского населения, которые так облегчили задачи большевиков в этой стране. Даже в относительно отсталой Италии с ее развитым духом радикального социализма было трудно возжечь революционный пыл. В августе и сентябре 1920 г., когда по всей стране проходили крестьянские волнения и фабричные забастовки, лидеры профсоюзов практически единодушно выступили против революции и не стали поднимать восстания, когда правительство принялось силой наводить порядок. Здесь, как и в других государствах Европы, решающим фактором оказались не «объективные» социальные или экономические условия, вполне подходившие в данном случае под описание революционных, но другой, неуловимый фактор — политическая культура94.
Говоря об антиреволюционном духе западноевропейских рабочих, следует принимать во внимание, что в развитых промышленных странах им было доступно социальное обеспечение, придававшее ощущение устойчивости их положению.
В Германии после прихода «государственного социализма» Бисмарка рабочим гарантировалось пособие по болезни и при несчастном случае, пенсия по старости и нетрудоспособности. В Англии страхование на случай безработицы было введено в 1905 г., пенсии по старости — в 1908-м. Закон о государственном страховании, принятый в 1911-м, предусматривал обязательные льготы для малообеспеченных рабочих за счет правительственных отчислений, средств нанимателей и рабочей кассы, в которые входили медицинское обслуживание и пособие по безработице. Рабочие, получавшие подобную поддержку от государства, не проявляли готовности его свергнуть и рискнуть сменить уже полученные ими от «капитализма» льготы на возможно более щедрые, но гораздо менее безусловные блага социализма. Большевики не принимали во внимание этого обстоятельства, поскольку в дореволюционной России не существовало ничего подобного.
Анализ коммунистического движения в Европе показывает, что в течение первого года после Второго конгресса Коминтерна были достигнуты значительные успехи. К концу 1920 г. коммунистам удалось, по крайней мере формально, прибрать к рукам большую часть Итальянской социалистической партии, более половины состава Французской. У них оказалось много последователей в Германии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Польше95. Все соответствующие партии приняли 21 условие и предоставили себя таким образом в распоряжение Москвы. Если бы Ленин проявил большее уважение к европейской традиции политического компромисса и национализма, влияние Коммунистического Интернационала очень сильно бы возросло. Но он был привычен к российским традициям, где жесткое управление решало все, а патриотизм — ничего. Бестактное вмешательство Ленина во внутренние дела европейских коммунистических партий, склонность прибегать к интригам и клевете в каждом случае, когда с ним осмеливались не согласиться, вскоре заставили отвернуться от него самых идеалистических, самых преданных последователей. Их место заняли оппортунисты и карьеристы — ибо кто еще согласился бы работать по правилам, навязанным Москвой, когда самостоятельность мышления и следование голосу совести расценивались как измена?
Еще одним фактором, послужившим деградации коминтерновских деятелей, явились деньги. Анжелика Балабанова изумлялась тому, с какой легкостью Ленин готов был тратить столько, сколько требовалось, чтобы купить последователей и их поддержку. Когда она сообщила ему о своих сомнениях, он ответил: «Умоляю Вас, не экономьте. Тратьте миллионы, много, много миллионов»96. Деньги, вырученные от продажи российского золота и царских драгоценностей, окольными путями, с помощью спецкурьеров и советских дипломатических агентов, доставлялись западным коммунистическим партиям и «попутчикам». [Центральная фигура среди американских коммунистов, Луис Фрайна, признавался, что получил в Москве 50 000 долларов, из которых 20 000 долларов или больше передал английскому коммунисту Джону Мерфи (см.: Draper T. Roots of American Communism. New York, 1957. P. 294). Фрайна являлся редактором начавшего выходить в США в 1919 г. журнала «The Revolutionary Age», где восхвалялись Ленин и Троцкий; возможно, часть денег шла на это издание.]. Как еще будет сказано, в 1920 г. в Англию двумя советскими дипломатами, Красиным и Каменевым, были ввезены десятки тысяч фунтов стерлингов, предназначенных для финансирования дружественной левой газеты и разжигания волнений среди промышленных рабочих. Москва использовала и другие каналы, многие из которых остаются неизвестными и по сей день. Есть сведения, однако, что в Англии одним из агентов при перевозке денег служил Федор Ротштейн, гражданин Советской России и впоследствии ее посланник в Иране, а также главный агент Коминтерна в этой стране, лично передававший кремлевские деньги британским коммунистам97. После 1921 г., когда Москва установила торговые отношения с западными странами, советские торговые представительства стали служить дополнительными каналами для перекачивания средств. Операции производились под большим секретом, и мы мало о них знаем, но, судя по всему, практически все компартии и многие прокоммунистические группы кормились от московских щедрот: по мнению французского коммуниста, только его партия не жила «московской манной»98. Заявление это подтверждается внутренним финансовым отчетом Коминтерна, согласно которому денежные субсидии в российской и иностранной валюте, а также «ценности» (в основном золото и платина), щедро раздавались в 1919 и 1920 гг. коммунистическим партиям Чехословакии, Венгрии, США, Германии, Швеции, Англии и Финляндии. [Документ представляет собой две страницы написанного от руки текста, с конца 1920-х хранится в РЦХИДНИ (Ф. 495. Оп. 82. Д. 1. Л. 10). Просьбу финских коммунистов прислать 10 млн. финских марок в золоте, платине и прочих драгоценностях с личной резолюцией Ленина см. также: РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1299.]. Субсидии обеспечивали Москве контроль над соратниками в Европе; в то же время они приводили к тому, что качество руководства этими партиями ухудшалось.
Одной из причин той наглости и жестокости, с которой Москва обращалась со своими западными последователями, было убеждение, что революция в Европе надвигается и что только методы, применявшиеся в России, принесут успех. «Большевики просто считали, что партии не полностью коммунистические могут последовать примеру колеблющихся, и это помешает им воспользоваться революционной возможностью взять власть, как это сделали большевики в 1917-м, установить советскую диктатуру пролетариата»99. Это великодушное объяснение. Лицо не менее авторитетное, Анжелика Балабанова, считала, что за подобным поведением лежит иной мотив, а именно желание достичь власти. Размышляя над поведением своих русских соратников, она неохотно приходит к выводу, что ими движет не забота о пользе дела, а стремление доминировать в европейском социалистическом движении. Враждебность Зиновьева в отношении к Серрати и настойчивость, с какой тот добивался изгнания последнего, заставляет ее думать, что «целью являлось не истребление правых элементов, но устранение самых влиятельных, самых видных членов [движения], чтобы проще было манипулировать оставшимися. Для того чтобы подобная манипуляция стала возможной, всегда следует иметь две группы, которые можно натравливать друг на друга»100. Мстительность, с какой Ленин добивался раскола западного социалистического движения и изгнания из Коминтерна деятелей, имевших наибольшее число сторонников, оставляя послушных прихлебателей, говорит она, исходила непосредственно из желания установить гегемонию Москвы — то есть его, Ленина, — над западными социалистическими партиями. Подозрение подкрепляется письмом, написанным Сталиным в 1924 г. коммунистическому немецкому издателю: «Победа германского пролетариата несомненно переместит центр мировой революции из Москвы в Берлин»101.
Поскольку все попытки российских коммунистов воспользоваться революционной ситуацией в Европе окончились провалом, единственным наследием ленинской стратегии стали попытки расколоть и, таким образом, ослабить социалистическое движение. Это позволило, в свою очередь, радикальным националистам в нескольких странах, особенно в Италии и Германии, сокрушить социалистов и установить тоталитарные диктатуры, при которых коммунистические партии оказались вне закона и которые обратились против Советского Союза. Так в конце концов ленинская политика привела к тому, чего он больше всего хотел избежать.
* * *
Основное внимание Коминтерн уделял развитым промышленным странам, однако интересовался и колониями. Работа Д.А.Гобсона «Империализм» (1902) задолго до революции убедила Ленина, что колониальные владения имеют большое значение для развитого, или «финансового», капитализма, который смог выжить только потому, что колонии снабжали его дешевым сырьем и предоставляли ему дополнительные рынки сбыта готовой продукции. В книге «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916) Ленин развивает мысль, что этот экономический строй не смог бы выжить без колоний, поскольку на получаемую оттуда прибыль он «подкупает» рабочих. Вот почему «национально-освободительное движение» в этих регионах может ударить по самому чувствительному месту.
Непосредственно после захвата власти большевики выпустили пламенные воззвания к «народам Востока», побуждая их восстать против чужеземных хозяев. Коммунисты из мусульманских районов Советской России, горстка секуляризированной интеллигенции, оказались задействованными в качестве посредников. Обращаясь к съезду коммунистов мусульманских республик, собравшемуся в Москве в ноябре 1918-го, Сталин говорил: «Никто не мог бы перекинуть мост между Западом и Востоком так легко и быстро, как вы. Ибо для вас открыты двери Персии и Индии, Афганистана и Китая»102.
Проблема с подготовкой почвы для марксистской революции на Востоке (под этим подразумевались Ближний Восток, Дальний Восток и даже то, что впоследствии стало называться «Третьим миром») состояла в отсутствии там промышленного рабочего класса. Чтобы приспособиться к этому обстоятельству, Ленин обратился в Коминтерн с просьбой принять колониальную программу, построенную на двух посылках: 1) колонии могут перескочить этап капиталистического развития и перейти сразу от «феодализма» к «социализму» и 2) ввиду малочисленности революционного элемента на Востоке ему следует выступать объединенным фронтом совместно с национальными «буржуазными националистами» против империалистов.
Вторая идея мало понравилась радикальной интеллигенции из колониальных регионов, поскольку для них национальная «буржуазия» казалась ничем не лучше завоевателей-империалистов. По этому вопросу разразились едкие дебаты на Втором конгрессе Коминтерна103. Первоначальные тезисы Ленина гласили, что «Коммунистический Интернационал должен идти во временном союзе с буржуазной демократией колоний и отсталых стран, но не сливаться с ней и безусловно охранять самостоятельность пролетарского движения даже в самой зачаточной его форме»104. Российские социал-демократы приняли подобную двойственную политическую установку с легкостью, поскольку проводили ее в отношении собственной «буржуазии» еще с 1890-х. Делегаты из Азии, однако, нашли ее неприемлемой. Выступавший от их имени индус М.Н.Рой требовал, чтобы коммунисты вступали в антиимпериалистическую борьбу единолично, рассматривая и зарубежных империалистов, и национальную буржуазию как общего врага. Коммунистов из Азии было так мало, что Ленин с готовностью проявлял по отношению к ним большую терпимость, нежели к делегатам с Запада, поэтому он согласился внести небольшие изменения в формулировку своих тезисов. Однако в том, что касалось принципиальных вопросов, он не шел ни на какие уступки. Основное внимание должно быть направлено на крестьянство, но одновременно, настаивал Ленин, коммунистическим партиям колониальных стран следует «активно поддерживать освободительные движения». Он хотел, чтобы коммунисты «особенно бережно и внимательно относились к национальным чувствам, какими бы отсталыми те ни были, в тех странах и у тех народов, которые долго находились в рабстве», и «вступали во временное сотрудничество с революционным движением колоний и отсталых стран, даже заключали союз... однако никогда не сливались с ними»105.
Для содействия революции в колониях советское руководство созвало в сентябре 1920 г. в Баку Съезд народов Востока, на который прибыло 2000 делегатов — коммунистов и сочувствующих — из Советской Азии и зарубежных азиатских стран. Когда Зиновьев призвал к джихаду против «империализма» и «капитализма», объединенные неистовым вдохновением делегаты стали махать в воздухе саблями, кинжалами и револьверами. Съезд этот не имел никакого продолжения, и весьма трудно уяснить, каковы были плоды его работы106.
Практические трудности осуществления коминтерновской тактики сотрудничества с «буржуазными» националистическими движениями не замедлили выйти на поверхность в отношениях Советской России с Турцией. Сразу после капитуляции последней в ноябре 1918 г. войска союзников заняли ее столицу, Константинополь. Интервенция породила движение национального освобождения, которое возглавил Кемаль Паша (Ататюрк), сформировавший в сентябре 1919 г. в Анатолии повстанческое правительство. Кемаль был преисполнен решимости изгнать иностранные армии со своей земли и, поскольку силы его оказались невелики, стал искать сближения с Советской Россией. 26 апреля 1920 г., через три дня после того, как он провозгласил себя президентом Турецкой республики, Кемаль предложил Москве совместно бороться против «империалистов»107. Плодами этой инициативы в виде нейтралитета, которого придерживалась Турция, воспользовалась Красная Армия, когда завоевывала одну за другой и присоединяла к РСФСР республики Азербайджан, Армению и Грузию. Турцию Москва вознаградила, отдав Кемалю незначительные армянские территории (Каре и Ардаган). 16 марта 1921 г. был подписан советско-турецкий Договор о дружбе, где говорилось, что две страны впредь ведут совместную войну против «империализма»108.
Казалось, оформление такого сотрудничества доказывает правильность ленинской колониальной стратегии. Однако возникла большая проблема: в то время как Кемаль любыми средствами изыскивал возможность заручиться поддержкой Москвы в его борьбе против Запада, он не собирался терпеть коммунистов на собственной территории. Немногочисленную Компартию Турции возглавлял Мустафа Субхи, член Коминтерна и председатель Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Субхи был послан из Москвы в Турцию в ноябре 1920 г., чтобы взять на себя заботы о здешней компартии, возникшей в начале того же года. Через два месяца он и пятнадцать его товарищей были найдены убитыми при обстоятельствах, намекавших на ответственность за происшедшее правительства Кемаля. Советские власти и ИККИ осудили злодеяние, но не пожелали, чтобы инцидент отразился на взаимоотношениях правительств двух стран109. В этом случае, как и во всех остальных, интересы РКП(б) и советского государства возобладали над интересами зарубежной компартии. Кемаль создал государство, в котором Республиканская народная партия стала единственной легальной политической организацией в стране, и Национальная ассамблея оказалась заполнена исключительно ее представителями (1923—1925). Сам он стал первым в череде национальных диктаторов, принимающих коммунистическую модель однопартийного государства, но отказывающихся от коммунистической идеологии110.
Москва не оставила попыток экспортировать коммунизм в страны Третьего мира и пользовалась любой возможностью, чтобы создавать фиктивные «советские республики» возле их границ, рассматривая их как «окна» для проникновения на смежные территории. Так, например, в Гилане, в северозападной Персии, она поддержала националистическое, но «прогрессивное» движение, возглавлявшееся Мирзой Кучук Ханом, восставшим против Тегерана. В мае 1920 г. советские войска под командованием Ф.Ф.Раскольникова, некогда предводителя кронштадтских большевиков, оккупировали столицу провинции Решт и объявили Гилан советской республикой. Кучук Хан обменялся приветствиями с Лениным и Троцким; советская пресса с энтузиазмом расписывала новые победы коммунизма на Востоке. Тем не менее, когда Москве вскоре пришлось делать выбор между марионеточным режимом в Гилане и правительством Персии, она не задумываясь пожертвовала Кучук Ханом. В феврале 1921 г. Москва и Тегеран подписали Договор о дружбе, согласно которому России пришлось вывести свои войска с территории Персии. Как только Красная Армия вышла из Гилана (это произошло в сентябре 1921 г.), его заняли персидские войска и авантюре был положен конец. Кучук Хана повесили111. Последний опыт убедил Сталина, одной из обязанностей которого было присматривать за делами на Ближнем Востоке, что коммунистическая революция в бывших колониях нереальна. «В Персии, — писал он Ленину, — возможна лишь буржуазная революция, опирающаяся на средние классы, с лозунгом: изгнание англичан из Персии... соответствующие указания даны иранским коммунистам»112.
Успех сопутствовал Москве на Дальнем Востоке. Воспользовавшись слабостью Китая и незаинтересованностью остальных стран в Монголии, этой отсталой и удаленной стране, она учредила там в ноябре 1921 г. марионеточную республику Внешняя Монголия. В результате этого завоевания Россия получила удобный плацдарм для продвижения дальше, в Китай. Присваивая принадлежащие Китаю территории, Москва не забывала оказывать знаки внимания его правительству. В октябре 1920 г. в Россию прибыла дипломатическая миссия из Пекина, и Ленин сказал ее руководителю генералу Чжан Сылину, что «революция в Китае... вызовет неотвратимый крах мирового империализма». Генерал в ответной речи выразил уверенность в том, что «принципы истины и справедливости, провозглашенные советской властью, не могут исчезнуть, и рано или поздно они восторжествуют»113. Затем он заявил, что надеется увидеть Ленина президентом Мировой республики. Сближение между двумя странами было приостановлено протестами, вызванными у Китая советской оккупацией Внешней Монголии, а также заявлением Советов, будто Китай проводит в Монголии «империалистическую политику»114.
* * *
Если бы России в ее внешнеполитических предприятиях приходилось опираться только на коммунистов, перспективы ее были бы невелики: весной 1919 г., когда создавался Коминтерн, в Англии можно было отыскать больше вегетарианцев, а в Швеции — нудистов, чем коммунистов. К 1920— 1921 гг. число сторонников Третьего Интернационала за рубежом значительно возросло, но и тогда их было слишком мало, чтобы говорить о каком-то их влиянии на политику других государств в отношении России. Успехами за рубежом, особенно на Западе, которыми Москва могла бы похвалиться в начале 1920-х, она была обязана в основном либералам и «попутчикам», тем людям, которые оказывались готовы поддержать советское правительство, не вступая в рады коммунистов. В то время как либералы отвергали и теорию, и практику большевизма, соглашаясь с некоторыми моментами в них, попутчики положительно оценивали его как феномен, однако не хотели ограничивать себя строгой партийной дисциплиной. И те, и другие оказывали Советской России бесценные услуги во время, когда она, изолированная ото всех, противостояла остальному миру.
Связь между либерализмом и революционным социализмом была проанализирована в главе о русской интеллигенции115. Связь эта основывается на общей для обеих идеологий вере, будто человечество сформировалось и продолжает формироваться исключительно путем сенсорного восприятия (то есть не имеет заведомо присущих ему идей и ценностей), а потому может достичь морального совершенства только вследствие преображения окружающей его действительности. Расхождения начинаются при обсуждении средств достижения этой цели: либералы предпочитают добиваться желаемого результата постепенно, мирным путем, через реформу законодательства и образования, в то время как радикалы предпочитают скорое и насильственное разрушение существующего порядка. При этом психологически либералы занимают охранительную позицию в отношении собственно радикалов, поскольку те более откровенны и готовы идти на риск — либералам никак не удается избавиться от чувства вины, возникающего оттого, что они только говорят, в то время как радикалы действуют. Либералы, следовательно, предрасположены к тому, чтобы защищать и отстаивать революционный радикализм, а при необходимости и помогать ему, даже если они и отвергают методы последнего. Подобное отношение западных либералов к коммунистической России не сильно отличалось от отношения российских социал-демократов к большевикам до и после 1917-го — ему сопутствовала некая интеллектуальная и эмоциональная «шизофрения», сыгравшая такую большую роль в ленинском триумфе. Русские социалисты в эмиграции закрепили эту установку. Призывая западных социалистов осудить «террористическую диктатуру» Компартии, они тем не менее настаивали, что «долгом рабочих всего мира» было «отдать все свои силы борьбе против попыток империалистических держав вмешаться во внутренние дела России»116.
Подавляющее большинство тех, кто говорил от имени западных либералов и попутчиков, принадлежали к интеллигенции. Несмотря на все его отталкивающие черты, большевистский режим импонировал им, поскольку являлся первым со времен Французской революции правительством, отдавшим власть людям их сословия. В Советской России интеллигенция могла экспроприировать собственность капиталистов, казнить политических противников, выступать против реакционной мысли. Не имевшие опыта власти, интеллектуалы выказывали тенденцию чудовищно переоценивать ее возможности. Наблюдая за коммунистами и попутчиками, съезжавшимися в Москву в 1920-х, несмотря на нищенские условия жизни и круглосуточную слежку, которой их там подвергали, американский журналист Юджин Льонс писал: «Только что выбравшиеся из городов, где их презирали и преследовали, они впервые подступили к источнику власти, и хмель ударил им в голову. Это была не призрачная власть руководства гонимой подпольной революционной партией, но — заметьте! — власть, воплощенная в армиях, самолетах, полиции, беспрекословном подчинении простого люда, власть, выливающаяся в прозрение о грядущем мировом господстве. Сбросив с себя и риск, и ответственность, отягощавшие дома их труды, они востребовали должностей, карьеры, привилегий, и их аппетиты не знали ни меры, ни закона... Человек, не имевший отношения к революционному движению в собственной стране, не может понять того всеобъемлющего возбуждения, с которым западный радикал воспринимает реалии установленного и действующего пролетарского режима. Или вдохновения, с каким он наконец встает лицом к лицу со знаками и символами этого режима. Это что-то вроде самоосуществления, пьянящего отождествления со Властью. Фразы, и картины, и краски, мелодии и повороты мысли, соединявшиеся в моем сознании с годами пылкого упования, даже самопожертвования, теперь окружали меня повсюду, им отводилось почетное место, они преобладали над остальным, обладали бесконечной властью!»117.
Уверенные в своих способностях управлять делами лучше, чем политики и предприниматели, они идентифицировались с советскими властями, даже критикуя их, стремясь удвоить и улучшить достигнутое ими. Какие бы ошибки ни совершали Ленин, Троцкий, Зиновьев, Радек или другие комиссары — с ними у этих людей складывались отношения, каких они никогда не могли бы установить с Клемансо, Вильсоном и Ллойд Джорджем. Именно это ощущение личной причастности заставляло многих западных интеллектуалов симпатизировать российскому коммунизму, игнорируя, сводя на нет или оправдывая его неудачи, и оказывать давление на свои правительства, пытаясь принудить с ним договориться.
Большевикам потребовалось некоторое время, чтобы осознать всю пользу либералов и попутчиков. Посетителям, приезжавшим в Москву из западных стран с дружественными намерениями, приходилось преодолевать непонимание Лениным ситуации, сложившейся в послевоенной Европе, его глубоко укорененное недоверие к либералам, пытаясь убедить его, что во многих странах, включая Англию, они, а не коммунисты, могут много сделать для России. Они были правы. В то время как коммунисты устраивали бессмысленные путчи, либералы помогали предотвратить военную интервенцию и экономические эмбарго против Советов, прокладывали путь к торговым и дипломатическим соглашениям с ними.
Примеры могут проиллюстрировать тогдашние умонастроения западных либералов лучше, чем любые обобщения. [В данном случае мы называем либералами социалистов-демократов.]. Мы уже говорили о том, насколько решительно Лейбористская партия Британии и съезд тред-юнионов пресекли попытку компартии вступить в их ряды. В 1920 г. лейбористская партия и съезд тред-юнионов направили в Советскую Россию миссию для сбора фактов. Желая обеспечить такое положение дел, при котором иностранные гости смогут вынести благоприятные впечатления от визита, но не сумеют заразить российских рабочих тред-юнионистскими идеями, Ленин отдал ЦК распоряжение выработать соответствующие инструкции. Советской прессе надлежало организовать систематическую кампанию по «разоблачению» гостей как «социал-предателей, меньшевиков, участников английского колониального грабежа и пр.», следовало также подобрать рабочих, которые стали бы задавать гостям «острые вопросы». Травля должна была быть организована в «архивежливых» формах. Прибывших британцев внешне, в целом, принимали хорошо, однако им не предоставлялось возможности ознакомиться с истинными чувствами русских рабочих, поскольку, опять же по ленинскому приказу, их постоянно сопровождали специальные «надежные» переводчики118.
Среди членов делегации находилась Этель Сноуден, жена видного лейбориста и член левой фракции Международной лейбористской партии. Умная, одаренная острой наблюдательностью женщина, она твердо вознамерилась узнать правду. Подобно своему мужу и немногим среди британских социалистов и тред-юнионистов, она не симпатизировала коммунистической идеологии, октябрьскому перевороту и большевистской диктатуре. Госпожа Сноуден увидела изнанку советской жизни: бесправие, террор, социальное неравенство, мнимую демократию. Встреча с Лениным не изменила ее мнения: он произвел впечатление жестокого фанатика, «догматичного профессора политологии». Из России она выехала, преисполненная теплых чувств к народу, но для коммунистов в ее записках не нашлось доброго слова. Книгу, которую Этель Сноуден выпустила по возвращении в Англию, в Москве сочли враждебной119. И тем не менее... посреди уничтожающего описания коммунистического разгула мы встречаем апологию, идущую не от ума, а от сердца, поскольку она никак не связана с теми фактами и наблюдениями, на которые опирается все повествование: «Местоположение правительства — Москва. Это дом комиссаров. Это арена, на которой разворачивается удивительнейший эксперимент, какого еще не знал современный мир. Это место, куда приковано внимание всего дивящегося мира. Это точка опоры потрясающих мир событий. И она заслуживает того, чтобы к ней относились с уважением, а не с тем невежественным презрением, которое изливают на нее глупцы. Здесь совершались ошибки, здесь творятся жестокие дела; однако ошибки эти не больше, а жестокость не чудовищнее, чем ошибки и жестокости, творимые и совершаемые в других столицах людьми, которые, если оценить их характер, цельность, способности и личные дарования, не достойны завязать шнурки на ботинках лучших мужчин и женщин Москвы»120. Автор сумела убедить себя — возможно, не без помощи хозяев столицы, — что многие, если не практически все, отталкивающие стороны коммунистической жизни явились следствием враждебного отношения Запада к Советской России. Если Запад перестанет вмешиваться во внутренние дела этой страны и будет помогать ей продовольствием, одеждой, медикаментами, техникой — всем, в чем она так отчаянно нуждается, — Россия превратится в то, чем «ей суждено было стать еще при основании мира — великим вождем гуманитарных движений на планете»121.
Составленный британской делегацией официальный отчет грешит той же противоречивостью. Его авторам попалось на глаза меньше материала для критики, чем госпоже Сноуден, и то, что им не понравилось, они отнесли непосредственно к наследию царизма и следствиям враждебного отношения со стороны союзных держав. Россия, объясняется в отчете, просто еще не доросла до демократии: «Можно ли при имеющихся обстоятельствах управлять Россией иначе — стоит ли, в частности, ожидать, что здесь возможен нормальный демократический процесс, — на этот вопрос, нам кажется, мы не способны ответить с полной компетентностью. Насколько нам известно, не имеется никакой практической альтернативы, кроме фактического возврата к самодержавию; "сильное" правительство — это единственный тип управления, с которым знакома Россия; когда же к власти в 1917 г. пришли противники советского правительства, они начали репрессии против коммунистов... У русской революции не было еще шанса показать себя. Мы не можем сказать, стал ли бы успешным этот частный социалистический эксперимент в нормальных условиях или потерпел поражение. Сложившиеся здесь условия оказались таковы, что сделали задачу социальных преобразований необычайно трудной, кто бы ни брался за ее решение и какие бы средства ни привлекались. Мы не можем закрыть глаза на то, что ответственность за создание подобных условий, следствия иностранного вмешательства, лежит не на русских коммунистах, но на капиталистических правительствах других стран, включая и нашу»122. В заключение высказывалась мысль, что ввиду переживаемых Советской Россией внутренних трудностей она не может представлять собой серьезную угрозу для Запада. [Во время визита в Советскую Россию британская делегация потребовала устроить ей встречу с социалистической оппозицией. На организованном хозяевами мероприятии сильное впечатление произвело появление Виктора Чернова: он в течение длительного времени прятался от ЧК и буквально умирал от голода. Очевидцы рассказывают, что он заклеймил большевиков как «растлителей революции и заявил, что их тирания хуже царской» (Berkman A. The Bolshevik Myth. London, 1925. P. 150; Snowden P. Through Bolshevik Russia. London, 1920. P. 160). Британская делегация расценила появление Чернова на встрече как мужественный поступок, однако его критика коммунистов не произвела на нее большого впечатления. После встречи Чернову снова удалось скрыться от ЧК, вследствие чего его жену и 11 -летнего ребенка посадили в тюрьму как заложников (Braunthal J. History of the International. New York, 1967. Vol. 2. P. 223)].
Не так уж отличались от этого и выводы, сделанные Гербертом Уэллсом, автором «Машины времени», пылким прозелитом научной утопии, посетившим Россию по приглашению Льва Каменева в сентябре 1920 г. Писателя потрясло жалкое состояние Петрограда, который он помнил еще Петербургом, живым и элегантным. Под властью большевиков, решил он, Россия «понесла чудовищный невосполнимый урон»123. Хотя Уэллс не мог сказать ничего хорошего о социалистической доктрине — Маркс, по его словам, был «занудой самого экстремистского толка», а «Капитал» — «памятником претенциозного педантизма», у него тем не менее возникло ощущение, будто в том, что он для себя назвал «величайшим крахом в истории», нельзя винить большевиков. Коммунизм, рассуждал Уэллс, стал результатом разрухи; ее же причиной являлись империализм и упадок царской России: «Россия впала в свое теперешнее убожество вследствие мировой войны и из-за моральной и интеллектуальной ограниченности правящих и состоятельных классов... Коммунистическая партия, как бы критически мы к ней ни относились, воплощает идею, и можно быть уверенным, что она от этой идеи не отступится. До сих пор она оставалась морально выше всех, кто когда-либо выступал против нее»124. Занимавшие антибольшевистскую позицию русские эмигранты казались Уэллсу «политиканствующими презренными» распространителями не заслуживающих доверия «бесконечных историй о "бесчинствах большевиков"». Несмотря на то, что знакомые в России предупреждали писателя не принимать на веру того, что ему говорят, он вернулся на родину в убеждении, будто «лучшая часть образованного населения России... постепенно вступает, хотя и неохотно, в честное сотрудничество с большевистским режимом»125. Он рекомендовал дипломатически признать коммунистическое правительство и гарантировать ему экономическую помощь — ту «полезную интервенцию», которая, безусловно, умерит эксцессы советской власти. Как и в случае госпожи Сноуден, в какой-то момент объективность наблюдателя была забыта, а на первый план вышли оценки и рекомендации, основанные исключительно на вере.
Одним из первых иностранных посетителей Советской России был Уильям Буллит, прибывший в марте 1919 г. по заданию президента Вильсона с конфиденциальной миссией. Приехавший всего на неделю и не говорящий по-русски, Буллит вынужден был ограничиваться официальной информацией. Это не помешало ему, однако, вернувшись домой, делать самые поразительные обобщения относительно страны и ее правительства126. В том же году он подвел итог своим наблюдениям: «Разрушительная фаза революции закончилась, вся энергия правительства направлена на созидательную работу». ЧК не занималась больше террором: она лишь проверяла подозреваемых в контрреволюционной деятельности. Народ, судя по всему, в массе поддерживал власти и компартию и «всю вину за разруху возлагал на блокаду и осуществляющие ее правительства»127. Россию следует оставить в покое, и тогда внутренние силы вызовут желательные перемены.
Подобные оценки — критические в частностях, безусловно сочувственные в заключениях — характерны для западных либералов 1920-х. Независимо от того, что делали большевики — нарушали ли демократические предписания социал-демократии, подвергали ли гонениям собратьев-социалистов, — для европейских социалистов они продолжали оставаться «товарищами». Подобная слепота была вызвана убеждением, что любое движение, провозглашающее социалистические идеалы, является и на деле социалистическим: лозунги заслоняли собою действительность. Октябрьская революция стала для них явлением величественным: по словам Карла Каутского, строжайшего из критиков Ленина среди социалистов, этого архи-«ренегата», «впервые в мировой истории она поставила социалистическую партию во главе великой державы»128. С точки зрения австрийского социалиста Отто Бауэра, «диктатура пролетариата в России была не подавлением демократии, но фазой развития в сторону демократии»129. Подобно их соратникам в России в 1917-м, демократы-социалисты воспринимали все антибольшевистское как антисоциалистическое, а потому прежде всего чувствовали в нем враждебность по отношению к себе. Исходя из таких посылок только им, социалистам, чьи помыслы были чисты, дано было моральное право критиковать коммунистов.
Двойственное отношение европейских социалистов к коммунизму нашло отражение в сбивчивом разъяснении политики лейбористской партии, данном в 1919 г. Рамсеем Макдональдом, ставшим через пять лет после того главой первого в истории Британии лейбористского кабинета: «То, что мы поддерживаем русскую революцию, вовсе не означает, будто мы принимаем чью-то сторону, за или против Советов или большевиков. Мы признаем, что во время революции якобинство должно иметь место, однако, если якобинство становится злостным, способ бороться с ним — помочь стране устроиться, революции привиться»130. Разъяснение это, если в нем вообще можно усматривать хоть какой-то смысл, могло значить только одно: до тех пор, пока народ Советской России не подчинится большевистской диктатуре, осуществляемый большевиками террор является и неизбежным, и законным.
Прокоммунистическая идеология, которой придерживались либералы и социалисты, в значительной мере, а иногда и решающим образом определялась соображениями внутриполитического порядка — то есть, желанием использовать Советскую Россию как козырь в борьбе с консерваторами у себя в стране. Даже отказавшись принять коммунистов в свои ряды, британские лейбористы объединились с ними в негласном союзе против общего врага, партии тори. Они выступали против интервенции в Россию не только потому, что она, по их мнению, была направлена против социализма, но и по другой причине: подобная кампания позволяла им продемонстрировать воинствующую антилейбористскую позицию британского правительства. В начале 1920-х лейбористская партия последовательно поддерживала взятый Россией внешнеполитический курс, даже когда он наносил урон национальным интересам Британии, как это было в случае подписания Рапалльского договора с Германией. Основополагающий принцип был прост: «Противник лейбористской партии оказался также и врагом русских; разумно поэтому самой партии стать другом России»131. С этой точки зрения, то, что происходило в стране Советов, было делом второстепенной важности.
Эксплуатация российского коммунизма в целях решения внутриполитических проблем была свойственна не только либералам. В Соединенных Штатах изоляционисты вроде сенаторов Бора и Лафолетта превратились в апологетов Советского Союза по аналогичной причине: «Группа американцев защищала Советский Союз не потому, что придерживалась той же идеологии, а оттого, что была враждебно настроена по отношению к мотивам и действиям Америки. В течение следующего десятилетия [1920-х] эти изоляционисты занимали ту же кажущуюся аномальной позицию, призывая к терпимости и дипломатическому признанию большевистского режима»132. По мнению, высказанному в периодическом издании «The New Republic», «антиимпериалисты» (как левого, так и правого толка) «любили Россию из-за ее врагов»133. Ни одно американское издание не требовало более настойчиво признания Соединенными Штатами России и помощи советскому правительству, чем консервативная пресса Херста: в этом случае основанием для подобного поведения служила не симпатия к коммунистическому режиму, а нелюбовь к Европе, особенно Великобритании, и ненависть к Вашингтону. [В редакционной статье в нью-йоркском «American» за 1 марта 1918 г. подписавший ее Уильям Р.Херст отозвался о ленинском режиме как о «самой подлинной демократии в Европе, самой подлинной демократии в мире в настоящий момент». Этих взглядов он придерживался вплоть до начала 30-х годов, когда его симпатии переключились на гитлеровскую Германию (WershbaJ.// The Antioch Review. 1955. Vol. 1. P. 131-147)].
Далекие от коммунизма и даже антикоммунистически настроенные друзья такого рода оказались бесценным сокровищем для Москвы. Г.Д.Уэллс оказался совершенно прав, когда сообщил Петроградскому Совету: «Не к социалистической революции на Западе следует обращаться русским в поисках мира и помощи в нужде, но к либеральным убеждениям умеренного большинства народов Запада»134.
* * *
Иные мотивы, нежели у апологетов либерализма и социализма, были у «попутчиков». Термин этот, взятый Троцким из словаря российских социалистов и применяемый им для обозначения русских писателей, сотрудничавших с коммунистами, но не присоединявшихся к ним, стал распространяться впоследствии и на сочувствующих за рубежом. По мере того как о методах, применявшихся Коминтерном, узнавали все лучше и выяснилось, что все западные коммунисты действуют по указке Москвы, их начали воспринимать как советских агентов. Вследствие этого уменьшилось и доверие к ним, и их возможность оказывать влияние на общественное мнение. Попутчиков данное предубеждение не касалось — они действовали, или, по крайней мере, мнилось, что это так, — не из послушания иностранной державе, но по выбору собственной совести. Таким положением в глазах общественности пользовались, в частности и по преимуществу, видные западные интеллектуалы, чья литературная репутация, казалось, служила надежным гарантом порядочности и неподкупности. Просоветские высказывания таких известных романистов, как Ромен Роллан, Анатоль Франс, Арнольд Цвейг и Лион Фейхтвангер, а также видных ученых — Сидни и Беатрис Уэбб, Харольда Ласки — оказывали большое влияние на образованную западную публику. Несмотря на то что феномен «попутчиков» стал массовым явлением только в 1930-е, уже после наступления Великой депрессии и победы нацистов в Германии, первые его проявления относятся к началу 1920-х, когда Советская Россия впервые открыла двери перед симпатизирующими ей посетителями. Москва усердно культивировала попутчиков в среде зарубежных интеллектуалов, оказывала им знаки внимания и уважения, каких у себя дома они не удостаивались.
Со своей стороны, попутчики представляли коммунистическую Россию любознательному, но невежественному Западу как страну, где намеревались, несмотря на невообразимо тяжелые обстоятельства, построить первое истинно демократическое и эгалитарное государство в истории. Роль партии и службы безопасности при этом замалчивалась; Россия живописалась в виде общества, где политические решения демократически принимаются Советами, эдаким российским эквивалентом американских собраний избирателей для вынесения решений по городским делам. [По мнению М.Филлипса Прайса, русского корреспондента «Manchester Guardian» в 1920-е, «никто в то время не сознавал... что настоящим центром власти в России должно было стать не правительственное управление, но коммунистическая партия. Ленин в тот момент уже начал внедрять потихоньку партийных функционеров во все важные государственные органы, превращая партию таким образом в единственный источник власти» (Survey. 1962. № 41. Р. 22). Примечательным исключением явилась книга: Bach L. Le Droit et les Institutions de la Russie Sovietique, опубликованная в Париже в 1923. В США роль коммунистической партии в управлении Советской Россией, а также роль Коминтерна, впервые были подвергнуты публичному анализу сенатором Генри Доджем в январе 1924 г. на основании материалов, предоставленных Государственным департаментом (см.: Lasch С. The American Liberals and the Russian Revolution. New York-London, 1962. P. 216-217).]. Многое якобы было достигнуто в области социального, расового и полового равноправия, простым людям предоставлены уникальные возможности по освоению культуры и знаний. Для придания этим фантастическим картинам некоторого правдоподобия говорилось об отдельных недостатках, однако вина за них возлагалась на трудности, неизбежные при «попытке строительства Нового Иерусалима»135. Когда же миф о практически идеальной всенародной демократии уже невозможно оказалось поддерживать — а это случилось, когда на Запад просочилось больше сведений относительно истинного положения в Советской России, — все пороки системы и неудачи режима в отношении данных им обещаний свалили на наследие царизма. По словам московского корреспондента «New York Times» Уолтера Дюранти, являвшегося непосредственным источником всей необходимой американским попутчикам аргументации, какого совершенства можно было ожидать от страны, которая только что «избавилась от мрачнейшей тирании»136? Положим, в Советской России действительно диктатура, но ведь демократии не выучишься за один день, — в такой аргументации имелась бы известная доля правды, если бы страна на самом деле стремилась стать демократической.
Побудительные мотивы попутчиков оказывались разными, как и личности тех, кто совершал паломничество в Москву: «тревожные еретиканствующие профессора, атеисты в поисках религии, старые девы, ищущие компенсации в революционной деятельности, радикалы, жаждущие укрепить поколебленную веру»137. Анжелика Балабанова, служившая секретарем Коминтерна и знавшая процедуру досконально, вспоминает, что по приезде в страну все гости распределялись по четырем категориям: «поверхностный, наивный, честолюбивый, продажный»138. В действительности, разумеется, мало кто идеально соответствовал какой-либо одной категории. «Наивный» идеалист часто обнаруживал, что ему легче придерживаться веры, если наградой за это становится слава; «продажный» визитер получал большее удовольствие от своей прибыли, когда ей подыскивалось идеалистическое оправдание (например, «торговля способствует укреплению мира» или «торговля цивилизует»). Отец и сын Хаммеры, добившиеся наибольшего успеха в Москве в 1920-х американские предприниматели, «совмещали», по словам Юджина Льонса, «дело личного обогащения с удовольствием помогать России»139.
Материальная заинтересованность, причем не только в узкокоммерческом смысле, поставляла коммунистам все новые и новые жертвы. Готовность преданно следовать всем изгибам линии партии гарантировала писателю и художнику щедрую поддержку со стороны эффективной и хорошо финансируемой партийной пропаганды: с ее помощью многие литераторы средней руки становились известными, даже знаменитостями, а их книги издавались огромными тиражами. Можно привести в пример Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера, Элтона Синклера, Линкольна Стеффенса, Говарда Фаста, сочинения которых с течением времени впали во вполне заслуженное забвение. Английские писатели-попутчики получали доступ в Левый книжный клуб Виктора Голланца, который только в середине 1939 г., на пике своей известности, разослал просоветскую популярную литературу пятидесяти тысячам подписчиков. Произведения подобной ориентации, выпущенные издательством «Пингвин», раскупались стотысячными тиражами140. Это происходило в то время, когда «Слепящую тьму» разуверившегося коммуниста Артура Кестлера, со временем признанную классическим произведением, отпечатали в Англии первым тиражом в тысячу экземпляров, а затем в течение года продали только четыре тысячи141. «Скотный двор» Джорджа Оруэлла отвергли четырнадцать издателей, поскольку она показалась им слишком антисоветской142. Западные журналисты приобретали имя, получив аккредитацию в Москве, а стиль их жизни здесь выходил далеко за пределы того, на что могли рассчитывать их коллеги дома; для этого требовалось писать только то, что одобряло советское руководство: в противном случае их ожидало лишение аккредитации и изгнание из страны. И, конечно же, готовым рисковать и симпатизирующим режиму предпринимателям предоставлялась возможность заработать денег на торговле и концессиях. С точки зрения Москвы, «продажные» симпатизирующие являлись самыми надежными, поскольку, не имея идеалов, они оказывались нечувствительны и к разочарованиям.
Большая часть попутчиков относилась, вероятно, к категории «наивных». Они искренне верили всему, что читали и слышали, поскольку страстно желали избавить мир от войн и нужды, и игнорировали неблагоприятные сведения о советском режиме. Они верили, что человека и общество можно довести до состояния совершенства, а поскольку знакомый им мир был далек от него, эти люди с готовностью принимали рекламируемые им идеалы за коммунистическую реальность. Капитализм вызывал у них отвращение, он допускал нищету посреди изобилия, его внутренние противоречия порождали милитаризм и войны. Эстетов возмущала вульгарность современной им массовой культуры, а следовательно, не могло не привлекать декларированное коммунистами намерение нести «высокую» культуру в массы. Основоположник «Баухауса» Вальтер Гропиус писал в своеобразной непоследовательной манере: «Поскольку в настоящий момент у нас совсем нет культуры, а есть цивилизация, я уверен, что большевизм, несмотря на все отвратительные побочные продукты его деятельности, является единственным путем заложить в обозримом будущем фундамент новой культуры». [Цитируется по кн.: von Gleichen H. Der Bolschewismus und die deutschen intellektuellen.Leipzig, 1920.S.50.Ненависть к вульгарности современной коммерческой культуры могла, разумеется, принимать и иные формы, например англомании (ср., напр., Генри Джеймс и Т.С.Элиот).].
Истинным идеалистам трудно оказывалось приспосабливать свое восприятие к тому, чтобы неблагоприятная информация не доходила до их собственного сознания: им приходилось прибегать к разного рода психологическим уверткам, позволявшим не думать об очевидных, но не вписывающихся в общую картину отрицательных моментах. Возвращаясь к пережитому, многочисленные разочарованные коммунисты и попутчики оставили нам воспоминания о том, как происходил этот процесс. Артур Кестлер, живший в Советской России в начале 1930-х, во время массового голода и абсолютного попрания гражданских прав, выработал у себя привычку рационализировать все, что он видел и слышал, воспринимая советскую действительность как нечто не вполне реальное, так, что «дрожащая мембрана натянулась между прошлым и будущим»: «Я научился автоматически относить все, что шокировало меня, к "наследию прошлого", а все, что мне нравилось, — к "росткам будущего". Установив в голове подобный сортировочный автомат, в 1932 г. европеец все еще мог жить в России и тем не менее оставаться коммунистом»143.
Труднее всего идеалистам-попутчикам оказывалось смириться с тем, что вожди Советской России были не альтруистами и благодетелями человечества, а своекорыстными политиканами, причем необычайно жестокими. Поэтому идеалисты редко говорили о политической деятельности коммунистов — о роли партии в советской жизни, о фракционной борьбе, об интригах и доносах, которыми сопровождались «чистки», ставшие после того, как окончилась гражданская война, непременным атрибутом коммунистической жизни. Попутчики предпочитали рассуждать о коммунизме исключительно как о социальном и культурном феномене. Анна Луиза Стронг, одна из наиболее верных попутчиков сначала Москвы, а затем и Пекина, не могла признаться даже себе самой, что ее идолы боролись за личную власть, как это делают везде обычные политики, настолько занят был ее взор созерцанием высших целей коммунизма. С ее точки зрения, изгнание Троцкого из партии Сталиным не имело никакого смысла: «Я никогда не могла понять, почему его выгнали, — писала она. — Я не могла понять, какая разница была между двумя теориями. Каждый хотел строить эту страну, не так ли?»144. Даже когда Сталин превратился в абсолютного хозяина Советского Союза, подобные люди все-таки отрицали, что его диктатура имела политический характер: «Как это ни странно, попутчики стали жертвами собственного ума и образованности. Усвоив, в лучшем духе Просвещения, что у всего есть материальная причина и на все влияет среда, они не могли позволить себе поверить в этот фокус-покус обскурантистов», в мегаломанию и паранойю, овладевшую одним человеком145. Короче говоря, чем более умным и образованным оказывался человек, тем труднее становилось ему уловить истинную природу режима, не придерживавшегося никаких рациональных принципов, привычным образом прибегавшего к силе для решения разногласий, которые в нормальном обществе разрешаются путем нахождения компромисса или обращениями к электорату. Приспособиться к такому режиму было проще бедному и необразованному, кого опыт жизни постоянно учил воспринимать иррациональность и жестокость как неизбежное.
Попутчики подпадали под гипноз сталинской тирании: вместо того чтобы видеть в ней грубейшее нарушение демократии, на которую якобы притязали коммунисты, они воспринимали ее как гарантию идейной чистоты, поскольку, устранив политическую деятельность и сопутствующую ей отвратительную грызню, она позволяла большевикам сосредоточиться на том, что, по мнению попутчиков, являлось высшей целью движения. Парадоксально, что, как только партийно-советские вожаки после смерти Сталина начали сами признаваться в содеянных ошибках и преступлениях, попутчики толпами стали покидать их. Вскоре исчезло и само понятие. Для попутчиков-идеалистов самообман был необходимостью: они с готовностью закрывали глаза на тиранию и массовые убийства во имя высокого идеала, но не смогли принять более гуманной политики, ведь ее прагматизм лишал их утопической мечты.
Душа попутчика-идеалиста была полем вечного сражения. Многие из них, достигнув известного рубежа, не могли уже более игнорировать то, что происходило вокруг: для кого-то раньше, для кого-то позже наступал момент отрезвления. Толчком могло послужить изгнание Троцкого из партии, или процессы 1930-х, или подписание советско-нацистского пакта, или венгерские события. И в каждом случае это приносило не только болезненное осознание собственной неправоты, но и разрыв с группой единоверцев, к которой так долго принадлежал, остракизм и изоляция. Те, кто пережил этот мучительный опыт, особенно выделяют в своих воспоминаниях горе разрыва с друзьями, ощущение собственного одиночества во враждебном мире, где не только коммунисты и бывшие друзья-попутчики, но и либералы считают тебя презренным ренегатом. [Уиттекер Чамберс рассказывает, как стал жертвой ненависти «просвещенных людей» после того, как вышел из компартии и раскрыл Алджера Хисса как советского агента (Witness. New York, 1952. P. 616). Оторванный от партии, он воспринимал покидаемый им мир как «мир жизни и будущего. Мир, в который я возвращался, представлялся, по контрасту, кладбищем» (Ibid. P. 25).]. Но были и другие. Для кого пределы допустимого оказывались бесконечно растяжимыми: что бы ни делали коммунисты, у таких людей всегда находилось этому удовлетворительное объяснение.
Типичным идеалистом-попутчиком был Джон Рид, автор «Десяти дней, которые потрясли мир» — книги, более всех других побудившей иностранцев взглянуть на русскую революцию как на славное романтическое приключение. В жизни Рида присутствовали все элементы, из которых обычно складывалась судьба рядового «попутчика»: буржуазное происхождение, неудовлетворенные интеллектуальные запросы, неподдельный идеализм. Сын промышленного магната из Орегона, он провел детство в роскоши, в окружении ливрейных лакеев, в череде празднеств и балов146. В Гарварде он оказался аутсайдером: его нуворишское происхождение не произвело никакого впечатления на товарищей по университету; «неарийская» внешность — большие глаза, темные волосы — не привлекала. Учившийся с Ридом в университете Уолтер Липманн писал, что объекты обретали реальность в глазах Джона только в той мере, в какой они имели отношение к нему лично: «Революция, литература, поэзия — эти вещи занимают его иногда, когда становятся фактами его жизни»147. Думается, он стремился к сильным ощущениям, хотел производить впечатление. Через несколько дней по прибытии в Кембридж Рид предложил одному из студентов написать в сотрудничестве с ним книгу о Гарварде. Когда тот спросил его, как он собирается писать о предмете, о котором оба они ничего не знают, Рид ответил: «Тьфу ты, мы все узнаем, когда будем писать»148.
Именно таким образом подошел он и к русской революции. Рид не знал России, ее языка149; ничего ему не было известно и о социализме. Но это не имело значения: революции были настоящим приключением. Первые журналистские опыты Рида связаны с мексиканской революцией. Когда он в сентябре 1917 г. прибыл в Петроград — уже во второй раз, первый короткий и неудачный визит в Россию Рид совершил в качестве военного корреспондента летом 1915-го, — он уже числился среди самых высокооплачиваемых журналистов Америки. Открывшиеся виды завораживали, привлекали взор: «Мехико бледнеет, — писал он по приезде, — перед этим цветом, ужасом, величием». Журналист следил за октябрьским переворотом так, как смотрят фильм на чужом языке, и через два месяца напряженной работы его впечатления легли на бумагу. «Десять дней» выстроены как пьеса и могли бы послужить сценарием колоссального фильма в духе Д.У.Гриффита. Там есть «звезды» — Ленин, Троцкий, несколько других видных большевиков, — выступающие на фоне тысячных массовок. Герой — это пролетариат; злодей — «имущий класс», и под этим именем автор объединяет всех, кто стоит на пути у большевиков, включая социалистов. Любые сложности в характере персонажей или в ходе событий отметаются, чтобы не загромождать схематичный, в быстром темпе развивающийся сюжет, где «хорошие парни» ведут борьбу против «плохих».
Увлеченный увиденным, Рид становится попутчиком. [Рида скорее всего можно было бы характеризовать как «наивного» попутчика, однако и он не остался равнодушным к дарам, предназначавшимся обычно «жадным». Как недавно стало известно, 22 января 1920 года он получил из коминтерновской казны драгоценных металлов на сумму 1 008 000 рублей (см.: РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 82. Д. 1. Л. 10). На черном рынке эту сумму можно было обменять на $1000, эквивалент 50 унций золота.]. Подобно многим сочувствующим западным наблюдателям, он захвачен не идеями, но динамикой революции, составляющей резкий контраст с унынием «буржуазной» Европы — тем, что другой журналист назвал «творческим усилием революции... живым, живительным проявлением того, что было доселе скрыто от сознания человечества». [Ransome A. Six Weeks in Russia in 1919. London, 1919. P. VIII. Это стало общим местом в реакциях жителей Запада на Советскую Россию. Джон Дьюи в его знаменитых воспоминаниях о поездке в СССР пишет в 1928 г., что «сущность революции — высвобождение мужества, энергия, уверенность в жизни» (цитируется по: Feuer L.S. // American Quarterly. 1962. Vol. 14. №2. Parti. P. 122).]. Опубликованная в 1919 г. с предисловием Ленина, книга Рида произвела огромное впечатление. Она сразу же стала восприниматься как надежный источник по событиям октября 1917-го, хотя единственное ее достоинство как исторического документа — свидетельство о том, насколько русская революция поразила воображение ищущего острых ощущений иностранца. [Когда Риду сказали в России, что «все произошло» не так, как он это описывает, он ответил: «Подумаешь, ну и что!» Важна была не «фотографическая точность», но «общее впечатление» (Wolfe B.D. Strange Communists I Have Known. New York, 1965. P. 43)].
Когда Рид опять вернулся в Россию в октябре 1919 г., он начал разочаровываться в большевизме, поскольку стал понимать, как российские коммунисты манипулируют Коминтерном, куда он вступил, и до какой нищеты они довели сельское население России, — это он видел во время поездки по Волге. Бедняга умер в 1920 г. от тифа уже полностью разочарованным человеком. Анжелика Балабанова, ухаживавшая за ним в последние дни, считает, что «разочарование и отвращение, которые он испытал во время Второго конгресса Коминтерна, сыграли роль в его смерти. Нравственный и нервный шок отняли у него желание жить»150. Слом произошел рано и быстро, поскольку, испытывая эмоциональную, а не интеллектуальную привязанность к революции, Рид не имел возможности прибегнуть к арсеналу рационализации, выручавшему более осведомленных попутчиков, ему нечем было оградиться от разочарования.
Другим удавалось все воспринимать легче. Вдова Рида Луиза Брайант сумела приспособиться к нелегкому существованию в Советской России и даже оправдать красный террор. Он, по ее мнению, был политикой, навязанной таким чувствительным людям, как Ленин и Дзержинский, находившимися вне их контроля обстоятельствами: «Обязанностью [Дзержинского] было следить за тем, чтобы от заключенных избавлялись своевременно и гуманно. Он отправлял эти неприятные функции с оперативностью и эффективностью, за которые даже осужденные должны были быть ему благодарны, поскольку ничего нет более ужасного, чем палач, чья рука дрожит, чье сердце сжимается от жалости»151.
Можно было не видеть советской реальности, живя в Советском Союзе, но гораздо легче было закрыть на нее глаза, находясь на некотором расстоянии. Луиза Брайант предпочла восхвалять советский коммунизм на Лазурном Берегу, где она поселилась со своим вторым мужем — миллионером Уильямом Буллитом. После прихода Гитлера к власти Лион Фейхтвангер и возглавляемая им группа немецких попутчиков также нашли уютное прибежище на юге Франции. Лион Стеффенс, страстный апологет сначала Ленина, а затем и Сталина, сходным образом обосновывался то в солнечных районах, то на лечебных курортах капиталистического Запада, сперва на Ривьере, в конце жизни — в Кармеле, Калифорния. «Я патриот России, — писал он другу в 1926 г., — будущее принадлежит ей; Россия победит и спасет мир. Таково мое убеждение. Но я не хочу там жить». Письмо было отправлено из Карлсбада152.
* * *
Неприкрытая враждебность российских коммунистов к «капитализму», и особенно отрицание ими права на частную собственность, должно было превратить западное деловое сообщество в непримиримых противников ленинского правительства. На самом же деле буржуины с толстыми животами и в цилиндрах, каких так любила изображать на плакатах советская пропаганда, оказались на редкость приветливыми и склонными к сотрудничеству. Западных капиталистов не волновала судьба их русских собратьев: они оказались вполне готовы обделывать дела с советским режимом, беря в аренду или приобретая по сниженным ценам отчужденное имущество здешних собственников. [Благородное исключение явил собой Аверелл Харриман, предложивший выплачивать проценты с прибыли, которую он намеревался получить с марганцевых концессий в Советской Грузии, законным владельцам копей.]. Ни одна социальная группа не налаживала отношений с Советской Россией с такой готовностью и с такой эффективностью, как европейские и американские деловые круги. Большевики пользовались их очевидной заинтересованностью, заставляя оказывать давление на западные правительства, добиваясь дипломатического признания и экономической помощи. Когда летом 1920 г. в Европу прибыли в поисках кредитов и техники первые советские торговые миссии, их игнорировали профсоюзы, но приветствовали представители большого бизнеса. Хуго Штиннес, глава Союза немецких промышленников и один из ранних сторонников Гитлера, заявил, принимая советскую делегацию, что он «исполнен симпатии к России и ее эксперименту»153. Во Франции один из правых депутатов советовал делегации не рассчитывать на коммунистов и левых социалистов: «Скажите Ленину, что наилучший способ склонить Францию к торговле с Россией — это действовать через французских предпринимателей. Они — единственные реалисты здесь». [Liberman S. Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 133. Давшее этот совет лицо, Антоль де Монзи, оказался весьма полезным в установлении контактов между советским правительством и Францией. Таким же «реализмом» он отличился и во время Второй мировой войны, когда налаживал франко-нацистскую дружбу; впоследствии ему было предъявлено обвинение в коллаборационизме (Ibid.)].
Промышленники, желавшие эксплуатировать природные ресурсы огромной страны и продавать ей готовую продукцию, прибегали к следующим аргументам, чтобы оправдать торговлю с государством, нарушавшим дома и за рубежом все мыслимые нормы цивилизованного поведения. Во-первых, каждый народ заслуживает своего правительства. Следовательно, было бы нереалистично и недемократично подвергать Советскую Россию бойкоту. Как сформулировал в 1920-м Барнард Барух, «русский народ имеет право, как мне кажется, устанавливать по своему желанию любую форму правления»154. За этим аргументом стояло невысказанное предположение, будто русский народ сам избрал именно коммунистическое правительство. Во-вторых, торговля — инструмент цивилизации, поскольку прививает здравый смысл и дискредитирует абстрактные доктрины. К последнему доводу часто прибегал Ллойд Джордж, призвавший в феврале 1920 г. установить торговые отношения с Советской Россией: «Мы не смогли привести Россию в чувство силой. Я уверен, что мы сможем сделать это и спасти ее путем торговли. Коммерческая деятельность оказывает отрезвляющее действие. Простые операции сложения и вычитания, на которых она построена, вскоре вытесняют дикое теоретизирование»155. Генри Форд, которому удавалось сочетать бешеный антикоммунизм и антисемитизм с чрезвычайно выгодными торговыми операциями в Советском Союзе, также верил в нравственную силу реализма: «факты станут контролировать» идеи, утверждал он, невольно перефразируя афоризм Маркса, гласящий, что бытие определяет сознание. Чем больше будет у коммунистов развиваться промышленность, рассуждал он, тем пристойнее они станут себя вести, поскольку «правота механики и правота нравственности — по сути одно и то же»156.
Подобные рационализации часто повторяли и иногда им верили; они получали дополнительное подкрепление в нежелании западных дельцов всерьез относиться к коммунистическим лозунгам о грядущей мировой революции. Предприниматели отождествляли собственные мотивы, основным компонентом которых являлась материальная заинтересованность, с общими устремлениями человечества. Любые идеи и идеологии, не основанные на подобной заинтересованности, представлялись им либо признаком незрелости, либо камуфляжем: в первом случае можно было уповать на целительное свойство времени, во втором — нейтрализовать их с помощью привлекательных коммерческих предложений. С точки зрения среднего «делового человека», социальные и экономические программы большевиков выглядели настолько фантастичными, что он отказывался воспринимать их как серьезный политический замысел: по его мнению, новые правители России либо не имели в виду того, что говорили, либо вскоре должны были осознать всю абсурдность подобных идей. Во всяком случае их следовало испробовать на прочность.
Большевики ловко использовали это заблуждение: уже в 1918 г. Иоффе и Красину удалось убедить немецких предпринимателей не особенно прислушиваться к «максимализму» Москвы157. После окончания гражданской войны, когда промышленность в стране переживала катастрофический спад, советские представители за рубежом прибегли к той же тактике, поясняя, что Россия, несмотря на создание Коминтерна, заинтересована исключительно в мирных экономических отношениях. Возглавляя в 1920—1921 гг. торговую миссию в Британии, Красин расписывал английским промышленникам соблазнительные перспективы торговли с Россией, хотя ей в то время было практически нечего продавать и не на что покупать. Москва, которой слабые стороны западной души были ведомы лучше, чем сильные, пользовалась этим, чтобы насаждать иллюзии. Например, введенный в 1921 г. нэп, внутри страны названный временной тактической уступкой, не кем иным как Чичериным рекламировался за рубежом в качестве меры, призванной «создать в России условия для развития частной инициативы в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и торговли»158. Правительственные и деловые круги Запада с готовностью заглатывали эту пропаганду, поскольку она соответствовала их изначальным установкам. Подписчики «New York Times» с доверием отнеслись, например, к опубликованному в 1921 г. сообщению московского корреспондента, будто советское правительство «возвращается к индивидуализму» и личной инициативе159.
Причина того, что западные предприниматели с такой готовностью игнорировали факты, свидетельствующие об обратном, заключалась в широко распространенном убеждении, будто в России имелись неограниченные возможности для эксплуатации природных ресурсов и огромные перспективы по сбыту готовой продукции; в США ее рассматривали как огромнейший в мире «пустой» рынок сбыта, в Англии — как «золотую жилу»160. Поскольку за время Первой мировой войны производственные мощности, особенно в США, выросли во много раз, западное промышленное сообщество оказалось весьма заинтересовано в российском рынке.
Торговые соглашения естественным образом повлекли за собой дипломатическое признание Советской России, которое западные правительства поначалу не желали ей давать, поскольку она отказалась платить иностранные долги и вела подрывную деятельность. Москва с самого начала исходила из того, что путь к дипломатическому признанию лежит через заключение торговых договоров, — это убеждение оказалось верным и получило подкрепление в устах Ллойд Джорджа, заявившего в марте 1921 г. в палате общин, что незадолго до того подписанные англо-советские соглашения о торговле были равносильны фактическому признанию Советского государства. [Саrr Е.Н. The Bolshevik Revolution. New York, 1953. Vol. 3. P. 287. Советской внешней торговле было крайне необходимо получить признание, поскольку за приобретенные за границей товары Россия расплачивалась золотом: покуда у Советской России не было дипломатического признания, золото могло оказаться удержанным в пользу западных кредиторов. 12 мая 1921 г. Суд Британии вынес постановление, что советское золото в слитках не подлежало подобным удержаниям (см.: Майский И. Внешняя политика РСФСР. М., 1923. С. 102)].
Отношение к России американских профсоюзных деятелей было диаметрально противоположным. Самюэль Гомперс, президент Американской федерации труда, называл большевиков «пиратами». Его преемник Уильям Грин занял такую же позицию. Раз за разом американские профсоюзы подавляющим большинством голосов отклоняли прокоммунистические резолюции, выдвигавшиеся небольшой группой радикалов. Единственными принявшими примирительную позицию в отношении Советской России группами оказались «Amalgamated Clothing Workers», Союз работников швейной промышленности, и «International Ladies' Garment Workers' Union», Международный союз изготовителей дамского платья, — обе организованные русскими иммигрантами, доверившимися романтическим иллюзиям о коммунистическом эксперименте.
* * *
На позицию западных правительств в отношении Советской России влияло множество факторов, часто противоречивого характера. Как это было и в случае с Французской революцией, великим державам доставляло удовольствие видеть, как их традиционные конкуренты слабеют в результате внутренних беспорядков. Этот факт с потрясением отметил Петр Струве, когда летом 1920 г. встречался в качестве министра иностранных дел Врангеля с дипломатическими представителями союзных держав с целью заручиться помощью их правительств161. Немцы в 1918 г., Ллойд Джордж и Пилсудский — в 1919 г., все исходили из предположения, что большевистская Россия будет представлять для них меньшую угрозу, нежели восстановленная национальная. Это соображение заставляло подавить ненависть к коммунизму, страх перед подрывной деятельностью.
Западным державам трудно было предоставить дипломатическое признание советскому правительству даже после того, когда оно, одержав победу в гражданской войне, получило неоспоримую власть над страной: за ним оставалась репутация режима незаконного, не только варварски относившегося к собственным гражданам, но и нарушавшего принятые нормы международного поведения. Наиболее предосудительными в последнем отношении были отказ от уплаты внешних долгов и национализация иностранной собственности.
Неуплата долгов не была советским изобретением: ее часто практиковали и капиталистические правительства. [См.: Default and Rescheduling / Ed. by D.Suragtar. Washington, D.C., 1984; Borchard F., Wynne W. State Insolvency and Foreign Bondholders. New Haven, Conn., 1951. По данным Клиффорда Даммерса, в 1880 г. 54% иностранных правительственных долгов в мире были неуплаченными. Г-н Даммерс в своем исследовании игнорирует, безо всяких объяснений, советский долг 1918 г., самый большой в истории.]. Однако советские действия заключали в себе новые, неприятные особенности. По традиции, отказывающиеся от возврата долгов страны заявляли о своей неплатежеспособности, однако не отказывались от ответственности. Принятый 22 января 1918 г. советский декрет впервые в истории принципиально отказывался признавать за своим государством какие-либо долговые обязательства. С подобным действием нельзя было смириться, не поставив одновременно под угрозу всю структуру международных финансовых отношений. Кроме того, любые займы меркли по сравнению с той суммой, какую задолжала Россия. На 1 января 1918 г. государственный долг России (как внешний, так и внутренний) определялся в 60 миллиардов рублей (30 миллиардов долларов), из них 13 миллиардов (6,5 миллиардов долларов) приходилось на долю зарубежных кредиторов162. В довершение всего советские декреты о национализации нанесли тяжелый удар по иностранным владельцам собственности и ценных бумаг в России: только французские инвесторы потеряли на этом 2,8 миллиарда долларов. Москва понимала, что эта проблема представляла величайшее препятствие к нормализации внешних связей и получению экономической помощи из-за рубежа. В 1919, 1920 и 1921 гг. Чичерин и прочие советские представители намекали, что их правительство готово на определенных условиях уплатить иностранные долги и компенсировать потери западных инвесторов. Так, например, в июле 1920 г. в ответ на выдвинутые Британией в процессе обсуждения торговых соглашений требования Москва «в принципе» признала обязательства вернуть деньги, взятые у иностранных граждан163. Общий иностранный долг России (западным правительствам и частным лицам) оценивался руководством Наркомфина в 4,4 миллиарда золотых рублей (2,2 миллиарда долларов), оставшихся от займов периода до начала мировой войны, причем более половины его причиталось Франции, и в 8 миллиардов золотых рублей (4 миллиарда долларов) займов военного времени, взятых большей частью у Великобритании164. Как только советское правительство огласило условия, на которых оно якобы соглашалось признать свою ответственность, стало ясно, что предложение не было серьезным: Россия требовала в ответ компенсацию за потери, понесенные вследствие помощи, оказанной кредиторами ее врагам во время гражданской войны. Потери эти по оценкам Москвы значительно превосходили сумму задолженного. Насколько значительно — можно было узнать из служебного доклада, подготовленного для Ленина чиновником Наркомфина С.Пилявским в сентябре 1921 г. Суммируя прямые расходы на гражданскую войну с компенсациями за убитых и раненых красноармейцев и относя все затраты на счет союзников, Пилявский получил в итоге 16,5 миллиарда рублей золотом (8,25 миллиарда долларов). К этой сумме он прибавил 30 миллиардов рублей золотом за «убытки, причиненные погромами, и моральный ущерб, нанесенный населению истязаниями и пытками», которые оценил в 30 миллиардов рублей золотом. Сюда же были приплюсованы «стоимость» эпидемий, снижения образовательного уровня и прочих бед, поразивших Россию со времени октября 1917 г., в результате чего общая сумма, которую Москва могла бы стребовать с союзных держав, достигла 185,8 миллиарда рублей золотом (92,2 миллиарда долларов). Пилявский полагал также, что Россия имела право требовать компенсацию за неудачу в попытке присоединения Константинополя, а также за не в ее пользу решенное установление границы с Польшей, но определенной цифры не привел165. Абсурдные эти претензии так никогда и не были высказаны; Ленин рекомендовал изучить вопрос более внимательно, а всю относящуюся к нему документацию уничтожить166. [Во время своего закрытого доклада Девятой партийной конференции (сентябрь 1920) Ленин потешался над «чудаками» во Франции и Англии, которые «все еще надеются получить обратно» миллиарды, потерянные ими в России. (Исторический архив. 1992. № 1. С. 15).]. Ввиду всех этих обстоятельств любое сближение с Советской Россией должно было производиться постепенно, окольными путями; остановились на торговле. В ее эффективность бесконечно верил Ллойд Джордж: «Как только мы начнем торговать с Россией, — предрекал он, — коммунизм исчезнет»167. Британские «эксперты» предвкушали, какие огромные и все возрастающие экономические преимущества получит Запад от такой политики: согласно их оценкам, импорт русских зерновых, леса и льна снизит мировую стоимость этих товаров и вынудит США урезать цены на зерно168. В декабре 1919-го и в январе 1920 г. союзные державы достигли в Париже соглашения о прекращении интервенции и восстановлении нормальных экономических отношений с Советской Россией169. Однако и их следовало начинать с умом, поскольку до тех пор, пока вопрос с задолженностью России не был урегулирован, советские ценности по пересечении ими границы могли быть арестованы кредиторами. Поэтому союзные державы решили начать торговлю не с советским правительством, а с российскими кооперативами. [Представление о том, будто советские кооперативы имели свободу действия и потенциально являлись хорошими партнерами в торговле, было, по-видимому, распространено историком Bernard Pares и E.F.Wise, высшим британским представителем в Высшем экономическом совете в Париже (см.: Pares В. My Russian Memoirs. London, 1931. P. 562; Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. Princeton, 1972. P. 11).]. Из разговоров с их главами, в том числе с главой русских кооперативов за границей Александром Беркенхаймом, они выяснили, что организации эти «аполитичны». Парижское бюро русского кооперативного движения заявляло, что у них в России 25 миллионов членов и огромные запасы зерна для экспорта. 16 января 1920 г. союзники согласились войти в торговые отношения с русскими кооперативными организациями, при условии, что подобный шаг не подразумевает дипломатического признания государства.
В действительности советские кооперативы, конечно же, не были свободны в своих действиях, поскольку весной 1919 г. их национализировали и интегрировали в государственную экономику; управляющий их орган, Центросоюз, стал одним из отделов в правительственном аппарате. Даже ту небольшую долю независимости, какую им удавалось сохранить, они утратили 27 января 1920 г., когда, предвидя ту полезную роль, которую они могли сыграть в установлении отношений с Западом, Ленин набросал декрет, помещавший их под полный контроль Компартии170. Месяц спустя Красин уже отправился в Западную Европу вести переговоры как глава Центросоюза. На самом же деле он представлял советскую внешнеторговую организацию, Внешторг, — по словам Радека, «Красин должен был поехать в Лондон в Троянском коне»171. Маскировка помогла западным предпринимателям осуществить свое желание и возобновить торговые отношения с Россией, не ломая голову над больным вопросом российских иностранных долгов.
Осуществляемая под покровом прямого вымысла и деликатных умолчаний деятельность большевиков стала приносить вполне реальные плоды. Весной 1920 г. Британия начала экономические переговоры с Москвой. Война с Польшей и прочие помехи заставили отложить подписание торгового соглашения до апреля 1921 г. Тем временем (в мае 1920 г.) Швеция и Германия подписали соответственные документы с Москвой. Это были первые договоры о коммерческих операциях между Россией и западными державами. США отменили запрет на частную торговлю с Советской Россией в июле 1920 г. Их примеру последовало большинство государств Европы.
* * *
С точки зрения архитекторов внешней политики Советской России, четыре страны представляли особенный интеpec: Великобритания, США, Франция и Германия. Главные приоритеты были отданы отношениям с Германией.
По причинам как экономическим, так и политическим Франция оставалась самым непримиримым врагом большевистского режима. У нее имелись самые большие инвестиции в России, потому она сильнее всех пострадала от национализации и отказа большевиков возвращать долги. Она желала установления там правительства, которое возместило бы эти потери. Франция одновременно желала, чтобы дружественная Россия уравновесила в Европе Германию, чьих реваншистских устремлений она весьма опасалась. Отказ США вступить в Лигу Наций и дать совместно с Британией обещание ограждать Францию от агрессии заставил последнюю почувствовать себя слабой и незащищенной. Для того чтобы компенсировать эту уязвимость, Франция проводила политику жесткой непримиримости в отношении Веймарской республики и создавала cordon sanitaire между Россией и Германией. Такая политика оказалась чрезвычайно близорукой, поскольку ослабляла прозападное правительство Германии и толкала большевиков и немецких националистов в объятия друг другу. Москве от Франции нечего было ждать.
США, мало вовлеченные в политическое соперничество в Европе и не много потерявшие вследствие советской экономической политики, [Общие потери США в России составили 223 миллиона долларов (Dennis A. The Foreign Policies of Soviet Russia. P. 457)] относились к коммунистической России как к государству вне закона и отказывались иметь с нею официальные отношения. В августе 1920 г. госсекретарь США Бейнбридж Колби дал формальное пояснение, почему Соединенные Штаты не могут признать «теперешних правителей России в качестве правительства, с которым возможно поддерживать отношения, свойственные дружественным государствам». Причиной явились не возражения против советской политической или социальной системы, но то, что режим «нарушал любое правило или соглашение, лежащие в основе самой структуры международного права». Его вожди «часто и открыто похвалялись, что намереваются подписывать соглашения и взаимные обязательства с иностранными державами, но не имеют ни малейшего намерения соблюдать таковые обязательства или выполнять таковые соглашения». Они, кроме того, заявляли, что «само существование большевизма в России, поддержание его власти, зависит и будет продолжать зависеть от того, произойдут ли революции в остальных великих цивилизованных странах, включая США, которые свергнут и уничтожат их правительства и установят на их месте большевистскую власть. Они заявили со всей определенностью, что намереваются использовать любую возможность, включая, разумеется, и дипломатические службы, чтобы способствовать развитию таких революционных движений в других странах»172. Тем не менее Вашингтон не возражал против частных торговых сделок с советским правительством, и таковые оказались в 1920-х весьма значительными.
Английскую политику в отношении Советской России с того момента, когда Британия устранилась от участия в гражданской войне, и вплоть до своей отставки в октябре 1922 г. определял Ллойд Джордж. К несчастью, премьер-министр крайне мало знал об этой стране: для иллюстрации его невежества можно привести в пример речь в апреле 1919 г., где он сообщал палате представителей, что Британия оказывает помощь не только генералу Деникину и адмиралу Колчаку, но и «генералу Харькову»173. Когда беспокойные белые перестали путаться под ногами, он вознамерился восстановить отношения с советским правительством и начать с торговли, что должно было принести Британии экономические выгоды и в то же время могло обуздать коммунистов.
Общественное мнение в Британии было резко антикоммунистическим по многим причинам, самой важной из них явилось самоустранение России из войны в 1917 г., стоившее Англии многих жизней. Британская пресса, возглавляемая газетой «Times», уделяла большое внимание творимым большевиками зверствам. И министерство иностранных дел, и военное министерство выступали против сближения с Советской Россией. Однако Черчилль в то время оказался дискредитированным и утратил влияние. Его антибольшевизм воспринимался как личная мания; неудавшаяся интервенция высмеивалась как «личная война господина Черчилля»174. В феврале 1920 г. в палате представителей Ллойд Джордж призвал к «миру и торговле с большевиками». «Торговля, — говорил он, — положит конец жестокостям... большевизма». Да есть ли у России чем торговать? Разумеется, отвечал он скептикам, «хлебные закрома России ломятся от зерна»175. В этом случае премьер-министр являл не невежество, но неискренность: представляя общественности Россию как некий рог изобилия, он в действительности был информирован министром иностранных дел лордом Керзоном, что страна находится в состоянии «полнейшей экономической разрухи» и отчаянно нуждается в иностранной экономической помощи176. Ллойд Джорджу необходимо оказалось прибегнуть ко лжи, потому что, принимая во внимание состояние общественного мнения, страстно желаемое им сближение с большевистской Россией приходилось маскировать, придавая ему вид экономически выгодного для Британии.
Британско-советские переговоры открылись в мае 1920 г. с прибытием в Лондон советского торгового представительства во главе с Красиным, единственным из большевистских лидеров, кто имел деловой опыт. Он приехал в качестве представителя российских кооперативов, однако с самого начала его миссия рассматривалась как дипломатическая, вплоть до того, что англичане разрешили ему связываться с Москвой шифром и отправлять и получать почту с дипломатической печатью177.
Отказ Советского государства от долгов ударил по Британии не так сильно, как по Франции, но все же она потеряла значительную сумму: Россия задолжала ей 629 миллионов фунтов, и более девяти десятых от нее было взято во время войны. [Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. P. 107. Это было эквивалентом 3,145 миллиарда долларов, или 4900 тонн золота, а в 1990 г. составило бы 60 миллиардов долларов.]. Надеясь, что долг будет со временем возвращен, Британия выказывала готовность на первых этапах удовлетвориться признанием Россией ответственности за него. К тому же появился новый источник забот: коммунистическая пропаганда, активно ведущаяся в промышленных центрах и на Ближнем Востоке. Ллойд Джордж и его Кабинет, очевидно, надеялись, что Москва, из благодарности за подразумеваемое в торговых соглашениях фактическое признание, приостановит эту недружественную деятельность.
С точки зрения Черчилля, подобные упования выглядели большой наивностью: «Большевики — фанатики. Ничто не может отвратить фанатика от его цели. Л[лойд] Д[жордж] считает, что может их переубедить, что они наконец увидят ошибочность своих методов и неприложимость своих схем. Ничего подобного! Они считают, что их система не стала успешной, потому что ее применяли с недостаточным размахом, и что для того, чтобы добиться успеха, ее нужно распространить на весь мир»178.
Предупреждения Черчилля пропали втуне, и 31 мая 1920 г. открылись торговые переговоры, Красин встретился с Ллойд Джорджем и его командой. Для советского руководства эта встреча означала исторический прорыв: впервые его эмиссара принял глава правительства великой державы179. Красин оказался таким очаровательным, его внешность и манеры настолько не совпадали с превалировавшим в Европе представлением о большевиках как дикарях, что некоторые из англичан выражали после встречи с ним сомнение, не подставное ли он лицо. Торгпред сообщил принимающей стороне, что вопрос о долгах будет урегулирован, как только восстановятся мир и полные дипломатические отношения между двумя странами. Помимо этого он настаивал, чтобы Британия воздержалась от оказания помощи Польше. По поводу же того, что особенно беспокоило Британию, а именно враждебной советской пропаганды, в том числе и на Ближнем Востоке, Красин обещал, что, если Лондон примет решение нормализовать отношения и прекратит дальнейшую помощь врагам Советской России (включая Врангеля, который все еще держался в Крыму), «она, со своей стороны, готова дать полные гарантии, что воздержится от участия в каких бы то ни было видах враждебной деятельности и от попустительства последней, не только на Востоке, но и в других местах»180.
Красин, очевидно, превысил данные ему полномочия, давая подобные обещания, — во всяком случае, британская разведка перехватила и расшифровала сердитый выговор Чичерина, в котором содержались резкие возражения против сделанных уступок, а также следующий совет от Ленина: «Эта свинья Ллойд Джордж врет без стыда и совести. Не верьте ни слову из того, что он говорит, и врите ему в ответ в три раза больше». [Andrew С. Her Majesty's Secret Service. New York, 1986. P. 262. В шифровальной службе Британии работал русский по имени Е.К.Феттерлейн, он и нашел ключ к советскому дипломатическому шифру (Ibid. P. 261—262)].
Вторжение Красной Армии в Польшу привело к временной приостановке переговоров и вызвало великое смятение в Лондоне: перспектива создания коммунистической Польши и возникновения у Германии и Советской России общей границы обеспокоила даже Ллойд Джорджа181. В июле 1920 г. Красин возвратился в Москву.
* * *
В Москве верили, что ключи к мировой революции находятся в Германии: ни в одной другой стране Коммунистический Интернационал не вел подрывной деятельности столь усердно, как там. Рабочим языком двух первых конгрессов Коминтерна был немецкий, а германским делегатам на них оказывались особые почести. Высшие представители власти, Зиновьев и Радек, направлялись для приветствия на съезды немецких социалистических партий и профсоюзов.
Основным препятствием к осуществлению планов Коминтерна в Германии являлась социал-демократическая партия (SPD). Именно социалистическое правительство подавило коммунистические мятежи зимой 1918—1919 гг. и затем в марте 1921 г. Немецкие социалисты хорошо знали большевиков по долгому сотрудничеству во Втором Интернационале и относились к ним с нескрываемым презрением. Большевики в ответ поливали лидеров этой партии подчеркнуто злобной клеветой.
Отношение СДПГ к большевистскому режиму было впервые сформулировано в вышедшей летом 1918 г. работе Карла Каутского «Диктатура пролетариата». Автор, лично знавший Маркса и Энгельса и являвшийся официальным держателем прав по распоряжению их наследием, высказывался исключительно авторитетно. В свое время он выступил против Первой мировой войны и основал радикальное крыло партии (USPD).
Он приветствовал октябрьский переворот. Однако большевистские методы управления были, по его мнению, абсолютно неприемлемы. Каутский обвинял большевиков в установлении однопартийной диктатуры, в том, что они называют советы высшей формой демократии, а на самом деле используют их для уничтожения народовластия. У этого режима не было, по его мнению, ничего общего с социализмом. Каутский отвергал и аналогию, которую российские коммунисты проводили между собой и Парижской коммуной: «Она была делом всего пролетариата. В ней приняли участие все социалистические течения: ни одно не устранилось, ни одно не было устранено. Социалистическая партия, которая сегодня правит Россией, наоборот, пришла к власти в результате борьбы с другими социалистическими партиями. Она пользуется своей властью для изгнания других социалистических партий из своих руководящих органов»182. В 1919 г. Каутский опубликовал вторую работу, содержавшую еще одну оценку советского эксперимента, «Терроризм и коммунизм»183. В ней он называет складывающийся в Советской России режим «Kasernensozialismus», казарменным социализмом.
Такой критики, исходящей от человека, признаваемого широкой общественностью наследником Маркса и Энгельса, большевистские лидеры проигнорировать не могли. Ленин, не желая или не умея анализировать аргументы Каутского, прибег к ругани. В написанном в конце 1918 г. ответе он называет немецкого социалиста «лакеем буржуазии» и «подлым ренегатом»184. Более рациональный ответ содержался в работе Троцкого, также озаглавленной «Терроризм и коммунизм». [Ann Arbor, Michigan, 1961. Делая уступку чувствительности американцев, книгу первый раз издали под заглавием «Диктатура против демократии».]. Признавая, что в Советской России установлена диктатура, он настаивает, что это — диктатура рабочего класса: подчиняясь принуждению, рабочий на самом деле слушается самого себя185. Маркс, заявляет он, никогда не превращал демократию в лозунг, никогда не ставил ее над классовой борьбой.
Особенно большой урон репутации большевиков в Германии нанесла критика со стороны Розы Люксембург, совместно с Карлом Либкнехтом возглавлявшей Союз Спартака, кого никто, даже Ленин, не смог бы обвинить в ренегатстве, поскольку она жизнью заплатила за свои убеждения. Люксембург во время и после Первой мировой войны не покладая рук работала для дела социалистической революции в своей стране, она приветствовала большевистский переворот. Тем не менее, когда Москва потребовала немедленно захватить власть в Германии, она резко воспротивилась, поскольку немецкие рабочие не были готовы к такому шагу. Она высказалась также против создания Коминтерна, опасаясь, что это приведет к засилью большевиков, которым она не доверяла, в мировом коммунистическом движении186.
Осенью 1918 г., находясь в тюремном заключении за антивоенную деятельность, Люксембург написала критический очерк о ленинском режиме. Немецкие социалисты сочли его «несвоевременным» и отложили полную публикацию до 1922 г., но даже и тогда они смогли отважиться на обнародование документа, только изъяв особо острые места187. Люксембург восхваляла большевиков как единственных преданных делу социалистов в России. Но она осуждала Декрет о земле, поскольку он укреплял собственнические инстинкты крестьянства и углублял разрыв между городом и деревней. Подверглась критике и большевистская политика «национального самоопределения», послужившая основанием для развала Российской империи — с социалистической точки зрения явления регрессивного.
Но самые обличительные слова она, подобно Каутскому, приберегла для осуждения подавления демократии. (Люксембург не ссылалась на красный террор — возможно, она не знала о нем, хотя его ввели в сентябре 1918-го.) Критическим событием в истории политического перерождения большевистского режима она считает разгон Учредительного собрания. Если действительно, как заявляли в свое оправдание большевики, избранное в ноябре 1917 г. Учредительное собрание перестало к январю 1918 г. отражать настроения масс, следовало провести новые выборы, а не ликвидировать его. Следующим по важности событием явилось подавление свободной печати и уничтожение свободы собраний, «без которых осуществление управления широкими массами немыслимо»188. «Свобода только для сторонников правительства, только для членов партии, как бы ни были они многочисленны, это уже не свобода. Свобода — всегда свобода для того, кто думает иначе. Не из-за фанатической преданности "справедливости", но потому, что все просвещающее, благотворное, очищающее в политической свободе идет от независимости и теряет свою действенность, когда свобода становится "привилегией"»189.
Люксембург критиковала большевиков за их практику управления посредством декретов, которая стала прекрасным орудием уничтожения старого строя, но оказывалась более чем бесполезна при строительстве нового. Творчество требовало абсолютной свободы. «Общественная жизнь в странах, где свобода ограничена, оказывается такой невыразительной, бедной, схематичной, неплодотворной именно потому, что, подавляя демократию, она перекрывает все живые источники процветания и прогресса»190. Без открытости советское чиновничество непременно станет жертвой коррупции. Она предсказывала мелочную бюрократизацию советской жизни: ее следствием станет диктатура не пролетариата, но «горстки политиканов, т.е. диктатура в буржуазном смысле, в смысле якобинской власти»191.
Проницательная аналитическая работа, предвосхитившая теории «еврокоммунистов» 1960-х, оказалась подпорченной в конце абсурдным заявлением Люксембург, что правильно понимаемая «диктатура» является не альтернативой демократии, но ее дополнением: «Диктатура — это искусство использования демократии, а не ее устранение»192. Согласно данному автором определению, диктатура пролетариата предполагает участие масс. Находясь в ноябре 1918 г. во главе немецкой революции, она действительно настаивала, что «Союз Спартака никогда не возьмет власти иначе, чем в согласии с явно выраженной волей подавляющего большинства пролетарских масс Германии»,193 — что практически означало «никогда». На практике же она призывала то смехотворно малое количество революционеров, которые были связаны со спартаковцами, свергнуть правительство Филипа Шейдемана и Фридриха Эберта, несмотря на то что оно было создано с согласия Всегерманского Совета народных уполномоченных, представлявшего интересы подавляющего большинства рабочих страны194.
Эта полемика заново продемонстрировала пропасть, разделявшую российских и европейских радикалов. Каутский и Роза Люксембург говорили о демократии и гражданских правах как о непременных предпосылках социализма. Для получавших свое политическое образование при царизме Ленина и Троцкого политика понималась как война, а от побежденных ожидалось полное послушание — по словам Троцкого, «запугивание» было так же необходимо в революции, как и на войне195; этот трюизм начал относиться не к врагу, но к собственному народу. И Ленин, и Троцкий вели полемику с оппонентами на языке, свойственном самым реакционным сторонникам царского самовластия. Но, какие бы погрешности теоретического характера ни обнаруживались в их рассуждениях, они могли опираться на неопровержимый факт: им удалось взять власть, а их немецким критикам — нет.
Разногласия подобного рода усугубляли вражду между большевиками и немецкими социал-демократами. Несмотря на то что эта партия выступала против интервенции союзных держав в Россию и в 1920 г. воспрепятствовала тому, чтобы их военные поставки достигли Польши, Москва не могла простить, что именно сформированное ею правительство подавило коммунистическое восстание в Германии. Кроме того, СДПГ занимала прозападную ориентацию. В 1923 г. Зиновьев открыто обвинил ее в том, что она пролагает дорогу «фашистам»196. Это обвинение стало частью официальной политики Коминтерна после того, как на его Пятом конгрессе (1924) Социал-демократическая партия Германии была названа «левым крылом фашизма»197.
У Москвы, однако, обнаружились в Германии потенциальные сторонники, и самыми многообещающими оказались реакционные политические и военные круги, поддержавшие впоследствии Гитлера. Это был брак по расчету, основанный на ненависти обеих сторон к СДПГ и Версальскому договору.
Недавние исследования показывают поразительную неизменность немецкой политики в отношении России, с тех пор как она сформировалась в имперской Германии, затем в Веймарской республике и, наконец, в эпоху нацизма. Начиная с Февральской революции и вплоть до вторжения нацистов в СССР, немецкие консерваторы и милитаристы видели в союзе с Россией, где Германии отводилась бы роль старшего партнера, непременное условие сперва сохранения, а после ноября 1918 — восстановления статуса собственной страны как мировой державы198. В период Веймарской республики эта тенденция еще усилилась страстным желанием отменить Версальский договор, ведь в этом Германия могла рассчитывать только на поддержку Москвы. Как только условия договора были обнародованы, а это произошло в мае 1919 г., советский комиссариат иностранных дел опротестовал его и издал воззвание к германским рабочим, призывая их последовать своему примеру199. 13 мая Коминтерн выпустил прокламацию «Долой Версальский договор!», задавшую тон всей его политике200. Эта акция явилась первым шагом в установлении взаимопонимания между Москвой и немецкими правыми. Противостоявшая в одиночку Франции и «англосаксам» Германия была беспомощна; залучив в качестве союзника Советскую Россию, она становилась силой, с которой приходилось считаться201. Немецкий премьер-министр Йозеф Вирт сформулировал суть вопроса с прямолинейностью и четкостью: «Единственный шанс вновь восстать как великой державе я вижу для нас в том, чтобы немецкий и русский народы работали сообща, как соседи, в дружбе и взаимопонимании»202.
Привлекательность Советской России для некоторых немецких националистов стала очевидной еще в 1919-м, когда профессор крайне правых взглядов призвал к принятию большевизма как средству избежать «порабощения» странами Антанты203. Подобные идеи привели к появлению курьезного движения, названного Карлом Радеком «национал-большевизмом», к которому примкнули члены левого крыла нацистской партии. Идеология движения призывала к союзу между коммунистами и националистами, которым следовало сообща выступить против демократии и западных держав. Поначалу Москва отвергла эту соблазнившую некоторых членов компартии Германии ересь, но вскоре ее мнение переменилось. В марте 1920 г. произошел так называемый Капповский путч, организованный правыми политиками и генералами с целью установить в Германии военную диктатуру, и руководство Немецкой компартии, почти наверняка по указке Москвы, заняло нейтральную позицию, заявив, что «пролетариат и пальцем не шевельнет, чтобы помочь демократической республике». [Flechtheim О. Die Kommunistische Partei in der Weimarer Republik. Offenbach a.M., 1948. P. 62. Под давлением рядовых коммунистов эта тактика вскоре была оставлена (Freund G. Unholy Alliance. New York, 1957. P. 59—60).]. Если Москва не могла сделать Германию коммунистической, то предпочитала правую военную диктатуру возглавляемой СДПГ демократии.
Связь между Москвой и немецкими правыми осуществлял Карл Радек, проживший несколько довоенных лет в Германии в качестве социал-демократического журналиста и хорошо разбиравшийся в ситуации. Вследствие роли, которую он сыграл в спартаковском мятеже, Радек был в феврале 1919 г. заключен в тюрьму и поначалу находился в строжайшей изоляции. После обнародования Версальского договора условия его содержания заметно улучшились, к нему стали относиться скорее как к гостю, чем как к заключенному, перевели в удобное помещение. В августе 1919 г. Радеку позволили принимать посетителей, и он завел в тюрьме, по собственному его выражению, «политический салон», где бывали и коммунисты, и видные военные, и политические фигуры, включая Вальтера Ратенау, в то время — президента гигантского концерна (Всеобщей компании электричества AEG), а затем — министра иностранных дел, убежденного сторонника установления экономических связей с Советской Россией204. Подобными льготами Радек пользовался благодаря немецким генералам, торопившимся наладить военное сотрудничество с Москвой. Спартаковка Руг Фишер была изумлена, что ее свидание с Радеком устраивают офицеры, причем для этого случая ей выправили фальшивые документы205.
Радека заслали в Германию для организации революции. Однако опыт спартаковских выступлений обескуражил его: ему пришлось нехотя признать, что эта страна не созрела для революции и представит большую пользу для Советской России в качестве экономического и военного партнера. Подпавший под влияние Радека Ратенау основал комиссию, приступившую к изучению перспектив торговли с Россией206. В октябре 1919 г. Германия ответила отказом на требование союзных держав присоединиться к блокаде России; это стало ее первым актом неповиновения со времени подписания Версальского договора207. Действие это получило полную поддержку правых националистов. В ноябре в Германии приветствовали Виктора Коппа, чиновника российского комиссариата иностранных дел. Официальным заданием Коппа было договориться об обмене гражданскими и военнопленными, однако к нему отнеслись как к фактическому советскому посланнику и разрешили пользоваться шифром при переписке с Москвой208. Он посылал Ленину подробные письма о внутренней ситуации в Германии и о российско-германских отношениях. В январе 1920 г. в Москву в качестве аналогичного представителя прибыл Густав Хильгер209.
Идея сотрудничества с Советской Россией находила поддержку во всех слоях немецкого общества, за исключением, пожалуй, социал-демократов, но самыми страстными ее ревнителями выступали военные, а среди последних никто не выступал за нее с таким энтузиазмом, как генерал Ханс фон Зект, активный политик, видевший в армии «чистейшее отражение государства»210. Пункты Версальского договора, касающиеся демилитаризации Германии, были, с его точки зрения, равносильны подписанию смертного приговора всей нации. Фон Зект отказался в марте 1920 г. присоединиться к генералам, пытавшимся под началом Вольфганга Каппа захватить власть. В признание его заслуг он был назначен начальником Командования Армии (Chef der Heeresleitung), то есть на самый высокий военный пост в стране, и пробыл в этой должности до 1926 г.211. Новый командующий незамедлительно начал строить планы относительно создания армии в 21 современную дивизию: как только эти силы оформятся, полагал он, Германия сможет поставить союзные державы перед свершившимся фактом и отменить Версальский договор212. Такой цели, однако, можно было достичь только с помощью Москвы.
Зект обхаживал Радека и начал через него в 1919 г. секретные военные переговоры с Советской Россией, пытаясь выяснить перспективы относительно того, чтобы обойти пункты Версальского договора, запрещавшие армии Германии обзаводиться современными средствами ведения войны: авиацией, танками, тяжелой артиллерией, отравляющими газами, подводными лодками. Развивавшееся им сотрудничество с Советским государством продолжалось под покровом строжайшей тайны до 1933 г. и сослужило огромную службу и германской, и советской армиям в их подготовке ко Второй мировой войне. К несчастью, немцы систематически избавлялись от компрометирующей документации213, а советские архивы еще не полностью раскрыты, поэтому многое из того, что связано с этим эпизодом истории, остается невыясненным214.
По мнению Зекта, неизменной целью Германии должно было являться экономическое и политическое взаимопонимание с «Великой Россией». Оказывать помощь восстановлению этой страны было поэтому в интересах Германии: Россия нуждалась в Германии как в источнике знаний о производстве и управлении, Германии же требовалось русское сырье и продовольствие215. В послевоенный период такое сотрудничество влекло за собой возвращение Российского государства, при сохранении власти большевиков, к границам 1914 года, что восстановило бы непосредственное соседство двух стран; поражение остатков белых армий; разрушение независимой Польши, этого бастиона французского влияния: «Только в прочном сотрудничестве с Зеликой Россией есть у Германии шанс вернуть свои позиции как мировой державы... Нравится, или не нравится нам новая Россия и ее внутреннее устройство, к делу не относится. Наша политика оставалась бы такой же, имей мы дело с царской Россией или с государством под управлением Колчака или Деникина. Теперь же нам приходится договариваться с Советской Россией — у нас нет альтернативы... Критически относясь к прошлому, когда бытовало неправильное представление, будто нашего восточного соседа можно обезвредить путем разрухи, подрывной работы, дробления, сегодня нужно ясно сознавать, что единственной целью создания Польши, Литвы, Латвии было возведение стены между Германией и Россией»216.
Для Зекта и его последователей само существование Польши, этого «вассала» Франции, было личным оскорблением, поскольку она представляла собою важное звено во французской кампании по «окружению» Германии. Как писал Чичерину из Берлина Радек, Зект всегда спокоен и выдержан, за исключением моментов, когда речь заходит о Польше: тогда глаза у него сверкают как у зверя, и он восклицает: «Она должна быть разделена, и она будет разделена, как только Россия или Германия усилятся...»217. Подобные взгляды находили немало поклонников. Многие немцы полагали, будто разрушение независимой Польши само по себе отменит Версальский договор — что, как мы имели возможность убедиться, было и точкой зрения Ленина. [Германия надеялась к тому же вернуть при разделе Польши Данциг и верхнюю Силезию (см.: Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. М., 1971. Т. 2. С 167).]. Это позволило бы Германии вырваться из изоляции, куда ее загнали победители. Составленный военным министерством Германии меморандум так определяет положение дел: «Союзные державы отдают себе отчет в том, что Германский Рейх не сможет защититься от Версальского договора, только если он будет окружен со всех сторон буферными государствами, а с Запада — странами Антанты. Прямой контакт между Германией и Россией должен, без сомнения, дать большие преимущества и принести большую пользу в достижении главной цели: пересмотра Версальского договора»218. Чтобы добиться осуществления подобного намерения, немецкие националисты готовы были смириться с Красной Армией у своей границы. Они, казалось, не отдавали себе отчета в целях советской стратегии, для которой разрушение независимой Польши являлось лишь шагом к революции в Германии, а ее намеревались осуществлять при поддержке вооруженных сил. Летом 1920 г. большинство немцев, от крайне правых до крайне левых, приветствовало вступление российских войск в Польшу: все партии в рейхстаге отдали свои симпатии Москвы219.
26 июля, когда Красная Армия находилась неподалеку от Варшавы, Зект направил президенту Германии меморандум, в котором обрисовал свою политическую программу220. В победе России над Польшей в тот момент уже никто не сомневался. Вскоре, предсказывал он, советские войска подойдут к границам Германии, и обе страны вновь окажутся в непосредственном соседстве друг с другом; главная цель Версальского договора — изоляция России и Германии — окажется опрокинутой. Победа России над Польшей была в интересах Германии, поскольку Москва помогала последней бороться против «англосаксонского капитализма и империализма». «Будущее принадлежит России»: она неистощима и непобедима. «Если Германия примет сторону России, она сама станет непобедимой»: союзным державам придется считаться с нею, поскольку за ней будет стоять могучая держава. И, напротив, Германия, ориентирующаяся на Запад, превратится в нацию «рабов». Следовательно, политика правительства, направленная на завоевание благорасположения Запада путем уступок, противоречит национальным интересам Германии. Не следует также опасаться вмешательства Советской России во внутренние дела Германии: они сами нуждаются в последней и станут уважать ее суверенитет. Но даже если Россия нарушит границы 1914 г., Германии надлежит не обращаться за помощью к западным демократиям, а искать союза с русскими. По мнению Зекта, у просоветской политики было много дополнительных преимуществ, такой курс мог помочь правительству ублаготворить сочувствующие большевикам массы и стабилизировать тем самым домашний фронт. Он выступал за реформы, которые объединили бы промышленников и рабочих, нейтрализовав коммунистическую агитацию. Подобная программа — соединение национализма с социализмом — предвосхищала стратегию, принятую впоследствии Гитлером.
Идею сотрудничества с Советской Россией поддержали и немецкие промышленники, которых заботила перспектива сужения рынков сбыта продукции в контролируемом победительными «англосаксами» мире. Уже весной 1919 г., за год до того, как торговля была официально разрешена, немецкие предприниматели начали, в обход блокады союзных держав, экспорт в Советскую Россию, принимая в уплату бесполезные бумажные рубли. Блокада и прочие помехи на пути незаконной торговли обходились с помощью различных хитростей: товары отправлялись воздухом из Восточной Пруссии или через нейтральные государства-посредники. [Советско-германские отношения Т. 2. С. 107—109, 113—115, 116—118, 153—154. Министр экономики Германии сообщал, что большую часть продаваемой Германией Дании и Швеции сельскохозяйственной техники эти страны перепродавали России, сильно на этом наживаясь. (См. там же. С. 119.)]. Действия эти оправдывались тем, что Германия не могла позволить себе терять традиционные рынки сбыта в Восточной Европе. Министерство экономики Германии так объясняло это в июне 1919 г.: «Следует опасаться, что, если мы и впредь будем отказываться от экономических отношений с Россией, другие государства, особенно Англия и Соединенные Штаты Америки, займут наше место в экономике России. По поступившим сюда сообщениям, неофициальные представители Антанты и Америки активно действуют в том направлении, чтобы обеспечить себе всякого рода экономические отношения с Россией»221. На конференции, организованной министерством иностранных дел Германии в феврале 1920 г., один из чиновников заявил: «Если в прошлом дела, связанные с Россией, в значительной мере находились в немецких руках, то теперь наши прежние враги стремятся заполучить эти дела в свои руки»222.
Просоветская ориентация немецкой политики и экономики опиралась на энергичную поддержку министра иностранных дел Ульриха фон Брокдорф-Ранцау, который еще в бытность свою послом в Дании в 1917 г. сыграл ключевую роль в организации проезда Ленина через Германию. Впоследствии он был назначен послом в Москве223. Одним из виднейших противников консенсуса стал Ратенау: несмотря на благоприятное мнение об установлении отношений с Советской Россией, он считал, что она не может восприниматься как серьезный торговый партнер — разговоры о том, будто в России имелись большие излишки для экспорта, он отметал как «сказки». Россия могла вернуться к традиционной роли экспортера-импортера только после того, как Германия перестроит свою экономику. Сам Ратенау предпочел бы видеть Германию в роли посредника между Советской Россией и Соединенными Штатами224.
После того как Берлин узаконил частную торговлю с Москвой (май 1920), экономические отношения стали быстро налаживаться: за первые пять месяцев Германия продала России товаров на сумму свыше 100 млн марок — в основном это было сельскохозяйственное, типографское и конторское оборудование225. Вскоре торговые договоры с русскими стали заключать немецкие фирмы, им в ответ на это были предоставлены концессии на разработку природных ресурсов. В январе 1921 г. министр иностранных дел сообщил рейхстагу, что его правительство не имеет возражений против расширения торговых отношений с большевиками: «Коммунизм сам по себе еще не является причиной, чтобы республиканское и буржуазное правительство Германии отказывалось торговать с советским правительством»226. В то же лето Красин приехал в Германию. Вследствие этого визита были организованы советско-германские компании для осуществления морских и воздушных перевозок между двумя странами. Немецким фирмам, в том числе Круппу, были обещаны концессии по изготовлению тракторов. Строились далеко идущие планы о сдаче порта и производительных мощностей Петрограда в аренду концерну Круппа227. Подрывная деятельность коммунистов и повсеместно возникающие путчи не волновали немецких предпринимателей: они не воспринимали это всерьез и были уверены, что Россия, постепенно поддаваясь капитализму, не захочет впоследствии революционизировать Германию. «Большевики должны спасти нас от большевизма» — такой афоризм родился в недрах министерства иностранных дел228. Произошедший в марте 1921 г. коммунистический путч, совпавший по времени с переговорами о торговых соглашениях, никак не повлиял на них.
Таким образом закладывались основы германо-советского сближения, о котором ничего не подозревающему миру предстояло с изумлением узнать из Рапалло в 1922 г.
* * *
Ленин не делал секрета из того, какое значение он приписывал пропаганде: в разговоре с Бертраном Расселом он называл ее одним из двух факторов, помогших его правительству выжить, несмотря на невероятные трудности (вторым фактором была разобщенность его оппонентов)229. Мы еще остановимся на внутренних пропагандистских кампаниях в других главах230, теперь же рассмотрим только те, что велись коммунистами за рубежом.
Главным орудием пропаганды являлся национализированный новым правительством телеграф. В сентябре 1918 г. было создано Российское телеграфное агентство, или РОСТА, служившее «проводником линии партии в печати»231. Главной его функцией было распространение пропаганды, а не информации. Для создания плакатов оно нанимало художников. В 1922 г. агентству была предоставлена монополия на информационные услуги. В 1925 г. оно было переименовано в Телеграфное агентство Советского Союза, или ТАСС.
Жизнь в Советской России вызывала у Запада непреодолимое любопытство, и, как только закончилась гражданская война, туда устремились многочисленные путешественники и журналисты. Некоторые из них публиковали свои впечатления; рынок рассказов бывалых путешественников был практически ненасыщаем, поскольку западный читатель, сбитый с толку противоречивыми сведениями о коммунистическом эксперименте, доверял свидетелям больше, чем другим источникам. Только во Франции с 1918 по 1924 гг. вышло 34 книги таких записок232. К моменту смерти Ленина иностранцами, посетившими Советскую Россию, было опубликовано на Западе несколько сот книг и гораздо большее количество статей.
Москва, разумеется, не имела возможности контролировать то, что писали о ней вернувшиеся домой иностранцы, но она с большим успехом регулировала въезд в Россию. Въездные и выездные визы ввели очень рано: уже через два месяца после прихода к власти новый режим заявил, что всем, желающим посетить страну или выехать за рубеж, необходимо получить разрешение и пройти пограничный контроль, дабы продемонстрировать, что они не провозят запрещенных предметов или документов, могущих «повредить политическим или экономическим интересам Российской республики»233. Власти следили за тем, чтобы приезжающие в Россию иностранцы были позитивно настроены или легко поддавались манипуляции.
В эпоху, когда пресса служила главным источником информации, наилучшим способом обеспечить Москву благожелательные отзывы за рубежом было давать аккредитацию только тем газетам и журналистам, которые уже доказали свою готовность к сотрудничеству. Поскольку каждой крупной газете и телеграфному агентству хотелось открыть московское бюро, многие соглашались на предъявляемые требования и отбирали для работы там наиболее гибких корреспондентов. В Москве журналисты научались рационализировать, приуменьшать или, коли возникала такая необходимость, вовсе игнорировать нежелательные факты, сглаживать различия между декларациями и реальностью, осмеивать критиков советского режима. Усвоив необходимые навыки, они вскоре превращались в проводников советской пропаганды. Многие иностранные пресс-агентства ввели у себя практику самоцензуры: прежде чем отправить сообщение, корреспондент относил его в отдел прессы комиссариата иностранных дел для получения разрешения. «Несешь свой текст, — вспоминал Маль-колм Маггеридж, — на цензуру, как, бывало, носил сочинение тьютору в Кембридже, наблюдаешь с беспокойством, как его читают, хмурятся, сомневаются, боишься, что вот сейчас достанут карандаш и что-нибудь вычеркнут». Однажды цензор отказал Маггериджу в разрешении на отправку информации, объяснив: «Вы не можете написать так, потому что это правда»234.
Газеты, не шедшие на подобное сотрудничество, бывали наказаны. Самая страшная кара обрушилась на лондонскую «Тайме». На протяжении революции и гражданской войны «Тайме», наиболее авторитетная газета в мире, придерживалась крайне враждебной по отношению к большевикам установки; ее постоянный корреспондент Роберт Вильтон, прямолинейный монархист и антисемит, выехал в сентябре 1917 г. в Англию. Когда шесть месяцев спустя он сделал попытку вернуться в Россию, ему не дали визы. Газета отказалась заменить его на более сговорчивого журналиста и вследствие этого в течение двадцати лет имела только одного советского корреспондента, в Риге235. Английские любители прямых репортажей из Советской России вынуждены оказались потреблять продукцию с большей терпимостью относившихся к делу коммунизма журналистов: Артура Рэнсома из «Манчестер Гардиан» и «Дейли Ньюс», Майкла Фарбмана и Джорджа Лэнсбери из «Дейли Геральд», М.Филлипса Прайса — тоже из «Гардиан». [Сорок пять лет спустя Прайс признался, что вел себя непрофессионально, когда делал репортажи из Советской России. Комментируя книгу «My Reminiscences of the Russian Revolution» (London, 1921) — книгу, составленную из его статей в «Манчестер Гардиан», он писал: «Я не позволял событиям говорить самим за себя, но навязывал собственные взгляды, как если бы я слушал речи Ленина и Троцкого и повторял затем что-то из услышанного. В книге помимо этого содержатся большие куски, написанные на коммунистическом жаргоне, которого я набрался за эти два года. Я превратился, по сути дела, в попутчика...» (Survey. 1962. №41. Р. 16)].
Выразительным примером западного журналиста, отдававшего себе полный отчет в том, что он делает, и лишенного щепетильности, может быть Лэнсбери. Самозваный «христианин-пацифист», он с 1908 г. являлся редактором «Дейли Геральд», органа радикального крыла лейбористской партии. В начале 1920-х для газеты наступили тяжелые времена. Предвидя грядущую финансовую несостоятельность, Лэнсбери отправился в Москву в поисках помощи. Как только его просьба о субсидиях была удовлетворена, «Дейли Геральд» заняла однозначно просоветскую позицию; в перехваченном британской разведкой сообщении Максим Литвинов писал из Копенгагена в Москву: «В отношении русского вопроса ["Дейли Геральд"] ведет себя как наш орган»236. Один из директоров газеты, Френсис Мейнелл, получил в Копенгагене от Литвинова и переправил в Англию сверток драгоценностей. Когда в августе 1920 г. Красин и Каменев приехали в Лондон для возобновления прерванных польской войной торговых переговоров, они привезли с собой драгоценные камни и платину, проданные затем через посредников. Вырученные за них деньги, примерно 40 000 фунтов, отдали Лэнсбери; впоследствии субсидия выросла до 75 000 фунтов. К несчастью, за русскими наблюдал Скотленд-Ярд, и номера полученных при продаже драгоценностей банкнот оказались зарегистрированными. 19 августа британское правительство передало прессе перехваченную переписку Литвинова и Чичерина относительно этих подаяний237; Лэнсбери обязали вернуть деньги. [Публикация этих сообщений навела комиссариат иностранных дел на мысль, что его шифры раскрыты (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 404).]. Каменева, сыгравшего главную роль в афере, выслали из Англии238. Лэнсбери остался верен Москве; услуги, оказанные иностранной державе, не помешали ему в 1931 г. быть избранным на пост председателя Лейбористской партии.
Ведущая ежедневная газета Америки, «Нью-Йорк Тайме», не повторила ошибок своей лондонской тезки. В первые годы коммунистического правления она тоже была настроена довольно враждебно и внесла вклад в формирование концепции «красной опасности». Однако ее антикоммунистическая позиция являлась скорее эмоциональной и основывалась на слухах. В августе 1920 г. Уолтер Липман и Чарльз Марц опубликовали едкую критику обзоров газеты, посвященных Советской России, где, в частности, показали, что она 91 раз сообщала о падении большевистского правительства239. Когда в том же 1920 г. «Нью-Йорк Тайме» попросила разрешения Москвы на присылку корреспондента, Литвинов ответил, что «рад случаю поговорить с такими дружелюбными газетами, как лондонская "Дейли Геральд" или манчестерская "Гардиан", но о том, чтобы разговаривать с такими враждебными, как "Нью-Йорк Тайме", и думать не желает»240. Другими словами, если газете хотелось основать московское бюро, она должна была изменить свое отношение к Советской России. Редакция решила подчиниться.
Одним из самых непримиримых антикоммунистов в «Нью-Йорк Таймс» был Уолтер Дюранте. Англичанин по рождению и воспитанию, он имел много общего с Джоном Ридом, также принадлежал к ничем не выдающейся (хотя и гораздо менее состоятельной) семье и натерпелся в свое время насмешек от одноклассников241. В 1920 г. Дюранте занимал невысокую должность в своей газете в Париже и мечтал отправиться в Советскую Россию постоянным корреспондентом. Москва отнеслась к нему холодно, однако журналист смог преодолеть свою негативную установку и опубликовал несколько доброжелательных статей о Литвинове и материал, в котором убеждал читателей, будто, введя нэп, Ленин «выбросил коммунизм за борт»242. Через несколько дней после того, как материалы появились в печати, газету уведомили, что она может прислать корреспондента в Москву. Место досталось Дюранте — ему дали и визу, и аккредитацию, правда, с «испытательным сроком». Оказавшись на месте, корреспондент отблагодарил советские власти, отсылая в редакцию «горячие» репортажи, в которых затушевывал, хотя и не отрицая их, самые отвратительные проявления российской действительности (такие, как голод 1921 г.). Дюранте привлекал внимание читателей к тому, что Ленин якобы принял западную экономическую модель — Москва в то время невероятно нуждалась в подобной репутации, поскольку жаждала иностранных кредитов. Чтобы умерить беспокойство, порожденное революционными призывами Коминтерна, репортер проводил несуществующую границу между Интернационалом, где, по его словам, были «одни фанатики», и заседавшими в советском правительстве «реалистами», о которых говорилось, что они «готовы дать коммунистическим фанатикам выпустить... пар»243.
Дюранте с успехом прошел «испытательный срок» и в качестве московского корреспондента «Нью-Йорк Тайме» стал самым престижным американским журналистом в России. Это не только принесло ему влияние и славу, но и ввело в светскую жизнь Москвы, как никогда расцветшую при нэпе: ночные клубы в «Гранд-отеле», покер в «Савойе», посольские вечера, прогулки на привезенном с собой «бьюике», русская любовница — все было к его услугам. Экстравагантный стиль жизни журналиста заставлял некоторых думать, что он советский агент244. Джей Ловстоун, видная фигура в компартии Америки и в 1920-х — частый посетитель Советской России, пишет, что Дюранте работал на ВЧК и ГПУ245. Чтобы продолжать пользоваться предоставленными льготами, Дюранте приходилось все больше врать: он отрицал, например, наличие полицейского террора в России, убеждая читателей, что благонамеренному советскому человеку приходится бояться чекистов ничуть не больше, чем американскому гражданину — своего министерства юстиции. [К такой же аналогии приходит и Луиза Брайант, когда пишет: «Даже у нас есть своя ЧК, но мы называем ее министерством юстиции» (Mirrors of Moscow New York, 1923. P. 54).]. Ложь в его устах обретала правдоподобие, поскольку он сдабривал ее крупицами правды. Это не был ни сочувствующий коммунистам посторонний, ни друг русского народа, но просто коррумпированный индивид, зарабатывающий враньем на жизнь. Юджин Льонс, часто наблюдавший его в то время, пишет, что Дюранте «после всех лет, проведенных в России, оставался вне ее жизни и судьбы, сохранял удивительное презрение к русским. Он говорил о советских триумфах и бедах, как он стал бы говорить о прочтенном детективном романе, но при этом и вполовину не так эмоционально и заинтересованно»246. Дюранте повезло: он рано определил в Сталине наиболее вероятного преемника Ленина (позднее он похвалялся, что «поставил в русских скачках на правильную лошадь»247), и это положительно сказалось на его карьере после смерти первого вождя. Восхваления, которыми осыпал Дюранте Сталина, становились все более пышными, журналистская ложь — все более бесстыдной. В 1930-е он превозносил коллективизацию, в 1932—1934-е — отрицал, что на Украине голод. C целью привлечения в Россию инвесторов он распространял лживые истории об огромных прибылях, якобы полученных здесь американскими бизнесменами, особенно его личным другом Армандом Хаммером. [Finder J. Red Carpet. New York, 1983. P. 67. Юлиус Хаммер, американский миллионер и коммунист, обосновался в Москве и получил концессию на эксплуатацию асбестовых месторождений на Урале. Его сын Арманд помогал ему в работе и впоследствии занялся производством карандашей и прочего канцелярского оборудования (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 806). С помощью брата Арманд Хаммер продавал на Запад художественные изделия, реквизированные советской властью у владельцев и обмениваемые на необходимую стране твердую валюту.]. Трудовые подвиги принесли ему в 1932 г. Пулитцеровскую премию за «ученость, глубину, непредвзятость, аргументированное суждение и исключительную ясность изложения»248. Говорили, никто не сделал больше, чтобы привить в США положительный образ Советского Союза, причем как раз в то время, когда страна изнемогала под бременем тирании, какой еще не знало человечество. По мнению Радека, репортажи Дюранте сыграли важнейшую роль в подготовке установления дипломатических отношений СССР и США, произошедшего в 1933 г.249.
Много вреда принесла и дезинформация, распространяемая Луисом Фишером, московским корреспондентом журнала «The Nation», который, по некоторым сведениям, находился под сильным влиянием своей жены, служащей комиссариата иностранных дел250.
* * *
Русские эмигранты, несмотря на существовавшие между ними политические расхождения, одинаково пытались донести до европейцев и американцев правду о советском режиме, однако западный мир воспринимал их как жалких неудачников, а потому и влияние их было ничтожно. Меньшевики Мартов и Рафаил Абрамович регулярно появлялись на собраниях европейских социалистов, чтобы говорить о советской действительности. Их просветительская деятельность иногда приводила к тому, что западные социалистические и профсоюзные организации выносили вялые резолюции, содержавшие критику советского правительства. В плане практическом, однако, все затраченные усилия результатов не приносили, поскольку, в типичной для меньшевиков и эсеров шизофренической манере, они сводили все впечатление на нет призывами оградить Советскую Россию от западного «империализма».
Титулованный лидер партии кадетов Павел Милюков опубликовал в 1920 г. работу, в которой предостерегал Запад, что коммунизм не является, как там было принято считать, исключительно русской проблемой251. У коммунизма, говорил он, два лица: национальное и международное. Однако по преимуществу доктрина предназначается на экспорт, и основной стоящий за ней мотив — идея мировой революции. Но и это предостережение не нашло отклика. Сам же Милюков вскоре пришел к выводу, что коммунизм является болезнью переходного периода и служит прелюдией к триумфу демократии в России.
Русские монархисты имели за границей значительно больший успех. В 1920-х Германия стала гаванью для российских изгнанников правого уклона, многие из которых являлись по происхождению балтийскими немцами. Эта группа эмигрантов установила связи с германскими националистами и привнесла в идеологию последних убеждение, будто коммунизм и еврейство неразрывно связаны. Именно эти люди пропагандировали на Западе «Протоколы сионских Мудрецов», бывшие до того малоизвестной, изданной только по-русски брошюрой.
* * *
История Коминтерна, со дня его основания в 1919 г. и вплоть до формального роспуска в 1943 г., представляет собой череду беспросветных неудач. Как сказал бывший в одно время членом и ставший летописцем Третьего Интернационала Франц Боркенау, «в истории Коминтерна было много взлетов и падений. В ней нельзя проследить ни постоянного прогресса, ни хотя бы одного прочного успеха»252. Неудачи эти следует отнести прежде всего на счет невежества большевиков в том, что касалось особенностей политической культуры других государств. Лидеры большевиков провели в свое время много времени на Западе: с 1900 по 1917 гг. Ленин прожил всего два года в России, остальные — в Европе; Троцкий — семь лет в России, Зиновьев — пять. Но и живя в странах Европы, большевики поддерживали мало отношений с их населением, ведя изолированное существование среди собратьев-эмигрантов и общаясь только с самыми радикальными элементами из числа европейских социалистов. Мрачная репутация, которую получил на Западе Коминтерн, только подчеркивает, насколько коммунизм, несмотря на всю его интернациональную атрибутику, был великорусским феноменом, непригодным для экспорта. Культурные различия уже в то время воспринимались некоторыми исследователями как причина все увеличивающегося разрыва между Востоком и Западом: выражение «железный занавес» вошло в обиход уже в 1920-м году253.
Неудачи Коминтерна можно объяснить также и специфическими причинами. В 1918—1920 гг. в Западной Европе не существовало революционной партии, хотя бы отдаленно напоминающей большевистскую по численности и организованности. Когда же такие партии возникли — сначала под руководством Кемаля в Турции, затем под началом Муссолини в Италии, — они встали на путь национализма и использовали ленинские методы не для распространения коммунизма, но для борьбы с ним. Европейские социалистические партии не были жестко организованы и следовали скорее меньшевистской, нежели большевистской модели. Несмотря на то что в таких партиях были и радикальные группировки, они тяготели к реформам: чем теснее становились их связи с профсоюзами, тем меньше у них оставалось революционного азарта. Москве удалось сформировать европейские компартии только во второй половине 1920-х. В критический период сразу после подписания мира, когда возможности для распространения революции были наилучшими, у большевиков не было надежных партнеров за рубежом. Однако, даже когда компартии появились в Западной Европе, большевики не могли их эффективно использовать, настаивая, чтобы те переняли стратегию и тактику государственного переворота и гражданской войны, подобно тому как они это делали в России. Это было неосуществимо хотя бы потому, что на Западе не наблюдалось той анархии, на которую большевики опирались у себя в стране: даже в Германии уже через три месяца после отречения кайзера сложилось эффективное правительство. К тому же российское руководство Коминтерна не принимало во внимание европейского национализма. Когда в апреле 1918 г. известный анархист заявил, что западный рабочий никогда не посмел бы осуществить Октябрьскую революцию, поскольку «чувствует себя носителем кусочка власти и частью этого самого государства, которое сейчас защищает», в то время как российский пролетариат «духовно противостоит государственности», Ленин отмел эти соображения как «глупые», «примитивные», «тупые»254.
Как ни любил он напоминать сорвиголовам в своей партии, что Европа — не Россия и что революцию там несравненно более трудно осуществить, на практике Ленин вел себя так, будто различия эти не имели никакого значения. В июле 1920 г. он приказал Красной Армии идти на Варшаву, поскольку был убежден на основании опыта гражданской войны, что массы не отвечают на патриотические призывы. Ленину вскоре пришлось увидеть, насколько он ошибался, но большевики не усвоили урока: каждый свой провал за рубежом они сваливали либо на тактические просчеты, либо на нерешительность тамошних коммунистов. «Надо учить, учить и учить английских коммунистов работать, как работали большевики», — настаивал Ленин255. Подобная установка раздражала европейских коммунистов. «Неужели ничего нельзя извлечь из опыта движения, борьбы, революций в других странах, — спрашивал Зиновьева английский делегат конгресса Коминтерна, — неужели русские приехали сюда не учиться, но только учить?»256 Другой английский делегат Второго конгресса Коминтерна писал по возвращении: «Самым заметным обстоятельством здесь является абсолютная некомпетентность Конгресса, когда он берется диктовать правила британскому движению. Те тактические приемы, которые зарекомендовали себя полезными и успешными в России, привели бы к гротескным провалам, будь они применены здесь. Различие в условиях между этой высоко организованной, индустриально централизованной, политически устоявшейся и изолированной страной — и средневековой, полуварварской, (политически) разболтанной и политически инфантильной Россией никогда не станет доступно тем, кто не видел этого собственными глазами»257.
На практике западные коммунисты почти всегда подавляли свои сомнения и уступали желаниям Москвы, поскольку большевики завоевали себе не сравнимый ни с чем престиж, став во главе единственной успешной революции. Чрезмерно колеблющихся и протестующих Ленин изгонял из Коминтерна. Так, например, ведущий немецкий коммунист Пауль Леви, предупреждавший Москву, насколько опасна может оказаться попытка устроить путч в его стране, был в апреле 1921 г. объявлен «изменником» и изгнан и из компартии Германии, и из Коминтерна. Он подвергся наказанию не оттого, что оказался неправ, — даже Ленин признал, что он дал ему хороший совет, — но потому, что нарушил субординацию. [Drachkovitch M.M., Lazitch В. The Comintern: Historical Highlights. New York, 1966. P. 271—299. Леви кончил самоубийством в 1930 г.]. Таким образом критиков заставляли замолчать, но это не избавляло от повторения ошибок.
Анжелика Балабанова возлагает основную вину за неудачи Коминтерна на самого Ленина и принятую им линию руководства. Настаивая на безусловном подчинении, он отпугнул от движения истинных, склонных к независимости суждений революционеров, и их место заняли карьеристы, единственным навыком которых было повиновение. Ряды Третьего Интернационала стали быстро разрастаться от притока негодяев и интриганов, да и глава его, Зиновьев, был не лучше других — о нем Балабанова пишет, что после Муссолини это был «самый низкий человек», какого она только знала258. Относясь к ленинской «привычке избирать себе сотрудников и доверенных лиц именно вследствие их слабостей и недостатков, а также на основании их сомнительного прошлого», она вспоминает: «Ленин не был ни слеп, ни безразличен к тому, какой вред личная непорядочность могла причинить движению. И тем не менее он использовал людей, представлявших собою отбросы человечества... Большевики... использовали любого, кто доказывал свою хитрость, беспринципность, способность быть "мастером на все руки", проникать всюду, рабски исполнять приказы начальства... Считая меня хорошим революционером, пусть и не большевиком, Ленин и его сотрудники были уверены, что я одобряю их методы: коррупцию с целью подрыва оппозиционных организаций, клевету на всех, кто оказывался склонен или способен к противодействию, объявление всех их действий бесчестными или вредными»259. Однако она не смогла одобрить этого и вышла из Коминтерна. Менее достойные остались.
К приведенным выше причинам можно добавить еще одну, четвертую, неуловимую по своей природе и потому трудно определимую. Она связана с «русскостью» большевизма. Отличительным качеством российского радикализма всегда был неуступчивый экстремизм, установка на «все или ничего», стремление «идти напролом», презрение к компромиссу. Это связано с тем, что до того, как захватить власть, российские радикалы — интеллектуалы, у которых почти не было последователей и практически не было возможности влиять на политику, — жили исключительно идеями, и только с ними отождествлялись. Подобных людей можно было встретить и на Западе, особенно среди анархистов, но там они оказывались в безусловном меньшинстве. Западные радикалы мечтали реформировать, а не разрушить, существующий порядок; российские, напротив, видели в своей стране мало достойного сбережения. Вследствие этих глубочайших различий в политической философии, вследствие русского нигилизма большевикам трудно оказывалось общаться с теми, кто сочувствовал им на Западе. С точки зрения русских, последние не были настоящими коммунистами. «Большевизм. Это — русское слово, — писал эмигрант-антикоммунист в 1919 г. — Но не только слово. Ибо большевизм в том виде, в тех формах и проявлениях, что кристаллизуется вот уже почти два года в России, есть явление исключительное, русское, нитями глубокими связанное с русской душой. И когда говорят о большевизме немецком, о большевизме венгерском, я улыбаюсь. Разве это большевизм? Внешне. Политически, может быть. Но без души своеобразной. Без русской души. Псевдобольшевизм»260.
ГЛАВА 5. КОММУНИЗМ, ФАШИЗМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ
Что такое фашизм? Это социализм, освободившийся от демократии.
Шарль Морра1'Деятельность коммунистов дома и за рубежом парадоксальным образом привела не к революции в мировом масштабе, а к росту движений, усвоивших их дух и копировавших их методы для борьбы с коммунизмом. В этом смысле так называемый правый радикализм, или «фашизм», возникший в Европе после Первой мировой войны, часто рассматривается как прямая противоположность коммунизму. Но, как это часто бывает в столкновениях идеологий, как религиозного, так и светского содержания, их яростный характер вызван не антагонизмом их принципов или целей, а борьбой за одну и ту же цель — поддержки избирателей.
Отношения между коммунизмом и фашизмом уже давно стали предметом спора. Интерпретация, обязательная для коммунистических историков и облюбованная западными социалистами и либералами, ставит оба феномена в непримиримую оппозицию друг к другу. Консервативные историки, со своей стороны, объединяют их понятием «тоталитаризма». Проблема крайне важная, поскольку ставит вопрос: есть ли родственные отношения между марксизмом-ленинизмом и фашизмом, и в особенности нацизмом как его крайним проявлением, или последние два — детища капитализма и ничего больше?
Не станем сосредоточиваться на этой полемике, которой посвящена обширная литература2. Мы попытаемся пролить свет на то влияние, которое коммунизм оказывал на политику Запада как в качестве привлекательной модели для подражания, так и угрозы распространения. Исследуя происхождение праворадикальных движений в Европе в период между войнами, скоро убеждаешься, что они были бы немыслимы, не имей они готовых уроков, преподанных Лениным и Сталиным. Это обстоятельство странным образом ускользает о внимания историков и политологов, которые рассматривают тоталитарные режимы в Европе как самозародившиеся: даже Карл Брахер в своем образцовом описании прихода Гитлера к власти не упоминает Ленина, хотя аналогии в методах, используемых этими двумя вождями, повсюду в его работе бросаются в глаза3.
Почему исследователи фашизма и тоталитаризма как правило проходят мимо советского опыта? Для левых историков даже сама идея сопоставления советского коммунизма с фашизмом равносильна допущению их возможного родства. Поскольку фашизм для них по определению есть противоположность социализму и коммунизму, никакие разговоры об их сходстве недопустимы, и источники фашизма следует искать исключительно в консервативных идеях и практике капитализма. В Советском Союзе это направление зашло так далеко, что при Сталине и его непосредственных преемниках термин «национал-социалист» был вообще исключен из оборота.
Во-вторых, в 20-е годы, когда концепции «тоталитаризма» и «фашизма» стали набирать научный вес, западные ученые имели очень слабое представление о большевиках и однопартийном режиме, ими изобретенном. Как мы уже отмечали4, основы этого режима закладывались в 1917—18 годах, когда в Европе в последний год Первой мировой войны были и иные, более важные и насущные проблемы, чем идущие в России внутренние процессы. Истинная природа коммунистического режима была надолго сокрыта от иностранных глаз за фасадом новых псевдодемократических институтов государственного здания, строящегося партией-монополистом. Как бы странно это ни представлялось сегодня, в 20-е годы, «когда развивались фашистские движения, коммунизм еще не проявил себя как тоталитарная система... но казался защитником безграничной свободы...»5. В период между войнами коммунистический режим так и не стал предметом серьезного исторического и теоретического анализа. Несколько серьезных работ о Советской России, появившихся в основном в 30-е годы, описывали страну, существовавшую при сталинском режиме, чем создавалось ложное впечатление, будто именно он, Сталин, а не Ленин породил однопартийную систему. Еще в 1951 году Ханна Арендт утверждала, что Ленин изначально задумывал сосредоточить власть в советах, но потерпел «крупнейшее поражение», когда в начале гражданской войны «высшая власть... перешла в руки партийной бюрократии»6.
Первые исследования феномена тоталитаризма проводились почти исключительно немецкими учеными на основе их собственного национального опыта7. Это объясняет преувеличенное значение, какое Ханна Арендт придает антисемитизму как атрибуту тоталитаризма. [В книге «Происхождение тоталитаризма» (Нью-Йорк, 1958. С. VIII) автор называет еврейский вопрос и антисемитизм «катализатором» сначала нацистского движения, а затем и Второй мировой войны, отводя этой теме первые четыре главы своей книги.]. Другие авторы (как Зигмунд Нейманн) отмечают сходства режимов Сталина, Муссолини и Гитлера, но и они пренебрегают русским влиянием на праворадикальные движения по той простой причине, что были плохо знакомы с механизмом коммунистической политической системы. Первый систематичный анализ диктатур левого и правого толка, сделанный в 1956 году Карлом Фридрихом и Збигневом Бжезинским, тоже несколько страдает отсутствием исторической перспективы8.
Третьим фактором, препятствовавшим пониманию влияния большевизма на фашизм и национал-социализм, была настойчивая подмена Москвой в словаре «прогрессивной» науки прилагательного «тоталитарный» на «фашистский» при описании всех антикоммунистических движений и режимов. Партийная линия в этом вопросе сложилась еще в начале 20-х годов и была формализована в резолюциях Коминтерна. «Фашизм», термин, свободно применявшийся как в отношении муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии, так и в отношении таких сравнительно мягких антикоммунистических диктатур, как режим Салазара в Португалии и Пилсудского в Польше, был объявлен продуктом «финансового капитализма» и орудием буржуазии. В 20-е годы официальной советской доктриной прямо утверждалось, что «капиталистические» страны, прежде чем уступят дорогу коммунизму (социализму), обречены пройти через фазу «фашизма». В середине 1930-х, проводя политику «Народного фронта», Москва несколько смягчила позиции в этом вопросе, чтобы не лишать себя возможности войти в сотрудничество с правительствами и движениями, которые подпадали под ее собственное определение «фашистских». Но принцип, что антикоммунизм и фашизм суть одно и то же, был обязательным для всех стран, где действовала коммунистическая цензура, вплоть до начала периода «гласности», наступившего при Михаиле Горбачеве. Такого же взгляда придерживались «прогрессивные» круги на Западе. А те ученые, которые имели смелость сравнить режимы Муссолини или Гитлера с коммунизмом или увидеть в них истинно народные движения, обрекали себя на остракизм. [См., напр., как итальянская интеллигенция относилась к Ренцо де Феличе, подчеркивавшему массовые, а не «буржуазные» корни фашизма (Ledeen M. In: Mosse G. International Fascism. London—Beverly Hills, 1979. P. 125-140)].
По канонической левой версии, сформулированной Коминтерном, «фашизм» есть прямая противоположность коммунизму, и попытки соединить их под общим понятием «тоталитаризм» отметаются с ходу, как продукт «холодной войны». «Фашизм», согласно такому взгляду, есть характеристика империалистической стадии капитализма, предшествующая его окончательному краху: предчувствующий свою кончину «монополистический капитализм» прибегает к «фашистской диктатуре» в отчаянной попытке сохранить контроль над рабочим классом. Исполком Коминтерна в 1933 году дал определение фашизма как «открытой, террористической диктатуры самых реакционных, шовинистических и империалистических элементов финансового капитализма»9. Для убежденных марксистов между парламентской демократией и «фашизмом» особой разницы нет — это не более чем два способа удержания власти вопреки желанию рабочих масс. «Фашизм» консервативен, поскольку сохраняет существующие имущественные отношения: он «не революционен, но реакционен, или даже контрреволюционен, поскольку стремится воспрепятствовать естественному движению к социалистическому обществу»10. Революционные начала режимов Муссолини и Гитлера, столь впечатлявшие современников, объявлялись отвлекающим маневром.
Аргументы против концепции «тоталитаризма» и предположения, что большевизм оказал влияние на «фашизм», можно разбить на две категории. На низшем полемическом уровне прибегают к аргументам ad hominem. Концепция «тоталитаризма» объявлялась изобретением холодной войны: соединение коммунизма с нацизмом помогало повернуть общественное мнение против Советского Союза. В действительности эта концепция опережала холодную войну на добрых двадцать лет. Идея тотальной политической власти и «тоталитаризма» была сформулирована в 1923 году оппонентом Муссолини, Джиовани Амендола (впоследствии убитым фашистами), который, наблюдая планомерное уничтожение государственных институтов при Муссолини, пришел к выводу, что его режим радикально отличается от привычной диктатуры. В 1925 году Муссолини подхватил этот термин и придал ему позитивное звучание. Он определял фашизм как «тоталитаризм» в смысле политизации всего «человеческого» и всего «духовного»: «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства». [Диктатор Ганы в 50-е и 60-е годы Кваме Нкрума, друг Советского Союза, высек на своем монументе парафраз из Евангелия: «Ищите прежде царства политического, а остальное все приложится». (Ср. Матф. 6.33.)]. В 1930-е годы с восхождением Гитлера и одновременным развертыванием террора в Советской России термин получил хождение в академических кругах. Все это происходило задолго до холодной войны.
Более серьезные противники концепции «тоталитаризма» приводили следующие основания: во-первых, ни один режим еще не мог добиться абсолютной политизации и полного государственного контроля, и, во-вторых, черты, приписываемые так называемым «тоталитарным» режимам, можно наблюдать не только в них.
«Систем, которые заслуживают названия тоталитарных в строгом смысле этого слова, не существует, потому что всегда сохраняются в той или иной степени черты плюрализма». Иными словами, им не удается достичь того «монолитного единства», которое и является их отличительной чертой11. На это можно лишь ответить, что если бы термины, используемые социальными науками, подвергнуть проверке на предмет их буквального соответствия, то едва ли нашелся хотя бы один, удовлетворяющий этим условиям. При таких требованиях мы не можем говорить о «капитализме», ибо даже в период самого бурного расцвета экономических свобод в XIX веке правительства тем или иным способом контролировали и регулировали рыночные операции. Нельзя говорить и о «коммунистической экономике», потому что даже в Советском Союзе, где государственный сектор составлял 99%, все же постоянно приходилось мириться с существованием «второго», свободного сектора экономики. Демократия означает правление народа, и тем не менее политические теории свободно допускают существование в демократических странах особых групповых интересов, влияющих на политику. Такие концепции полезны, ибо они отражают то, к чему данная система стремится и чего она достигла не в «строгом», словарном значении, как в естественных науках, но в широком смысле, единственно приемлемом в человеческих делах. На практике все политические, экономические и социальные системы «перемешаны» — чистых не бывает. Задача ученого определить те черты данной системы, которые в совокупности характеризуют и выделяют ее из остальных. И нет никаких разумных оснований для приведения понятия «тоталитаризма» к более строгим стандартам.
Действительно, притязания тоталитаризма столь непомерны, что, по словам Ганса Бухгейма, по самой своей природе неисполнимы: «Поскольку тоталитарный строй преследует недостижимую цель — полный контроль над человеческой личностью и судьбой, — он может быть реализован лишь частично. Сущность тоталитаризма в том и состоит, что цель никогда не может быть достигнута и воплощена, но должна оставаться целью, требованием, предъявляемым к власти... Тоталитарный строй не есть единообразно рациональный механизм, одинаково эффективный во всех своих узлах. Это лишь идеал, и в некоторых областях воплощенный в действительности; но в целом основные властные притязания тоталитарного строя реализуются лишь в искаженном виде, в различной степени в разные времена и в разных областях жизни, а в процессе — тоталитарные черты всегда переплетены с нетоталитарными. Но именно по этой причине проявления тоталитарных притязаний столь опасны и угнетающи; они смутны, непредсказуемы и труднодоказуемы... Почти всякое исследование тоталитарных мер неизбежно страдает преувеличением проблемы в одних отношениях и недооценки ее в других. Этот парадокс происходит из-за нереализуемости притязаний на тотальный контроль; он характерен для жизни при тоталитарном строе и предельно затрудняет ее понимание для сторонних наблюдателей»12.
Сходный ответ можно дать и тем, кто утверждает, что черты, приписываемые тоталитаризму (упор на идеологию, апелляция к массам и харизматичность лидера), существуют и в других политических режимах: «Утверждение об исторической уникальности какой-либо системы не означает, что она уникальна "в целом"; ибо ничто не уникально. Все исторические явления принадлежат к широким классам объектов исследования... История в первую очередь занимается индивидуальными особенностями, будь то личности, предмета или события, и достаточно пестрое сочетание отличительных черт создает тем самым историческую уникальность»13.
Изучение итальянского фашизма и германского национал-социализма крайне важно для понимания русской революции по трем причинам. Во-первых, призрак коммунизма, которым легко было пугать население, помог Муссолини и Гитлеру в установлении их диктатур. Во-вторых, они оба многому научились у большевиков в технике построения партии на основе личной преданности для захвата власти и внедрения однопартийной диктатуры. И в том и в другом отношении коммунизм оказал значительно большее влияние на «фашизм», чем на социализм и рабочее движение. И в-третьих, литература, посвященная фашизму и национал-социализму, богаче и серьезнее исследований о коммунизме, и знакомство с ней проливает свет на режим, выросший из русской революции.
Влияния — почва для историка весьма неверная и зыбкая, потому что легко поддаться распространенному заблуждению post hoc, ergo propter hoc — «после этого — значит по причине этого». Нельзя утверждать, что коммунизм «породил» фашизм и национал-социализм, ибо они имели собственные корни. Но можно сказать, что, когда антидемократические силы в послевоенной Италии и Германии накопили достаточно сил, их лидеры уже имели готовую модель для подражания. Все атрибуты тоталитаризма были предвосхищены в ленинской России: официальная, всеохватывающая идеология; единственная элитарная партия, возглавляемая «вождем» и безраздельно господствующая в государстве; полицейский террор; контроль правящей партии над всеми средствами коммуникации и вооруженными силами; централизованное управление экономикой. [Эти критерии были установлены Карлом Дж. Фридрихом и Збигневом Бжезинским в книге «Totalitarian Dictatorship and Autocracy» (New York-London, 1964. P. 9—10). Планирование хозяйства было впервые реализовано в Советском Союзе в 1927 году, но основа его была заложена еще Лениным в 1917 году при учреждении Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).]. Поскольку в начале 20-х, когда Муссолини устанавливал свой режим, а Гитлер основывал свою партию, в Советском Союзе — и нигде более — уже существовали все необходимые институции и процедуры, бремя доказательства того, что между «фашизмом» и коммунизмом нет никакой связи, ложится на тех, кто придерживается такого взгляда.
* * *
Ни одна крупная фигура среди социалистов в Европе до Первой мировой войны не носила большего сходства с Лениным, чем Бенито Муссолини. Как и Ленин, он возглавлял антиревизионистское крыло социалистической партии в своей стране; как и Ленин, он считал, что рабочие, предоставленные сами себе, недостаточно революционны и к радикальным действиям их должна подтолкнуть интеллигенция. Однако он действовал в более сочувствующем его идеям окружении, и ему не пришлось, как Ленину, раскалывать партию и уводить за собой меньшинство — Муссолини поддерживало большинство Итальянской социалистической партии (ИСП), и он изгнал реформистов. Если бы не резкая перемена своей позиции в отношении к войне в 1914 году в пользу выступления Италии на стороне союзников, которая повлекла его исключение из ИСП, он вполне мог бы стать итальянским Лениным. Историки-социалисты, не зная, как отнестись к этим фактам ранней биографии Муссолини, либо замалчивают их, либо описывают как мимолетное увлечение социализмом человека, истинными учителями которого якобы были не Маркс, а Ницше и Сорель. [Один из устойчивых мифов антифашистской литературы состоит в том, что Сорель оказал большое влияние на Муссолини. В действительности это влияние было слабым и недолгим (см.: Megaro G. Mussolini in the Making. Boston—New York, 1938. P. 228; Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. Munich, 1963. S. 203). Муссолиниевский культ насилия вдохновлялся не Сорелем, а Марксом. Сорель однажды в сентябре 1919 г. написал Ленину эклогу («Pour Lenine». In: Reflexions sur la violence. 10th ed. Paris, 1946. P. 437—454), в которой он говорил, что был бы безмерно горд, если бы правдой были слухи, что он, Сорель, внес свой вклад в интеллектуальное развитие человека, который представляется ему «и самым великим теоретиком социализма после Маркса, и главой государства, гений которого сравним лишь с гением Петра Великого» (р. 442).]. Такое объяснение, однако, плохо уживается с тем обстоятельством, что итальянские социалисты имели достаточно высокое мнение о будущем вожде фашизма, чтобы назначить его в 1912 году главным редактором своего партийного органа печати — газеты «Аванти!»14. Отношения Муссолини с социализмом нельзя назвать минутным увлечением, они скорее характеризуются фанатической преданностью: до ноября 1914 года, а в некотором отношении и вплоть до начала 1920-го, его взгляды на природу рабочего класса, структуру и функционирование партии, на стратегию социалистической революции ничем существенно не отличались от ленинских.
Муссолини родился в Романье, наиболее радикально настроенной провинции Италии, в семье обедневшего ремесленника анархо-синдикалистских и марксистских убеждений. Отец внушал ему, что человечество делится на два класса: эксплуататоров и эксплуатируемых. (Этой формулой Муссолини воспользовался как социалистический лидер: «В мире есть только два отечества: эксплуататоров и эксплуатируемых» — sfruttati и sfruttatori15.) Муссолини был гораздо более скромного происхождения, чем вождь большевиков, и в его радикализме отчетливо просматривалась пролетарская природа. Он был не теоретиком, а тактиком, чей мировоззренческий эклектизм, смесь анархизма и марксизма, как и его пристрастие к насилию, напоминали идеологию русских социалистов-революционеров. В 1902 году в возрасте 19 лет он поехал в Швейцарию, где провел два года в крайней нужде, выкраивая время для учебы между случайными приработками. [Его отъезд из Италии обычно объясняется желанием избежать армейского призыва. Но, как указал Джеймс Грегор, это не может послужить объяснением, поскольку, вернувшись в ноябре 1904 года, он два года прослужил в армии (Ycung Mussolini and the Intellectual Origins of Fascism. Berkeley, 1979. P. 37).]. В этот период он сошелся с радикальной интеллигенцией: и весьма вероятно, хотя и нельзя утверждать категорически, что он встречался с Лениным. [Ренцо де Феличе (Mussolini il rivoluzionario, 1883—1920. Turin, 1965. P. 35) считает, что такая встреча действительно произошла. Муссолини, никогда ясно не отвечавший на вопрос о встрече с Лениным («[русские эмигранты] постоянно меняли свои имена»), однажды загадочно заметил: «Ленин знал меня много лучше, чем я его». Во всяком случае в этот период он читал в переводе некоторые труды Ленина и сказал, что они «пленили его» (de Begnac Y. Palazzo Venezia: Storia di un Regime. Rome, [1950]. P. 360).]. По словам Анжелики Балабановой, которая часто видела Муссолини в этот период, он был тщеславным эгоцентриком, склонным к истерии, чей радикализм коренился в бедности и ненависти к богатым16. Именно тогда он проникся устойчивым отвращением к реформистскому, эволюционному социализму.
Как и Ленин, он считал конфликт самым привлекательным проявлением политики. «Классовую борьбу» он понимал буквально, как битву, неизбежно принимающую насильственные формы, ибо ни один правящий класс никогда добровольно не откажется от своего богатства и привилегий. Он восхищался Марксом, которого он называл «отцом и учителем», не за его экономические и социальные теории, но за то, что он был «великим философом рабочего насилия»17. Он презирал «социалистов-законников», стремившихся достичь цели парламентарными средствами. Не верил он и в профсоюзное движение, которое, по его мнению, отвлекало трудящихся от классовой борьбы. В 1912 году в статье, которая могла бы вполне принадлежать перу Ленина, он писал: «Рабочий, просто организованный, превращается в мелкого буржуа, подчиняющегося только своим интересам. Никакой призыв к идеалам не достигает его слуха»18. Этому взгляду он остался верен и после отдаления от социализма: в 1921 году, уже будучи фашистским вождем, он описывал рабочих «благочестивых и глубоко миролюбивых... по своей природе»19. Так, независимо от Ленина, и в социалистической и в фашистской своих ипостасях он осуждал именно то, что русские радикалы называли «стихией», то есть придерживался взгляда, что предоставленные сами себе рабочие не станут совершать революцию, а пойдут на сговор с капиталистами — квинтэссенция социальной теории Ленина. [В социалистических кругах Италии идея, что классовое сознание есть естественный продукт классового положения, опровергалась многими социалистами-теоретиками начиная с 1900 г., и среди них: Антонио Лабриола, А.О.Оливетти и Серджио Панунцио. (Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. Princeton, 1974. P. 107.)].
Как мы видим, перед Муссолини встала та же проблема, что вставала и перед Лениным: как сделать революцию с помощью класса, нереволюционного по своей природе. И он решил ее так же, как Ленин, призвав к созданию элитной партии, которая сможет привить дух революционного насилия рабочим массам. Если к замыслу формирования партии как передового отряда революции Ленин пришел, исходя из опыта «Народной воли», то у Муссолини он сложился под впечатлением от трудов Гаэтано Моска и Вильфредо Парето, которые в 90-е годы XIX века и в начале XX популяризировали взгляды на политику как борьбу за власть среди элитных групп. Моска и Парето испытали влияние современных философских учений, в особенности теории Анри Бергсона, отвергавшего позитивное значение «объективных» факторов как решающих в социальном поведении в пользу волюнтаризма.
Но основной импульс теориям о ведущей роли элит дала сама практика демократии XIX столетия, обнажившая ее несостоятельность. Дело не только в том, что европейские демократии раздирали вечные парламентские кризисы и скандалы — в Италии за последнее десятилетие XIX века шесть раз сменялось правительство, — но главное: все отчетливей подтверждалось представление, что демократические институты служат ширмой правлению меньшинства олигархии. Отталкиваясь от этих наблюдений, Моска и Парето сформулировали теорию, которая имела большое влияние на европейских политиков после Первой мировой войны. Концепция «элитарности» в политике была подхвачена основным направлением западной мысли и стала общим местом: по словам Карла Фридриха, элитарная теория стала «доминирующей темой в истории западной мысли последние три поколения»20. Но на переломе столетий это была еще совершенно оригинальная идея: в работе «Правящий класс» Моска признавал, что «нелегко допустить, как естественный и непреложный факт, что меньшинство управляет большинством, а не наоборот»: «Господство организованного меньшинства, послушного единому импульсу, над неорганизованным большинством неминуемо. Власть любого меньшинства непреодолима, поскольку каждый индивидуум из большинства оказывается перед единым целым организованного меньшинства. В то же время меньшинство организовано уже только в силу того, что оно меньшинство. Сотня человек, действующих единодушно и единообразно, разделяющих общие для всех представления, возьмут верх над тысячью несогласованных и тем самым дающих возможность справиться с ними поодиночке». [Mosca G. The Ruling Class. New York—London, 1939. Эта теория объясняет, почему тоталитарные режимы с таким упорством стремятся истребить или подчинить себе не только соперничающие политические партии, но и любые организации без исключения. «Разобщенность общества» позволяет меньшинству эффективнее править большинством.].
Решив раз и навсегда, что рабочий класс по самой природе своей является реформистским («экономические организации [профсоюзы] реформистские потому, что экономическая реальность реформистская») и что при любой политической системе власть принадлежит меньшинству, Муссолини пришел к выводу, что для «революционизации» трудящихся требуется, чтобы их возглавила «аристократия ума и воли»21. Эти идеи владели им уже в 1904 году22.
Руководствуясь этими взглядами, Муссолини принялся за преобразование Итальянской социалистической партии. La Lotto di Classe («Классовая борьба») — газета, которую он основал в 1910 году, преследовала реформистское большинство в манере, очень сходной с обращением Ленина с меньшевиками, хотя и не прибегала с такой легкостью к клевете. Ленин мог бы смело подписаться под редакционной статьей Муссолини в первом выпуске этой газеты: «Социализм приближается, и мера воплощения социализма в недрах существующего гражданского общества определяется не политическими завоеваниями — обычными иллюзорными принципами Социалистической партии, — но числом, силой и сознательностью рабочих сообществ, которые уже сегодня составляют ядро коммунистической организации будущего. И рабочий класс, как говорит в своей «Нищете философии» Карл Маркс, заменит в ходе своего развития старое гражданское общество сообществом, которое уничтожит классы и классовые конфликты... В ожидании этого, конфликт между пролетариатом и буржуазией есть борьба класса против класса, та борьба, которая, — доведенная до своего высшего проявления, — и есть всеобщая революция... Экспроприация буржуазии будет финальным результатом этой борьбы, и рабочий класс без труда запустит производство на коммунистической основе, поскольку уже сейчас в своих профсоюзах он готовит оружие, учреждения, людей для этой битвы и этих завоеваний... Рабочие-социалисты должны образовать авангард, бдительный и боевой, не позволяющий массам забыть об идеале, к которому следует стремиться... Социализм не предмет торга, не игра для политиков, не мечты романтиков: и еще менее — спорт. Это стремление к моральному и материальному подъему, как отдельного индивидуума, так и всего коллектива, и, возможно, самая глубокая драма, когда-либо происходившая в человеческом коллективе, и, очевидно, самая лелеемая мечта миллионов человеческих существ, страждущих и не желающих более влачить жалкое существование, — но жить»23.
Играя на отчаянном радикализме рядовых членов, Муссолини сумел на съезде Социалистической партии в 1912 году изгнать из ее руководства умеренных. Среди его сторонников были и в последующем известные деятели итальянского коммунизма, в том числе и Антонио Грамши24. Муссолини вошел в состав исполкома партии, и на него было возложено издание газеты «Avanti!». Ленин на страницах «Правды» приветствовал победу фракции Муссолини: «Раскол — тяжелая, болезненная история. Но иногда он становится необходим, и в таких случаях всякая слабость, всякая "сантиментальность"... есть преступление... И партия итальянского социалистического пролетариата, удалив из своей среды синдикалистов и правых реформистов, встала на верный путь»25.
В 1912 году, казалось, Муссолини, которому тогда было без малого 30 лет, суждено возглавить итальянских революционных социалистов, или «непримиримых», как их называли. Но этого не случилось из-за его позиции по вопросу об участии Италии в войне.
До 1914 года Муссолини предостерегал, что, если правительство объявит войну, социалисты ответят гражданским неповиновением. В 1911 г., после того как Италия направила войска в Триполитанию (Ливию), он предупреждал, как и Ленин, что социалисты готовы превратить «войну между народами в войну между классами»26, а средством достижения этого станет всеобщая стачка. Он повторил свои угрозы в канун Первой мировой войны: если Италия, нарушив нейтралитет, встанет на сторону Центральных держав против Союзников, писал он в августе 1914 года, ее ожидает пролетарское восстание27. Историк фашизма Эрнст Нольте, по какой-то неведомой причине оставляя в стороне Ленина, заявляет, что Муссолини был единственным выдающимся социалистом в Европе, который угрожал своему правительству восстанием, если оно вступит в войну28.
Начало войны и совершенно неожиданная готовность европейских социалистов проголосовать за военные кредиты пошатнули уверенность Муссолини: в ноябре 1914 года, к изумлению своих товарищей, он выступил в пользу участия Италии в войне на стороне союзников. Свои слова он подтвердил делами, вступив в армию и провоевав в пехоте до февраля 1917 года, когда, из-за серьезных ранений, был отправлен в тыл.
Выдвигалось множество объяснений такого поворота на 180 градусов, который привел к исключению его из рядов Социалистической партии. Самые смелые из них предполагают подкуп: будто бы на него оказывали сильное давление французские социалисты, которые обеспечили его средствами для издания собственной газеты «Popolo d'Italia». Похоже, Муссолини действительно продался, но по мотивам скорее политическим. После того как почти все европейские социалистические партии нарушили пацифистские клятвы и поддержали вступление своих стран в войну, он, должно быть, убедился, что национализм почва более твердая, чем социализм. В декабре 1914 г. он писал: «Нация не исчезла. Мы привыкли считать, что она уничтожена. Напротив, мы видим, как она восстает к жизни, как бьется ее пульс! И вполне понятно. Новая реальность не подавляет правды: класс не может уничтожить нацию. Класс выражает коллективные интересы, но нация есть история чувств, традиций, языка, культуры, родословной. Можно включить класс в нацию, но они не уничтожают друг друга»29.
Из этого он делал вывод, что Социалистическая партия должна повести за собой не только пролетариат, но всю нацию: она должна создать «ип socialismo nazionale» — «национальный социализм». Очевидно, в 1914 году в Западной Европе такой переход от интернационального социализма к социализму национальному имел для амбициозного демагога определенный смысл30. Муссолини остался верен идее насильственной революции, возглавляемой элитарной партией, но с этого времени он заговорил о национальной революции.
Можно также объяснить радикальную перемену его позиции стратегическими соображениями, а именно убеждением, что международная война необходима для революции. Такого мнения придерживались многие итальянские социалисты-интернационалисты, как видно из приведенного ниже отрывка из статьи левого экстремиста Серджио Панунцио (впоследствии известного теоретика фашизма), появившейся в газете «Аванти!» через два месяца после начала военных действий: «Я твердо убежден, что только нынешняя война и тем более, чем острее и длительней она будет, сможет дать выход революционным действиям в европейском социализме... За внешними войнами должны последовать войны внутренние, первые должны подготовить вторые, и вместе подготовить наступление великого, славного дня социализма... Все мы убеждены, что для наступления социализма его должны желать. Вот момент желания и имения. Если социализм инертен и... нейтрален, то завтра историческая ситуация может в лучшем случае закрепить сходное с сегодняшним положение дел, но может объективно повернуться более далекой и даже противоположной социализму стороной... Все мы убеждены, что все государства и тем более государства буржуазные после войны, как победители, так и побежденные, будут лежать бездыханные с переломанным хребтом... Все они будут, в определенном смысле, повержены... Капитализм понесет такие потери, что достаточно будет coup de grace... Тот, кто поддерживает дело мира, поддерживает, сам того не ведая, дело сохранения капитализма».[Цит. по: de Felice R. Mussolini il rivoluzionario. P. 245—246. He исключена возможность, что автором этого отрывка был сам Муссолини. В 1919 г. Муссолини отзывался о вступлении Италии в войну как о «первом эпизоде революции, ее начале. Революция под названием войны продолжалась 40 месяцев» (Rossi A. The Rise of Italian Fascism, 1918—1922. London, 1938. P. 11)].
Такой позитивной оценки войны русские социалисты не давали, в особенности крайне левые; правда, они редко позволяли себе столь откровенные высказывания. Есть свидетельства, что Ленин приветствовал начало войны и возлагал надежды на ее долгое продолжение и тяжкие последствия. Понося кровожадность мировой «буржуазии», Ленин про себя радовался ее самоуничтожению. В январе 1913 г. во время Балканского кризиса он писал Максиму Горькому: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие»31. Во время Первой мировой войны Ленин отвергал всякие проявления пацифизма как в русском, так и в международном социалистическом движении, проповедуя, что миссия социалистов не в том, чтобы остановить войну, а в том, чтобы превратить ее в гражданский конфликт, то есть революцию. [Когда началась война, Ленин написал Инессе Арманд открытку, начинающуюся словами: «Поздравляю с началом революции в России» (РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 3. Л. 341)].
Нельзя поэтому не согласиться с Доменико Сеттембрини, что в отношении к войне у Муссолини и Ленина обнаруживается тесное сходство, даже при том, что один приветствовал участие его страны в войне, а другой выступал против, во всяком случае публично: «Хотя [и Ленин, и Муссолини] полагали, что партия может послужить инструментом для радикализации масс и формирования их реакции, она, сама по себе, не могла создать необходимых предпосылок для революции — крушения социального уклада капитализма. Что бы ни говорил Маркс о революционном духе, автоматически возникающем при обеднении пролетариата и вытекающей из этого неспособности капитализма реализовывать свои товары на сокращающемся рынке, факт тот, что пролетариат не становится беднее, что революционный дух явно не проявляется и капиталистический уклад скорее укрепляется, чем приходит к упадку. Таким образом, необходимо искать замену автоматическому механизму развития революции, предложенному Марксом, и такой заменой служит война». [Euro-communism / Ed. by G.R.Urban. London, 1978. P. 151. Сеттембрини поднимает интересный вопрос: «Как повел бы себя Ленин, если бы царь, как итальянское правительство в 1914 г., сохранил нейтралитет. Можно ли быть уверенным, что Ленин не стал бы ярым сторонником интервенции?» (См.: Mosse G. International Fascism. London—Beverly Hills, Cal., 1979. P. 107.)].
Муссолини продолжал считать себя социалистом вплоть до 1919 года, когда он основал фашистскую партию. В стране, переполненной безработными ветеранами войны, при растущем уровне инфляции, возникали серьезные социальные волнения. В забастовках принимали участие сотни тысяч рабочих. Муссолини подлил масла в огонь. В январе 1919 г. он подстрекал к незаконной забастовке почтовых работников и призывал рабочих захватывать фабрики. По свидетельству одного исследователя, летом 1919 г., когда социальные беспорядки достигли апогея, он делал все возможное, чтобы превзойти немощную Социалистическую партию и Итальянскую всеобщую конфедерацию труда дерзкими призывами к насилию: его «Popolo d 'Italia» открыто предлагала «повесить на фонарях» спекулянтов32. Июньская программа/art/ di combattimento (т.н. «групп борьбы»), составлявших ядро фашистской партии, мало чем отличалась от социалистической: Учредительное собрание, восьмичасовой рабочий день, участие рабочих в управлении производством, народная милиция, частичная экспроприация посредством «тяжкого налога на капитал» и конфискация церковного имущества. Рабочих побуждали начать «революционную войну»33. Специалисты в Социалистической партии характеризовали Муссолини как socialisto rivoluzionario, то есть как социалиста-революционера34.
Такими действиями прежний социалистический лидер, дискредитированный своей позицией в отношении войны, надеялся восстановить свое положение в ИСП. Социалисты, однако, не хотели простить ему: они готовы были войти в совместные избирательные блоки с фашистами, но только при условии исключения Муссолини35. Оказавшись в политической изоляции и поддерживаемый только социалистами-интервенционалистами, Муссолини метнулся вправо. Его эволюция в два послевоенных года указывает на то, что это не он отверг социалистов, а социалисты отвергли его, и что он основал фашистское движение как способ удовлетворения своих политических амбиций, которого не находил под старым кровом в Социалистической партии. Иными словами, его разрыв с социализмом был не идеологического, а личного свойства.
Начиная с конца 1920 г. вооруженные фашистские погромщики стали ездить по деревням и избивать крестьян. В начале следующего года они стали организовывать «карательные экспедиции», терроризируя маленькие городки на севере Италии. В манере, напоминающей практику большевиков, методом угроз и насилия, они разгоняли социалистические партии и профсоюзы. Итальянские социалисты, как и их российские братья по несчастью, не предпринимали никаких активных ответных действий, чем смущали и деморализовывали своих сторонников. Таким способом Муссолини обрел поддержку промышленников и землевладельцев. Он воспользовался национальной обидой, вызванной результатами войны, ибо, хотя Италия и воевала на стороне одержавших победу союзников, ее территориальные притязания по большей части остались неудовлетворенными. Муссолини сыграл на народном чувстве, изображая Италию «пролетарской нацией», что снискало ему симпатии среди обиженных ветеранов войны. В ноябре 1921 г. фашистская партия насчитывала 152 тыс. членов, из которых 24% сельскохозяйственных рабочих и 15% промышленных рабочих36.
Даже став фашистским лидером, Муссолини никогда не скрывал своих симпатий к коммунизму и восхищения перед ним: он высоко ставил «грубую энергию» Ленина и не находил ничего дурного в большевистской практике уничтожения заложников37. Он гордо объявлял итальянских коммунистов своими детьми. В своем первом выступлении в Палате депутатов 21 июня 1921 г. он хвалился: «Я знаю [коммунистов] очень хорошо, ибо некоторых из них я создал сам; сознаюсь с искренностью, которая может показаться циничной, что это я был первым, кто заразил этих людей, впрыснув в итальянский социализм немного Бергсона в обильном растворе Бланки»38. О большевизме он сказал в феврале 1921 г. следующее: «Я отвергаю все формы большевизма, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал большевизм Москвы и Ленина, хотя бы за его гигантские, варварские, вселенские размеры»39. Едва ли просто по недосмотру он позволил коммунистической партии просуществовать вплоть до ноября 1926 года, когда были запрещены все независимые партии, ассоциации и организации40. Еще в 1932 году Муссолини признавал близость фашизма с коммунизмом: «По части отрицания мы во всем сходимся. Мы и русские против либералов, против демократов, против парламента»41. (Гитлер впоследствии признавал, что у нацистов и у большевиков больше того, что их роднит, чем того, что их разъединяет42.) В 1933 г. Муссолини публично призвал Сталина последовать примеру фашистов, а в 1938 году советский диктатор, завершив самую кровавую в истории бойню в своей стране, заслужил последнюю похвалу Муссолини: «Перед лицом полного краха ленинской системы Сталин стал тайным фашистом», с той только разницей, что, будучи русским, «то есть чем-то вроде полуварвара», он не стал подражать облюбованному фашистами методу наказания заключенных путем насильственного поения касторкой43.
Русские коммунисты с беспокойством наблюдали, как сначала Муссолини, а затем Гитлер копируют их политические приемы. На XII съезде партии (1923), когда такие сравнения еще допускались, Бухарин заметил: «Характерным для методов фашистской борьбы является то, что они больше, чем какая бы то ни было партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции. Если их рассматривать с формальной точки зрения, т.е. с точки зрения техники их политических приемов, то это полное применение большевистской тактики и специально русского большевизма: в смысле быстрого собирания сил, энергичного действия очень крепко сколоченной военной организации, в смысле определенной системы бросания своих сил, «учраспредов», мобилизаций и т.п. и беспощадного уничтожения противника, когда это нужно и когда это вызывается обстоятельствами». [XII съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М, 1968. С. 273—274. «Учраспреды» — отделы Секретариата ЦК и местных парторганов, ответственные за назначение партийных функционеров. Издатели протоколов XII съезда охарактеризовали аналогию, проводимую Бухариным, как «беспочвенную и антинаучную» (Там же. С. 865. См. также: Luks L. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Stuttgart, 1984. S. 47)].
Исторические свидетельства, таким образом, указывают на то, что муссолиниевский фашизм возник вовсе не как правая реакция на социализм или коммунизм, даже если для достижения своих политических интересов Муссолини готов был осуждать и то и другое. [Ренцо де Феличе проводил различие между фашизмом как движением и фашизмом как режимом, подчеркивая, что первое было и остается революционным (Ledeen M. In: Mosse G. International Fascism. P. 126—127). To же, разумеется, можно сказать и о большевизме, который вскоре после захвата власти стал консервативен, дабы сохранить эту самую власть.]. Имей он такую возможность, Муссолини еще в 1920—21 гг. был бы весьма рад взять под свое крыло итальянских коммунистов, с которыми явно испытывал родство душ, безусловно большее, чем с социал-демократами, либералами и консерваторами. Генетически фашизм вышел из «большевистского» крыла итальянского социализма, а не из какого бы то ни было консервативного движения или идеологии.
* * *
Большевизм и фашизм были ересями социализма. Национал-социализм произрастал из иного корня. Если Ленин происходил из среды служилого дворянства, а Муссолини из семьи обнищавшего ремесленника, то Гитлер был происхождения «мелкобуржуазного» и провел юность в атмосфере, пропитанной ненавистью к социализму и антисемитизмом. В отличие от Муссолини и Ленина, много и жадно читавших и хорошо знакомых с современными политическими и социальными теориями, Гитлер был невеждой, набравшимся всего понемногу из случайных книг, разговоров и наблюдений; не владея никакими прочными теоретическими основами, он был преисполнен предрассудков и расхожих суждений. И тем не менее, политическая идеология, которую он с таким эффектом использовал, сначала удушив свободу в Германии, а затем сея смерть и разрушение по всей Европе, испытала сильное влияние русской революции, как в негативном, так и позитивном смысле. В негативном смысле победа большевизма в России и попытки распространения революции по Европе послужили Гитлеру оправданием его животного антисемитизма и основанием запугивать немцев призраком «иудо-коммунистического» заговора. В позитивном смысле большевистский опыт помог ему захватить власть, преподав технику манипуляции массами и представив наглядный пример однопартийного тоталитарного государства.
В идеологии и психологии национал-социализма антисемитизм занял исключительное место основного и непреложного условия. Хотя корни юдофобии восходят к классической античности, безумные, истребительные формы, какие она приняла при Гитлере, не имеют исторического прецедента. Чтобы понять это, нужно учесть эффект, который возымела русская революция на русские и немецкие националистические движения.
Традиционный антисемитизм, до XX века, питался в первую очередь религиозной нетерпимостью и выражался простой формулой: евреи — злокозненный народ, распявший Христа и упрямо отрицающий Новый Завет. Поддерживаемая католической церковью и некоторыми протестантскими сектами, эта враждебность усугублялась конкуренцией в экономической сфере, где за евреями прочно закрепился образ жадных ростовщиков и ловких, хитрых дельцов. Евреи представлялись вовсе не представителями некой «расы» или членами транснационального сообщества, а приверженцами ложной веры, обреченными на вечные скитания в назидание человечеству. Идея интернациональной угрозы, которую несут евреи, не могла возникнуть без образования некоего международного сообщества. В девятнадцатом веке бурное развитие торговли и средств связи в мировом масштабе, перешагнув за границы государств, оказало сильное воздействие на жизнь стран и отдельных общин, ведших до той поры весьма замкнутое и самодостаточное существование. Люди стали вдруг ощущать, что их благополучие и жизнь зависят от каких-то невразумительных, скрытых от глаз обстоятельств. Когда урожай в России отражается на жизни фермеров в Соединенных Штатах или открытие золотых приисков в Калифорнии влияет на цены в Европе, когда политическое движение, вроде интернационального социализма, может ставить своей целью свержение всех в мире режимов, возникает чувство неуверенности в сегодняшнем дне и тревоги за будущее, которым распоряжаются происходящие где-то далеко в мире события, совершенно естественно возникает мысль о мировом заговоре. А кто лучше евреев подходил на эту роль, кто не только принадлежал самой заметной, рассеянной по всему свету диаспоре, но и занимал выдающиеся позиции в международных финансовых кругах и средствах информации?
Представление о еврействе как о некой наднациональной, подчиняющейся строгой дисциплине общине, управляемой тайным штабом начальников, впервые возникло после Французской революции. Ибо, хотя евреи и не сыграли в ней никакой роли, идеологи контрреволюции видели именно в них виновников всех бед, отчасти потому, что революция принесла евреям гражданское равноправие, а отчасти потому, что их связывали с масонским движением, которое французские роялисты проклинали за 1789 год. В 70-е годы прошлого века немецкие экстремисты утверждали, что всеми в мире евреями, какова бы ни была их гражданская принадлежность, управляет тайная международная организация: под этим обычно подразумевался Всемирный еврейский союз (Alliance Israelite Universelle), располагавшийся в Париже и занимавшийся в действительности филантропической деятельностью. Такие идеи стали популярны во Франции в 90-е годы в связи с делом Дрейфуса. До русской революции антисемитизм широко распространился в Европе, в основном как реакция общества, привыкшего относится к евреям как к изгоям, на появление их в качестве его равноправных членов, и при этом, несмотря на дарованные права, упрямо не желающих ассимилироваться. Евреев обвиняли в клановости и скрытности, в ростовщичестве, ловкости и преуспеянии в делах, в вызывавших неприязнь специфических манерах. Но их не боялись. Страх перед евреями пришел с русской революцией и оказался одним из самых пагубных ее наследий.
Наибольшую ответственность за этот ход событий несут так называемые «Протоколы сионских мудрецов», фальшивка, которая, по выражению их исследователя Нормана Кона, дала Гитлеру «ордер» на геноцид44. Автор этой фальшивки не установлен, но она была составлена явно в конце 90-х годов XIX века во Франции на основе антисемитских трактатов, появившихся во время дела Дрейфуса, под влиянием первого международного Сионистского конгресса, состоявшегося Базеле в 1897 году. Похоже, приложило руку и парижское отделение царской «охранки». Документы, представленные в книге, были якобы получены через одного из участников тайных собраний лидеров международного еврейства, неизвестно где и когда состоявшихся, и представляют собой секретные резолюции, в которых формулировалась стратегия подчинения христианских народов и установления еврейского господства над миром. Для достижения этих целей предполагалось всеми возможными средствами сеять раздор среди христиан: где разжигая рабочие волнения, где способствуя гонке вооружений и войне, и повсюду морально разлагая. А когда цель будет достигнута, возникнет еврейское государство — деспотия, держащаяся на лукавой политике: при отсутствии свободы покорность общества покупается социальными благами, включая всеобщую занятость.
Так называемые «Протоколы» были впервые опубликованы в 1902 году в санкт-петербургской газете. Три года спустя, в период революции 1905 года, они появились в виде книги, выпущенной Сергеем Нилусом, под названием «Великое в малом и антихрист». Последовали и другие русские издания, но переводов на другие языки пока еще не было. Даже в России «Протоколы» не вызвали большого интереса, и Нилус, самый настойчивый их пропагандист, жаловался, что никто не воспринимает книгу всерьез45.
Русская революция открыла «Протоколам» блестящий путь. Послевоенная Европа, пребывавшая в отчаянии и растерянности, судорожно искала виновника и ответчика за все беды. Для левых это были «капиталисты», и в особенности фабриканты оружия: идея, что капитализм неизбежно ведет к войне, позволила коммунистам завоевать многих сторонников. Такова была одна версия идеи мирового заговора.
Другая идея, получившая распространение в консервативных кругах, в качестве виновников называла евреев. Кайзер Вильгельм II, более всех повинный в развязывании войны, еще в разгар боев возлагал на них ответственность за это46. Генерал Эрих Людендорф объявил, что евреи не только помогали Англии и Франции поставить Германию на колени, но и, «вероятно, управляли ими»: «Руководство еврейского народа... видело в грядущей войне средство достижения своих политических и экономических целей, завоевания для евреев в Палестине территории для создания государства и признания их как нации, и для достижения надгосударственного и надкапиталистического господства в Европе и Америке. На пути к достижению этих целей евреи в Германии стремятся занять такие же позиции, как в странах, которые уже подчинились им [Англия и Франция]. И поэтому евреям было необходимо поражение Германии»47.
Такое «объяснение» поражения в войне явно вторит «Протоколам» и, вне всякого сомнения, ими вдохновлено.
Зверства большевиков и открытые призывы к мировой революции со стороны режима, в котором евреи играли заметную роль, пришлись как раз на то время, когда общественное мнение Запада искало козла отпущения. После войны стало обычным, в особенности среди среднего класса и людей свободных профессий, идентифицировать коммунизм с еврейским заговором и воспринимать его как реализацию планов, представленных в «Протоколах». И если здравый смысл должен был восстать против абсурдности предположения, будто евреи ответственны одновременно и за мировой капитализм, и за его злейшего врага — коммунизм, то выручала достаточно гибкая диалектика «Протоколов», легко переваривавшая такие противоречия. Поскольку конечная цель евреев — свергнуть христианский мир, они могут действовать, в зависимости от обстоятельств, то как капиталисты, то как коммунисты. Это лишь вопрос тактики. Ведь евреи не гнушаются прибегать даже к антисемитизму и погромам. [Протоколы //Луч света. 1920. Т. 1. Кн. 3. С. 238. Можно не сомневаться, что именно под влиянием такого хода мысли советские власти не опровергали и тем самым придавали вес тезису, что евреи сами помогли Гитлеру устроить Холокост, чтобы вынудить колеблющихся уехать в Палестину (Корнеев Л.А. Классовая сущность сионизма. Киев, 1982).].
Приход большевиков к власти и развязанный ими террор придали «Протоколам» статус пророчества. Едва лишь всем стало известно, что среди выдающихся большевиков есть евреи, скрывающиеся за русскими псевдонимами, сразу стало понятно: Октябрьская революция и коммунистический режим были мощным прорывом евреев к обретению мирового господства. Спартаковский путч, коммунистические «республики» в Венгрии и Баварии, в организации которых участвовали евреи, рассматривались как свидетельства распространения их власти за пределы российского плацдарма. И дабы предотвратить исполнение пророчества «Протоколов», христиане (то бишь «арийцы») должны были осознать опасность и объединиться в борьбе с общим врагом.
«Протоколы» обрели особую популярность в период террора 1918—1919 гг., и среди их читателей был и Николай II. [В дневниковой записи за 7 апреля 1918 г. императрицы Александры значится: «Николай читал нам протоколы франкмасонов» (Chicago Daily News. 1920. 23 June. P. 2). Эта книга была среди вещей Александры в Екатеринбурге (Соколов Н. Убийство царской семьи. Париж, 1925. С. 281).]. Круг читателей расширился после убийства императорской семьи, ответственность за которое широкое мнение возлагало на евреев. Многие из тех тысяч белых офицеров, что искали зимой 1919—1920 года убежище в Западной Европе, возили с собой этот опус. Им было важно убедить европейцев, в общем-то достаточно равнодушных к участи белоэмигрантов, что коммунизм есть не только русская проблема, но, по сути, есть первая фаза мировой революции, которая не пощадит и Европу и скоро отдаст ее на поругание евреям.
Одним из этих эмигрантов был Ф.В.Винберг, русский офицер немецкого происхождения, чья озабоченность еврейской проблемой приобрела маниакальные пропорции48. Русскую революцию он воспринимал исключительно как дело рук евреев, а в одной из своих публикаций привел некий список советских руководителей, где раскрывалось еврейское происхождение буквально каждого49. Такие взгляды быстро обретали симпатии в кругах германских правых, переживавших горечь поражения и обеспокоенных коммунистическим мятежом. Именно Винберг вместе с известным немецким юдофобом издал в Германии первую немецкую версию «Протоколов». Появившись в январе 1920 года, они имели колоссальный успех. В ближайшие несколько лет они стали ходить по Германии в сотнях тысяч экземпляров: Норман Кон подсчитал, что к моменту прихода Гитлера к власти в стране циркулировало по крайней мере 28 изданий50. Вскоре появились шведская, английская, французская и польская версии, не замедлили явиться переводы и на другие языки. В 1928 году «Протоколы» стали интернациональным бестселлером.
Особенно восприимчивой к идеям «Протоколов» оказалась новоявленная Германская национал-социалистическая партия, которая с самого своего основания в 1919 году проповедовала ярый антисемитизм, но не имела для него теоретической базы. Первоначальная платформа нацистов, опубликованная в 1919 году, расставляла врагов Германии по ранжиру: на первом месте евреи, затем шел Версальский договор и только потом «марксисты», под коими подразумевались социал-демократы, а вовсе не коммунисты, с которыми нацисты поддерживали вполне дружеские отношения51. Связь еврейства с коммунизмом была установлена с помощью «Протоколов», внимание Гитлера на которые будто бы обратил Альфред Розенберг. Балтийский немец, изучавший архитектуру в России, имевший русский паспорт и говоривший по-русски лучше, чем по-немецки, Розенберг воспринял идеи Винберга и привил их нацистскому движению, главным идеологом которого он стал. Винберг убедил его в том, что русская революция была спланирована международным еврейством для достижения мирового господства. На будущего фюрера «Протоколы» произвели глубочайшее впечатление. «Я читал "Протоколы сионских мудрецов" — меня просто привели в ужас вкрадчивость и двуличие врага! — говорил он своему сподвижнику Герману Раушнингу. — Я понял, что мы должны перенять их, разумеется, по-своему»52. По словам Раушнинга, «Протоколы» служили Гитлеру неисчерпаемым источником политического вдохновения53. Воспользовавшись этим «руководством по достижению мирового господства», Гитлер не только выявил в лице евреев смертельного врага Германии, но и применил описанные методы для установления собственного господства. Ему так приглянулись приписываемые евреям хитрости, что он решил целиком воспринять их «идеологию» и «программу»54.
Именно после знакомства с «Протоколами» Гитлер обернулся против коммунизма: «Розенберг оставил глубокий след в идеологии нацизма. Партия была махрово антисемитской с самого основания в 1919 году, но стала одержима угрозой русского коммунизма только в 1921—22 гг., и в этом, похоже, заслуга главным образом Розенберга. Он сумел связать русский антисемитизм черносотенного сорта с антисемитизмом немецких расистов; вернее, он взял взгляды Винберга на большевизм как еврейский заговор и перевел его на язык volkisch (народно)-расистский. Результат этого творчества, детально истолкованный в бесчисленных памфлетах и публикациях, стал навязчивой темой размышлений Гитлера и планов и пропаганды нацистской партии»55.
Говорили, что у Гитлера были только две главные политические цели: уничтожение еврейства и вторжение в восточноевропейское «Lebensraum» (жизненное пространство), все другие пункты его программы и объекты борьбы, как капиталисты, так и социалисты, были лишь средствами достижения основных56. Теории русских правых, связывающие коммунизм с еврейством, позволили ему совместить обе задачи.
Так чаяния крайних русских монархистов, искавших и нашедших в происках мирового еврейского заговора причину катастрофы, обрушившейся на их страну, превратились в политическую идеологию партии, которой вскоре суждено было взять в свои руки абсолютную власть в Германии. Обоснование необходимости истребления евреев, выдвигаемое нацистами, пришло из русских правых кругов: Винберг и его друзья впервые призвали к физическому истреблению евреев57. Холокост, таким образом, явился одним из многих непредвиденных и нечаянных последствий русской революции.
* * *
Как политический феномен нацизм представлял собой: во-первых, технику манипулирования массами, создающую впечатление широкого участия народа в политическом процессе, и, во-вторых, систему правления, при которой Германская национал-социалистическая рабочая партия монополизировала власть и превращала государственные институты в партийный инструмент. В обоих случаях влияние марксизма в его первоначальном и в большевистском облике бесспорно.
Известно, что в юности Гитлер пристально интересовался тем, как социал-демократам удается управлять толпой: «От социал-демократов Гитлер усвоил идею массовой партии и массовой пропаганды. В "Майн Кампф" он описывает впечатление, которое произвела на него демонстрация венских рабочих, маршировавших по четверо в ряд стройными шеренгами. "Я стоял пораженный почти два часа, пока этот гигантский людской дракон медленно разворачивался передо мной"». [Bullock A. Hitler: A Study in Tyranny. Rev. ed. New York, 1962. P. 44. Фотография, на которой запечатлен Гитлер, слушающий оратора на социал-демократическом митинге зимой 1919—20 гг., воспроизведена в кн.: Fest J. Hitler. New York, 1974. P. 144-145.]. На основе подобных наблюдений Гитлер создал свою теорию психологии толпы, с замечательным успехом им впоследствии применявшуюся. В разговоре с Раушнингом он открыл, чем он обязан социализму: «Не колеблясь, признаю, что я многому научился у марксизма. Я имею в виду не их скучную социальную доктрину и не их материалистическую концепцию истории или их абсурдные теории «крайней полезности» [!] и тому подобное. Но я узнал их методы. Разница между ними и мной в том, что я действительно применил на практике то, что эти сплетники и бумагомараки робко начали. Весь национал-социализм основан на этом. Возьмите рабочие спортивные клубы, заводские ячейки, массовые демонстрации, пропагандистские листовки, написанные специально так, чтобы их понимали массы; все эти новые методы политической борьбы марксистские по происхождению. Все, что мне оставалось сделать, это взять эти методы и приспособить их к нашим целям. Я только развил логически то, чего социал-демократии вечно недоставало, потому что она пыталась осуществить свою эволюцию в структуре демократии. Национал-социализм — это то, чем мог бы быть марксизм, если бы порвал свои абсурдные и искусственные связи с демократическим устройством»58.
И можно еще добавить: что сделал и чем стал большевизм. [В речи, произнесенной 24 февраля 1941 года, Гитлер открыто утверждал, что «в основе национал-социализм и марксизм — одно и то же» (Bulletin of International News. 1941. Vol. 18. № 5. March 8. P. 269)].
Одними из проводников коммунистических моделей в нацистском движении были правые интеллектуалы с левым в направлении Гитлера уклоном, известные под именем «национал-большевиков». [Этот термин в уничижительном смысле придумал в 1919 году Радек. Лучшее исследование этого любопытнейшего, хотя и побочного, движения (см.: Schuddekopf O.-E. Linke Leute von Rechts. Stuttgart, 1960).]. Их главные теоретики Иозеф Геббельс и Отто Штрассер, восхищенные успехами большевиков в России, хотели, чтобы Германия помогла Москве в экономическом строительстве в обмен на политическую поддержку в противостоянии с Францией и Англией. На возражения, выдвигаемые Розенбергом и разделявшиеся Гитлером, о том, что Москва является штабом международного еврейского заговора, они отвечали: коммунизм — это только фасад, за которым скрывается традиционный русский национализм, «они говорят — мировая революция, а подразумевают Россию». [Schuddekopf O.-E. Linke Leute von Rechts. S. 87. Идея, что коммунизм в действительности выражает русские национальные интересы, впервые была высказана Н.Устряловым и другими теоретиками движения «Смены вех», возникшего в русской эмиграции в начале 20-х.]. Но «национал-большевики» желали большего, чем сотрудничество с коммунистической Россией, — они хотели, чтобы Германия переняла систему государственного управления, заключавшуюся в централизации политической власти, устранении соперничающих партий и ограничении операций на свободном рынке. В 1925 году Геббельс и Штрассер на страницах нацистской газеты «Volkischer Beobachter» доказывали, что лишь установление «социалистической диктатуры» спасет Германию от хаоса. «Ленин пожертвовал Марксом, — писал Геббельс, — и в обмен дал России свободу»59. О своей собственной нацистской партии он заявлял в 1929 году, что это была партия «революционных социалистов»60.
Гитлер отверг эту идеологию в целом, но, дабы перетянуть от социал-демократов на свою сторону немецких рабочих, использовал социалистические лозунги. Эпитеты «социальная» и «рабочая» в названии нацистской партии не были только спекуляцией на популярных терминах. Партия возникла из союза немецких рабочих в Богемии, образованного в первые годы нынешнего века в борьбе с чешскими переселенцами. Программа Немецкой рабочей партии (Deutsche Arbeiter Partei), как эта организация первоначально называлась, сочетала в себе социализм, антикапитализм и антиклерикализм с немецким национализмом. В 1918 году она стала именоваться Национал-социалистической рабочей партией Германии (НСРПГ), добавив к своим принципам антисемитизм и привлекая в свои ряды демобилизовавшихся ветеранов войны, лавочников и людей интеллигентного труда (слово «рабочая» в ее названии должно было обозначать всех трудящихся, а не только промышленных рабочих61). Именно эту организацию возглавил Гитлер в 1919 году. Согласно Брахеру, идеология партии в первые годы существования «содержала крайне революционное зерно в рамках иррациональной, ориентированной на насилие политической идеологии. Она вовсе не была простым выражением реакционных тенденций: она вышла из среды рабочих и профсоюзных деятелей»62. Нацисты взывали к социалистическим традициям немецких трудящихся, объявляя рабочих «столпом общества», а «буржуазию» вкупе со старой аристократией, обреченным классом63.
Гитлер, убеждавший своих соратников, что он «социалист»64, сделал красное знамя символом партии, а придя к власти, объявил 1 мая национальным праздником; члены нацистской партии должны были обращаться друг к другу «товарищ» (Genosse). Гитлеровская концепция совпадала с ленинским представлением о партии как боевой организации — Kampfbund — или «Боевой лиге». («Сторонник движения тот, кто объявляет о согласии с его целями. Член лишь тот, кто сражается за них»65.) Конечной целью Гитлера было построение общества, в котором не будет традиционных классовых различий и статус его членов будет определяться личным героизмом66. В присущей ему радикальной манере он предвидел человека, создающего самого себя: «Человек становится богом, — говорил он Раушнингу, — человек есть бог в творении»67.
Поначалу нацистам не удавалось привлечь на свою сторону рабочих и в их рядах преобладали «мелкобуржуазные» элементы. Но к концу 20-х социалистические лозунги возымели эффект. В начальный период безработицы 1929—30 гг. рабочие массами вступали в нацистскую партию. Согласно партийной хронике, в 1930 г. 28% ее членов составляли промышленные рабочие, в 1934-м их количество увеличилось до 32%. И в том и в другом случае они представляли в НСРПГ самую многочисленную группу. [Bracher К. Die deutsche Diktatur. Cologne—Berlin, 1969. S. 256. Давид Шенбаум (Hitler's Social Revolution. New York—London, 1980. P. 28, 36) дает несколько иные цифры. Некоторые марксистские историки, например Timothy W. Mason (Sozialpolitik im Dritten Reich. Opladen, 1977. S. 9), отвергали столь неприятный для них факт, исключая вступивших в нацистскую партию из рядов рабочего класса на том основании, что статус рабочего определяется не его занятиями, а «борьбой с правящими классами».]. Учитывая, что членство в ней не влекло такой же ответственности, как в российской коммунистической партии, можно предположить, что удельный вес членов из рядов подлинных промышленных рабочих (в отличие от бывших, превратившихся в партийных функционеров) в НСРПГ был много выше, чем в РКП.
Прямых свидетельств того, что гитлеровская модель тоталитарной партии была позаимствована у российских коммунистов, нет, ибо, если Гитлер не отрицал своего долга перед «марксистами», он аккуратно избегал всякого намека о влиянии российских коммунистов. Идея однопартийного государства пришла ему в середине 20-х, когда, размышляя о провале капповского путча 1920 г., он решил сменить тактику и прийти к власти законным путем. Гитлер заявлял, что концепция политической партии, основанной на строгой дисциплине и иерархии, была подсказана ему военным устройством. Он также хотел подчеркнуть, чему его научил Муссолини68. Но было бы совершенно невероятно, если бы коммунистическая партия, деятельность которой широко освещалась немецкой печатью, не оказала на него никакого влияния, хотя по понятным причинам он и не мог в этом признаться. В частной беседе он охотно признавал, что «изучал революционную технику по трудам Ленина и Троцкого и других марксистов». [Rauschning H. Hitler Speaks. London, 1939. P. 236. Гитлер будто бы говорил, к удивлению своих товарищей, что он читал и многое почерпнул из недавно опубликованной книги Троцкого «Моя жизнь», которую он назвал «блестящей» (Heiden К. Der Fuehrer. New York, 1944. P. 308), — автор, однако, не указывает источника этой информации.]. По его словам, он отвернулся от социалистов и начал делать нечто иное, потому что они были «мелкими людьми»69, неспособными на смелые действия, что весьма напоминает причины, заставившие Ленина порвать с социал-демократами и основать партию большевиков.
В споре между сторонниками Розенберга, с одной стороны, и Геббельса и Штрассера, с другой, Гитлер в конце концов взял сторону первого. Альянс с Советской Россией был невозможен, поскольку Гитлеру требовался призрак иудо-коммунистической угрозы, дабы воздействовать на немецкий электорат. Но это не мешало ему в своих интересах воспользоваться коммунистической практикой и схемой устройства основных институтов власти.
* * *
Три тоталитарных режима отличались по различным аспектам, к разбору которых мы перейдем в свое время. Но то, что их объединяло, было значительно существеннее того, что их отличало. Прежде и значительнее всего — общий для всех трех враг: либеральная демократия и многопартийная система, уважение к закону и собственности, идеалы мира и стабильности. Проклятия Ленина, Муссолини и Гитлера в адрес «буржуазной демократии» и социал-демократов полностью взаимозаменяемы.
Чтобы проанализировать отношения между коммунизмом и «фашизмом», следует отбросить общепринятые представления о том, что «революция» по самой своей природе есть воплощение равенства и интернационализма, тогда как националистические перевороты — контрреволюционны по сути. Эту ошибку допустили те консервативные круги Германии, которые поначалу поддержали Гитлера в надежде, что такой ярый националист не станет вынашивать революционных замыслов70. Характеристика «контрреволюционности» может быть полностью применима лишь к движениям, которые ставят своей целью подавить революцию и восстановить status quo, как, например, французские роялисты в 1790-х годах. Если под «революцией» понимать резкое свержение существующего политического строя, сопровождающееся глубокими переменами в экономике, социальном устройстве и культуре то тогда этот термин вполне применим и к антиэгалитарным и ксенофобным переворотам. Определение «революционный» описывает не существо перемен, но манеру, в которых они совершаются, — а именно их скоропалительный и насильственный характер. Таким образом, можно смело говорить о революции слева и о революции справа — а то, что они находятся в непримиримом противоречии друг с другом, объясняется их соперничеством за симпатии масс, а не разногласиями в методах или задачах. И Гитлер, и Муссолини вполне справедливо считали себя революционерами. Раушнинг заявлял, что национал-социализм в действительности более революционен по своим целям, чем коммунизм или анархизм71.
Но, вероятно, наиболее фундаментальное родство трех тоталитарных режимов проявляется в психологической плоскости. Коммунизм, фашизм и национал-социализм для завоевания симпатий масс и в доказательство того, что именно они — а не избранные демократическим путем правительства — являются истинными выразителями воли народа, нещадно раздували и эксплуатировали самые низменные чувства и предрассудки — классовые, расовые и этнические. И все три режима опирались на слепую ненависть.
Французские якобинцы первыми осознали политический потенциал классового чувства. Опираясь на него, они клеймили вечные заговоры аристократии и иных своих врагов: незадолго до окончательного падения они ввели закон об экспроприации частного имущества, носивший явно коммунистическую окраску72. Именно изучение Французской революции и ее последствий помогло Марксу сформулировать теорию классовой борьбы как доминанту истории. По его учению, социальный антагонизм в первую очередь заслуживает морального оправдания: ненависть, которую иудаизм проклинает как саморазрушительное чувство, а христианство (подразумевая «гневливость») воспринимает как один из серьезнейших грехов, превратилась в добродетель. Но ненависть — оружие обоюдоострое, и очень скоро жертвы вооружаются им в целях самозащиты. К концу XIX столетия появились теории, привлекающие этническую и расовую нетерпимость как ответ на социалистический призыв к классовой борьбе. В пророческой книге «Доктрины ненависти», вышедшей в 1902 году, Анатоль Леруа-Болье обращал внимание на близость друг к другу современных ему левых и правых экстремистов и предсказывал, что некий род тайного соглашения между ними после 1917 года станет реальностью73.
Ленину не потребовалось прилагать особых усилий, чтобы, спекулируя на извечных чувствах по отношению к богатым, «буржуям», сплотить городские низы и беднейшее крестьянство. Муссолини переформулировал классовую борьбу как конфликт между «имущими» и «неимущими» народами.
Гитлер воспринял приемы Муссолини, интерпретируя классовую борьбу как битву между расами и нациями, конкретно «арийцами» и евреями вкупе с теми народами, над которыми последние будто бы установили свое господство. [На возможность интерпретации классовой войны в расовом смысле указывал еще в 1924 году еврей-эмигрант из России И.М.Бикерман, предостерегая своих пробольшевистски настроенных соотечественников: «Почему не мог петлюровский вольный казак или деникинский доброволец быть последователем учения, по которому вся история сводится к борьбе не классов, а рас, и, исправляя грехи истории, уничтожать расу, признанную им источником всех зол? Грабить, убивать, насиловать, бесчинствовать одинаково удобно и под тем и под этим флагом» (Россия и евреи: Сб. ст. Берлин, 1924. Вып. 1 С. 59—60).]. Один из первых пронацистских теоретиков утверждал, что истинный конфликт современного мира сталкивает не трудящихся с капиталистами, но страны, где правит Volk (народ), против всемирного еврейского «империализма», и разрешен он может быть только путем создания условий, не дающих возможности для экономического выживания евреев и тем самым ведущих к их истреблению74. Революционным движениям любого толка — правым или левым — необходим конкретный объект ненависти, ибо гораздо проще поднять массы на борьбу с врагом видимым, нежели абстрактным.
Это обстоятельство теоретически обосновал близкий к нацистам теоретик Карл Шмитт. За шесть лет до прихода Гитлера к власти он возводил враждебность в ранг определяющего фактора политики: «Особое политическое различие, лежащее в основе политической деятельности и мотивов, это различие между другом и врагом. В мире политики оно соответствует относительно независимым противопоставлениям, существующим в других сферах: между добром и злом в этике, красотой и уродством в эстетике и так далее. Различие [между другом и врагом] самодостаточное — то есть оно не происходит ни из одного из вышеперечисленных противопоставлений и не сводится к ним... [Оно] может существовать и в теории и на практике, без привлечения других различий — моральных, эстетических, экономических и так далее. Политическому врагу не нужно быть воплощением нравственного зла или эстетического уродства; ему совсем не обязательно представлять собой экономического соперника, и, может быть, с ним даже весьма выгодно вести дела. Но он другой, чужой; и достаточно того, что в некотором крайнем экзистенциальном смысле он нечто другое, чуждое, так что в случае столкновения он будет представлять отрицание вашего бытия, и по этой причине ему должно противодействовать и с ним бороться, дабы сохранить самобытность (seinmassig) своей жизни»75.
Смысл этой напыщенной прозы в том, что политический процесс должен подчеркивать отличительные признаки тех или иных групп, потому что это единственный способ вызвать к жизни образ врага, без которого политика обойтись не может. «Другой» вовсе не должен быть врагом по существу: достаточно того, что он воспринимается как другой, не такой, как вы.
Именно склонность коммунистов к классовой ненависти так приглянулась Гитлеру, и по этой причине он оставил открытым путь в нацистскую партию разочаровавшимся коммунистам, в отличие от социал-демократов, — ведь ненависть не так уж трудно переориентировать с одного предмета на другой76. Подобным образом и среди сторонников Итальянской фашистской партии в начале 20-х годов было больше всего прежних коммунистов77.
Мы рассмотрим общие черты трех тоталитарных режимов в трех аспектах: структура, функции и власть правящей партии; отношения между партией и государством; и отношение партии к населению в целом.
1. Правящая партия
До установления диктатуры ленинского типа государство состояло из правительства и его подданных (граждан). Большевики ввели третий элемент, «партию-монополиста», стоящую и над правительством, и над обществом и при этом неподвластную контролю со стороны последних, — партию, которая в действительности была никакой не партией, которая правила, не будучи правительством, управляла людьми от их имени, но без их согласия. В термине «однопартийное государство» заключено внутреннее противоречие, поскольку тот политический организм, что управляет тоталитарным государством, вовсе не есть партия в привычном смысле слова и стоит особняком от государства. Это наиболее верная отличительная характеристика тоталитарного режима, ее важнейший атрибут, ленинское детище. Фашисты и нацисты прилежно скопировали эту модель.
А. Партия как орден избранных
В отличие от истинно политических партий, которые стремятся расширить свои ряды, коммунистические, фашистские и нацистские организации были замкнутыми по своей природе. Прием в них требовал тщательной проверки, предусматривавшей такие критерии, как социальное происхождение, национальность, возраст, и сопровождался непрерывными «чистками» нежелательных элементов. Этим они напоминали «братства» или «олигархические братства» избранных, сохраняющиеся путем кооптации. Гитлер говорил Раушнингу, что применительно к НСРПГ «партия» — неточное название, вернее было бы ее называть «орденом»78. Фашистский теоретик определил муссолиниевскую партию как «церковь, то есть общину верующих, союз желаний и устремлений, верных высшей и единственной цели»79.
Все три тоталитарных организации возглавляли люди, которые не являлись членами традиционной правящей элиты: они либо уничтожили последних, как это было в России, либо выставляли себя как альтернативное, параллельное привилегированное сословие, постепенно подчинившее себе первых. Это обстоятельство служит еще одним отличием тоталитарной диктатуры от диктатур обычных, которые не создают собственных политических механизмов, а опираются на традиционные рычаги власти, такие как чиновничество, церковь и вооруженные силы.
Итальянские фашисты установили самые строгие условия приема, ограничив его в 20-е годы менее чем одним миллионом. Предпочтение отдавалось молодым, которые зачислялись в партию после прохождения ученичества в юношеских организациях Ballila и Avanguardia, созданных по подобию пионерии и комсомола. В следующее десятилетие ее ряды расширились, и накануне поражения Италии во Второй мировой войне фашистская партия насчитывала 4 миллиона. У нацистов были наиболее мягкие, в сравнении с другими, условия вступления: после попытки избавиться от «оппортунистов» в 1933 г. они ослабили правила, и к моменту крушения режима почти каждый четвертый взрослый немец (23%) состоял в партии80. Политика РКП находилась где-то посредине между двумя первыми, то расширяя свои ряды, дабы покрыть потребности в кадрах управленческого аппарата и вооруженных сил, то сужая их путем массовых и порой кровавых чисток. Во всех трех случаях, однако, членство почиталось привилегией и зачисление производилось по рекомендации.
Б. Лидер
Отрицая объективные нормы, способные ограничить их власть, тоталитарные режимы нуждались в лидере, который мог бы занять место закона. Если «хорошо» и «справедливо» только то, что служит интересам определенного класса или нации (расы), то должен быть высший арбитр в лице вождя дуче или фюрера, который мог бы определять, в чем в данный момент состоят эти самые интересы. Хотя на практике Ленин всегда делал то, что считал нужным (во всяком случае после 1918 г.), он не заявлял, как это делали Муссолини и Гитлер, о своей непогрешимости. «II Duce a sempre ragione» («Дуче всегда прав») — гласил лозунг, расклеенный по всей Италии в 30-е годы. Первый завет установлений нацистской партии, введенных в 1932 году: «Решения Гитлера окончательны»81. Хотя устоявшийся тоталитарный режим может пережить смерть своего лидера (как Советский Союз после кончины Ленина и Сталина), но, если власть не перейдет непосредственно к следующему вождю, режим превращается в коллективную диктатуру, которая со временем может утратить тоталитарные черты и превратиться в олигархию.
В Советской России единоличная диктатура Ленина над партией была замаскирована формулами вроде «демократического централизма» и упрямым занижением роли личности в истории. Тем не менее через год после прихода к власти Ленин стал неоспоримым лидером коммунистической партии, вокруг которого сложился настоящий культ личности. Ленин не терпел взглядов, не совпадающих с его собственными, даже если их разделяло большинство. К 1920 году создание «фракции» (под чем понималась всякая группа, действующая сообща против воли сначала Ленина, а потом — Сталина) считалось нарушением партийных норм и каралось исключением из партии — и только Ленину и Сталину «фракционная деятельность» не могла ставиться в вину82 .
Муссолини и Гитлер подражали этой модели. Фашистская партия установила тщательно вылепленный фасад институций, предназначенных создать впечатление, что она управляется коллективно, но ни одна из них — даже «Gran Consiglio» («Большой Совет») и национальные съезды партии не обладали реальной властью83. Партийные чиновники, обязанные своим назначением либо самому дуче, либо его людям, приносили ему клятву верности. Гитлер даже не удосужился закамуфлировать свою абсолютную власть в национал-социалистической партии. Еще задолго до того, как он стал диктатором Германии, он установил полное господство в партии, настаивая, как и Ленин, на строгой дисциплине (то есть подчинении его воле) и, так же как и Ленин, отвергая коалицию с другими политическими организациями, которая могла ослабить его власть84.
2. Правящая партия и государство
Как и Ленин, Муссолини и Гитлер использовали свои организации, чтобы овладеть государством. Во всех трех странах правящая партия формально действовала как общественная организация. В Италии поддерживалось представление, якобы фашистская партия была лишь «гражданской и добровольческой силой под руководством государства», хотя на деле все обстояло иначе, даже если для виду правительственные чиновники (префекты) имели номинальное преимущество перед фашистскими функционерами85.
Манера, в которой большевистская, фашистская и нацистская партии прибрали к рукам управление в своих странах, была по сути идентичной: ленинские принципы применялись более или менее откровенно. Во всех случаях партия либо поглощала, либо выхолащивала учреждения, которые стояли на ее пути к достижению неограниченной власти: в первую очередь исполнительные и законодательные органы, затем — органы местного самоуправления. Эти государственные учреждения не обязаны были подчиняться непосредственно партийным инструкциям: самыми изощренными приемами создавалось впечатление, что государство действует независимо. Партия управляла посредством внедрения своих людей на ключевые посты. Этот маскарад был нужен потому, что тоталитарное «движение», как всякое движение, было динамичным и гибким, тогда как любая администрация, статичная по сути, требовала жестких структур и неизменных норм. Нижеследующие рассуждения относительно нацистской партии Германии одинаково приложимы и к российской Компартии, и к итальянским фашистам: «Движение само принимало политические решения и предоставляло государству их механическое проведение в жизнь. Как формулировалось в период Третьего рейха, движение брало на себя управление людьми (Menschenfuhrung), предоставив государству управление материальными объектами (Sachverwaltung). С тем, чтобы по возможности избежать открытых противоречий между политическими мероприятиями (которые не подчинялись никаким нормам) и нормами (которые были неизбежны по техническим соображениям), [нацистский] режим прикрывал свои действия какими только возможно было применить легальными формами. Эта легальность, однако, не имела решающего значения; она служила лишь мостом между двумя непримиримыми формами управления»86.
«Завоевание [государственных] институций», которое один из первых исследователей фашизма считал «самым необычным, из известных современной истории, завоеванием государства»87, было, разумеется, простой копией того процесса, который совершался в России после октября 1917 г.
Большевики подчинили себе центральные исполнительные и законодательные учреждения России за каких-нибудь десять недель88. Их задача облегчалась тем обстоятельством, что в 1917 г. вместе с царским режимом рухнул и весь его бюрократический аппарат, оставив в управлении страной вакуум, который Временное правительство не сумело заполнить. В отличие от Муссолини и Гитлера, Ленин имел дело не с функционирующей государственной системой, а с анархией.
Муссолини двигался к своей цели менее расторопно: диктатором Италии de facto и de jure он стал лишь в 1927—1928 гг., более чем через пять лет после похода на Рим. Гитлер, наоборот, продвигался с почти ленинской скоростью, за шесть месяцев захватив власть в стране.
16 ноября 1922 года Муссолини «от имени народа» сообщил Палате представителей о своем решении взять власть — под угрозой роспуска Палата предпочла одобрить этот шаг. Но Муссолини поначалу стремился изображать конституционное правление и только постепенно стал вводить однопартийную систему. В первые полтора года в кабинет, где преобладали фашисты, он допускал представителей некоторых независимых партий. Лишь в 1924 году, когда поднялась волна протеста в связи с убийством Джакомо Маттеотти, депутата-социалиста, разоблачившего незаконные действия фашистов, дуче отказался от игры в коалиционное правительство. И тем не менее он еще некоторое время терпел существование соперничающих политических организаций. Фашисты стали единственной легальной политической партией лишь в декабре 1928 года, когда процесс формирования однопартийного государства в Италии уже можно было считать завершенным. Контроль над провинциями осуществлялся методом, позаимствованным у большевиков, — местные партийные функционеры надзирали за деятельностью префектов и сообщали им директивы дуче.
В нацистской Германии установление господства партии над государственными и общественными организациями проводилось под маркой Gleichschaltung, или «синхронизации». [Термин, первоначально применявшийся для обозначения процесса интеграции немецких федеральных земель в централизованное национальное государство, но постепенно приобретший более широкий смысл, обозначая всякое подчинение прежде независимых организаций нацистской партии (Buchheim H. Totalitarian Rule. Middletown, Conn., 1968. P. 11).]. В марте 1933 г., через два месяца после назначения на пост канцлера, Гитлер добился от Рейхстага «Полномочного акта», благодаря которому парламент снимал с себя законодательные полномочия на период в четыре года — а в действительности, как показало будущее, — до самой смерти Гитлера. В последующие двенадцать лет фюрер правил Германией посредством «чрезвычайных законов», издаваемых без оглядки на конституцию. Он скоро упразднил полномочия, которыми пользовались и в кайзеровской Германии, и в Веймарской республике федеральные земли, распустив административные аппараты Баварии, Пруссии и других исторических областей и сколотив первое унитарное немецкое государство. Весной и летом 1933 года он запретил независимые политические партии. 14 июля 1933 г. НСРПГ была объявлена единственной законной политической организацией: в то время Гитлер утверждал, впрочем, ошибочно, что «партия сейчас стала государством». В действительности в нацистской Германии, как и в Советской России, партия и государство были обособлены89.
Ни Муссолини, ни Гитлер не осмелились попросту упразднить законы, суды и гражданские права, как это сделал Ленин, ибо в их странах правовая традиция слишком глубоко укоренилась, чтобы ввести узаконенное беззаконие. Напротив, западные диктаторы удовольствовались ограничением компетенции судов и извлечением из их сферы «преступлений против государства», которые были переданы в ведение органов безопасности.
Для эффективной, надправовой борьбы с политическими оппонентами фашисты создали два полицейских учреждения. Одно, известное после 1926 года под именем Добровольческой организации по борьбе с антифашизмом (OVRA), отличалось от своих русских и немецких аналогов тем, что функционировало под контролем не партии, а государства. Помимо этого у фашистской партии была своя тайная полиция, в ведение которой входили «Особые трибуналы», вершившие суд над политическими оппонентами, а также места заключения90. Несмотря на постоянно декларируемое Муссолини пристрастие к насильственным методам, его режим, в сравнении с советским и нацистским, был достаточно мягким и не прибегал к массовому террору — в период с 1926 по 1943 годы было казнено 26 человек91 — жалкая частичка каждодневной работы Ленина и ВЧК, не говоря уже об исчислявшихся миллионами жертвах Сталина и Гитлера.
Нацисты тоже подражали коммунистам в организации органов безопасности. Именно там они почерпнули идею (которая в России зародилась еще в начале XIX века) создания двух независимых полицейских учреждений — одного для защиты правительства, а другого для поддержания общественного порядка. Они назывались «полиция безопасности» (Sichercheitspolizei) и «полиция порядка» (Ordnungspolizei), соответственно советской ВЧК и ее преемникам (ОГПУ, НКВД и т.д.) и милиции. Полиция безопасности, или гестапо, а также и SS, совместно обеспечивавшие безопасность партии, не подчинялись контролю со стороны государства, служа непосредственно фюреру через его доверенное лицо Генриха Гиммлера. Это тоже было сделано по примеру Ленина и его ВЧК. Ни одно из этих учреждений не соблюдало судопроизводственных норм или процедур — как и ВЧК и ГПУ, они приговаривали граждан к заключению в концентрационные лагеря, лишая всех гражданских прав. Однако в отличие от русских аналогов, они не имели права выносить немецким гражданам смертных приговоров.
Эти меры, подчинявшие всю общественную жизнь власти неправительственной организации — партии, создали тип правления, совершенно не отвечающий привычным категориям западной политической мысли. Рассуждения Анджело Росси о фашизме с не меньшим, если не большим, успехом применимы и к коммунизму, и к нацизму: «Главным следствием установления фашизма, от которого зависят все остальные, является отстранение народа от всех форм политической деятельности. «Конституционные реформы», подавление парламента и тоталитарный характер режима нельзя оценивать как таковые, но только в соотношении с целями и результатами. Фашизм это не просто замена одного политического режима другим; это исчезновение самой политической жизни, поскольку она становится функцией и монополией государства»92. На этом же основании Бухгейм приходит к знаменательному выводу о некорректности утверждения, будто тоталитаризм наделяет государство необъятной властью. Фактически это отрицание государства: «В силу различной природы государства и тоталитарного правления, применение внутренне противоречивого термина «тоталитарное государство» является широко распространенной ошибкой... Крайне опасно видеть в тоталитарном правлении преувеличение государственной власти; в действительности, государство, как и политическая жизнь, верно понимаемая, составляют самое необходимое для зашиты нас от угрозы тоталитаризма»93.
* * *
«Отстранение народа от всех форм политической деятельности» и, как естественное следствие, замирание политической жизни требовали какой-либо замены. Диктатура, претендующая говорить от имени народа, не может попросту возвратиться к додемократическим авторитарным моделям. «Демократичность» тоталитарных режимов следует понимать в том смысле, что они заявляют себя выразителями воли народа, воспринимаемой со времен американской и французской революций как истинный источник власти, не предоставляя массам права голоса в принятии политических.решений. Подмена демократического образа может достигаться двумя путями: комедией выборов, в которых правящая партия легко получает девять десятых или более голосов избирателей, и грандиозными постановками, призванными создать впечатление участия в политической жизни широких масс населения.
Необходимость политических спектаклей ощущалась уже якобинцами, которые маскировали свою диктатуру под видом народных торжеств, вроде чествования «Верховного Существа» или празднования очередной годовщины 14 июля. Участием всевластных лидеров и бесправного населения в общем ритуале якобинцы стремились создать ощущение единства со своими подданными. Большевики не жалели средств из своих скудных ресурсов на проведение в тяжелые годы гражданской войны шумных парадов, во время которых они могли обращаться с балконов к тысячам своих восторженных приверженцев, или на организацию под открытым небом театрализованных представлений на злобу дня. Устроители таких представлений делали все, чтобы снять барьеры между актерами и зрителями и таким образом сблизить вождей с массами. С ними обращались согласно принципам, сформулированным в конце XIX века французским социологом Гюставом Лебоном, который рассматривал толпу как некую коллективную личность, превращавшую ее в удобный объект психологического воздействия. [La Psychologic des foules. Paris, 1895. Известно, что Муссолини, как и Гитлер, читал книгу Лебона (Gregor A. The Ideology of Fascism. New York, 1969. P. 112—113; Mosse G. // Journal of Contemporary History. 1989. Vol. 24. № 1. P. 14). Есть свидетельства, что книга Лебона была настольной книгой Ленина (Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж-Нью-Йорк, 1983. С. 117).]. Экспериментировать этими методами фашисты начали во время оккупации Фиуме в 1919— 20 гг., когда городом правил политик и поэт Габриэль д'Аннунцио: «Череда празднеств, в которых д'Аннунцио играл ведущую роль, должна была устранить дистанцию между вождем и его племенем, и обращенные с балкона городской ратуши к собравшейся внизу толпе речи под звуки горнов должны были создавать такое же впечатление»94. Муссолини и другие современные диктаторы считали эти методы исключительно важными — не в качестве развлекательных мероприятий, а в качестве ритуала, призванного внушить оппонентам-скептикам впечатление незыблемости уз, связующих правителя и его народ.
В этом отношении у нацистов не было равных. Используя современнейшие достижения сценической техники и кинематографа, они гипнотизировали немцев многолюдными митингами и языческими ритуалами, которые вызывали у участников и наблюдателей ощущение нарождения некой первородной силы, которую ничто не может остановить. Единение фюрера со своим народом символизировали бесконечные колонны людей в униформах, расставленных в строгом порядке, словно оловянные солдатики, ритмичное скандирование толпы, иллюминация, факелы и флаги. Даже сильному духом человеку трудно было в такой атмосфере сохранить ясность мыслей, чтобы узреть истинную цель подобных действ. Многим немцам эти живые спектакли казались гораздо более верным выражением национального духа, чем подсчет голосов избирателей. Русская эмигрантка социалистка Екатерина Кускова, имевшая возможность наблюдать как большевистские, так и фашистские приемы манипуляции толпой, подметила их сходство: «Ленинский метод, — писала она в 1925 году, — это убеждать принуждением. Гипнотизер, демагог подчиняет волю объекта своей воле — в этом заключается принуждение. Но субъект уверен, что он действует по собственной воле. Связь Ленина с массами буквально той же природы... В точности такую же картину представляет собой итальянский фашизм»95.
Массы, подвергшиеся такому воздействию, буквально теряли человеческий облик.
В этой связи необходимо сказать несколько слов об идеологии тоталитаризма. Тоталитарные режимы создают и внедряют системы мысли, которые призваны дать ответы на все вопросы личной и общественной жизни. Идеология такого типа, усиленная контролем партии над системой образования и средствами массовой информации, была большевистским изобретением, не имевшим аналогов в истории и прилежно скопированным фашистами и нацистами. Это одно из важнейших последствий большевистской революции, в котором некоторые потрясенные современники увидели самую существенную и зловещую черту тоталитаризма, способную превратить людей в роботов. [Исследователи тоталитаризма часто выделяют внедрение идеологии как определяющую характеристику такого режима. Идеология, однако, играет при таких режимах лишь служебную роль, как инструмента для манипулирования массами. По поводу нацизма Раушнинг писал: «Программа и официальная философия, преданность и вера — все это для масс. Элиту ничто не сковывает — ни философия, ни этические нормы. У нее есть лишь одна обязанность абсолютной верности товарищам, собратьям, приобщенным к элите» (Revolution of Nihilism. P. 20). To же можно сказать и о коммунистической идеологии, которая в практическом применении оказалась крайне гибкой. Во всяком случае, демократии тоже имеют свою идеологию: когда французские революционеры в 1789 году издали «Декларацию прав человека», консерваторы вроде Берка и Дюпана сочли это опасным экспериментом. Далеко не «самоочевидное» понятие неотъемлемых прав человека было для своего времени революционным нововведением. Лишь традиционный старый режим не нуждается в идеологии.].
Опыт показал, что их опасения были напрасны. Рассматриваемые нами три тоталитарных режима действительно вполне достигли полного единообразия публичных высказываний и печатного слова во всем, что касалось власти, однако им так и не удалось установить полный контроль над мыслями, функция идеологии сводилась к воздействию, подобному тому, какое имели на умы массовые представления, то есть к созданию впечатления полного растворения личности в коллективе. Сами диктаторы не питали никаких иллюзий и не слишком беспокоились о том, что думают их подданные наедине с собой за фасадом единодушия. Да и можно ли серьезно воспринимать нацистскую «идеологию», если Гитлер, по его собственному признанию, так и не удосужился прочесть труд Альфреда Розенберга «Миф 20 века», официально объявленный теоретической базой национал-социализма? И едва ли многие русские искренне надеялись воплотить в жизнь невразумительные и устаревшие положения экономической теории Маркса—Энгельса. В маоцдзэдуновском Китае внедрение единственно верного учения приняло самые мощные формы, лишив миллиард людей доступа к образованию и книгам, кроме сборников изречений самого диктатора. И все же, едва лишь Муссолини, Гитлер и Мао сошли со сцены, их учения растворились без следа. Идеология оказалась не более чем еще одним спектаклем, и столь же эфемерным. [Высоколобые историки, вроде Ханны Арендт и Джекоба Талмона, пытаются проследить идейные истоки тоталитаризма. Однако сами тоталитарные диктаторы вовсе не были учеными, ставящими перед собой задачу установления правоты тех или иных теорий, стремясь прежде и более всего к власти над людьми. Теории нужны были им для достижения своих целей: и критерием было то, что работает. И влияние большевизма на них не в том, что заключено в программах, из которых они заимствовали им подходящее, но в самом факте: большевизму удалось установить абсолютную власть, используя ранее не применявшиеся методы. Эти методы были одинаково применимы как для национальной, так и для интернациональной революции.].
3. Партия и общество
Чтобы люди стали действительно податливым материалом в руках диктаторов, мало отобрать у них право участия в политике — необходимо лишить еще и гражданских свобод: защиты со стороны закона, права на собрания и общества, имущественных гарантий. Когда диктаторский режим вторгается в эту область, он переступает грань, отделяющую «авторитарный» строй от «тоталитарного». Когда в Соединенных Штатах это различие в 1980 году впервые обозначила Джин Киркпатрик и подхватила рейгановская администрация, многие отвергли его, как риторику «холодной войны», хотя встречается оно уже в начале 30-х годов. В 1932 г., накануне прихода к власти нацистов, немецкий политолог написал книгу под названием «Авторитарное или тоталитарное государство?», в которой и провел четкое разграничение этих понятий96. В 1957 году немецкий ученый-эмигрант Карл Лёвенштейн дал следующее определение двух политических систем: «Термин «авторитарный» обозначает политическое устройство, при котором единственный обладатель власти — отдельный индивидуум или «диктатор», собрание, комитет, хунта или партия монополизируют политическую власть.... Однако термин «авторитарный» относится скорее к структуре правительства, чем к структуре общества. Как правило, авторитарные режимы сводятся к политическому контролю над государством, не притязая на полное господство в социо-экономической жизни общества... В противоположность первому, термин «тоталитарный» относится к социо-экономической динамике, образу жизни общества. Управленческие методы тоталитарного режима неизбежно авторитарные. Но такой режим не просто лишает адресатов власти их законного права в формировании воли государства. Оно старается подогнать частную жизнь, души, чувства и нравы граждан под формы господствующей идеологии... Официально объявленная идеология проникает в каждый укромный уголок, каждую черепную коробку членов общества, ее притязания «тотальны»». [Pollitical Power and the Governmental Process. Chicago, 1957. P. 55—56, 58. Лёвенштейн неправильно претендует на первенство введения этого определения в 1942 году в книге, посвященной бразильскому профашистскому диктатору Жетулиу Варгасу (Там же. С. 392. Сн. 3).]. Уяснение различий между двумя типами антидемократических режимов необходимо для понимания политики XX века. Только безнадежно застряв в вязкой трясине марксистско-ленинской фразеологии, можно не увидеть различий между нацистской Германией и, скажем, режимом Салазара в Португалии или Пилсудского в Польше. В отличие от тоталитарных режимов, которые стремятся радикально изменить существующее общество и даже переделать самого человека, авторитарные режимы лишь защищают себя и в этом смысле вполне консервативны. Они возникают, когда демократические институты, раздираемые непримиримыми политическими и социальными противоречиями, не могут успешно функционировать. Они служат инструментом, облегчающим проведение решительных политических действий. В управлении они опираются на традиционные институты и, не увлекаясь «социальным» строительством, пытаются сохранить статус-кво. Почти во всех известных случаях, когда авторитарные диктаторы умирали или свергались, их странам не составляло особого труда восстановить демократический строй. [В качестве примера можно привести франкистскую Испанию, салазаровскую Португалию, Грецию после свержения хунты, кемаль-ататюркскую Турцию и Чили после Пиночета.].
Пользуясь этим критерием, только большевистскую Россию в расцвете сталинизма можно считать окончательно сформировавшимся тоталитарным государством. Ибо, хотя Италия и Германия и пытались подражать большевистским методам расчленения общества, даже в самые худшие времена (нацистская Германия в годы войны) им было далеко до того, что задумывал и осуществлял Сталин. Если большевистские лидеры полагались в основном на принуждение, то Муссолини и даже Гитлер, следуя советам Парето, сочетали принуждение с добровольным согласием. И до тех пор, пока их приказы беспрекословно исполнялись, они не собирались ничего менять в обществе и его институтах. В этом случае решающее значение имела историческая традиция. Большевики, которым приходилось действовать в обществе, привыкшем за столетия самодержавия отождествлять правительство с высшей властью, не только могли, но и должны были подчинить себе общество и управлять им, применяя твердость большую, чем это было необходимо, дабы показать, кто есть власть. Ни фашисты, ни нацисты не разрушали имеющиеся социальные структуры, и поэтому, потерпев поражение во Второй мировой войне, их страны сумели быстро восстановить нормальное существование. В Советском Союзе все попытки реформирования ленинско-сталинского режима, предпринимавшиеся в период с 1985 по 1991 гг., ни к чему не привели, потому что всякий неправительственный институт — социальный или экономический — приходилось строить с нуля. В результате вместо реформы коммунизма или построения демократии произошло лавинообразное разрушение упорядоченной жизни.
В России разрушение независимых, неполитических структур облегчалось тем обстоятельством, что социальные институты, еще весьма слабо развитые, тотчас рассыпались в вихре разразившейся в 1917 году анархии. В некоторых случаях (например, профсоюзы, университеты, православная церковь) большевики подменили существующее управление своими людьми; другие институты попросту распустили. К моменту смерти Ленина в России не осталось буквально ни одного института, не контролируемого непосредственно Компартией. За исключением крестьянской общины, которой было отпущено немного времени, не сохранилось ничего, где бы отдельный гражданин мог найти защиту и заступничество перед режимом.
В фашистской Италии и нацистской Германии общественные организации чувствовали себя свободнее — в частности, профсоюзы, хотя и под контролем партии, продолжали пользоваться некоторой независимостью и влиянием, о чем рабочие в СССР не могли даже мечтать — сколь бы мало значительным это ни представлялось гражданам, живущим в демократическом обществе.
Утверждая свою власть над обществом в Италии, Муссолини действовал столь же осмотрительно, как и в отношении политических институтов. Его революция совершилась в две фазы. С 1922 по 1927 гг. он выступал типичным авторитарным диктатором. Движение в направлении тоталитаризма началось в 1927 году с наступления на независимость самостоятельных неправительственных организаций. В тот год дуче потребовал от них представить правительству свидетельства об официальном статусе и списки членов. Эти меры призваны были склонить их к сотрудничеству, ибо отныне членство в организации, выступающей против фашистской партии, было сопряжено с определенным риском. В тот же год были лишены своих традиционных прав итальянские профсоюзы и наложен запрет на забастовки. И все же профсоюзы пользовались некоторой властью, поскольку Муссолини использовал их как противовес частному сектору экономики: согласно фашистскому законодательству, частные предприятия должны были предоставлять представителям профсоюзов равные права в принятии решений под общим руководством партии.
Гитлер покрыл Германию сетью контролируемых нацистами организаций, охватывающих всевозможные по роду занятий группы населения, включая учителей, юристов, врачей и авиаторов97. Профсоюзы, находившиеся под сильным влиянием социал-демократов, в мае 1933 г. были распущены и заменены «Рабочим фронтом», который, по муссолиниевскому примеру, включал не только рабочих и служащих, но и работодателей; под руководством нацистской партии им надлежало сгладить свои противоречия98. Поскольку членство в «Рабочем фронте» было принудительным, организация росла как на дрожжах, в конце концов охватив половину населения страны. Структурно «Рабочий фронт» был ответвлением национал-социалистической партии. Постепенно, как и в сталинской России, немецким рабочим запретили оставлять по своему желанию место работы, и руководители не могли увольнять их без разрешения властей. Подражая большевикам, Гитлер в июне 1935 г. ввел обязательную трудовую повинность99. В результате такой политики, как и в Советской России, партия взяла на себя полный контроль над всякой организованной жизнью в стране. «Организация общества, — хвалился Гитлер в 1938 году, — есть вещь гигантская и единственная в своем роде. Едва ли сейчас найдется хоть один немец, который не связан лично и не действует в той или иной формации национал-социалистического общества. Оно входит в каждый дом, каждую мастерскую и каждую фабрику, в каждый город и деревню»100.
Как и в ленинской России, фашистская и нацистская партии установили правительственную монополию в сфере информации. В России все независимые газеты и журналы были ликвидированы в августе 1918 года. С учреждением в 1922 г. цензурного комитета, Главлита, партия получила полный контроль над печатным словом, а также и над театром, кинематографом и всеми видами зрелищных мероприятий, включая цирк. [См. ниже: гл. 6].
Муссолини предпринял наступление на независимую прессу спустя год после прихода к власти, направляя своих боевиков громить редакции и типографии не симпатизирующих ему изданий. После убийства Маттеотти с газет, помещавших «ложные» сведения, взимался крупный штраф. Наконец, в 1925 году свободу печати официально отменили, и теперь правительство устанавливало обязательные для всех стандарты подачи новостей и редакционных комментариев. Однако издательства все еще оставались делом частным, и, кроме того, дозволялось распространение зарубежных материалов, а церковь имела свою газету «Osservatore Romano», которая вовсе не придерживалась фашистской линии.
В Германии свободу прессы удушили чрезвычайными законами через несколько дней после занятия Гитлером поста канцлера. В январе 1934 г. была учреждена государственная должность «руководителя печати», который следил за тем, чтобы пресса исполняла партийные директивы, и имел полномочия увольнять непокорных издателей и журналистов.
Нацистская концепция права совпадала с большевистской и фашистской: закон это не воплощение правосудия, а инструмент господства. Существование трансцендентных этических норм отрицалось; мораль объявлялась феноменом субъективным и определявшимся политическими критериями. Ленин в ответ на возмущение Анжелики Балабановой ложным обвинением в «предательстве» социалистов, единственный грех которых состоял в том, что они были с ним несогласны, заявил: «Все, что делается в интересах дела пролетариата, — честно»101. Расисты перевели эту псевдомораль на свой язык, согласно которому морально все то, что служит интересам арийской расы. [Гитлер определял правосудие как «средство управления». «Совесть, — говорил он, — это выдумка евреев. Столь же постыдная, как обрезание» (Rauschning H. Hitler Speaks. P. 201, 220). Представление о том, что морально все то, что полезно народу, возможно, почерпнуто из «Протоколов сионских мудрецов», где утверждается: «Все, что приносит пользу еврейскому народу, нравственно и свято» (Arendt H. The Origins of Totalitarianism. P. 358).]. Сближение этических норм, одних — основанных на классовом, а других — на расовом подходе, привело и к сближению концепций закона и правосудия. Нацистские теоретики интерпретировали и то и другое в утилитарном ключе: «Закон это то, что приносит пользу народу», «народ» же отождествлялся с личностью фюрера, который в июле 1934 года объявил себя «Верховным судьей» страны. [Bracher K. Die deutsche Diktatur. S. 235, 394. Более подробный анализ нацистской концепции и практики права см.: Fraenke E. The Dual State. New York, 1969. P. 107-149.]. Хотя Гитлер часто говорил о необходимости раз и навсегда упразднить всю судопроизводственную систему, он до поры до времени предпочитал подрывать ее изнутри. Для рассмотрения «преступлений против народа», как их принято было называть, нацисты по примеру большевиков ввели два типа трибуналов: «Особые суды» (Sondergerichte) — подобие ленинских революционных трибуналов, и «народные суды» — по аналогии с одноименными учреждениями в Советской России. В первых вместо привычного судопроизводства все решали приговоры, продиктованные партией. В период нацистского правления, если то или иное преступление квалифицировалось как политическое, необходимость в законном доказательстве его отпадала102. «Здоровое сознание народа (Volk)» стало основным мерилом при установлении виновности.
Внешне существенная разница между коммунизмом, с одной стороны, и фашизмом и национал-социализмом, с другой, заключается в их отношении к частной собственности. Именно это обстоятельство заставило многих историков классифицировать режимы Муссолини и Гитлера как «буржуазные» и «капиталистические». Однако более пристальное изучение этой проблемы показывает, что эти режимы воспринимали частную собственность не как неотъемлемое право, а как условную привилегию.
В Советской России к моменту смерти Ленина все капиталы и все производство были собственностью государства. С коллективизацией сельского хозяйства в конце 20-х, лишившей крестьянство права распоряжаться землей и плодами своего труда, частная собственность была упразднена окончательно. В 1938 году, согласно советским статистическим данным, государство владело 99,3% национального дохода103.
Муссолини пошел по пути, которым воспользовался и Гитлер. Он счел, что в фашистском государстве частная собственность может иметь место, но без объявления ее «естественным» и тем самым неотъемлемым правом. Владение имуществом он считал правом, обусловленным интересами государства, которое может оспорить его и там, где речь идет о средствах производства, отменить путем национализации104. Фашистские власти беспрерывно вмешивались в дела частных предприятий, не оправдывавших их ожиданий, из-за плохого ли руководства, из-за дурных ли производственных отношений, или по каким-либо иным причинам. Нередко им приходилось вступать в конфликт с промышленниками, не желавшими считаться с профсоюзами. Они вмешивались и в процесс производства и распределения, «упорядочивая» прибыли и смещая руководителей. Один современник заметил, что рассматривать фашизм как «победивший капитализм» неправомочно, поскольку при нем частное предпринимательство оказывалось под не менее строгим контролем, чем трудящиеся105.
Нацисты тоже не видели смысла в запрещении частного предпринимательства, поскольку оно охотно шло на сотрудничество и готово было оказать помощь в перевооружении, в котором Гитлер видел основную задачу экономики. Терпимость по отношению к частному сектору определялась конкретной целесообразностью, а не твердым установлением. Как и фашисты, нацисты признавали принцип частной собственности, но отрицали его священный характер на том основании, что производственные силы, как и людские ресурсы, должны служить нуждам «общества». По словам нацистского теоретика, «собственность... не столько частное дело, сколько уступка государства при условии, что она будет использоваться правильно»106.Понятно, что «собственность», которая перестала быть частным делом, более уже не частная собственность. Фюрер, как олицетворение национального духа, пользовался правом «ограничить или экспроприировать собственность по своему усмотрению, если таковое ограничение или экспроприация согласуется с задачами общества»107. 14 июля 1933 года, в день, когда НСРПГ была объявлена единственной легальной партией, закон позволял конфисковывать все «враждебное» партии и государству имущество108. Четырехлетние нацистские планы, прямо позаимствованные из коммунистической практики «пятилеток» и преследовавшие те же цели, а именно ускоренное перевооружение, создавали широкие возможности для вмешательства государства в экономическую деятельность.
«Невзирая на целое поколение марксистской и неомарксистской мифологии, вероятно, никогда в мирное время управление явно капиталистической экономикой не велось такими не- и даже антикапиталистическими методами, как в Германии в период между 1933 и 1939 гг. ... Статус предпринимательства в Третьем рейхе определялся в лучшем случае социальным договором между неравными партнерами, в котором подчинение было условием успешности»109.
На право фермера распоряжаться своей землей накладывались строгие ограничения, предусматривающие сохранение ее за семьей110. Постоянное вмешательство вдела предпринимателей доходило даже до ограничения объема прибыли, который корпорации могли выплачивать в виде дивидендов. В 1939 году Раушнинг предостерегал благодушную Европу, что экспроприация нацистами имущества евреев была только первым шагом, прелюдией «тотального и необратимого разрушения экономической позиции» немецких капиталистов и прежних правящих классов111.
Присвоение нацизму «буржуазного» характера традиционно опиралось на два аргумента, опровергаемых историческими фактами. Широко распространено было мнение, что на своем пути к власти Гитлер пользовался финансовой поддержкой промышленных и банковских кругов. Однако документы говорят о том, что большой бизнес пожертвовал Гитлеру весьма незначительные суммы, гораздо меньше того, что было передано соперничающим консервативным партиям из страха перед его социалистическими лозунгами: «Лишь с большой натяжкой можно приписать большому бизнесу решающую, или даже важную, роль в падении [Веймарской] республики... Если роль большого бизнеса в распаде республики преувеличена, то тем более это справедливо в отношении восхождения Гитлера... Начальный рост НСРПГ протекал без какой бы то ни было существенной поддержки со стороны кругов крупных предпринимателей»112.
Во-вторых, невозможно утверждать, чтобы когда-либо при нацистском режиме большой бизнес мог оказать сопротивление нацистской политике, не говоря уж о том, чтобы диктовать свою волю. Немецкий историк-марксист следующим образом описывает место капиталистов при Гитлере: «В самоощущении фашизма фашистская система правления характеризуется приматом политики. Пока примат политики сохраняется, фашистам все равно, какой группе более всего выгоден их режим. Поскольку экономический уклад, в фашистском восприятии мира, имел второстепенное значение, они приняли существующий капиталистический порядок». [Kuhn A. Das faschistische Herrschaftssystem. Hamburg, 1973. S. 85. Автор использует термин «фашисты» для обозначения нацистов. Было отмечено, что в Веймарской республике деловые круги «высказывали.... удивительное безразличие к формам правления» (Turner H. // American Historical Review. 1969. Vol. 75. № 1. P 57).]. Национал-социалистское движение, по словам другого ученого, «было с самого начала правлением новой и революционной элиты, которая терпела промышленников и аристократов лишь постольку, поскольку они удовольствовались статусом, который не давал им реального влияния в определении политики»113. Тем более не было у них смысла быть недовольными крупными государственными заказами и прибылями, ими обеспечиваемыми.
В этой связи полезно вспомнить, что Ленин не стеснялся брать деньги у русских миллионеров и даже у правительства имперской Германии114. Придя к власти, он стремился наладить контакты с русским большим бизнесом, ведя переговоры с крупными картелями о взаимовыгодном сотрудничестве с новым режимом. Из этого ничего не вышло, из-за сопротивления левых, которым не терпелось приступить к строительству коммунизма 115. Однако намерение такое было, и, если бы к 1921 году, когда Ленин перешел к нэпу, в России сохранилось хоть что-нибудь из крупной капиталистической индустрии или торговли, можно не сомневаться, он поладил бы с ними.
* * *
Если мы обратимся к различиям между коммунистическим, фашистским и национал-социалистическим режимами, то увидим, что в главном все они относятся на счет неодинаковых социальных, экономических и культурных условий, в которых этим режимам выпало осуществляться. Иными словами, они явились результатом тактического приспособления одной и той же философии правления к местным условиям, а не плодами различных философий.
Самое существенное различие между коммунизмом, с одной стороны, и фашизмом и национал-социализмом, с другой, заключается в их отношении к национализму: коммунизм — движение интернациональное, тогда как фашизм, по словам Муссолини, не предназначен для «экспорта». В речи в Палате депутатов в 1921 году дуче обратился к коммунистам со следующими словами: «Между нами и коммунистами нет политического родства, но есть интеллектуальное. Как и вы, мы считаем необходимым централизованное и единое государство, требующее железной дисциплины ото всех, с той лишь разницей, что вы приходите к этому выводу через концепцию классов, а мы через концепцию нации»116. Будущий министр пропаганды Гитлера Йозеф Геббельс тоже считал, что коммунизм от нацизма отделяет только интернационализм первого117.
Насколько фундаментальны эти отличия? При более пристальном изучении становится понятно, что они объясняются главным образом особыми социальными и этническими условиями трех упомянутых стран.
В Германии в 1933 году 29% взрослого населения работало в сельском хозяйстве, 41% — в промышленности и ремесленном производстве и 30% — в сфере обслуживания118. Здесь, как и в Италии, распределение между городским и сельским населением, между наемными рабочими, мелкими частными предпринимателями и крупными работодателями, между имущими и неимущими было гораздо сбалансированней, чем в России, которая в этом отношении более напоминала Азию, чем Европу. Учитывая сложность социальной структуры и значение, какое имели группы, не принадлежащие ни к «пролетариату», ни к «буржуазии», было совершенно нереально надеяться столкнуть между собой классы в Западной Европе. Здесь рвущемуся к власти диктатору нельзя было отождествлять себя с тем или иным классом, не ослабив при этом своей политической позиции. О справедливости этого утверждения свидетельствуют неоднократные неудачные попытки коммунистов разжечь социальную революцию на Западе. Во всяком случае в Венгрии, Германии, Италии той части интеллигенции и рабочего класса, которую им удалось поднять на мятеж, успешно противостояли коалиционные силы иных социальных групп. После Второй мировой войны даже в странах, где у коммунистов было больше всего сторонников, в Италии и Франции, они, опираясь только на один класс, так и не смогли вырваться из изоляции.
На Западе диктатору, идущему к власти, следует использовать скорее национальные, а не классовые противоречия. Муссолини и его фашистские теоретики искусно связали одно с другим, заявляя, что в Италии «классовая борьба» есть не столкновение двух классов граждан, а битва всей «пролетарской нации» с «капиталистическим» миром119. Гитлер видел в «международном еврействе» не только «расового», но и классового врага немцев. Фокусируясь на ненависти к чужакам — или «врагам», по Карлу Шмитту, — он уравновешивал интересы среднего класса, рабочих и фермеров, не определяя открыто своих предпочтений к тем или иным из них. Национализм Муссолини и Гитлера определялся тем обстоятельством, что структура их общества требовала, чтобы недовольство было направлено вовне, потому что путь к власти пролегал через сплочение различных классов против чужеземцев. [Наиболее благоразумные деятели Коминтерна это прекрасно понимали. На июньском 1923 года Пленуме Радек и Зиновьев убеждали, что немецким коммунистам, чтобы вырваться из изоляции, нужно наладить связи с националистически настроенными элементами. Оправданием такому маневру должно было служить рассуждение, что националистическая идеология «угнетенных» народов, одним из которых является Германия, носит революционный характер. «В Германии, — заявлял по этому поводу Радек, — упор на национальность есть акт революционный» (Luks L. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. S. 62).]. В некоторых странах — особенно в Германии и Венгрии — коммунисты тоже, не колеблясь, апеллировали к шовинистическим настроениям.
В Восточной Европе ситуация была совсем иной. Россия в 1917 году была страной по преимуществу одного класса — крестьянства. Промышленных рабочих было сравнительно мало, и, по большей части, они все еще были прочно связаны с деревней. Эту удивительно однородную группу «трудящихся», которые в губерниях Великороссии составляли 90% всего населения, отделяли от остальных 10% не только социо-экономические, но и культурные характеристики. Они не ощущали национального единения с достаточно европеизированными помещиками, чиновниками, военными, предпринимателями и интеллигенцией. С точки зрения русских крестьян и рабочих, они с таким же успехом могли бы быть и иностранцами. Образ классового врага революционной России, буржуя, выражался не только его социо-экономическим положением, но и речью, манерами и обликом. И путь к власти в России пролегал, тем самым, через гражданскую войну между крестьянскими и рабочими массами и европеизированной элитой.
Но если Россия имела не столь сложное социальное устройство, как Италия и Германия, то этого нельзя сказать об ее национальном составе. Италия и Германия были странами этнически однородными; Россия была многонациональной империей, в которой господствующая группа составляла менее половины населения. Политик, апеллирующий открыто к русскому национализму, рисковал настроить против себя нерусскую половину — что было понятно царскому правительству, избегавшему прямого отождествления с великорусским национализмом и опиравшемуся на этнически нейтральную «имперскую» идею. По этой же причине и Ленину пришлось избрать путь, отличный от Муссолини и Гитлера, и придерживаться идеологии, не имеющей национальной окраски.
Одним словом, в России, учитывая высокую однородность ее социальной структуры и разнородность этнической, предприимчивому диктатору целесообразней было апеллировать к классовому антагонизму, в то время как на Западе, где ситуация была прямо противоположной, упор делался на национализм.
Следует, однако, заметить, что со временем классовый и националистический тоталитаризм стремятся к сближению.
Сталин на исходе своей политической карьеры дал ход великорусскому национализму и антисемитизму: во время Второй мировой войны и после ее окончания он вполне открыто и бесстыдно вел шовинистскую кампанию. Гитлер, со своей стороны, считал немецкий национализм слишком сковывающим его амбиции. «Я могу достичь своих целей только через мировую революцию», — говорил он Раушнингу и предсказывал, что растворит немецкий национализм в более всеобъемлющей концепции «арийства»: «Концепция нации потеряла смысл... Мы должны избавиться от этой ложной концепции и поставить на ее место концепцию расы... Новый порядок не может формулироваться в понятиях национальных границ народов с историческим прошлым, но только в понятиях расы, преодолевающей эти границы... Я прекрасно, не хуже всех этих ужасно умных интеллектуалов, знаю, что в научном смысле нет такого понятия, как раса. Но вы, как фермер и скотовод, не можете успешно выводить породу, не имея концепции расы. И я, как политик, нуждаюсь в концепции, которая позволит упразднить порядок, до сих пор существовавший на исторической основе, и установить совершенный и новый антиисторический порядок и дать ему интеллектуальное обоснование... И для этой цели мне вполне подходит концепция расы... Франция вынесла свою великую революцию за пределы своих границ на концепции нации. С концепцией расы национал-социализм понесет революцию за пределы страны и переделает мир... Тогда мало что останется от националистских клише, и менее всего среди нас, немцев. Вместо того установится понимание между различными языковыми элементами одной большой правящей расы»120.
Коммунизм и «фашизм» имеют разное интеллектуальное происхождение: один уходит корнями в философию Просвещения, другой — в антипросветительскую культуру эпохи романтизма. Теоретически коммунизм рационален и конструктивен, «фашизм» — иррационален и деструктивен, почему коммунизм и был всегда гораздо привлекательней для интеллектуалов. На практике, однако, эти различия стираются. Тут и в самом деле «бытие определяет сознание», поскольку тоталитарные институты подчиняют себе идеологию и переиначивают ее по своему усмотрению. Как мы отмечали, оба движения используют идеи как пластичный инструмент, с помощью которого можно добиться от своих подданных послушания и создать видимость единства. В конце концов тоталитаризм ленинско-сталинского и гитлеровского режимов, при всем различии их происхождения, оказывается одинаково нигилистским и одинаково деструктивным.
Самым ярким подтверждением этого, пожалуй, следует признать восхищение тоталитарных диктаторов друг другом. Мы упоминали о высокой оценке, какую давал Ленину Муссолини, и о похвалах, которые он расточал Сталину, ставшему, по его мнению, «тайным фашистом». Гитлер признавался, что преклоняется перед «гением» Сталина: в разгар Второй мировой войны, когда его войска вели тяжелые бои с Красной Армией, Гитлер тешил себя фантазиями о соединении враждующих сил для совместной борьбы с западными демократиями. Он даже подумывал о назначении Сталина своим наместником в побежденной России121. Одно важное препятствие на пути к такому сотрудничеству — присутствие евреев в советском правительстве, — казалось, было вполне преодолимым в свете тех заверений, которые советский лидер дал гитлеровскому министру иностранных дел Риббентропу: как только у него появятся подходящие кадры, он уберет с командных постов всех евреев122. И Мао Цзэдун, самый радикальный коммунист, в свою очередь, восхищался Гитлером и его методами. Когда в разгар «культурной революции» раздались упреки в том, что он пожертвовал столькими жизнями своих товарищей, Мао ответил: «Посмотрите на Вторую мировую войну, на жестокость Гитлера. Чем больше жестокости, тем больше энтузиазма к революции»123.
Тоталитарные режимы правого и левого толка объединяют не только сходные политические философии и практика, но и одинаковая психология их основателей: их движущая сила — ненависть, а их выражение — насилие. Муссолини, самый откровенный из них, говорил, что насилие подобно «моральной терапии», поскольку вынуждает ясно осознать свои убеждения124. В этом, а также в решимости всеми средствами и любой ценой разрушить существующий мир, в котором они ощущают себя отщепенцами, и состоит их родство.
ГЛАВА 6. КУЛЬТУРА КАК ПРОПАГАНДА
«Но это и была цель всего предприятия: выдрать виды с корнем безвозвратно; ибо как еще можно построить новое общество? Вы начинаете не с фундамента и не с крыши, вы начинаете изготавливать новые кирпичи».
Иосиф Бродский1Для большевиков социальная революция была немыслима без революции в культуре. Тема культурной революции привлекла к себе особенное внимание ученых как более благоприятная, чем мрачные описания нескончаемых репрессий и страданий, характеризующих этот период. В первое десятилетие большевики проявляли по отношению к творческой деятельности терпимость, какой не выказывали ни в экономике, ни в политике. Такая позиция кажется особенно поразительной в контексте суровости и грубости сталинской эпохи. Однако при ближайшем рассмотрении все новшества в литературе, искусстве и образовании, наблюдавшиеся в первые годы существования большевистского режима, оказываются лишь побочными аспектами культурной политики, с самого начала определявшейся чисто идеологическими соображениями. В самом понятии «культурная политика» кроется противоречие, поскольку собственно культура не может быть управляемой, и тем самым легко угадывается стоящая за этим цель, ради достижения которой большевики стремились подчинить себе культуру.
Таковой целью была пропаганда, то есть интеллектуальное и эмоциональное руководство. Ленин, как и его комиссар по делам культуры Луначарский, видел назначение всех советских культурных и образовательных институтов во внедрении коммунистической идеологии, призванной воспитать новую, совершенную породу людей. Литературе отводилась в этой схеме функция пропаганды; те же задачи возлагались и на изобразительное искусство, и на кино, и на театр, и прежде всего на систему образования. Ни одно правительство до сей поры не пыталось в такой степени влиять на мысли и чувства подданных.
Безусловно, пропаганда не была изобретением большевиков. Ее идея зародилась в начале XVII века, когда папство для распространения католичества создало Congregatio de Propaganda Fide. В секуляризованной форме к пропаганде часто прибегали правительства в XVIII и XIX вв.: ею весьма искусно пользовались и Екатерина II, и французские революционеры, и Наполеон. В период Первой мировой войны для ведения агрессивной пропаганды главные воюющие страны создавали специальные учреждения. Но до большевиков пропаганда никогда не занимала такого значительного места в жизни людей: если раньше она была призвана приукрасить или преподнести реальность в нужном ключе, то в Советской России она должна была полностью подменить собой действительность. Коммунистическая пропаганда стремилась создать — и, надо заметить, весьма успешно — в разительном противоречии с повседневным опытом вымышленный мир, в который должны были уверовать советские люди. Это стало возможным благодаря контролю коммунистической партии над источниками информации и общественным сознанием. Эксперимент проводился с таким размахом и с такой изобретательностью и рвением, что подчас иллюзорный мир, им созданный, затмевал для многих советских граждан живую реальность.
Первые шаги советской культуры обнаруживают удивительную двойственность. С одной стороны — дерзкое экспериментаторство и безграничная свобода творчества, с другой стороны — неустанное стремление поставить культуру на службу политическим интересам нового правящего класса. Хотя современные иностранные историки уделяют все свое внимание причудам творчества большевистских художников и их «попутчиков» — однотонным полотнам Александра Родченко, так и не воздвигнутым фантастическим небоскребам Татлина и его же планерам, приводимым в действие мускульной силой и никогда не отрывавшимся от земли, стильным моделям рабочей одежды, сконструированным Родченко и Любовью Поповой для голодающих рабочих и крестьян, — гораздо знаменательней был внешне малоприметный рост «культурной» бюрократии, для которой культура была лишь формой пропаганды, а пропаганда — высшей формой культуры.
Еще задолго до того, как Сталин пришел к власти и покончил с экспериментаторством, для свободного творчества уже ковались жесткие кандалы2.
Поскольку, согласно марксистскому учению, культура есть лишь побочный продукт экономических отношений, большевики считали само собой разумеющимся, что революционные преобразования, произведенные ими в сфере имущественных отношений, неизбежно повлекут соответствующие революционные преобразования и в культуре: Троцкий всего лишь следовал марксистской аксиоме, говоря, что «каждый господствующий класс создает свою культуру»3. И пролетариат не должен был составлять исключения из этого правила. Однако во взглядах на природу новой культуры и пути ее создания единого мнения у большевиков не было. Одним из поводов расхождений стал вопрос о свободе творчества. Многие большевики считали, что «работники культуры» обязаны подчиняться той же дисциплине, что и все другие члены коммунистического общества. Другие утверждали, что, поскольку творчество не поддается регламентации, творческим работникам нужно предоставить большую свободу. Отношение Ленина к этой проблеме было двойственным. В 1905 году он говорил о литературе как о деятельности, менее всего поддающейся «механическому равнению». Конечно, литература должна быть неразрывно связана с партией: в социалистическом обществе писатели должны состоять ее членами, а издательства подчиняться ей. Но, поскольку новую социалистическую литературу не создашь за сутки, писателям нужна свобода4. Однако тут же Ленин распространял понятие «партийности» на литературу. После революции 1905 года он заявлял, что «литература должна стать партийной»: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!»5 И хотя Ленин проявлял по отношению к литературе и искусству гораздо большую терпимость, чем к иным сферам человеческой деятельности, поставленный перед выбором, он всегда становился на сторону тех, кто видел в литературе служанку политики.
Не меньше споров вызывал вопрос о содержании новой пролетарской культуры: должна ли она воспользоваться наследием «буржуазной культуры» и строить на ее основе свою или полностью отвергнуть прошлое и начать с нуля. Последний тезис отстаивали деятели Пролеткульта. Пользуясь покровительством Луначарского, возглавившего комиссариат просвещения, в первые два года новой власти, когда Ленин был занят более важными проблемами, пролеткультовцы главенствовали в культурной жизни. Но вскоре им пришлось уступить арену, ибо для Ленина культура означала нечто совсем иное: не столько литературное и художественное творчество, на которое, с его точки зрения, русский народ едва ли был способен, сколько новый образ жизни, озаренный научно-техническими знаниями: «Ленинская концепция "социалистической культурной революции" подчеркивала рационально-планирующие задачи новой революционной государственной власти, а также ведущую роль знания и неотложную задачу начального народного образования. Лишь когда будут заложены прочные основы, высшая культура станет доступной крестьянским и пролетарским массам, будут установлены культурные социальные отношения, и народ, обученный технике, претерпит перемену сознания. Согласно этой концепции, "культурная революция" означает не создание новой "пролетарской культуры", а освоение научных, технических и организационных методов преодоления отсталости страны и ее населения»6.
И хотя Троцкий выступал за менее утилитарное представление о культуре, он также отрицал философию Пролеткульта. Поскольку историческая миссия пролетариата — уничтожение всех классовых различий, его культура не может нести отпечатка какого-либо одного класса: рабочее государство должно произвести на свет «первую подлинно человеческую культуру»7. В конце концов Пролеткульт потерпел поражение. По причинам, которые мы рассмотрим ниже, его идеи были объявлены еретическими и его организации, влияние которых в период наивысшего расцвета соперничало в области искусства с влиянием самой Коммунистической партии, были распущены. Режим предпочел более эклектичный путь.
В вопросах организационных Ленин тяготел к крупным, величественным формам — гигантским учреждениям по модели капиталистических картелей, которые управляли бы всеми сферами человеческой деятельности. Так, Совнархоз должен был управлять всей промышленностью, Чека — всем, что касается безопасности, а Реввоенсовет всеми аспектами гражданской войны. Подобным образом он бюрократизировал и сконцентрировал управление культурой, подчинив ее единому учреждению — Наркомпросу. В отличие от соответствующего министерства в царской России, Наркомпрос отвечал не только за образование, но и за все грани интеллектуальной и эстетической жизни, включая и развлекательные учреждения — науку, литературу, печать, изобразительное искусство, музыку, театр и кино. Как было сформулировано в 1925 году, Наркомпрос «руководит научной, учебной и художественной деятельностью республики как общего, так и профессионального характера»8. Наркомпрос управлял издательским делом и вводил все более строгие цензурные нормы. В силу мягкости характера самого Луначарского, пока он заведовал Наркомпросом (смещен в 1929 году), эти функции исполнялись не слишком решительно, предоставляя служащим наркомата и всем, пользующимся его материальной поддержкой, сравнительную независимость, непредставимую в других правительственных департаментах.
Невдохновляющая деятельность наркомпроса не могла привлечь к нему истинные таланты, превратившись в уютное прибежище жен и родственников советских начальников9.
Но человеческие качества Луначарского были не единственной и не главной причиной не свойственного режиму благодушия по отношению к интеллектуальной элите нации. Невозможно было закрывать глаза на тот факт, что буквально вся интеллигенция, и профессиональная и «творческая», отрицали большевистскую диктатуру. Интеллигенция первой в царской России освободила себя от всеобщего долга служения государству10. Какие бы грехи ни лежали на совести интеллигенции, но она искренне верила в свободу и, насладившись целым столетием независимости, не желала идти в услужение к государству. Большинство русских писателей, художников и ученых, каждый в отдельности и все вместе, отвернулись от новых правителей, отказываясь работать на них, находя убежище либо в эмиграции, либо в частной жизни. Молодой Владимир Набоков в статье, появившейся в эмигрантской газете по поводу 10-й годовщины революции, выразил мнение многих: «Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какой-нибудь Ком-пом-пом, а ту уродливую, тупую идею, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая превращает людей в муравьев, новую разновидность formica marxi, var. lenini... Я презираю коммунистическую веру как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто, глупо посягающее на мое свободное я, как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства»11.
О том, насколько непривлекателен был новый режим для «творческой интеллигенции», можно судить по тому факту, что, когда в ноябре 1917 года, через несколько дней после переворота, большевистский ЦИК пригласил петроградских писателей и художников на встречу, пришло только семь или восемь человек. Та же участь постигла Луначарского в декабре 1917 года, когда из 150 приглашенных — самых выдающихся представителей интеллигенции — явилось 5 человек, среди них двое симпатизирующих — поэт Владимир Маяковский и театральный режиссер Всеволод Мейерхольд, да еще мятущийся Александр Блок12. Луначарскому пришлось буквально умолять студентов и преподавателей прекратить бойкот новой власти13. Максим Горький был единственным всенародно известным писателем, сотрудничавшим с большевиками, но и он подвергал их уничтожающей критике, которую Ленин предпочитал не замечать, вынужденный дорожить поддержкой писателя. Книга Троцкого «Литература и революция», написанная в 1924 году, обливает презрением и ненавистью русскую интеллигенцию за то, что она отвергает большевистский режим. Взбешенный их нежеланием влиться в русло нового искусства, Троцкий высмеивает «ретроградное тупоумие профессиональной интеллигенции» и объявляет, что Октябрьская революция обнажила их «невозвратный провал»14. Со временем многие интеллигенты примирились с властью, подчас лишь ради того, чтобы избежать голодной смерти, но и их можно считать в лучшем случае лишь подневольными сотрудниками власти. Те представители «творческой интеллигенции», кого властям удалось привлечь на свою сторону, были по большей части эпигонами и поденщиками, не способными на самобытное творчество, и точно так же, как посредственности в нацистской Германии, они устремились в правящую партию, ища ее высокого покровительства. Политика сравнительной терпимости в сфере культуры помогла по крайней мере нейтрализовать остальных. Ленин, относившийся к русской интеллигенции с не меньшим презрением, чем Николай II, полагал, что может купить ее за небольшую долю свободы и некоторые материальные блага.
Писателям и художникам, пошедшим на сотрудничество с большевиками, пока был жив Ленин, не приходилось жаловаться на условия работы. Однако они не создали ничего существенного, не сумев вписаться в жесткие рамки, установленные хозяевами, которым человек не казался чем-то единственным и неповторимым, обладающим собственной волей и совестью, ведь они видели в нем лишь представителя своего класса, то есть определенный тип, чье поведение и поступки предопределяются исключительно экономическими интересами этого класса. Большевики ненавидели индивидуальность в любых ее проявлениях: известный теоретик советского искусства 20-х годов Алексей Гастев предсказывал постепенное исчезновение индивидуального мышления и замену его «механизированным коллективизмом»15. При таком подходе писателю оставалось лишь штамповать типовые образы, среди которых не было места образу «положительного» буржуя или «отрицательного» рабочего. В результате советская драматургия и проза наводнились множеством двухмерных, черно-белых персонажей, объяснявшихся клишированными фразами и действующих как марионетки. На короткое время им позволялось отступить от стереотипа, чтобы испытать сомнения или совершить ошибки, но в конце концов все должно было стать на свои заранее определенные места и закончиться благополучно, «как в кино». Поскольку художественные произведения лишались тем самым всякого элемента неожиданности и увлекательности, а творчество — вдохновения, некоторые советские писатели искали способ самовыражения в экспериментах с формой. В первое десятилетие советской власти все традиционные каноны литературы, драматургии и изобразительного искусства подверглись радикальному переосмыслению: экспериментирование с формой в стремлении скрыть убогость содержания превратилось в самоцель.
* * *
Движение «Пролетарской культуры» было основано в первые годы XX века Луначарским и Александром Богдановым (Малиновским). Ленин назначил Луначарского, воспитанника Цюрихского университета, комиссаром просвещения, несмотря на недовольство Пролеткультом и опасения, какие вызывали политические амбиции Богданова. Луначарский говорил, что своим назначением он обязан тому обстоятельству, что был «интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов»16. При всех своих расхождениях с Лениным во взглядах на сущность новой культуры, он разделял убеждение руководителя партии в том, что в Советской России «школа должна стать источником агитации и пропаганды» и оружием против «всевозможных предрассудков», как религиозных, так и политических17. Луначарский, кроме того, был сторонником введения цензуры, которую Ленин поручил его заботам18.
В годы становления большевизма Богданов был одним из самых близких и преданных соратников Ленина. В 1905 году Ленин сделал его одним из трех членов тайного центра, руководившего подпольными действиями большевиков и распоряжавшегося партийной кассой. Уже тогда Богданов проявлял острый интерес к проблемам социологии культуры19. Его теорию, подчас достаточно туманную и путаную, происходившую отчасти из учений социолога Эмиля Дюркгейма и неокантианцев, в нескольких словах можно представить так: культура есть одна из сторон труда, а поскольку труд есть коллективное усилие в вечной борьбе человека с природой, создание культуры есть также процесс коллективный: «Творчество, всякое — техническое, социально-экономическое, политическое, бытовое, научное, художественное — представляет разновидность труда и точно так же слагается из организующих (или дезорганизующих) человеческих усилий... Нет и не может быть строгой границы между творчеством и просто трудом; не только имеются все переходные ступени, но часто нельзя даже уверенно сказать, которое из двух обозначений более применимо.
Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен, как бы ни были в частных случаях узкоиндивидуальны его цели и его внешняя, непосредственная форма (т.е. и тогда, когда это труд одного лица, и только для себя). Таково же и творчество.
Творчество — высший, наиболее сложный вид труда. Поэтому его методы исходят из методов труда»20.
В примитивном, бесклассовом обществе есть только одна, общая для всех культура, и высшим достижением ее является язык. Но и поэзия, музыка, танец тоже помогают в общем труде и на войне.
На определенной стадии человеческого развития, согласно Богданову, наступает разделение труда и его производного — общественных классов. Исчезновение социальной однородности ведет к раздвоению культуры, по мере того как имущественная элита монополизирует мысль и навязывает свои идеи и ценности инертным массам. В результате образуется разрыв между интеллектуальным и физическим трудом, который владельцы средств производства используют для того, чтобы держать рабочие классы в порабощении. В обществах, основанных на классовых различиях, искусство и литература становятся крайне индивидуализированными, а творческие личности руководствуются лишь своим «вдохновением». Но индивидуализм феодальной и капиталистической культуры более кажущийся, чем реальный. Применяя концепцию Эмиля Дюркгейма о коллективном разуме, Богданов утверждал, что корни даже крайне индивидуального творчества лежат в ценностях, которые писатели и художники восприняли от своего класса21. Отсюда следует, что, когда пролетариат придет к власти, возникнет новая культура, отражающая его опыт, сложившийся на заводах и фабриках, где люди работают в спаянном коллективе, и потому их культура тоже станет носить коллективный, а не индивидуальный характер, и в этом отношении будет ближе к культуре первобытного общества. «Я» буржуазной культуры уступит место «мы». В новых условиях наследие старой, «буржуазной», культуры утратит свое значение. Некоторые из наиболее радикальных последователей Богданова хотели не только отвергнуть, но и физически уничтожить приметы прошлого — музеи и библиотеки и даже науку — как ненужный или даже вредный хлам. Сам Богданов придерживался более умеренных взглядов. Рабочему, писал он, следует относиться к буржуазной эпохе, как атеист относится к религии, то есть с беспристрастным любопытством. Но он не должен воспринимать ее, поскольку ее авторитарный и индивидуалистический дух ему чужд. Новая культура возникнет из неисчерпаемой творческой силы, скрытой в массах заводских рабочих, едва лишь они получат возможность писать, рисовать, сочинять музыку и заниматься любой иной интеллектуальной и эстетической деятельностью, от которой их отгородила буржуазия.
В 1909 году при финансовой поддержке Максима Горького и Федора Шаляпина Богданов открыл на острове Капри экспериментальную большевистскую школу для подготовки кадров интеллектуальных рабочих. Около дюжины учащихся, перебравшихся нелегально из России, вместе со своими наставниками социал-демократами подготовили учебную программу по философии и общественным дисциплинам и, пройдя курс обучения и разъехавшись по родным местам, должны были распространять полученные знания среди рабочих. Систему обучения построили так, чтобы наставники не только учили своих учеников, но и сами учились у них. Основной упор делался на пропаганду и агитацию. Вскоре открылась школа в Болонье, действующая на тех же принципах22.
Ленин отвергал богдановскую философию культуры, ибо верил, что социализм, даже уничтожив капитализм, должен строиться на его основе. В рабочих он не видел того творческого потенциала, которым их наделял Богданов. Ленин воспринимал культуру как технократ, под углом зрения передовой науки и инженерных знаний, неведомых российским массам: он хотел учить их, а не учиться у них. Отвергая теорию Пролеткульта как абсурдную и «сплошной вздор», он утверждал, что «пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества... Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»23. Но более всего раздражало Ленина в теории Богданова представление о том, что культура есть самостоятельная сфера человеческой деятельности, параллельная и равноценная политике и экономике24. Он опасался, и не без основания, что рабочие кадры, подготовленные на Капри и в Болонье, попытаются создать собственный большевистский аппарат, послушный Богданову. Зная, что некоторые последователи Богданова видят в нем властителя дум и претендента на роль вождя, Ленин исключил его и Луначарского из партии (1909).
После большевистского переворота, благодаря дружбе с Луначарским, Богданов нашел благоприятное применение своим идеям. В декрете, изданном вскоре после назначения на пост комиссара просвещения, Луначарский (восстановленный в партии в 1917 г.) говорит о развитии «рабочих, солдатских, крестьянских культурно-просветительных организаций» и их «полной автономии как по отношению к государственному центру, так и центрам муниципальным»25. Это постановление, проскользнувшее сквозь худое сито раннего большевистского законотворчества, дало Пролеткульту уникальный статус при ленинском режиме, освободив его от контроля партийных и руководимых партией государственных органов.
Пользуясь щедрыми субсидиями комиссариата Луначарского, Богданов сумел покрыть Россию сетью пролеткультовских организаций: студии живописи и ваяния, в которых вели занятия профессионалы, поэтические кружки, народные театры, всевозможные вечерние курсы, библиотеки и выставки. Профессиональные писатели и художники, вовлеченные в эту деятельность, не только делились секретами своего ремесла, но и старались пробудить творческий потенциал учеников. Пролеткультовцы апеллировали исключительно к коллективному творчеству, без оглядки на чье-то личное «вдохновение» или примеры прошлого: один теоретик Пролеткульта в качестве образца коллективного творчества приводил газету26. В поэтических мастерских даже стихи создавались коллективным методом — построчно. Поэзия должна была отражать механистичность современной индустриальной эры, и соответственно должен был измениться и ее ритм: место пушкинского четырехстопного ямба, выразителя «дворянской лени», должен был занять новый ударный ритм. Как сказал один из пролеткультовских авторов, «мы стоим накануне электрификации поэзии, где центральный динамо — ритм современного завода»27.
Пролеткульт пытался также преобразовать культуру быта. На первой его конференции, проходившей в феврале 1918 года, серьезно обсуждались вопросы о «правах ребенка» и предполагалось наделить детей, невзирая на возраст, правом выбирать обучение себе по вкусу и уходить от родителей, если они их почему-либо не удовлетворяют28.
Один из самых эксцентричных деятелей Пролеткульта — Алексей Гастев, рабочий-слесарь из первых последователей Богданова, ставший поэтом и теоретиком культуры и прославившийся в первые годы революции как «певец стали и машин». После 1920 года он увлекся применением в повседневной жизни системы организации и интенсификации труда методом хронометрирования движений, разработанной Фредериком Тейлором. Члены его «Лиги времени», имевшей отделения во всех крупных городах, призывались нигде и никогда не расставаться с часами и вести «хронокарты», куда они записывали бы, как использовалась ими каждая минута суток. В идеале всем полагалось отправляться ко сну и пробуждаться в одно и то же время. Для экономии времени он предлагал «механизировать речь», заменяя привычные в русском языке длинные выражения более короткими и используя аббревиатуры, за избыточное употребление которых и поныне он несет немалую ответственность.
Вершиной его разгоряченного вдохновения явились идеи о механизировании человека и его жизнедеятельности, в духе экспериментов по хронометрированию, проводившихся в Центральном институте труда, созданном и руководимом им. Его посещали видения будущего, когда люди превратятся в автоматы, не имеющие своих имен, а только номера, и лишенные личных идей и чувств, чья индивидуальность должна раствориться без следа в коллективном труде: «Вот эта-то черта и сообщает пролетарской психологии поразительную анонимность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, Б, С, или как 325, 075 и 0 и т.п. ... Это значит, что в его психологии из края в край мира гуляют мощные грузные психологические потоки, для которых как будто уже нет миллиона голов, есть одна мировая голова. В дальнейшем эта тенденция незаметно создаст невозможность индивидуального мышления»29.
Этот кошмар, в котором один западный историк усмотрел «видение надежды»30, дал Евгению Замятину материал для его антиутопии «Мы», а Карелу Чапеку для пьесы Р.У.Р., где он впервые ввел в обиход придуманное им слово «робот». [Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Zurich, 1926. S. 274— 287, см также: Stites R. Revolutionary Dreams. New York, 1989. P. 149—155. В 1938 году Гастев был арестован и погиб в 1941-м (Gorsen P., Knoedler-Bunte E. Proletkult. Stuttgart, 1974. Bd. 2. S. 150).]. По странной иронии судьбы, приписываемый капитализму порок, а именно дегуманизация труда, стал идеалом для многих коммунистов.
Пролеткульт быстро развивался, в период своего расцвета в 1920 году он насчитывал 80 тыс. членов и 400 тыс. сочувствующих31. На многих заводах существовали его ячейки, действовавшие независимо от партийных организаций. Вообще лидеры Пролеткульта пользовались свободой от партийного контроля, о какой не могла даже мечтать никакая иная группа: они не скрывали, что рассматривают себя ответственными лишь перед собственным руководством. На московской конференции пролеткультовских организаций было постановлено, что Пролеткульт «должен стать организацией самостоятельно-классовой наравне с другими формами рабочего движения: политической и экономической»32. В программном документе, опубликованном в первом выпуске печатного органа Пролеткульта, его председатель заявлял, что культурная задача власти требует разделения труда: на Наркомпрос возлагается ответственность за народное образование, тогда как Пролеткульт призван руководить творческой энергией пролетариата. И для исполнения этой задачи он должен быть освобожден от ограничений, наложенных на другие государственные органы33. Надежда Крупская, которую Ленин просил присматривать за Наркомпросом, не раз выступала против «сепаратизма» Пролеткульта, но Луначарский, отчасти из симпатий к идеям Богданова, а отчасти по несвойственному большевикам отвращению к суровым мерам, не спешил исправить ситуацию.
Именно это политическое самомнение и погубило движение. Ленин обратил внимание на Пролеткульт в августе 1920 года, когда попросил одного из руководителей Наркомпроса и известного историка М.Н.Покровского разъяснить «юридический» статус организации34. Как только он понял, какой независимостью она пользуется и каковы ее требования самостоятельности для своих ячеек и печатных органов, он распорядился включить организации Пролеткульта в Наркомпрос (октябрь 1920). В последующие два года центральный и региональные отделы Пролеткульта были закрыты и его культурная деятельность сведена на нет. [Богданов, медик по образованию, часто обращался к медицинским проблемам. В 1926 году он основал Институт переливания крови. Он умер в 1928 году в результате медицинского эксперимента, поставленного на самом себе.].
Пролеткульт просуществовал еще несколько лет, но его философия была отвергнута правящим режимом. Победил ленинский взгляд. Советская культура должна использовать все культурное наследие человечества: новый порядок поднимет ее на невиданную высоту, заявлял Ленин, но подъем будет постепенным, шаг за шагом, а не резкими скачками. Это было важнейшее решение и, возможно, единственное его либеральное деяние, завещанное преемникам. Ибо даже под самыми строгими ограничениями, какие ввел Сталин, граждане Советского Союза имели доступ к культурной сокровищнице человечества. И это помогало им сохранить разум в безумных условиях.
* * *
Коммунистический режим контролировал культурную деятельность двумя способами: цензурой и монополией. Цензура имела давнюю традицию в Российском государстве: она была впервые учреждена в 1826 году и с тех пор неуклонно действовала вплоть до 1906 года, когда в других европейских странах ее уже отменили. До 1864 года действовала предварительная цензура, требовавшая, чтобы все произведения перед публикацией или постановкой на сцене были представлены компетентным органам для получения разрешения. Такой механизм цензуры в современном мире существовал только в России. В 1864 году была принята иная модель, подразумевавшая судебную ответственность за публикацию недозволенного материала. Цензура была отменена в 1906 г., однако в 1914-м в России, как и в других воюющих странах, была введена военная цензура. 27 апреля 1917 года Временное правительство сняло последние ограничения свободы печати и отменило административную ответственность, кроме как за разглашение военных секретов35.
О значении, какое большевики придавали контролю за информацией и общественным мнением, ярко свидетельствует тот факт, что самым первым законодательным актом, изданным 27 октября сразу после захвата власти, был декрет о закрытии «контрреволюционных» — то есть не приветствовавших октябрьского переворота — газет, что квалифицировалось как «временные и экстренные меры»36. Такая поспешность в то время, когда у большевиков хватало множества иных неотложных дел, объясняется убежденностью Ленина в том, что «печать есть центр и основа политической организации»37, — иными словами, свобода прессы равносильна свободе политических организаций. Декрет встретил такое сопротивление со всех сторон, включая союз печатников, пригрозивших закрыть все типографии, в том числе и большевистские, что исполнение грозного распоряжения пришлось приостановить. В феврале 1918-го его сменили другие, менее строгие цензурные правила, согласно которым право публикации предоставлялось всем гражданам, сообщившим властям имя и адрес издателя. Газетам вменялось в обязанность печатать декреты и постановления правительства на первой полосе38.
В последующие пять лет, хотя эффективного цензурного аппарата не было, новый режим предпринимал разнообразные меры для ограничения свободы печати, конечным результатом которых явилось удушение независимой прессы39. Прежде всего в крупных городах были учреждены комиссариаты печати, подчинявшиеся Совнаркому и наделенные полномочиями по своему усмотрению приостанавливать враждебные публикации и закрывать типографии40. Декрет, изданный в декабре 1917 года, предоставлял подобные полномочия местным советам41. 28 января 1918 года вступил в действие новый орган подавления прессы — приданный Ревтрибуналу революционный трибунал печати, ведению которого подлежали дела издателей и авторов, повинных в «сообщении ложных или извращенных сведений»42. На практике в основном ответственность за цензуру в этот период взяла на себя Чека, которая через свои местные отделения собирала информацию о враждебных публикациях и предавала виновных Ревтрибуналу. Газеты, которые, по мнению ЧК, содействовали попыткам свержения коммунистического режима, она закрывала. В первые семь месяцев большевистского правления (с октября по май) более 130 «буржуазных» и социалистических изданий было таким образом запрещено43.
В первой половине 1918 года, когда народная поддержка нового режима ослабела, издатели и авторы часто представали перед трибуналами. Непокорные газеты подвергались денежным штрафам; многие номера выходили с белыми полосами на месте запрещенных цензурой публикаций. Некоторые закрывались временно или навсегда; и, как при царизме, те, которые сохранялись, обязывались печатать официальное опровержение информации, вызвавшей недовольство цензуры. Вспоминая прежний опыт, накопленный до 1906 года, навлекшие на себя гнев властей газеты часто выходили на следующий же день у другого издателя и под новым, прозрачно завуалированным названием44. Так, меньшевистская ежедневная газета «День» умудрилась в течение месяца (ноябрь 1917) выйти под восемью различными наименованиями: сначала «День» после закрытия превратился в «Полдень», затем в «Новый день», следом в «Ночь», «Полночь», далее в «Грядущий день», «Новый день» и «В темную ночь». Последний номер носил название «В глухую ночь»45.
Для еще большего ограничения свободы печати прибегли к экономическим мерам. 7 ноября 1917 года по декрету Ленина рекламная деятельность монополизировалась государством, лишая прессу основного источника дохода. Власти, кроме того, национализировали многие типографии, передавая их большевистским организациям. И при всем том независимая пресса продолжала существовать. Между октябрем 1917 и июнем 1918 года в провинции, то есть вне Москвы и Петрограда, издавалось около 300 небольшевистских газет. В одной Москве было 150 независимых ежедневных газет46.
Существование их было, однако, лишь временной отсрочкой: Ленин не скрывал, что намеревается ликвидировать независимую печать при первой же удобной возможности. Когда во время выступления на открытии VI съезда советов в марте 1918 года он коснулся газет и из аудитории раздались голоса: «Закрыли все», Ленин ответил: «Еще, к сожалению, не все, но закроем все»47. Комиссар по делам печати В.Володарский предостерегал в мае 1918-го: «Мы терпим буржуазную печать только потому, что мы еще не победили. Но когда мы в "Красной газете" напечатаем "мы победили", с этого момента ни одна буржуазная газета не будет допущена»48. Обоснование такой угрожающей позиции дал современный советский писатель: летом 1918 года, по его словам, «окончательно выяснилось, что вся периодическая печать, кроме правительственной, является весьма последовательной в своей борьбе за власть тех партий и группировок, которые стояли позади каждой газеты. Для правительства остался один путь — закрытие всей антисоветской периодической печати...»49
Независимая пресса была окончательно ликвидирована летом 1918-го, за два года до победы большевиков в гражданской войне. Процесс начался в Москве в воскресенье 7 июля с закрытия небольшевистских изданий, в тот день, когда латышские стрелки подавили левоэсеровский мятеж50. Эту чрезвычайную меру формализовали два дня спустя, когда правительство отменило разрешения на выход газет, журналов, брошюр, бюллетеней и плакатов, выданные в Москве до 6 июля: отныне такие публикации, за исключением принадлежащих и распространяемых правительственными учреждениями и Российской Коммунистической партией, запрещались51. Положение это первоначально распространялось только на столицу и должно было сохранять силу «до полного укрепления и торжества Российской Советской Социалистической Федеративной Республики»52, но очень скоро действие его распространилось на все подвластные большевикам территории и уже не отменялось. 19 июля 1918 года «Известия» опубликовали текст Конституции РСФСР; статья 14 ее гласила, что для обеспечения тружеников «истинной» свободой мнения правительство «уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет [печать] в руки рабочего класса и крестьянской бедноты»53. Это законодательное положение создало законное основание для методичного подавления последних остатков небольшевистской прессы. Еще до окончания года 150 московских ежедневных газет, общим тиражом порядка 2 миллионов, были закрыты54. Та же участь ждала и провинциальную прессу. К сентябрю 1918 года, когда в Советской России развернулся красный террор, свободной печати, способной адекватно откликнуться на насилие, в стране уже не оставалось.
Вместе с газетами Ленин прикрыл и многие журналы, в том числе и знаменитые российские «толстые журналы», из коих некоторые вели начало еще с XVIII века: «Вестник Европы», «Русский вестник», «Русская мысль» и десятки других. Одним махом Россия лишилась мощнейших рупоров общественного мнения и основного канала распространения художественных произведений, страна была отброшена назад в допетровскую эпоху, когда и новости, и их интерпретация были прерогативой государства55.
Как и царский режим, Ленин проявлял большую благосклонность к книгам, благо они имели сравнительно небольшую аудиторию. Но и тут он ущемил свободу выражения, национализировав издательства и типографии. Государственное издательство (Госиздат), основанное в декабре 1917 года под эгидой Наркомпроса, получило монополию на книгоиздание, и в этом качестве позже ему была поручена книжная цензура. [См.: Назаров А.И. Октябрь и книга. М., 1968. С. 135—188. Госиздат реально начал работать только в мае 1919 г., и ответственность за цензуру на него была возложена 12 декабря 1921 года.]. Контроль над печатью стал особенно эффективен путем введения 27 мая 1919 года государственной монополии на бумагу56. В 1920-21 гг. государство монополизировало продажу книг и других печатных изданий57. Несколько частных издательств, сохранившихся в Петрограде и Москве в 1919— 1923 гг., существовали в основном благодаря выполнению заказов Госиздата. В провинции независимая печать умолкла совершенно: к 1919 году почти все книги выходили с маркой местного отделения Госиздата58.
В октябре 1921 года Чека было предоставлено право усилить предварительную военную цензуру59. Понятие «военных секретов» не было никак конкретно определено, и эта мера в действительности распространяла запрет на публикации, не имеющие к ним никакого отношения.
В 1920 году предприняли оригинальную попытку внедрить цензуру задним числом. Надежда Крупская, которую Ленин поставил во главе нового пропагандистского учреждения — Главполитпросвета, входившего в состав Наркомпроса, решила, что советские библиотеки следует очистить от мракобесной литературы. Она предлагала через наркомат обязать советские библиотеки изъять из открытого доступа все издания 94 авторов, в числе которых были Платон, Декарт, Кант, Шопенгауэр, Герберт Спенсер, Эрнст Мах, Владимир Соловьев, Ницше, Уильям Джеймс, Лев Толстой и Петр Кропоткин, за исключением двух экземпляров, которые должны находиться на особом хранении (спецхране). [Социалистический вестник. 1923. № 21/22. С. 8-9. Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 75. Это распоряжение, по всей видимости, не было выполнено, ибо в 1923 году оно было издано вновь. С.А.Федюкин (Борьба с буржуазией в условиях перехода к нэпу. М., 1977. С. 170—171) утверждает, что этот список составляла не Крупская, которая аннулировала его (см.: Правда. 1924. № 81. 9 апр. С. 1).].
Недремлющий государственный контроль над информацией, идеями и образами 6 июня 1922 года получил прочную основу благодаря учреждению в Наркомпросе цензурного отдела, получившего название Главное управление по делам литературы и издательства, или в обиходе — Главлит60. На Главлит была возложена обязанность осуществлять предварительную цензуру всех публикаций и живописного материала и составлять списки запрещенной литературы, дабы пресечь «издание и распространение произведений... содержащих агитацию против советской власти». Отныне все тексты, предназначенные к печати, кроме изданий партийных, коминтерновских и Академии наук, на которых цензура не распространялась, должны были получить визу Главлита или одного из его региональных отделений. Кроме того, Главлит должен был вести «борьбу с подпольными изданиями». Секретным циркуляром Политбюро и Оргбюро ЦК запрещалось ввозить в страну книги «идеалистического, религиозного и антинаучного содержания», а также иностранные газеты и «русскую белогвардейскую литературу»61. Это, однако, не касалось высшего руководства, включая и Ленина, который регулярно получал зарубежные издания, в том числе и «белогвардейские». Исполнение распоряжений Главлита поручалось Главному политическому управлению, преемнику ЧК. В феврале 1923 года в Главлите был образован новый отдел под названием Главрепертком, который должен был следить за тем, чтобы антикоммунистические, религиозные и тому подобные материалы не проникали на сцены театров, экраны кино, концертные площадки и в грамзаписи. Со временем Главлит и Главрепертком стали нести не только запретительные и охранительные функции, но и составляли «общий ориентировочный план» изданий, устанавливающий квоты по различным темам, на какие, по мнению властей, следует обратить особое внимание. Кроме того, Главлит занимался и кадровой политикой учреждений периодической печати62. Заведовать Главлитом был поставлен старый большевик Н.Л.Мещеряков, инженер по образованию, а его заместителем назначен П.ИЛебедев-Полянский, ведущая фигура в Пролеткульте.
Правила, которыми руководствовались в своей работе цензоры Главлита, все более ужесточались, пока наконец из общественной жизни не стерлись последние следы независимой мысли. [Число книг, запрещенных Главлитом в 1921—22 гг., было сравнительно небольшим: 3,8% в Москве и 5,3% в Петрограде (Пролетарская революция. 1922. № 6. С. 131). Но эти цифры ни о чем не говорят, принимая во внимание, что сами авторы представляли на суд Главлита только те произведения, которые заведомо имели шанс пройти цензуру.]. Деятельность Главлита губительно отразилась на художественном творчестве, поскольку у писателей и художников, которым цензура бесцеремонно заглядывала через плечо, выработался защитный инстинкт самоцензуры. Писатель Пантелеймон Романов сетовал на это уже в 1928 году, когда еще не ощущался мертвящий гнет сталинской цензуры: «Россия уж такая несчастная страна, что она никогда не увидит настоящей свободы. И как они не поймут, что, запечатывая мертвой печатью источники творчества, они останавливают и убивают культуру?.. Ведь, подумайте, нигде, кроме СССР, нет предварительной цензуры! Когда писатель не уверен в том, что ему несет завтрашний день, разве можно при таких условиях ждать честного, открытого слова? Все и смотрят на это так: все равно, буду что-нибудь писать, лишь бы прошло... Прежде писатели боролись за свои убеждения, чтили их, как святыню. Ведь прежде писатель смотрел на власть как на нечто чуждое ему, враждебное свободе. Теперь же нас заставляют смотреть на нее как на наше собственное, теперь сторониться от власти уже означает консерватизм, а не либерализм, как прежде. А каковы теперь убеждения писателя?
Если ему скажут, что его направление не подходит, он краснеет, как сделавший ошибку ученик, и готов тут же все переделать, вместо белого поставить черное. А все потому, что запугали»63.
Вопреки — а может быть, и в силу — невиданного могущества Главлита над всей литературой, театром, кино, музыкой, словом, над всем творчеством, известно о нем очень мало: ни в одном из трех изданий Большой Советской Энциклопедии нет даже статьи, посвященной этой теме. В издании 1934 года читателю без тени смущения сообщается, что «Октябрьская революция положила конец и царской и буржуазной цензуре». [БСЭ 1-е изд. М., 1934. Т. 60. С. 474. Гораздо труднее объяснить, почему в современном исследовании, посвященном материнской организации, Наркомпросу, американский историк Шейла Фитцпатрик обходит полным молчанием Главлит. Симпозиуму под названием «Большевистская культура» (Bloomington, Ind., 1985) удалось, казалось, недостижимое — ни разу не упомянуть Главлит даже в разделе, посвященном теме «Ленин и свобода печати».].
* * *
Когда большевики пришли к власти, их политика в отношении литературы определялась лишь желанием выпускать как можно больше хороших книг, доступных широким массам. 29 декабря 1917 года декретом, объявившим о создании Госиздата, наследие классиков русской литературы, срок авторских прав которых истек, стало собственностью государства, что в первую очередь весьма болезненно отразилось на частных издательствах, лишив их важного источника доходов. Дополнительный декрет от 26 ноября 1918 года объявлял, что вообще все произведения — как опубликованные, так и неопубликованные, живущих авторов или почивших — могут быть признаны государственной собственностью. Авторский гонорар определялся в соответствии с установленными расценками. В декрете от 29 июля 1919 года указывалось, что на правительство не распространяются установленные бывшими владельцами ограничения на переданные на хранение в музеи и библиотеки личные архивы умерших русских писателей, композиторов, музыкантов и ученых и т.д.64 В 1918 году многие частные библиотеки были конфискованы65. Таким путем шаг за шагом все наследие русской культуры переходило в собственность государства, то есть — Коммунистической партии.
Как уже говорилось, лучшие творческие силы России бойкотировали новую власть, а тем немногим, кто пошел на сотрудничество с ней, как Блок, Маяковский, Валерий Брюсов, пришлось ощутить на себе неприязненное отношение собратьев по цеху. Многие писатели предпочли тяготы и одиночество эмиграции удушающей атмосфере родного дома, среди них Иван Бунин, Константин Бальмонт, Владимир Ходасевич, Леонид Андреев, Марина Цветаева, Илья Эренбург, Зинаида Гиппиус, Максим Горький, Вячеслав Иванов, Александр Куприн, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Алексей Толстой и Борис Зайцев. [Poggioli R. The Poets of Russia. Cambridge, Mass., 1960. P. 298; Kulturpolitik der Sowjetunion / Hrsg. O. Anweiler, K.H.Ruffman. Stuttgart, 1973. S. 193. Из перечисленных выше эмигрантов пятеро в конце концов вернулись в Россию: Эренбург и Толстой в 1923-м, Горький в 1931-м, Куприн в 1937-м и Цветаева в 1938-м. Эренбург, Горький и Толстой сумели приноровиться к сталинскому режиму. Куприн умер спустя год после возвращения, а Цветаева покончила с собой в 1941 году (См. также: Raeff M. Russia Abroad. New York—Oxford, 1990). Следует заметить, что Муссолини, чья культурная политика была много либеральней ленинской, наоборот, сумел привлечь к себе многих известных писателей, включая Луиджи Пиранделло, Курцио Малапарте, Джиованни Папини и Габриэля Д'Аннунцио. Даже писатели и художники, отвергавшие режим, находили для себя возможным жить в фашистской Италии, и эмигрировали очень немногие.]. Замятин, получивший разрешение эмигрировать в конце 20-х годов по специальному указанию Сталина, выразил чувства многих писателей-соотечественников, когда в 1921 году писал, что, если страна будет обращаться со своими гражданами как с детьми, боясь любого «еретического слова», «у русской литературы только одно будущее: ее прошлое»66. В мире, лишенном всякого смысла, этот парадокс стал излюбленным афоризмом. Блок, не пожелавший эмигрировать, но вскоре разошедшийся с большевиками, искал объяснение охватившему его при новом режиме творческому бессилию: «Большевики не мешают писать стихи, но они мешают чувствовать себя мастером... Мастер тот, кто ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе»67.
Среди тех, кто остался, но не стал сотрудничать с большевиками, многие погибли от голода и холода. И если бы не заступничество Максима Горького, воспользовавшегося дружескими отношениями с Лениным, та же участь ожидала бы многих других. Горький считал Россию варварской страной, и поэтому ее интеллигенцию, каковы бы ни были ее политические взгляды, следует оберегать как бесценное сокровище. В Петрограде в экспроприированном доме богатого купца на углу Невского и Большой Морской он создал приют для писателей к художников. Среди обитателей этого дома (который прозвали «Сумасшедшим кораблем» из-за сходства его по вечерам, когда в окнах зажигались огни, с большим судном) были поэты Осип Мандельштам, Николай Гумилев и Владимир Ходасевич. Быт их был далек от роскоши — рассказывали, что один из обитателей пытался согреться, описывая тропическую Африку. И все-таки им удалось выжить.
До революции в России существовало множество литературных группировок, со своими творческими программами и манифестами. Из них только футуристы безоговорочно приняли большевистский режим. Футуризм зародился в Италии в 1909 году, и он стал главным союзником фашизма, и в основном по тем же соображениям русские футуристы сблизились с большевиками68. Они презирали исчерпавшуюся, бессильную и окостеневшую, по их мнению, традиционную культуру и жаждали новых форм, созвучных современной технике и ритму машинной эры. Манифест итальянского футуризма, написанный основателем движения Филиппо Маринетти в 1909 году и подхваченный его русскими продолжателями, призывал к уничтожению музеев и библиотек, к бунту, «агрессии», насилию: гоночная машина объявлялась прекрасней статуи Самофракийской Победы69. И в фашизме, и в коммунизме футуристов, прислушивавшихся не столько к голосу рассудка, сколько к душевным порывам, привлекало неприятие буржуазного образа жизни. Они видели в них только нигилизм, не распознав того духа насилия, который неизбежно, сметя с пути прежний порядок, вымостит дорогу тоталитаризму.
Вождь русского футуризма поэт Владимир Маяковский принял сторону большевиков, едва только они пришли к власти, и к середине 1918 года стал, так сказать, штатным сотрудником Луначарского. Еще задолго до 1917 г. он приветствовал надвигающуюся революцию, «святую прачку, которая смоет мылом всю грязь с лица земли»70. Как придворный поэт новой власти он поставил свой талант на службу большевистской агитации и пропаганде. В личной жизни, однако, он был прямой противоположностью «человека из коллектива», прославляемого этой властью. Самовлюбленный, «нарциссичный», он с самого начала литературной деятельности, в 1913 году, воспринимал себя заглавным героем: первая его пьеса называлась «Владимир Маяковский», первый стихотворный сборник «Я», а автобиография «Я сам». Его любовь к массам проистекала не из душевной симпатии к простому человеку, а из стремления понравиться ему, заслужить его похвалу. Он всегда стремился быть в центре внимания, ради чего устраивал скандальные постановки или хулиганские публичные выступления, во весь свой мощный голос горланя стихи, рисовал пропагандистские плакаты или в открытую жил с женой своего друга. Величайшим поэтом своего времени его не назовешь, но ни один поэт в XX веке не удостаивался таких почестей71.
Хотя новая власть щедро осыпала его лаврами, но ее вовсе не приводили в восторг выходки Маяковского и его друзей-футуристов. Ленин решительно не любил стихов Маяковского и о его знаменитой поэме «150 000 000» отозвался так: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность». [Литературное наследство. М., 1958. Т. 65. С. 210. Не более благожелателен к этому произведению Маяковского был и Троцкий, говоря, что «по замыслу [оно] должно быть титанично, а на самом деле, в лучшем случае, атлетично» (Литературная Россия. М., 1924. С. 114).]. Он требовал, чтобы стихи футуристов печатались не более двух раз в год небольшим тиражами, и желательно подыскивать им в противовес «надежных антифутуристов»72. Неприязненное отношение вождя повлекло такое же отношение к Маяковскому и футуристам со стороны партийного руководства73. Футуризм продолжал существовать только благодаря готовности его представителей прославлять режим и покровительству Луначарского. Футуристы оставались единственным литературным течением, на которое большевики могли положиться в первые годы после революции. Это обеспечивало им покровительство государства, которым они воспользовались в борьбе со своими литературными оппонентами74. Когда к власти пришел Сталин и продемонстрировал невиданные высоты мании величия, Маяковский покончил жизнь самоубийством (1930).
Истинным любимцем новой власти был вовсе не Маяковский, а поэт крестьянского происхождения Демьян Бедный (настоящее имя Ефим Придворов). Он слагал большевистские агитационно-пропагандистские стихи, зарифмовывая политические лозунги, призывающие рабочих ненавидеть и убивать. Солдат, служащих в Белой гвардии, он призывал истреблять своих офицеров:
«Смерть гадам! Убейте их всех до единого! Покончив с проклятыми гадами, В одиночку, полками, отрядами, Избавясь от гнета господской орды, Все в братские наши вступайте ряды!»75.Такие вирши публиковались в газетах, расклеивались в виде листовок и разбрасывались с самолетов. Троцкий превозносил Демьяна Бедного за то, что «в его гневе и ненависти нет ничего дилетантского, он ненавидит хорошо отстоявшейся ненавистью самой революционной в мире партии». В заслугу ему Троцкий ставил и то, что «Демьян творит ведь не в тех редких случаях, когда Аполлон требует к священной жертве, а изо дня в день, когда призывают события и... Центральный Комитет»76. Утверждали, что в боях под Петроградом в 1919 году «Коммунистическая марсельеза» Демьяна Бедного заставляла поворачиваться бегущих с поля боя красноармейцев и встречать врага лицом к лицу. Д. Бедный всегда готов был обрушить свой «поэтический» гнев на сиюминутного врага большевиков — Учредительное собрание, меньшевиков и эсеров, Клемансо и Вудро Вильсона. (Шутили, что после переименования Петрограда в Ленинград Демьян требовал, чтобы произведения Пушкина были названы его именем77.)
Тем временем великая и вечная поэзия создавалась теми, кто сознательно отстранился от политических баталий и возни. Анна Ахматова и ее муж Николай Гумилев, Осип Мандельштам — члены кружка акмеистов, имажинист Сергей Есенин и Борис Пастернак вели тихую, частную и независимую жизнь. И впоследствии, когда уже давно смолкли и забылись боевые кличи классовой битвы, их поэзия зазвучала как высшее достижение русской литературы двадцатого века. Однако им пришлось заплатить за это высокую цену. Гумилева расстреляли в 1921 году за участие в «контрреволюционной» организации — он стал первым выдающимся русским поэтом, чье место захоронения неизвестно. (Он, между прочим, считал, что гунны, в четвертом веке вторгшиеся на Юг России и под предводительством Аттилы опустошившие Европу, в двадцатом веке перевоплотились в большевиков78.) Есенин покончил с собой в 1925 году. Мандельштам сгинул в сталинском лагере в 1938 году, куда попал за оскорбительные для Сталина стихи. Ахматова и Пастернак пережили и Ленина и Сталина, но ценой унижений, которые менее сильные духом люди едва ли вынесли бы.
Особый случай представлял собой Блок, утонченный поэт, чьи поэмы «Скифы» и «Двенадцать» обычно считаются величайшими произведениями, порожденными Великим Октябрем. В юности Блок, ведущий символист младшего поколения, поглощенный эстетическими проблемами и углубленным богоискательством, был крайне далек от политики. Но революционные события в России и подъем патриотических чувств в годы войны, на которую он был призван, раздвинули границы его мировосприятия. Он приветствовал 17-й год, вдохновленный стихийным крестьянским и рабочим мятежом, сулившим спалить дотла не только «старую» Россию, но и «старую» Европу. В октябре 1917 года он импульсивно принял сторону большевиков (хотя по политическим пристрастиям он был ближе к левым эсерам). В январе 1918 года в лихорадочном порыве восхищения происходящим, словно в поэтическом бреду, он написал две свои знаменитые революционные поэмы. «Двенадцать» описывает отряд красноармейцев — безжалостных и жестоких — под «кровавым знаменем» шагающих вослед невидимому никому, кроме поэта, Христу, чтобы разбить до основания буржуазный мир. В «Скифах» воспеваются революционные массы, как азиатские орды, рвущиеся опустошить Европу, а европейцам остается одно из двух: стать их братьями или сгинуть. Большевики не понимали толком, как следует относиться к этим поэмам, в которых их вождь отождествляется с Иисусом Христом, а его последователи — с дикими монголами. Интеллигенция стала сторониться Блока. И очень скоро пелена очарования революцией спала с его глаз, едва лишь он понял, что стихийные силы, которые он воспевал, власть подавляет железной рукой. «Чего нельзя отнять у большевиков, — писал он в 1919 году, — это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей»79. После «Скифов» Блок больше стихов не печатал, впал в депрессию и в 1921 году ушел из жизни, лишенный каких бы то ни было иллюзий.
* * *
В первые годы после революции не было написано ни одного значительного прозаического произведения, и виной тому не только неблагоприятные для творчества бытовые условия — в бурном водовороте событий, не чувствуя под собой твердой почвы, писателю трудно было найти свой путь. Первые значительные произведения, написанные при большевиках — «Мы» Замятина (1920) и «Голый год» Бориса Пильняка (1922), — были выполнены в отрывочной, конспективной манере, характерной скорее для литературы авангарда. Классическая антиутопия «Мы», появившаяся вначале в чешском переводе, а затем по-английски в Соединенных Штатах, вдохновила Орвелла на создание романа «1984». В «Мы» начертан мир будущего, населенный совершенно утратившими свою индивидуальность людьми, именно такими, о которых мечтал Гастев: вместо собственных имен у них только «нумера», каждая минута их жизни заранее расписана, и вообще они определяют себя одним общим «мы». Всем управляет «Благодетель», они строят космический корабль, с помощью которого понесут плоды своей цивилизации другим мирам. «Благодетель» заключил подданных в городе, отгороженном от внешнего мира, который населяют сумевшие выжить «лохматые» представители человечества, а от «нумеров», позволивших себе такое отклонение от общих правил, как любовь, что случилось и с главным героем романа, он избавляется посредством «диссоциации материи». «Голый год» Пильняка описывает в череде сцен из революции и гражданской войны падение аристократической семьи, погрязшей в пьянстве и болезнях, на фоне нарождения грубого, но здорового нового племени «кожанок». Пильняк выявляет крестьянский дух большевистской революции, пробудившей к жизни древнюю культуру допетровской Руси, сохранившуюся в глубинах русской деревни.
Пильняк и Замятин были тесно связаны со свободным объединением писателей «Серапионовы братья», основанного в 1920 году при содействии Горького, его члены не были враждебны большевикам, а некоторые даже вполне им симпатизировали. Но они непреклонно отстаивали независимость литературы и свободу писателя. Перед объединением стояла цель выработки «стратегии поведения в беспрецедентной ситуации, когда тиранический режим, опирающийся на безграмотных, объявил себя покровителем и защитником культуры». [Приводится в кн.: Brown E.J. Russian Literature Since the Revolution. New York—London, 1963. P. 95. Один из литературных кружков, именовавшийся «Ничевоки», отвечал на эту ситуацию, решив вообще ничего не писать (Там же. С. 29).]. Именно по отношению к ним Троцкий возродил и пустил в обращение социалистский термин «попутчики». Эти самые «попутчики», к которым, помимо Михаила Зощенко, Пильняка и Замятина, можно причислить Всеволода Иванова, Исаака Бабеля и Юрия Олешу, дали лучшие произведения советской литературы 20-х годов.
С 1922 года до конца десятилетия, когда репрессивные сталинские меры уничтожили почти всю творческую свободу, русская изящная словесность пережила что-то вроде «ренессанса». Попытки властей заставить писателей отказаться от центральной темы традиционного повествования — борьбы личности со страстями, совестью или социальными условиями—в пользу «коллективной» темы классовых конфликтов оказались безуспешны. Даже те литераторы, которые наиболее симпатизировали новой власти, понимали, что должны обращаться к переживаниям личности, без которых повествование теряет всякий драматизм. «При всех идеологических предписаниях, писатель, тем не менее, работает самостоятельно. Это означает, по крайней мере гипотетически, что он остается восприимчив к приступам крайнего индивидуализма, известного как "вдохновение". Он может быть, и довольно часто бывает, самовлюбленным и тщеславным эгоистом»80. Доминирующей темой большинства произведений советской изящной словесности 20-х годов стали терзания человека, воспитанного в ценностях старого мира и пытающегося приспособиться к новому, революционному порядку. Действие же повествования часто происходит на гражданской войне, в которой многие писатели принимали участие. Насилию и жестокости уделялось столько внимания не только потому, что война давала тому богатый материал, но и потому, что раздирающие душу сцены представлялись признаком нарождения новой литературы.
* * *
В стране с таким низким уровнем грамотности печатное слово достигало очень немногих. Поэтому большевики, кровно заинтересованные в воздействии на массы, особое внимание уделяли театру и кино как инструментам пропаганды. В смелых экспериментах с этими формами искусства наряду с традиционным театром возникали многочисленные новообразования от политических кабаре до уличных инсценировок известных исторических событий с участием тысяч статистов. Декретом от 26 августа 1919 года были национализированы театры и цирки и их руководство передано Центротеатру — отделу Наркомпроса. Закон допускал существование «независимых» театров (то есть не субсидируемых государством), но обязывал их представлять ежегодный отчет о деятельности и строго следовать инструкциям центральной театральной организации81. Актеры становились государственными служащими, а значит, могли быть призваны исполнять свои профессиональные обязанности в приказном порядке.
Революционный театр был предназначен пробуждать симпатии к режиму и одновременно возбуждать ненависть к его противникам. И с этой целью советские театральные постановщики воспользовались опытом экспериментального театра, известного в Германии и других странах. Подражая немецкому новатору в театральном деле Максу Рейнхардту, они стремились разрушить формальную границу между сценой и зрителями, устраивая постановки на улицах, заводах и на фронте. Зрителям предлагалось участвовать в действии наряду с артистами. На Западе все это было не в новинку, но в Советской России это приобрело невиданные масштабы82. Грань, отделявшая реальность от вымысла, была стерта, что помогло устранить различие и между реальностью и пропагандой.
Театр агитпропа вульгаризировал драматическое искусство, превратив героев в картонные фигуры, символизирующие безупречное добро и неприкрытое зло, отпускающие грубые шутки и возбуждающие в зрителях яростную реакцию. Величайший новатор русского революционного театра Всеволод Мейерхольд в первые годы советской власти пользовался буквально неограниченными правами на сцене и в кино. Исповедующий коммунизм, он мог рассчитывать на щедрые субсидии от Луначарского для осуществления своих амбициозных планов реализации «Октября» в театре83.
Мейерхольд воплотил на сцене первое драматическое произведение, созданное для советского театра, — «Мистерию-Буфф» Маяковского. Премьера спектакля состоялась в первую годовщину октябрьского переворота. Главными героями здесь выступают семь пар «Чистых» (богатых) и семь пар «Нечистых» (бедных), которые, пережив Потоп, находят пристанище на Северном полюсе. «Нечистым» удается победить «Чистых» и низвергнуть их в ад. Христоподобная фигура «Человека просто» (эту роль исполнял сам Маяковский) приносит новое Евангелие. «Не о рае Христовом ору я вам», — говорит он:
«Мой рай для всех,
кроме нищих духом,
от постов великих вспухших с луну.
Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,
чем ко мне такому слону.
Ко мне —
кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего тела с песнею!
Иди, непростивший!
Ты первый вхож
в царствие мое небесное».
«Нечистые» попадают в обещанный попами рай, который им кажется столь же скучным и продажным, как земля. В своих скитаниях они, в конце концов, находят земной рай Коммунизма — город, который, судя по ремаркам Маяковского, представляет собой идеализированную версию города Детройта времен Генри Форда: «Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили...»84
Даже бесплатные пригласительные билеты не смогли привлечь на пьесу Маяковского рабочих и крестьян, а театралы и профессиональные актеры и режиссеры бойкотировали ее. Зато большой популярностью у широкого зрителя пользовались постановки по образцу традиционного «раешника», когда в импровизированном балаганчике любимый народный герой Петрушка защищал бедных и избивал кулаков. Были еще «агитки» — короткие театрализованные действа на злободневные темы, как, например, о пороках церкви или пользе личной гигиены. Ставились они с использованием минимальных сценических средств в поездах, которые курсировали по российским городам, или прямо на автомобильных платформах и трамвайных площадках: «На улицах то и дело высмеивали и громили прежних врагов, призывая зрителей самих приложить к этому руку. Излюбленный жанр — противопоставление прошлого и будущего в виде контрастных образов. Сначала царские солдаты в голубых мундирах с примкнутыми к ружьям штыками, конвоирующие по улицам группу политических узников, на смену им приходят красноармейцы, ведущие закованных в цепи белогвардейских офицеров. Затем следует колоритная группа из священников, генералов и спекулянтов, над которыми все потешаются, потому что они выряжены в богатые одежды, а шеи их обвязаны толстой веревкой. Во время демонстрации против Англии посреди площади была установлена жестикулирующая кукла, которая должна была изображать английского дипломата, вручающего ноту. Гигантский рабочий кулак ударом иностранного деятеля по носу прерывал дипломатическую церемонию. В другой раз англичанина изображала гигантская фигура во фраке и цилиндре, установленная на крыше автомобиля. Оратор каждый раз, когда речь заходила об Англии, прямо адресовался к этому чучелу. Вскоре угрозы чучелу сыпались уже из толпы зевак. «Англичанин» между тем расхаживал, элегантный и вызывающий, то и дело вставляя в глаз монокль, пока рабочий-большевик, раскачав молот, не вскакивал на крышу автомобиля. Одним ударом он сбивал фигуру, которая на коленях просила пощады, а рабочий оборачивался к толпе и спрашивал: пощадить ли ему «англичанина» или нет. Как и следовало ожидать, толпа в один голос вопила: «Прибей его!», на что рабочий поднимал молот и трижды изо всех сил опускал его на голову чучела. Случайный зритель поднимал сплющенный грязный цилиндр, собирал обломки монокля и, демонстрируя все это собравшимся, с торжеством провозглашал: «Вот все, что осталось от нашего врага!»85.
«Рабочий» и «случайный зритель» были, разумеется, профессиональными актерами, и предназначена такая постановка была вовсе не для развлечения публики и не для просвещения ее, а для возбуждения ненависти к классовому врагу.
Ярким примером такой акции ненависти была пьеса Сергея Третьякова «Слышишь, Москва?», поставленная в 1924 году Сергеем Эйзенштейном. Эйзенштейн, прежде чем стать кинорежиссером, был заметной фигурой в театре Пролеткульта и вынашивал идею покончить с театром как институтом, оторванным от повседневной жизни. Его технические эксперименты позволяли манипулировать настроением публики, доводя ее до состояния крайнего напряжения86. И высшим достижением режиссера в этой области явилась постановка пьесы Третьякова. По замыслу, спектакль должен был «собрать в волевой кулак распыленные зрительские эмоции и создать в психике зрителя целевую установку, диктуемую происходящей ныне борьбой германских рабочих за коммунизм».
«2 и 3-й акты создали достаточное напряжение в публике, разрядившееся в 4-м акте при сцене штурма рабочими фашистских трибун. В публике повскакали с мест. Раздались выкрики: «Вон, вон! Граф удирает! Хватай его!» Какой-то великовозрастный рабфаковец, вскочив, кричал по направлению кокотки: «Чего с ней церемониться, бери ее», покрыв эту фразу крепким словом, а когда кокотку по сцене убили и сбросили с лестниц, облегченно выругался и добавил: «Так ей и надо», — настолько внушительно, что сидевшая рядом дама в мехах не выдержала, вскочила и — перепуганно выпалив «Господи! Да что это! Этак и здесь начнут еще», — бросилась к выходу. Каждый убитый фашист покрывался аплодисментами и криками. Из задних рядов некий военный, как сообщают, выхватил было наган и направил на кокотку, но соседи вовремя привели его в чувство. Этот подъем коснулся даже сцены: участвовавшие в сценической толпе студийцы «ИЗО» Пролеткульта, стоявшие для декорации, не выдержали и полезли в атаку на установку. Пришлось стягивать за ноги...»87
Более утонченный сатирический театр возник в 1919 году, в ответ на статью Луначарского, где он говорил, что тяжелые условия жизни делают юмор настоятельной необходимостью. Следуя его призыву — «Будем смеяться», — в Витебске образовался сатирический театр, коллектив которого впоследствии перебрался в Москву. «Театр революционной сатиры», или «Теревсат», следовал модели дореволюционных театров-кабаре. Московский «Теревсат» и его подобия в разных городах пользовались большой популярностью. Однако, едва правительство само стало мишенью сатиры, оно резко охладело к этой затее. В 1922 году состоялась постановка пьесы «Россия 2», представляющая с полушутливой, полуностальгической интонацией жизнь русских эмигрантов на Западе. Начальство, обеспокоенное симпатиями публики к белоэмигрантам и их антисоветским настроениям, распорядилось о закрытии театра88.
Самым любимым театральным жанром в 20-е годы были инсценировки. Они устраивались под открытым небом с многочисленной массовкой и воплощали большевистскую версию исторических событий89. Поставленные с размахом, такие «докудрамы» (документальные драмы) перемешивали правду с вымыслом, театр с цирком. Этот жанр тоже не был нов, с ним еще до начала Первой мировой войны экспериментировали в Европе и Америке. Но приемы, которые на Западе служили для развлечения публики, в Советской России предназначались к убеждению ее. Действие сводилось к обнаженному конфликту, а действующие лица — к примитивным символам: мимика и жесты заменили речь, бурлеск заслонил сложности человеческих отношений.
Самая знаменитая постановка в этом жанре под названием «Взятие Зимнего дворца» была осуществлена к третьей годовщине Октября в самом центре Петрограда на месте реальных событий. Постановщики, объявившие об отказе от идеи «точного воспроизведения картины событий», остались верны своему слову. Все участники, которых насчитывалось около шести тысяч, должны были выступать как «один коллективный актер». По описанию очевидца: «Но вот пушечный выстрел возвещает начало представления. Площадь погружается во мрак. В напряженном ожидании проходит несколько минут, все взоры устремлены к эстраде, хранящей безмолвие. К этому времени дождь перестал лить; все новые и новые группы зрителей со всех сторон вливаются в густую толпу, наполняя площадь. Наконец освещается мост, соединяющий красную и белую площадки, и восемь герольдов призывными звуками фанфар возвещают о начале. Раздаются звуки музыки. Представление началось. Многотысячная толпа с затаенным дыханием следит за развертывающимся действием. Смех и меткие остроты вызывает появление Керенского, напыщенно принимающего восторженные приветствия своих поклонников. "Нынче-то спеси поубавил, обивая пороги у министров да у банкиров за границей", — слышится в группе рабочих. "Да, тяжело даются ему заработанные денежки", — отзывается молодой красноармеец, не отрывая глаз от сцены.
Быстрая смена событий на сцене приковывает к себе напряженное внимание зрителей. Июльская попытка свергнуть ставшее ненавистным Временное правительство Керенского, закончившаяся временным поражением пролетариата, вызывает тяжелый вздох разочарования. Толпа алчет скорейшей победы восставших рабочих над опротивевшей буржуазией, сделавшей себе кумира в лице Керенского. По мере нарастания революционного порыва в густой все прибывающей толпе рабочих и солдат на красной площадке поднимается настроение зрителей.
Но вот все громче и громче, все увереннее и увереннее несется многоголосый хор, возвещающий власть Советов. Среди приверженцев Временного правительства паника, они разбегаются в разные стороны. Керенский и его министры спасаются на автомобилях, вызывая своим поспешным бегством восторг зрителей. Пролетариат победил! "Ура" — несется со стороны многоголосым хором. "Ура, ура" — несется в ответ со стороны зрителей.
Начинается стремительная атака Зимнего дворца. Зрители наэлектризованы, еще момент, и, кажется, толпа вырвется за ограду и вместе с автомобилями и толпами солдат и рабочих бросится на приступ последней твердыни ненавистной керенщины.
Но вот канонада стихает, — дворец взят, и красное знамя развевается над ним. Оркестр исполняет "Интернационал", подхватываемый десятками тысяч голосов.
После окончания инсценировки в вышину одна за другой полетели ракеты. Снопы золотого дождя, рассыпаясь, гаснут в вышине. Тысячи серебряных огней летят вниз прямо в толпу... Моментами делается светло, как днем.
Только теперь видна вся многоголовая масса народа. Площадь сплошь покрыта людьми. Без всякого преувеличения можно сказать, что на площади Урицкого в этот вечер перебывало никак не менее ста тысяч человек». [Русский советский театр 1917—1921 / Под ред. А.З.Юфита. Л., 1968. С. 272-274; См. также: Deak F. //The Drama Review. 1975. Vol. 19. № 2. P. 15-21. В 1927 году Сергей Эйзенштейн повторил постановку «штурма» Зимнего дворца в своем фильме «Октябрь». С тех пор кадры из этого фильма, сыгранные статистами, часто воспроизводятся в Советском Союзе и на Западе в качестве документальных материалов.].
Были еще такие же массовые представления, как: «Мистерия Освобожденного Труда» и «Блокада России». Но от таких действ, устраивавшихся и в провинции, пришлось отказаться из-за непомерных затрат. Их успешно заменила кинопродукция.
Ленин, воодушевленный пропагандистскими возможностями кинематографа, утверждал, что кино для большевиков — важнейшее из искусств90. А его «главная задача», по мнению Луначарского, — пропаганда91. В период гражданской войны частные и государственные студии занимались в основном производством пропагандистских короткометражек — агиток, — как правило, длившихся не более получаса: из 92 лент, выпущенных в период 1918—1920 годов, 63 принадлежали именно этому жанру92. Их демонстрировали в стационарных кинозалах и в агитпоездах, колесивших вдоль и поперек по всей стране. Вскоре период сотрудничества с частными киностудиями закончился национализацией кинопроизводства и кинопроката, вместе с коммерческой фотографией93. В декабре 1922 года было образовано советское учреждение — Госкино, — призванное заниматься вопросами кинематографии.
Кино так сильно приглянулось большевистским пропагандистам не только по финансовым соображениям, но и потому, что в нем достигался уровень реализма, какого другой вид искусства не мог обеспечить. Они заметили, что русская аудитория остро реагирует на американские фильмы, широко демонстрировавшиеся в то время в России. Анализируя причины такого явления, один из пионеров советского кинематографа Лев Кулешов пришел к выводу, что оно объясняется применением двух технических приемов: крупным планом и «монтажом», то есть быстрой сменой коротких эпизодов, представляющих некоторое событие или образ с различных точек зрения94. Поскольку основной целью большевистской пропаганды было вызывать ненависть к врагам нового режима, кино представлялось идеальным орудием достижения этой цели. Образцом послужила лента Д.У.Гриффита «Нетерпимость» (1916), в 1919 году демонстрировавшаяся в Москве. Говорят, что Ленин был под таким впечатлением от просмотра этого фильма, что приглашал автора возглавить советский кинематограф. Правда это или нет, бесспорно, что все фильмы первого советского десятилетия носят явный отпечаток влияния американского режиссера. [Leyda J. Kino. London, 1960. P. 142—143. «В 23-м, 24-м году учеба у американских фильмов была боевым формальным знаменем наших кинематографических новаторов, — писал советский кинокритик. — Мелодраматическая формула Гриффита, основанная на принципе "монтажа аттракционов" и подкрепленная примерами [его] фильмов явилась решающей в формообразовании первых лет советской кинематографии» (Пиотровский А. // Жизнь искусства 1929. 30 июня. С. 7)].
* * *
Художники, архитекторы, музыканты, сотрудничавшие с большевиками, стремились идти в ногу с революционными переменами в политической, экономической и социальной жизни страны. Это требовало не менее революционного новаторства и в творчестве. Первые годы советской власти ознаменовались неистовыми экспериментами в изобразительном искусстве и музыке. Художники и скульпторы, при всей свободе творчества, им предоставленной, находились под контролем чиновников из Отдела изобразительных искусств (или ИЗО), образованного в январе 1918 года в качестве отдела при Наркомпросе и возглавлявшегося художником Давидом Штеренбергом. Музыкальной жизнью распоряжался музыкальный отдел Наркомпроса (МУЗО). Чтобы устранить влияние на искусство традиционных институций, власти 12 апреля 1918 года закрыли Российскую академию художеств95.
Как и в театре и кино, в изобразительном искусстве огромные усилия потратили на разрушение барьеров, отделяющих искусство от жизни. Профессионализм оказался в немилости: в свойственной тому времени парадоксальной манере молодые архитекторы, работавшие в мастерской Н.А.Ладовского, заявляли: «Будущее принадлежит тем, кто крайне не талантлив в искусстве»96. С целью привести «искусство в жизнь» ведущие творческие силы в 1920—1921 гг. объединились в группу «Конструктивистов», которые, по примеру руководителей высшей школы строительства и художественного конструирования «Баухауз» в Германии, стремились стереть различия между искусством высоким и прикладным. Конструктивисты работали во всех сферах изобразительного искусства: живописи, зодчестве, производственном дизайне, в конструировании одежды, плакатном деле, книжном оформлении. Ни его адепты, ни историки не могут с точностью определить эстетические принципы конструктивизма. Его программные заявления состояли из лозунгов, в основном негативного свойства. Поэтому легче сказать, против чего, нежели за что выступало это движение. Оно отрицало «традиционное искусство», под чем, по всей видимости, понималось все когда-либо созданное человечеством: от наскальных рисунков эпохи неолита до постимпрессионизма. Само искусство объявлялось врагом: «Мы объявляем непримиримую войну искусству!» — гласил эпиграф к одному из их манифестов. «Смерть искусству!», «Искусство кончено! Ему нет места в людском трудовом аппарате. Труд, техника, организация!» и т.д.97. Конструктивисты призывали художников забросить свои мастерские и отправиться на заводы и фабрики — истинный источник вдохновения в современном мире. Искусство, воплощенное в конкретные предметы, объявлялось мертвым98.
Несмотря на эти декларации, художники этого направления продолжали создавать те самые отвергаемые ими предметы искусства — а что еще может сделать художник? — и вместо того, чтобы сливаться с трудящимися массами в едином порыве, предпочитали проводить время в дружеском общении со своими коллегами во все тех же «презренных» мастерских и кофейнях. В их творениях трудно углядеть какой-либо общий принцип, кроме стремления эпатировать публику и быть не похожими на других. В своей решимости убить живопись конструктивист Александр Родченко создал три «холста», закрашенных в три первоначальных цвета: красный, синий и желтый. «Я заявляю: этим все сказано», — объяснял он99. В искусстве книжной графики конструктивисты отказались от всякого подобия традиционной симметрии и прямых линий. Конструктивистская мебель должна была «радовать взор», а не заботиться об удобстве потребителя. Модели одежд подчинялись прямоугольным формам, словно не принимая во внимание особенности строения человеческого тела: футуристические костюмы для «безграмотного населения, босого и оборванного»100.
Музеи оказались не в почете, и искусство вышло на улицы. Правительство придавало большое значение роли плаката. В период гражданской войны советское плакатное искусство разило белых и их иностранных приспешников. Враг изображался жирным червем, тогда как советский герой носил четкие и чистые «арийские» черты. После окончания войны плакаты широко использовались в дидактических целях, как, например, для борьбы с религией, пьянством, неграмотностью и для сбора средств в пользу голодающих крестьян. В 1918 и 1919 гг. художники на службе у большевиков расписывали дома, поезда и трамваи пропагандистскими призывами и рисунками. В Москве деревья перед Большим театром были измазаны краской. В Петрограде то же самое можно было увидеть на Дворцовой площади. В Витебске, культурной колыбели Марка Шагала, центр города алел знаменами и политическими воззваниями101.
Признанные властями архитекторы и градостроители разрабатывали самые фантастические планы тотальной реконструкции российских городов и призывали к полному разрушению старой застройки, чтобы высвободить место для своих монументальных проектов жилых домов и госучреждений. Эти грандиозные замыслы так и остались на бумаге, отчасти из-за недостатка средств, но главным образом тормозились из-за необходимости сноса под них исторических сооружений. В итоге Петроград сохранился почти нетронутым, словно исторический музей под открытым небом. Центр Москвы претерпел радикальные перемены в результате сноса старинных строений, но произошло это уже позже, при Сталине, и скорее ради безопасности, чем из эстетических соображений.
Авангардистские архитекторы в поисках материала, который мог бы соответствовать духу новой коммунистической эры, заклеймили «буржуазностью» дерево и камень и избрали для себя железо и бетон102. Самый известный пример ранней коммунистической архитектуры — проект памятника Третьему Интернационалу в Москве, созданный Владимиром Татлиным в 1920-м. Конструктивист Татлин утверждал, что «пролетарская» архитектура должна быть динамичной и ее сооружения должны быть такие же мобильные, как современный индустриальный город. Его памятник состоял из трех ярусов: в основе помещался куб, который делал один оборот в год вокруг своей оси, в нем располагались помещения для проведения конгрессов Третьего Интернационала. Следующий ярус, в виде пирамиды, совершал один оборот за месяц и вмещал рабочие помещения Коминтерна. Венчала строение цилиндрическая конструкция, обращавшаяся вокруг своей оси за сутки, в ней предполагалось расположить информационные и пропагандистские службы. Со стороны эта конструкция напоминала гигантскую пушку. Будь татлинский проект воплощен в жизнь, он стал бы в то время самым высоким творением рук человеческих в мире, возносясь в небо на 400 метров. Но памятник так и не был воздвигнут. Татлин экспериментировал и в других областях дизайна. Например, он сконструировал летательный аппарат, приводимый в действие мускульной силой человека, названный в его честь «Летатлин» (1929—1931). Признавая его определенную эстетическую ценность, нельзя не отметить, что аппарат был практически бесполезен с точки зрения цели, ради которой он был сконструирован, а именно летания, что выглядит особенно странно для художника, который прокламировал лозунг: «Не старое, не новое, только необходимое». [«То, что Летатлин пролетел на испытаниях всего только несколько метров, — пишут западные исследователи конструктивизма, — несущественно в сравнении с его ролью экстраординарного символа, воплотившего стремление вдохнуть в социальную сферу практики дух художника, познавшего универсальную истину» (The Henry Art Gallery. Art into Life: Russian Constructivism, 1914—1932. Seattle, Wash., 1990. P. 10). Какова бы ни была эта «универсальная истина», она, во всяком случае, была не из области аэродинамики.].
Музыкальная жизнь зависела от МУЗО, без чьего разрешения не мог состояться ни один концерт. МУЗО требовал строгого отчета от всех музыкантов103. Выдающиеся русские композиторы и исполнители, не пожелавшие подчиняться чиновничьей воле, покинули страну104. Те же, кто остался, разбились на два противоборствующих лагеря, яростно воюющих за государственные субсидии: «асмовитов», которые отстаивали модернизм, и «рамповитов», выступавших за примитивизм. Самые одаренные из них (как, например, Александр Глазунов) перестали сочинять музыку, тогда как эпигоны бросились создавать «агитки»: «Советская музыка, сочинявшаяся в 20-е годы, в большинстве своем удивительно пустая и синтетическая... 20-е годы изобилуют именами русских композиторов, которые сейчас едва ли кто и вспомнит, копировавших внешние приемы, модернистские трюки, социологические эксперименты»105.
Все эти эксперименты и новации, вплоть до отказа от дирижера и исполнения музыки посредством каких угодно, только не музыкальных приспособлений, как считалось, тоже отражали современную жизнь и связь с производством. Как и в архитектуре, прилагались огромные усилия, чтобы сбросить оковы традиционных средств выражения. Организовывались «музыкальные оргии», где в качестве инструментов выступали ревущие моторы, турбины и сирены, а дирижер представал как «мастер по шуму». В Москве устраивались «Симфонии фабричных гудков», причем, по словам очевидцев, вышла такая какофония, что публика не смогла распознать даже мелодию «Интернационала». Апофеозом этого жанра стало представление, состоявшееся в Баку в 1922 году, в пятую годовщину октябрьского переворота, «концерт», исполнявшийся моряками Каспийского флота под аккомпанемент судовых сирен, фабричных гудков, двух артиллерийских батарей, пулеметов и аэропланов106.
Творения писателей и художников, субсидируемых советским правительством, не имели почти ничего общего со вкусами широких масс, которым они были предназначены. Народная культура покоилась на религии. Статистические анализы круга чтения населения России показывают, что как до, так и после революции рабочие и крестьяне читали в основном книги «душеспасительного» толка, а из всего обилия светской литературы проявляли интерес лишь к дешевым развлекательным жанрам107. «Трудящиеся массы» имели очень смутное представление о культуре, предложенной большевиками. Эксперименты в литературе, живописи и музыке, проводившиеся в первые годы существования Советской России, были проявлениями европейского авангарда, услаждавшими интеллектуальную элиту, а не широкую публику. Это хорошо понял Сталин, который, обретя абсолютную власть, сразу положил конец экспериментам и установил строгие стандарты, которые своим грубым реализмом и дидактизмом превосходили самые худшие проявления викторианства.
* * *
Ленин, как правило, не вмешивался в дела культуры, предоставляя это поле деятельности Луначарскому. Единственный случай такого рода носил скорее комичный характер: вождь вознамерился украсить российские города статуями предшественников и героев социализма. Эту идею он позаимствовал из утопии монаха-доминиканца XVII века Томмазо Кампанеллы «Город солнца», стены которого были расписаны поучительными изображениями. Принимая во внимание суровые климатические условия России, Ленин предложил воздвигнуть бюсты и статуи из гипса и бетона. Весной 1918 года он поделился своей идеей «монументальной пропаганды» с Луначарским и попросил его подготовить список достойных кандидатов108. Луначарский и сотрудники его ведомства пришли в замешательство от такого поручения и, понадеявшись, что Ленин постепенно откажется от этой затеи, тянули время. Ленин, однако, проявил настойчивость, и после долгих проволочек в июле 1918 года социалистический пантеон был наконец утвержден: он насчитывал 63 персонажа, как русских, так и иностранцев, среди которых попадались весьма неожиданные имена, и самым удивительным оказался, пожалуй, Достоевский, который более всего на свете ненавидел социализм и социалистов109. Однако монументы были выполнены в манере либо чересчур футуристической, чтобы понравиться широким массам, либо чересчур традиционной, не выдерживающей взыскательной критики. В итоге некоторые были отвергнуты с самого начала, другие не выдержали испытания временем — очень скоро развалились и были сняты. Наиболее успешными и долговечными оказались лишь те из ленинских культурных начинаний, которые носили деструктивный характер, как, например, уничтожение памятников царям.
* * *
Идея народного образования в Советском Союзе обрела характер не столько обучения, то есть передачи знаний молодому поколению, сколько воспитания, иными словами, формирования личности, и в этом процессе участвовали все государственные институты — от профсоюзов до Красной Армии, — одной из главных задач которых было воспитание граждан в духе коммунизма. Процесс был развернут с таким размахом и интенсивностью, что одному из иностранных наблюдателей Советская Россия 20-х годов показалась одной большой школой110. Это было образование в том смысле, какой вкладывал в него Гельвеции: все окружение человека предназначено для того, чтобы произвести на свет совершенную добродетельную личность111. Большевики, разумеется, не отвергали понимания образования и в более привычном смысле школьного обучения, во-первых, потому, что хотели через школы воздействовать на ум и душу ребенка, а во-вторых, в стремлении содействовать развитию науки и техники. Но как и все в Советской России, школьное обучение надлежало вести в политически правильном ключе: «нейтрального» процесса образования Ленин не признавал112. Соответственно, партийная программа 1919 года определяла школы «как инструмент коммунистического преобразования общества»113. Это подразумевало «очистку» сознания учеников от «буржуазных» представлений, в особенности от «религиозных предрассудков»: атеистическая пропаганда занимала центральное место в учебном плане советских школ. Коммунистические ценности должны были вытеснить в сознании будущих полезных членов общества «буржуазные предрассудки». А воспитание «полезных членов общества» должно было начинаться, едва лишь человек появлялся на свет. Согласно инструкции Наркомпроса от декабря 1917 г., «общественное бесплатное воспитание детей должно начинаться со дня их появления на свет. Включение дошкольного воспитания в общую систему народного образования имеет целью заложить основу процесса социального воспитания ребенка на ранних стадиях его формирования; дальнейшее развитие школой отношения к труду и обществу, заложенных в дошкольном возрасте, создаст психически и духовно полноценного члена общества, желающего и умеющего работать»114.
Мысль о том, что воспитание — естественная прерогатива родителей, поскольку ребенок «принадлежит» им, отвергалась. Е.А.Преображенский, ведущий экономист и писатель по этическим вопросам, без обиняков заявлял: «С точки зрения социалистической является совершенно бессмысленным взгляд отдельного члена общества на свое тело как на свою безусловную личную собственность, потому что индивид есть лишь отдельная точка при переходе рода от прошлого к будущему. Но в десять раз более бессмысленным является такой же взгляд на "свое" потомство»115.
Советская политика в области образования прошла две стадии. Первая, пришедшаяся на эпоху военного коммунизма (1918—1920), была сравнительно либеральной, направленной на свободное развитие личности ребенка. Поскольку заявлялось, что коммунистические идеалы «естественны» для человека, то есть присущи ему от природы, то и ребенок, освобожденный от традиционных ценностей и отживших запретов, инстинктивно к ним потянется. С наступлением нэпа в 1921 году, когда провалы прогрессивного образования сделались очевидны и власти стали опасаться, что восстановление капиталистических институтов остудит коммунистический пыл, основное внимание стало уделяться идеологическому воспитанию.
Для осуществления своей грандиозной образовательной программы власти национализировали учебные заведения. Декретом от 30 мая 1918 года все школы — начальные, средние и высшие — независимо от их принадлежности, будь то государственные, общественные или частные заведения, передавались в ведение комиссариата по просвещению. Мера эта, как утверждалось, была необходима для того, чтобы обеспечить течение учебного процесса «на началах новой педагогики и социализма»116. Декрет, превратив обучение в государственную монополию, воплотил чаяния царских чиновников — они могли только мечтать об установлении такого полного надзора над всеми учебными заведениями117.
Очень скоро правительство взялось проводить революционные преобразования в начальном и среднем образовании118. Была введена система единых трудовых школ с типовыми программами двух ступеней: низшей для детей от 8 до 13 лет и высшей для детей от 13 до 17. Если раньше для поступления в высшее учебное заведение требовался аттестат об окончании средней школы, то теперь выстраивалась непрерывная «лестница» от детского сада до университета. Посещение учебных заведений стало обязательным для всех детей школьного возраста обоего пола; вводилось совместное, а не раздельное, как прежде, обучение.
В новой школьной системе права учителей существенно ограничили, ибо «учительское сословие» зарекомендовало себя упорным противником ленинского режима: в Российской республике еще в 1926 году только 3,1% учителей начальной школы и 5,5 % преподавателей средней школы были членами Коммунистической партии119. Педагогов теперь называли «школьными работниками» (или коротко «шкрабы»), им запрещалось наказывать учеников, назначать им домашние задания или требовать ответа по изученному материалу и оценивать их знания отметками. Успехи учеников определял коллектив. Руководил школой школьный совет, куда «шкрабы» входили наравне с «учащимися старших возрастных групп» и «представителями трудового населения данного школьного района».
Луначарский, поклонник педагогической философии Джона Дьюи, хотел, чтобы учащиеся «обучались посредством делания». Он верил, что преподавание, построенное на сочетании труда и игры, превратит процесс обретения знаний в неотразимо привлекательный для детей. В сущности он хотел внедрить в широком масштабе принципы прогрессивного западного образования, вроде «активных школ» Дьюи, «системы Дальтона» в Англии и метода Монтессори, которые на Западе применялись лишь в экспериментальных условиях. Самые радикальные выразители идей советской философии образования в начале 20-х годов пошли еще дальше: они призывали вообще отменить школы и перенести обучение в колхозы и на фабрики120.
Все эти педагогические реформы в большинстве своем так и остались лишь теоретическими построениями. Материальные условия советских школ попросту исключали всякую возможность экспериментирования и практического их применения: в тех из них, которые не закрылись из-за отсутствия дров или освещения, катастрофически не хватало ни тетрадей, ни учебников, ни письменных принадлежностей. Учителя получали нищенское жалованье, если вообще получали, и не могли взять в толк, чего именно от них хотят. [В 1925 году зарплата учителей не шла ни в какое сравнение с жалованьем рабочего. Судя по письмам редактору педагогического журнала, высококвалифицированный учитель средней школы в Киеве зарабатывал 45 руб. в месяц, тогда как школьный дворник получал 70, а родители учеников от 200 до 250 руб. (Радченко А. // Народное просвещение. 1926. № 1 С. 110).]. Летом 1919 года Крупская, совершавшая инспекционную поездку по школам Волго-Камского региона, возвратилась крайне обеспокоенная увиденным. «Стоит дело плохо, — писала она в письме своему товарищу. — С единой трудовой школой ничего буквально не выходит, ерунда одна... Вся инициатива предоставлена учителям, а это самая несчастная "нация". Лишь кое-где начинают немного разбираться, а большинство ничего не понимает, такие вопросы нелепые задают, что диву даешься»121. В 1920—1921 гг. Луначарскому пришлось признать, что новая школьная система оказалась утопией и русская школа умирает122. В результате с наступлением нэпа многие нововведения были позабыты или подверглись существенному изменению: прогрессивное образование уступило место более традиционным методикам с упором на идеологическое воспитание.
Идеологическое воспитание нельзя было доверить исключительно учителям, не вызывавшим особого доверия властей. Эту ответственную задачу Коммунистическая партия возложила на две молодежные организации — пионерскую и комсомол. Первая из упомянутых была основана в 1922 году по примеру скаутских организаций, но с мощным идеологическим уклоном. В нее принимались дети до 15 лет. Пионерская организация должна была прививать им коммунистические ценности, и главнейшим долгом пионеров являлась преданность делу рабочего класса и коммунизма123. Пионерия служила резервом для комсомола, который, в свою очередь, поставлял кандидатов в Коммунистическую партию. В действительности в пионерской организации не ощущалось слишком тягостного идеологического давления, и она пользовалась достаточной популярностью у детей. В комсомоле проводилось больше пропагандистских мероприятий на злобу дня, в особенности по борьбе с религией и церковью124.
Современные источники указывают, что советское начальное и среднее образование приближалось к идеалу Луначарского лишь в нескольких образцовых школах; в других местах все оставалось по-прежнему, разве только еще хуже125. Противоречие между желаемым и действительным, весьма характерное для всего советского быта, в этой области выглядело особенно разительным. По словам одного советского историка, девять десятых статей в советских педагогических журналах того времени основывались на отвлеченном и умозрительном материале, не имеющем ничего общего с реальностью126. По другим источникам складывается впечатление, что единственными новшествами, прижившимися в советской системе образования, оказались лишь те, которые были нацелены на разрушение академических стандартов и авторитета учителей.
Следующий отрывок из литературного произведения, написанного в форме дневника 15-летнего школьника, поможет дать представление об атмосфере первых советских школ:
«5 октября. Сегодня вся наша группа возмутилась. Дело было вот как. Пришла новая шкрабиха, естественница Елена Никитишна Каурова, а по-нашему Елникитка. Стала давать задание и говорит всей группе:
— Дети!
Тогда я встал и говорю:
— Мы не дети.
Она тогда говорит:
— Конечно, вы дети, и по-другому я вас называть не стану.
Я тогда отвечаю:
— Потрудитесь быть вежливей, а то можно и к черту послать!
Вот и все. Вся группа за меня, а Елникитка говорит, сама вся покраснела:
— В таком случае потрудитесь выйти из класса.
Я ответил:
— Здесь, во-первых, не класс, а лаборатория, и у нас из класса не выгоняют.
Она говорит:
— Вы невежа.
А я:
— Вы больше похожи на учительницу старой школы, это только они так имели право.
Вот и все. Вся группа за меня. Елникитка выскочила как ошпаренная»127.
Достичь идеала всеобщего начального и среднего образования так нигде и не удалось; как видно из приведенной ниже таблицы, к моменту смерти Ленина число школ обоих уровней в сравнении с царскими временами понизилось:
Начальные и средние школы в России128 (в пределах границ СССР на 1 сентября 1939 г.)
1914/15 1923/24 Школы 101 917 85 662 Учащиеся 7 030 257 6 327 739Провал правительственной программы внедрения всеобщего и обязательного образования был вызван экономическими трудностями. Если сравнивать долю финансового участия советской власти в деле образования, то она отстает от царской, которая вовсе не славилась щедростью в этом вопросе. Луначарскому неоднократно приходилось жаловаться: бюджетные ассигнования его комиссариату много ниже требуемого, принимая во внимание, что на Наркомпросе лежит ответственность за все учебные заведения в стране, включая и те, которые прежде, до 1917 года, пользовались поддержкой церкви и местных властей. В 1918—1921 гг. Наркомпросу выделялось менее 3% расходов национального бюджета, а по расчетам Луначарского это составляло лишь что-то около 1/3—1/4 от требуемой суммы129. При нэпе доля Наркомпроса в бюджетных ассигнованиях упала еще ниже. По словам Луначарского, расходы на душу населения в области образовании в 1925—1926 гг., период сравнительного благополучия, были на треть меньше, чем в 1913 году. [Народное просвещение. 1926. № 2. С. 9. В 1928 году он заявлял, что советское правительство отпускает на учащихся начальной школы 75%, а на учащихся средней школы четверть того, что расходовали при царском режиме (Революция и культура. 1928. №11. 15 июня. С. 21)].
Ни новые школы, ни молодежные организации не преуспели в своей основной миссии — воспитании коммунистического мировоззрения. Исследование, проводившееся в 1927 году среди школьников от 11 до 15 лет, представило поразительное тому подтверждение. Учащиеся, воспитанники советской системы образования, проявили крайне низкую способность осмыслять текущие события в ключе коммунистической доктрины, отвечая, в лучшем случае, заученными фразами. 45% признались, что верят в Бога. Особенно тревожным было то, что, как выяснилось, с каждым годом обучения ученики проникались все более негативным отношением к советской жизни132.
Оценивая результаты большевистской политики в области образования, Луначарский вынужден был признать ее поражение. В четвертую годовщину Октябрьской революции он писал: «И все же военный коммунизм... казался многим прямым и кратким путем в царство коммунизма... Очень может быть — наибольшие разочарования выпали на нашу долю — коммунистов-педагогов. Не только трудности по введению в темную неграмотную страну социалистической системы народного образования при полном отсутствии учителей-коммунистов и при постепенном трудном процессе сближения учительства вообще оказались непомерны, но и ресурсы людьми, материалами и деньгами, которые могли выделить нам Советская власть и Р.К.П., были до крайности недостаточны»133.
* * *
Печальная правда заключалась в том, что, несмотря на хвастливые заявления об успехах и доступности образования, многие дети не только не пользовались благами школьного обучения, но революция и события, которые она за собой повлекла, лишили детей элементарного права, доступного всем, кроме самых примитивных животных, права на родительскую заботу. В 20-е годы по России, словно первобытные племена, бродили толпы беспризорных134. Число их резко увеличилось во время голода 1921 года: часто родственники осиротевших детей забирали себе имущество их покойных родителей и изгоняли сирот из деревни135. Невозможно определить, сколько бездомных детей было в России после революции, поскольку они не имели постоянного места обитания и избегали переписи. В 1922—1923 гг. Луначарский и Крупская определяли их число приблизительно в 7—9 миллионов136. Три четверти из них были детьми крестьян (54,5%) и рабочих (23,3%); 15% были в возрасте от 3 до 7 лет и 57,1% в возрасте от 8 до 13 лет137. Они сбивались в шайки и укрывались в заброшенных домах, на железнодорожных вокзалах, на дровяных и угольных складах и вообще всюду, где только могли найти крышу: «Бродящих стаями, почти утративших человеческий облик и членораздельную речь, с лицами заостренными, как у зверьков, со спутанными волосами и пустым взглядом, — вспоминал Малькольм Маггеридж, — я встречал их в Москве и Ленинграде, забившимися под мосты, шныряющими по вокзалам, внезапно налетающими, словно стаи диких обезьян, и так же внезапно разбегающимися врассыпную»138. Они жили попрошайничеством и мелким воровством; многие, быть может, большинство девочек и даже мальчиков занимались проституцией139.
В 1921 году ГПУ обратилось к проблеме бездомных бродяг, помещая тех, кого удавалось поймать, в государственные детские колонии. Иностранцам их демонстрировали как пример самоуправляемых коммун, этакие «детские республики», однако они напоминали скорее пенитенциарные учреждения. Беспризорные были психически сломленными и социально неприспособляемыми.
Поначалу советские публицисты относили этот феномен за счет «капиталистического наследия», из чего один наблюдатель сделал саркастический вывод, что царская Россия должна была быть самой развитой капиталистической страной в мире, если судить по пропорции бездомных детей в Советской России140. Лишь в 1925 году Крупская признала, что это на три четверти «продукт настоящих условий»141.
* * *
Вплоть до весны 1918 года ленинская партия не вмешивалась в дела высшей школы142. Во многих высших учебных заведениях занятия сами собой прекратились не только из протеста большевистскому перевороту, но и потому, что студенты, вынужденные зарабатывать себе на пропитание, не имели возможности посещать занятия. И большевики на некоторое время оставили университеты в покое, хотя прекрасно понимали, что преподаватели, преобладающая часть которых были кадетами, не признавали новой власти, что во многих университетах в октябре и ноябре 1917 г. принимались резолюции с осуждением октябрьского переворота, что ректоры всех высших учебных заведений Петрограда осудили новый режим143. Тем не менее большевики предпочли не замечать этого, поскольку были заинтересованы в развитии науки и техники. Луначарский вспоминал, как Ленин неоднократно говорил ему: «Крупного ученого, большого специалиста в той или иной области надобно щадить до самой последней крайности, если даже он реакционер»144. Впрочем, весь тон высказывания не оставляет сомнения, что речь идет о вынужденной и, быть может, лишь временной толерантности. Политика партии в отношении высшего образования сводилась к следующим четырем моментам: 1) уничтожению самоуправления вузов; 2) упразднению тех кафедр, в особенности гуманитарных наук и так называемых «общественных дисциплин», учебная программа которых могла войти в конфликт с коммунистической идеологией; 3) устранению принципа «элитарности» высшего образования и 4) развитию в широком масштабе профессионального обучения.
Высшее научное учреждение России, Академия наук, поначалу при большевиках не испытывала особых затруднений, даже не скрывая своей враждебности по отношению к новой власти: на конференции академии 21 ноября 1917 года была принята резолюция, осуждающая захват власти большевиками и требующая продолжения войны на стороне союзников145. Но Ленин счел за благо смотреть на это сквозь пальцы, высоко ценя научную квалификацию 41 действительного члена академии и 220 сотрудников, среди которых были ведущие российские ученые. Чтобы переманить их на службу советской власти, он готов был пойти на существенные уступки в наиболее жгучем для академии вопросе об автономии. В конце концов был достигнут компромисс. Академия согласилась, хоть и без особого энтузиазма, отложить фундаментальные исследования и сосредоточиться на прикладных науках, чтобы помочь правительству решить неотложные экономические и технические задачи. За это академия сохранила свободу в выборе своих членов (во всяком случае на протяжении 20-х годов). Она осталась единственным культурным учреждением, не контролируемым Наркомпросом146.
Летом 1918 года дошла очередь до университетов. Меры, разработанные Луначарским, оставляли далеко позади ограничения, которые налагались на российские академические заведения реакционными мерами Николая I и Александра III. В период между 1918 и 1921 гг. большевики ликвидировали академическое самоуправление, рассеяли профессорские штаты и наводнили высшие учебные заведения плохо подготовленными, но перспективными в политическом отношении студентами.
Декрет от 1 октября 1918 года отменял традиционные научные степени (доктора, магистра, а также звание адъюнкта) и увольнял профессоров и преподавателей, проработавших в одном высшем учебном заведении в общей сложности десять и более лет или в течение пятнадцати и более лет работавших где бы то ни было на профессорской или преподавательской должности: их места были выставлены на всероссийский конкурс для всех лиц, «известных своими учеными трудами или иными работами по своей специальности»147. В начале 1919 года проводились выборы на освободившиеся должности: в Московском университете, самом престижном из всех вузов страны, были сменены все 90 преподавателей, потерявших свои места по декрету от 1 октября, за исключением одного члена большевистской партии»148. Подобные опустошительные разрушения в жизни университетов декрет произвел повсюду. Во многих вузах в административном порядке выдвинули наверх слабо квалифицированные кадры, а преподавателей назначили профессорами. В особенности это касалось ряда новых университетов и научных институтов. 21 января 1919 года декретом было объявлено об основании четырех новых университетов и присвоении ранга университета двум институтам149. Летом 1918 г. образована Социалистическая академия общественных наук, а в 1920-м Свердловский коммунистический университет, где готовили партийных пропагандистов и куда принимались только партийные кадры, получившие по большей части лишь начальное образование150. Зимой 1918—1919 гг. власти закрыли юридические факультеты университетов и исторические отделения историко-филологических факультетов, где всего сильнее ощущалась оппозиция новой власти. Их заменили факультетами общественных наук151, под чем подразумевались и экономика, и история, и правоведение. Программа новых факультетов делала упор на изучение трудов предвестников Октябрьской революции и на теоретическое обоснование неизбежности скорой победы коммунизма в мировом масштабе152. В 1921 году открыт Институт красной профессуры, состоящий в основном из сотрудников Социалистической академии и предназначенный для обучения преимущественно партийных функционеров преподаванию истории, экономики и философии в марксистском духе153.
К 1925 году количество университетов увеличилось с десяти (1916) до 34. Число преподавателей, однако, росло быстрее, нежели учащихся: если последних стало больше на одну треть (с 38 853 в 1916-м до 51 979 в 1925-м), то штаты преподавателей увеличились более чем втрое (с 1977 до 6174)154. Впрочем, многие из новых преподавателей имели не столько научную, сколько политическую квалификацию. В 1921 г., по распоряжению Ленина, все студенты высших учебных заведений должны были пройти обязательный курс исторического материализма и истории революции. В 1924 г. обязательным предметом становится история ВКП(б)155. Статус советских вузов строго определялся Уставом от 2 сентября 1921 г., оживившим многие положения известного своей реакционностью университетского устава 1884 года156. Отбросив либеральную практику, установившуюся в России с 1906 года, он лишал преподавательский корпус права избирать ректоров и профессоров — его передали Наркомпросу. [Согласно уставу 1921 г., Наркомпрос должен был избирать ректоров из списка, представленного профессорами, студентами, профсоюзами и советскими должностными лицами. В 1922 г. новое положение давало Наркомпросу полномочия назначать на этот пост кого угодно (McClelland J. Bolsheviks, Professors and the Reform of Higher Education in Soviet Russia, 1917—1921. Ph.D. diss. Princeton University, 1970. P. 398). В действительности ректоров назначал не Наркомпрос, а ЦК партии и местные партийные комитеты (Ibid. P. 399).]. Помимо этого новый устав давал право контролировать деятельность вузов соответствующим местным Советам. Эти меры были встречены крайне враждебно профессорами и студентами. В ноябре 1921 г. более тысячи студентов Петрограда вышли на демонстрацию протеста157. Следующей весной несколько сотен профессоров Московского университета приняли участие в забастовке протеста158. В качестве наказания семерых из бастовавших профессоров выслали из страны. В 1921—1922 гг. партийные органы предприняли жесткий контроль за преподаванием общественных дисциплин, преследуя преподавателей, не подчинившихся генеральной линии159. Последовали новые увольнения и высылки за границу160.
Помимо борьбы с университетской автономией — самоуправлением, в особенности в вопросе назначений, и правом самим определять программу обучения — новый режим затронул и процедуру зачисления студентов. Его целью было открыть доступ к высшему образованию для детей из низших классов, в особенности рабочих и беднейшего крестьянства, невзирая на их подготовку.
Первым и решительным шагом в этом направлении явился декрет, изданный 2 августа 1918 г., он давал право всем гражданам старше 16 лет, мужского и женского пола, без вступительных экзаменов «вступить в число слушателей высшего учебного заведения, без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы» и не внося плату за обучение161. Воспользовавшись этим, в вузы хлынула масса совершенно неподготовленной молодежи. Профессора, однако, сумели успешно справиться с ситуацией, не принимая таких студентов в свои семинары. Очень скоро «вступившие в число слушателей» оставили университеты162. Рабочие и крестьяне не имели ни желания, ни свободного времени приобщаться к наукам, да и как можно было ожидать, что они будут исправно посещать занятия в совершенно непривычной для них обстановке и подчас не имея никаких средств к существованию. В официальном отчете Наркомпроса результаты политики свободного приема оценивались следующим образом: «Мы в этом отношении констатируем с великим огорчением следующий факт: у нас громадное количество слушателей уже с высшим образованием, громадная масса остальных с законченным средним образованием, и только самое незначительное количество слушателей по своему цензу может приближаться к пролетарским группам... Пролетарские массы к нам не пошли, к нам пришла интеллигенция»163.
Особенное нежелание получать высшее образование проявляли женщины: в 1914 году в российских университетах обучалось больше женщин, чем в 1930-м164.
Осознав прискорбные результаты своей политики, власти предприняли ответные шаги: отказавшись от «свободного зачисления», они открыли специальные школы для подготовки рабочих к поступлению в вузы. 15 сентября 1919 г. высшим учебным заведениям было предписано открыть рабочие факультеты (рабфаки), которые обеспечивали бы рабочих и крестьян ускоренными курсами среднего образования. Большинство записавшихся на рабфаки состояли в партии или комсомоле и получили рекомендации на учебу от своих ячеек или профкомов; половина училась заочно, половина очно. В середине 1921 г. действовало уже 64 рабфака, в которых обучалось не менее 25 тыс. студентов165. Несмотря на тяжелые жизненные условия, рабфаки оказались очень популярны, ибо по окончании давали выпускникам возможность сменить физический труд на более «чистую» работу. К 1925 г. выпускников рабфаков из общего числа поступивших в университеты на научные и технические факультеты было две трети, на экономические — половина, на сельскохозяйственные — четверть, а на медицинские — одна пятая часть166. Из их рядов выковывались «кадры», которыми в 30-е годы Сталин заменил старую интеллигенцию.
В 1923 году правительство предприняло новые меры для устранения социального дисбаланса, введя особые льготы при поступлении для студентов пролетарского происхождения. А в отношении студентов «классово чуждых» применялись «чистки»: в 1924—1925 гг. на этом основании было исключено около 18 тыс. студентов. [McClelland J.C. // Past and Present. 1978. № 80. P. 130. Большевики шли по стопам Николая I, стремившегося ограничить доступ к высшему образованию студентам недворянского происхождения.].
И все же большевикам не удалось окончательно превратить высшее образование из привилегии образованных слоев в достояние широких масс. Ни дискриминационные меры в отношении интеллигенции, ни создание наиболее благоприятных условий для рабочих и крестьян не смогли существенно повлиять на социальный состав студенчества. Академия сохраняла свой «элитарный» характер по крайней мере до конца 20-х годов. Накануне Первой мировой войны 24,3% студентов российских университетов были выходцами из семей рабочих и ремесленников; в 1923—1924 академическом году число рабочих составляло только 15,3% от общего числа. Правда, существенно возросла доля крестьянских детей: 22,5% в 1923—1924 гг. по сравнению с 14,5% в 1914-м. Общее число по обоим, прежде угнетаемым, а теперь столь почитаемым классам, таким образом, за семь лет правления большевиков, несмотря на все предпринятые меры, в действительности только снизилось: 37,8% в 1923—1924 гг. против 38,8% в 1914-м. [Данные по 1914 году приводятся в кн.: Kulturpolitik der Sowjetunion. S. 10; данные по 1923—1924 гг. почерпнуты из кн.: McClelland J.C. // Past and Present. 1978. № 80. P. 131. Следует отметить, что нельзя сопоставлять непосредственно до- и послереволюционные данные, во-первых, потому что данные на 1914 г. отражают скорее сословный статус, нежели род занятий, а во-вторых, категория «рабочие и ремесленники» до революции включала тех, кого советская власть считала «мелкой буржуазией». ]. Более жесткие условия, введенные с конца 20-х годов, сумели в конце концов изменить баланс социальных групп в вузах, но еще в 1958 году Хрущев, как это ни удивительно, заявлял, что от 60 до 70% студентов в Москве не имеют никакого отношения ни к рабочим, ни к крестьянам167. Причины, по которым властям не удавалось ощутимо изменить социальный состав студенчества, определить нетрудно. Прежде всего, высшее, специальное образование требует определенных усилий, и стремление к их преодолению должно прививаться еще с детства в лоне семьи, и в семьях интеллигенции оно сильнее и естественнее, нежели в среде малообразованных. И поэтому, сколько бы власти ни потворствовали им, дети рабочих и крестьян все равно неохотно шли в вузы или, поступив, скоро бросали занятия. Во-вторых, те, кто все же успешно преодолевал трудности, автоматически меняли свой социальный статус. Студенты рабочего или крестьянского происхождения после окончания университетов и рабфаков, вступив в партию, редко возвращались на заводы или в деревни, предпочитая «чистую» работу. [«Можно полагать, что большая половина, если не две трети, партийных рабочих вынуждена была оставить повседневный физический труд на фабриках и заводах и взяться за государственную, партийную и другие работы» (Соловьев Н. // Правда. 1921. № 190. 28 авг. С. 4).]. Дети их, таким образом, уже считались «интеллигенцией» (в большевистском понимании этого слова).
* * *
Если лидеры Советской России не винили во всех бедах враждебное иностранное окружение, то они любили списывать свои неудачи на низкий культурный уровень населения, нагляднейшим показателем чего была его безграмотность. Клара Цеткин однажды сказала Ленину, что он не должен жаловаться на этот фактор, ибо он в свое время позволил большевикам «бросить семена на девственную почву» — сознание рабочих и крестьян не было испорчено «буржуазными понятиями и воззрениями». С этим Ленин согласился: «Да, это верно... Безграмотность уживалась с борьбой за власть, с необходимостью разрушить старый государственный аппарат». Однако теперь, по мнению Ленина, когда создано новое государство, низкий уровень грамотности становится препятствием168. 26 декабря 1919 г. вышел декрет о «ликвидации безграмотности» среди граждан от 8 до 50 лет169. Всему взрослому населению, без различия пола, следовало научиться читать по-русски или на своем родном языке. Тех, кто неспособен был осилить этого самостоятельно, должны были обучать их грамотные соотечественники, которых Наркомпрос имел право в обязательном порядке привлекать к этой работе. Целью было дать всему народу возможность принять «сознательное участие в политической жизни страны». Граждане, уклоняющиеся от обучения, могли преследоваться по закону.
Советская кампания представлялась как «самая упорная и всесторонняя попытка ликвидации безграмотности» в истории170. По всей стране, в городах и деревнях, открылись десятки тысяч пунктов по ликвидации безграмотности (ликбезов), где в сжатые сроки — обычно за три месяца, то есть за 120—144 классных часа — обучали грамоте. Несмотря на строгие предупреждения и угрозу наказаний, оказалось трудно завлечь на учебу крестьян, которые видели в этом в первую очередь пропаганду атеизма. И в конце концов, учитывая их недовольство, пришлось существенно сгладить этот аспект обучения. По грубым подсчетам, в период между 1920 и 1926 гг. около 5 миллионов граждан европейской части России прошли через ликбезы171.
Советское правительство любило представить ситуацию так, будто подавляющее большинство населения не умело читать, а тем более писать: так, Троцкий говорил о необходимости научить этому «сотни миллионов»172. В действительности безграмотность в дореволюционной России вовсе не достигала таких масштабов и, во всяком случае, наблюдалась устойчивая тенденция к ее сокращению. Как видно из ниже приведенной таблицы, накануне революции 42,8% населения страны владело грамотой: среди мужского населения эта пропорция достигала 57,6%. В 1920 г. среди городских мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 19 лет было соответственно 84,2 и 86,5% грамотных173.
Грамотность в России / СССР174
Год Всего населения Мужского населения 1867 19,1% 26,3% 1887 25,6 37,0 1907 35,3 49,2 1917 42,8 57,6 1926 51,1 66,5Эти данные показывают, что, несмотря на пропагандистскую шумиху, сопровождавшую наступление на безграмотность, ни о каких сокрушительных победах говорить не приходится, в лучшем случае наблюдается сохранение темпа, достигнутого до революции.
Как и попытки обойти высокие требования к желающим получить высшее образование, борьба с безграмотностью страдала от недостатков, кроющихся в сжатых программах ликбезов. Советские критерии грамотности были весьма непритязательными: достаточно было уметь читать печатными буквами по складам. Умения писать не требовалось. По свидетельству советского ответственного лица, многие «выпускники» ликбезов оказывались полуграмотными, чтобы не сказать безграмотными175. Следует также принять во внимание то обстоятельство, что многие из обученных грамоте вскоре забывали пройденные уроки, ибо в повседневной жизни им не приходилось сталкиваться с печатным словом.
Особенно разочаровывал тот факт, что среди детей от 9 до 12 лет безграмотность по-прежнему достигала 45,2%, а это означало, что, пока взрослые в спешном порядке учились читать, дети, не посещавшие школ, пополняли ряды не знающих грамоты176. Почти десятилетие спустя появления Декрета 1919 года Крупская, основываясь на материалах переписи 1926 г., осветивших реальную ситуацию, скрывавшуюся за пропагандной шумихой, вынуждена была признать, что ни одно из положений этого декрета не было осуществлено даже приблизительно177. Она указывала, что в то время, пока миллион взрослых ежегодно обучаются читать, приблизительно такое же число детей входит в общество, не пользуясь благами школьного образования. А это значит, что в действительности советская власть преуспела лишь в «стабилизации» уровня «темноты»178.
В ходе революции и гражданской войны русский язык претерпел любопытные изменения179. Самым поразительным феноменом было широкое распространение аббревиатур и составных слов, вроде «совнарком», «нэп» и «пролеткульт». «Неблагонадежные» старорежимные слова заменялись новыми. Так, чиновник стал «советским служащим», городовой — переименован в милиционера, а господин — в товарища. Впрочем, попытки вместо традиционного «спасибо» внедрить что-либо нейтральное, не несущее для русского слуха религиозного оттенка, как, например, «мерси» (что, впрочем, по-французски изначально означало почти то же самое), не увенчались успехом. Массовые расстрелы, ставшие делом привычным, породили зловещие эвфемизмы: «отправить на собрание», «отправить в штаб Духонина» (намек на генерала Н.Н.Духонина, убитого солдатами в конце 1917 г.), «запечатать в конверт и отослать», что означало арест и казнь.
Таков был язык советских городов. А в деревнях и Красной Армии крестьяне искажали и переиначивали слова на свой лад, из чего становится совершенно очевидным их крайне смутное представление о том, что происходило вокруг них. Они воспринимали абстрактные понятия при советской власти не лучше, чем при царизме, и переводили излюбленные большевиками чужеземные слова в более,, близкие им проявления жизни. Так, «ультиматум», по их мнению, означал приблизительно следующее: «либо платите деньги, либо отдайте лошадь, либо я вас убью». Вот несколько примеров определений, данных крестьянами:
гражданский брак — это не венчавшись живут;
камунист (или «каменист») — кто в Бога не верует;
комисарьят — где берут на военный учет и берут на войну;
Марс, Карло Марс — это как Ленин;
мильен, мильярд — деньга бумажная;
пинеры, пьяонеры — маленькие ребята, тоже как большевики; это ходят с барабаном и поют.
«Революция», порой произносимая «леволюция», понималась как «самовольщина».
В декабре 1917 г. правительство повторно ввело новые правила орфографии, за которые давно ратовали некоторые лингвисты и которые в свою пору утвердило Временное правительство. Новая орфография упрощала правописание благодаря отмене некоторых букв180. Слово «Бог» отныне следовало писать со строчной буквы.
* * *
Марксистские философы рассматривали этику как ответвление метафизики и в таком качестве не заслуживающую серьезного внимания. Марксистская литература давала вождям Советской России очень скудные познания в этой области, но, так как ни одно общество не может существовать без норм поведения, им не оставалось ничего иного, как самим заняться этим вопросом. Главными теоретиками в этике стали у большевиков Евгений Преображенский и Николай Бухарин.
Преображенский в книге «О морали и классовых нормах», вышедшей в 1923 г., пытался сформулировать систему моральных ценностей для победившего пролетариата России, опираясь на уже знакомые нам предпосылки: в обществах, которые разделены на классы, мораль служит интересам правящего класса; так называемые вечные этические «истины» есть сказка, выдуманная для того, чтобы скрыть реальность. В отношениях с классовым врагом пролетариат не должен останавливаться перед моральными запретами: «каждая битва имеет свои законы победы». Там, где побеждает пролетариат индивидуум должен подчиниться воле коллектива и рассматривать себя как «орудие рабочего класса». «Совесть» в качестве регулятора поведения заменяется одобрением или порицанием общества. Все действия, включая такие с виду частные сферы, как половые отношения и семейная жизнь, подчинены нуждам общества и «расы». «В интересах сохранения расы» общество имеет право запретить сифилитикам и иным больным индивидуумам «отравлять» ее чистоту. Общество имеет неоспоримое право вмешиваться в половую жизнь своих граждан с тем, чтобы с помощью научной «селекции» улучшить расу181.
Бухарин отрицал этику как бесполезный багаж из прошлого. То, что философы называют этикой, есть простой «фетишизм» классовых стандартов. «Пролетариат в своей общественной борьбе» должен исходить из соображений строгой технической необходимости: «Если он хочет добиться коммунизма, то ему нужно сделать то-то и то-то, как столяру, делающему табуретку. И все, что целесообразно с этой точки зрения, то и следует делать. "Этика" превращается у него мало-помалу в простые и понятные технические правила поведения, нужные для коммунизма, и поэтому по сути дела перестает быть этикой»182.
Явная натяжка такой этической философии состоит в том, что с ее точки зрения действия совершает так называемый «пролетариат». Фактически же коммунистическим обществом, как и всяким другим, управляют отдельные личности — в данном случае — вожди Коммунистической партии и этим личностям, предпринимая то или иное действие, приходится делать определенный выбор. Невозможно научным методом предсказать, что будет «необходимо» с классовой точки зрения, ибо проблема выбора подстерегает на каждом следующем шаге: и выбор этот не только технического свойства, но и нравственный. Позднее, когда Преображенский и Бухарин сами оказались в застенке и были расстреляны за преступления, ими не совершенные, то, если руководствоваться их собственными этическими нормами, им не на что было жаловаться, ибо «коммунизм» и в этом случае исходил из соображений классовой целесообразности.
* * *
Революция должна была внести радикальные изменения в положение женщин и в отношения между полами. Классический марксистский труд на эту тему «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф.Энгельса опровергал представление о том, что моногамная семья есть институт, естественный для человека. Это не более чем побочный продукт особых исторических обстоятельств, сопровождающих победу частной собственности над первобытной, общинной собственностью, и одной из сторон этой победы явилось закабаление женщины. В моногамной семье, где владение собственностью вручено мужчине, женщине отводится роль «главной служанки». Чтобы освободиться, ей нужна экономическая независимость, которая может быть достигнута только путем избавления от домашних обязанностей и устройства на работу. Это будет означать, что «отдельная семья перестала быть хозяйственной единицей общества»183. Общество должно полностью взять на себя традиционные заботы женщины, воспитание детей и кухню. И сексуальное освобождение, которое явится результатом этого, будет одинаково благотворно как для мужчин, так и для женщин: супружеские измены и проституция исчезнут, уступив место любви на основе взаимного влечения: «Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом; общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет беспокойство о "последствиях", которое в настоящее время служит самым существенным общественным моментом, моральным и экономическим, мешающим девушке, без опасений и страха, отдаться любимому мужчине. Не будет ли это достаточной причиной для постепенного развития более свободных половых сношений»184.
Идеи Энгельса существенно повлияли на отношение социалистов к пресловутому «женскому вопросу»: придя к власти, большевики сразу стали претворять их в жизнь. Они приняли законы, ослабляющие традиционные семейные узы путем упрощения процедуры развода, устранения дискриминации по отношению к незаконнорожденным и возложения на общество ответственности за воспитание детей. Но и в этом случае их благие намерения натолкнулись на неблагоприятные экономические обстоятельства. Как вскоре им пришлось убедиться, семья есть экономическая и социальная ячейка, ничуть не менее полезная в новом обществе, чем в капиталистическом. Поначалу разразившись целой серией законов, подрывающих устои моногамной семьи, большевики вскоре вынуждены были изменить тактику и восстановить ее традиционную роль. Однако в результате, при общем понижении уровня жизни, к которому привел новый режим, большевистские нововведения только усугубили тяжесть положения замужней женщины.
Советское законодательство по бракоразводным делам первым в мире стало допускать развод по инициативе любой из сторон и исключительно на основании несовместимости. В основе этого лежала идея Энгельса: поскольку брак подразумевает любовь, то если кто-либо из партнеров утратил это чувство, то и брачные узы теряют свой смысл и должны быть расторгнуты. Согласно декрету от 16 декабря 1917 г. для расторжения брака требовалось соблюдение минимальных формальностей: достаточно было одной из сторон подать заявление в суд185.
Хотя официально аборты не были узаконены, в первые три года советское правительство относилось к ним достаточно терпимо. Поскольку эта операция часто производилась людьми неквалифицированными, в антисанитарных условиях, что приводило к тяжелым последствиям и летальным исходам, декрет от 18 ноября 1920 г. предписывал производить аборты под строгим медицинским контролем. Хотя к абортам был приклеен ярлык «пережитка прошлого», женщинам не возбранялось пойти на этот шаг, при условии, что операция будет производиться врачами в больничных условиях186. Это был тоже первый закон такого рода.
Коммунистическим воспитателям хотелось бы получить в свое распоряжение ребенка прямо с пеленок, оторвав его от родителей и поместив в общественные ясли. Тем самым женщина освобождалась для производства, но самое главное, создавалась возможность воспитать ребенка настоящим членом самого совершенного в мире, коммунистического общества. Жена Зиновьева, служащая Наркомпроса Злата Лилина, утверждала, что детям пойдет только на пользу, если их отнять у родителей: «Не является ли родительская любовь в большей своей части любовью, идущей во вред ребенку?.. Семья индивидуальна и эгоистична, и дитя, воспитываемое ею, по большей части антисоциально, преисполнено эгоистических стремлений... Дело воспитания детей не частное дело родителей, а дело общественное»187. На советской Украине, пошедшей в этом направлении еще дальше, планировалось детей в возрасте 4 лет отнимать у родителей и помещать в интернаты, где бы им прививалась любовь к социалистическим идеалам188. Подобным намерениям не суждено было сбыться из-за нехватки средств и персонала. Общественное воспитание оказалось несбыточной мечтой: если мать способна посвящать своему чаду сколько угодно времени безвозмездно, то наемному воспитателю приходилось платить, на что требуются средства, которые негде было взять. Число детей, находящихся в советских интернатах, не превышало 540 тыс. (1922), а в период нэпа (1925) сократилось наполовину189.
Во всей Европе Первая мировая война привела к ослаблению сексуальных норм, получившему в Советской России особое моральное оправдание. Провозвестником свободной любви в новом государстве стала Александра Коллонтай, пожалуй, самая знаменитая большевичка190. Не дело историка разбираться в том, строила ли она личную жизнь согласно собственным проповедям или, наоборот, проповедовала свой образ жизни, но есть основания утверждать, что ее богатый любовный опыт не отличался особой разборчивостью и не сопровождался способностью устанавливать длительные отношения. Дочь богатого царского генерала, она росла крайне избалованным ребенком и отвечала протестом на изливающуюся на нее слепую родительскую любовь. Чтобы вырваться из отчего дома, она рано вышла замуж, но через три года бросила супруга. В 1906 году она примкнула к меньшевикам, а затем в 1915-м перекинулась в лагерь Ленина, восхищенная его антивоенной позицией. Она оказывала ему различные ценные услуги как агент и курьер.
Коллонтай писала, что современная семья утратила свои традиционные экономические функции, а это означает, что женщина вольна сама избирать себе партнеров в любви. В 1919 г. вышел ее труд «Новая мораль и рабочий класс»191, основанный на сочинениях немецкой феминистки Греты Майзель-Гесс. Коллонтай утверждала, что женщина должна эмансипироваться не только экономически, но и психологически. Идеал «великой любви» («grand amour») трудно достижим, в особенности для мужчин, поскольку он входит в противоречие с их жизненными амбициями. Чтобы стать достойной идеала, личности следует пройти период ученичества, в виде «любовных игр» или «эротической дружбы», и освоить сексуальные отношения, свободные и от эмоциональной привязанности, и от идеи превосходства одной личности над другой. Только случайные связи могут дать женщине возможность сохранить свою индивидуальность в обществе, где господствуют мужчины. Приемлема любая форма сексуальных отношений: Коллонтай проповедовала то, что она называла «последовательной моногамией». В качестве наркома государственного призрения она устраивала общественные кухни как способ «отделить кухню от брака». Заботу о воспитании детей она тоже хотела возложить на общество. Она предрекала, что со временем семья отомрет и женщины научатся заботиться о всех без разбора детях, как о своих собственных. Она популяризировала свои теории в сочинении «Свободная любовь-любовь пчел трудовых» (1924), одна часть которого называлась «Любовь трех поколений». Героиня повести проповедовала освобождение любви от нравственности и от политики. Щедрая на ласки, она заявляла, что любит всех, начиная с Ленина, и отдавалась всякому, кто ей приглянулся.
Хотя Коллонтай считалась авторитетным теоретиком коммунистической морали, она все же оставалась исключением, заставлявшим краснеть своих коллег. Ленин рассматривал «свободную любовь» как «буржуазную» идею, под чем он подразумевал не столько внебрачные отношения (которых и сам не чуждался), сколько случайные связи. Что советские вожди думали о сексе, можно понять из размышлений Ленина, адресованных, без сомнения, Александре Коллонтай и ее последователям, которые донесла до нас Клара Цеткин: «Мне говорили, что на вечерах чтения и дискуссий с работницами разбираются преимущественно вопросы пола и брака. Это будто бы предмет главного внимания, политического преподавания и просветительской работы. Я ушам своим не верил, когда услыхал это. Первое государство пролетарской диктатуры борется с контрреволюционерами всего мира. Положение в самой Германии требует величайшей сплоченности всех пролетарских революционных сил для отпора все более напирающей контрреволюции. А активные коммунистки в это время разбирают вопросы пола... Это безобразие особенно вредно для юношеского движения, особенно опасно. Оно очень легко может способствовать чрезмерному возбуждению и подогреванию половой жизни у отдельных лиц и повести к расточению здоровья и силы юности. <...>
Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории «стакана воды» наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась... Молодежи особенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения всякого рода, разносторонность духовных интересов... В здоровом теле здоровый дух!»192
Исследования нравов советской молодежи, проводившиеся в 20-е годы, проявили резкое несоответствие между тем, во что молодежь, по их собственным утверждениям, верит, и тем, как она себя ведет: как правило, поведение на практике было много сдержаннее, чем в теории. Молодежь утверждала, что считает любовь и брак буржуазным пережитком и полагает, что коммунисты должны вести половую жизнь, не скованную запретами: чем меньше эмоций и привязанности в отношениях между мужчиной и женщиной, тем более они отвечают коммунистическому идеалу. Согласно опросу, студенты смотрели на брак как на обузу и падение для женщин: наибольшее число респондентов — 50,8% мужчин и 67,3% женщин выразили предпочтение долгим отношениям, основанным на взаимной симпатии, но формально не зарегистрированным193.
Более глубокое изучение показало, однако, что за внешним отрицанием традиций жили в неприкосновенности старые нормы. Отношения, основанные на любви, были идеалом для 82,6% мужчин и 90,5% женщин: «Об этом они втайне тоскуют и мечтают», — писал автор исследования. Лишь немногие — только 13,3% мужчин и 10,6% женщин — одобряли тот род случайных любовных связей, которые проповедовала Коллонтай, и обычно ассоциируемый с ранним коммунизмом194. Сильные эмоциональные и нравственные факторы препятствовали случайным связям: одно советское исследование показало, что более половины опрошенных студенток были девственницами195.
На взаимоотношения полов в послереволюционной России всего существенней влияла материальная сторона: небывалые тяготы повседневной жизни, в особенности недостаток еды и жилья, и неослабевающее напряжение от постоянных запретов и суровых требований власти. Это заставляло большинство советской молодежи, в особенности девушек, придерживаться традиционных форм любовных отношений: «картина широкого распространения среди студенток промискуитета и идеология сексуальной свободы, какую рисует импрессионистическая литература того времени», не подтверждается фактами196. На вопрос, как революция повлияла на их сексуальное влечение, 53% мужчин ответили, что оно ослабело; 41% мужчин считали, что виною их полной или частичной импотенции был голод и другие тяготы и лишения; 59% опрошенных женщин не отмечали никаких перемен в своем половом влечении197. Совсем не этого ожидали власти. Автор исследования приходит к выводу, что, к сожалению, советская молодежь по-прежнему «питается в этой области из отравленных источников старой половой морали, основанной на лицемерной и лживой моногамии и на фактической антисоциальной половой распущенности и на продажной любви»198. Другой социолог сообщал, что из 79 опрошенных им женщин, признавшихся в том, что вступали в половые отношения, «59 были замужем, а остальные мечтают о любви и браке»199.
Неограниченная сексуальная свобода не получила распространения, потому что была неприемлема для большинства молодежи и, в конце концов, для самих властей: традиционной морали отдавалось явное предпочтение. Кульминации это достигло в 1936 г., когда был принят новый семейный кодекс, запрещавший аборты200. При Сталине государство стало бороться за укрепление семьи: «свободную любовь» заклеймили как антисоциалистическую. Как и в нацистской Германии, упор делался на воспитание здоровых и верных защитников отечества201.
* * *
В 1922 г. стало ясно, что сравнительная терпимость Ленина по отношению к интеллигенции небесконечна. Он обрушился на нее с неистовством, объяснимым лишь ощущением поражения, которое преследовало его начиная с весны предыдущего года, когда очевидный провал экономики и развернувшиеся по всей стране мятежи заставили его принять новую экономическую политику. Он решил лично разобраться с враждебными интеллигентами, подавая в ГПУ списки имен с указанием соответствующих им наказаний. [См., напр., его распоряжение, касающееся восьми петроградских профессоров, арестованных в мае 1921 г. (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24559). Четырежды на различных заседаниях Политбюро Ленин возвращался к делу меньшевика историка Н.А.Рожкова (Родина. 1992. № 3. С. 49). Это настолько занимало его мысли, что 13 декабря 1922 г., находясь в весьма тяжелом физическом состоянии, он нашел в себе силы сделать распоряжение о высылке Рожкова (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1344).]. Его фанатическая самоуверенность теперь уступила место убийственной мстительности.
В марте 1922 г. Ленин объявил открытую войну «буржуазной идеологии», что на самом деле означало войну интеллигенции202. Он был взбешен тем, с каким злорадством ученые и писатели поносили его власть и насмехались над его неудачами. Прежде, когда он был уверен в победе, он не принимал в расчет такие разговоры как пустую трескотню. Теперь они задевали его за живое и выводили из себя. 5 марта в частной записке он назвал попавшийся ему на глаза сборник статей ведущих русских философов «Освальд Шпенглер и закат Европы» «литературным прикрытием белогвардейской организации»203. Два месяца спустя он потребовал от Дзержинского, чтобы ГПУ провело тщательную проверку литературных и научных публикаций, дабы выявить «явных контрреволюционеров, пособников Антанты, организацию ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи» и «сделать так, чтобы этих "военных шпионов" изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу»204. Если Ленин серьезно верил в то, о чем говорил — а, судя по всему, это так, поскольку сообщено в личной записке, — нельзя не заподозрить, что вождь страдал манией преследования. Ибо эти «военные шпионы» были одними из самых выдающихся умов России, которые, при всей своей враждебности к большевикам, воздерживались от политической деятельности и уж во всяком случае не занимались шпионажем. Дзержинский послушно исполнил поручение Ленина, так что летом 1922 года многие ученые и писатели уже сидели в тюрьмах. 17 июля Ленин послал Сталину записку, которую тот передал Дзержинскому, с перечислением групп и лиц, подлежащих высылке из страны. Он особо выделял тех, кто был связан с партией эсеров, показательный процесс над которой тогда был в полном разгаре. Его распоряжение звучало коротко и ясно: «Решительно "искоренить" всех эсеров... всех их вон из России. Делать это надо к концу процесса эсеров, не позже. Сразу же арестовать несколько сот и без объяснения мотивов — выезжайте, господа!»205.
Чтобы придать этим распоряжениям законный вид, правительство издало 10 августа декрет, предусматривающий применение административной ссылки в качестве меры пресечения. Декрет давал право органам безопасности по своему усмотрению высылать за границу или в определенные местности Российской республики на срок до трех лет лиц, причастных в «контрреволюционной» деятельности206. Ссылка в удаленные уголки страны полицейскими органами, по сути, возрождала знакомую царскую практику: Ленин и сам в 1897 г. был сослан в Сибирь таким же точно образом и на такой же срок. Но оговорка, дающая право высылки за границу, не имела прецедента в Российской империи.
В докладе, поданном 18 сентября Ленину, Г.Ягода, начальник Секретного оперативного отдела ГПУ, писал, что согласно инструкции арестовано 120 антисоветских элементов (69 в Москве и 51 в Петрограде). В застенках оказался весь цвет научной интеллигенции России, включая ректоров Московского и Петроградского университетов, несколько ведущих агрономов, лидеров кооперации, историков, социологов и философов207. Большинство посадили на пароходы, плывущие в Германию. Хотя официально срок ссылки не мог превышать трех лет, те, кого выслали за границу, оказывались осуждены пожизненно, поскольку перед отправкой их понуждали подписать документ, которым они уведомлялись, что, если они откажутся уезжать или попытаются вернуться, их ждет суд и высшая мера. В анналах истории не найти подобного случая массового изгнания интеллектуальной элиты страны.
* * *
Советская политика в сфере культуры, в сравнении с попытками создать более демократичную политическую систему и более эффективную экономику, может считаться скорее успешной, — но только в сравнении. Большевики удушили творчество, но сделали искусство, литературу и образование более доступными для широких масс. И если они не достигли в культурной революции целей, которые ставили перед собой, то причину надо искать в их убогом представлении о культуре. Ибо она не побочный продукт экономических и социальных отношений, как советские вожди себя в том убедили, но самостоятельный феномен, влияющий на экономику и общество по крайней мере не меньше, чем те воздействуют на него. Но культура не синоним книг, холстов или музыкальных произведений. И тем более не исчерпывается одной только наукой и техникой. В широком смысле культура есть способ отношения к жизни при определенных условиях, усвоенный из опыта и передающийся из поколения в поколение: искусство и литература лишь два ее частных проявления. По самой своей природе культура не может быть регламентирована. Лишенная свободы или используемая для чуждых ей целей — в особенности политических, — она становится бесплодна. Поскольку новая власть игнорировала эти принципы, история советской литературы и искусства представляет собой картину неуклонного творческого упадка: вдохновенные революционные порывы стихли, оставив по себе бесплодную пустыню, усеянную мертвыми условностями «социалистического реализма». Хуже того, ради насаждения своей утилитаризованной и технократической культуры, советская власть методично растлевала «низкую» культуру простого народа, с ее складывавшимися веками обычаями и уходящими корнями в религию ценностями. Образовавшийся духовный вакуум разъедал коммунистический режим изнутри и сыграл немалую роль в его гибели.
ГЛАВА 7. НАСТУПЛЕНИЕ НА РЕЛИГИЮ
В исторических исследованиях, посвященных русской революции, религии отводится несоразмерно малое место. У.Г.Чемберлин отводит этой теме менее пяти страничек из своей почти тысячестраничной книги. Другие ученые (например, Шейла Фитцпатрик и Леонард Шапиро) и вовсе обходят ее молчанием. Такое отсутствие интереса к религии может быть объяснено только крайней нерелигиозностью современных историков. Однако, как бы далеки от религии ни были исследователи, для народа, сделавшегося предметом их исследований, религия имела первостепенное значение: с этой точки зрения, можно сказать, что население Советского Союза — христиане, евреи или магометане — жили согласно категориям Средневековья. Для них культура означала религию — не только веру в Бога, но и — в особенности — религиозные ритуалы и праздники: крещение, обрезание, конфирмация, исповедь, отпевание, Рождество и Пасха, Йом-Кипур, Рамадан и т.д. Их жизнь обращалась вокруг дат церковного календаря, не только потому, что они вносили свет в их безрадостное и сумрачное существование, но и возвращали даже самым жалким из них чувство собственного достоинства в глазах Бога, для которого все люди равны. Большевики обрушились на религиозную веру и практику с яростью, невиданной со времен Римской империи. Их агрессивный атеизм ранил народную душу гораздо болезненней, чем подавление политического несогласия или введение цензуры. Если забыть об экономических трудностях, ни одно деяние Ленина не принесло больших страданий населению в целом, так называемым «массам», чем профанация их религиозных убеждений, закрытие церквей, синагог, мечетей и преследование священнослужителей. Хотя по причинам, которые будут изложены ниже, православная церковь несла на себе самое тяжкое бремя гонений, но не обошли они стороной и иудаизм, и католичество, и ислам.
Политика большевиков в отношении религии имела два аспекта: культурный и политический. Как и все социалисты, они считали религию пережитком прошлого, препятствием на пути прогресса. С присущим им рвением они пытались искоренить это явление путем «научного» просвещения и методом принижения религии, выставляя ее в смешном и нелепом свете. Крайне враждебное отношение русских социалистов к религиозному чувству объяснялось тесной связью православной церкви с царизмом и упрямым обскурантизмом. Уже в 70-е годы прошлого века русские радикалы в своей пропаганде уделяли большое внимание борьбе с религиозными «предрассудками», видя в них главное препятствие стремлению поднять на борьбу широкие массы: воинственный атеизм явился связующим началом для различных групп интеллигенции1.
Однако относительно методов борьбы с религией среди большевиков не было единого мнения. Самые прямолинейные атеисты считали, что следует вести открытое, широкое наступление с использованием всех доступных средств, в особенности представляя церковь в смешном и неприглядном виде; более изощренные, следуя французской пословице, что нельзя разрушать, ничего не предлагая взамен, хотели вознести социализм до подобия религии.
Последние видели в религии искреннее, хоть и ошибочное, стремление человека к духовности, которое должно быть удовлетворено тем или иным образом. Луначарский, главный сторонник этого взгляда, писал в работе «Религия и социализм», что человек нуждается в таинственном и душевном рвении. Квинтэссенцию религиозной веры нужно искать в отношениях человека с природой. В ходе эволюции человек постепенно освободил себя от бездумного подчинения природе, представлявшейся ему игрушкой в руках богов или Бога, и с помощью науки обрел господство над ней. В начале 1900-х годов идеи Луначарского легли в основу движения, получившего название «богостроительства», которое стремилось заменить традиционную религию людской солидарностью, а объектом поклонения должно было быть само человечество. Исходя из этих предпосылок, Луначарский в качестве наркома просвещения разработал изощренную стратегию:
«Религия, как гвоздь: если бить ее по шапке, то она входит все глубже... Тут нужны клещи. Нужно обхватить религию, зажать ее снизу, не бить, а устранять, выдергивать с корнем, и это может быть сделано только научной пропагандой, моральным и художественным воспитанием масс»2.
По большей части антирелигиозная кампания в 20-е годы велась большевиками именно такими методами, предлагая в качестве альтернативы религии науку и вырабатывая коммунистический суррогат культа со своими собственными божествами, святыми и ритуалами. В некоторых официальных заявлениях открыто подтверждались функции коммунизма в качестве субститута религии, как, например, в декларации, определявшей цель антирелигиозного воспитания как «замену веры в Бога верой в науку и машину»3.
Более суровую линию атеизма проводил Емельян Ярославский, призывавший к лобовой атаке на религию на том основании, что она есть не что иное, как темный предрассудок, используемый правящим классом. Троцкий, на которого Ленин в 1922 г. возложил ведение антирелигиозной кампании, по-видимому, разделял эти взгляды. [И Троцкий, и Ярославский были евреями. Заметная роль евреев в антирелигиозной кампании, проводившейся советской властью, заставила подозревать, что она была частью извечной, хорошо продуманной «войны» евреев с христианством. Это утверждение, однако, упускает из виду тот факт, что и отправление обрядов иудаизма и «культовые учреждения» не являлись исключением и подвергались не меньшим гонениям: более того, надо отметить, что коммунисты-евреи выказывали особое рвение в преследовании своих верующих соплеменников.].
Ленин с неприязнью относился к идее «богостроительства», ибо тоже полагал, что религия есть опора классового общества и орудие эксплуатации. Он не верил, будто научная пропаганда сама по себе способна покончить с религией4, и в силу этого отдавал предпочтение бескомпромиссному подходу Емельяна Ярославского. Вместе с тем, как всегда руководствуясь в первую очередь политическими соображениями, пока шла гражданская война, он не хотел излишне настраивать против себя церковь с ее стомиллионной армией верующих. Поэтому широкое наступление на религию он откладывал вплоть до 1922 г., пока наконец большевики не обрели полное господство в стране. И тогда он объявил, как он полагал, последний и решительный бой церкви.
Как и интеллигенция вообще, большевики полагали, что с развитием экономики и распространением знаний религиозная вера дрогнет и отступит. Ее окончательный крах есть лишь вопрос времени.
Иначе обстояло дело с религиозной организацией, то есть церковными учреждениями, ибо в однопартийном государстве, стремящемся к установлению своей монополии на любую организованную деятельность, существование института духовенства, независимого от партийного контроля, было неприемлемо. Это в особенности касалось православной церкви, которая отвечала духовным запросам трех четвертей населения и была «последним обломком политической организации побежденных классов, сохранившейся еще как организация»5.
Действительно, симбиоз церкви и государства в дореволюционной России напоминал то, что наблюдалось в Средние века в Европе, «когда церковь и государство были одно то же, и церковь предоставляла идеальную основу для светского правления. Поэтому, если революция серьезно намеревалась покончить со старым режимом, она должна была покончить и с церковью. Она не могла удовлетвориться свержением царя — высшего символа светской власти, — прежде и важнее всего было подорвать саму основу, на которой стояла до сих пор Россия»6.
Обострение отношений между церковью и государством, начавшееся немедленно после октябрьского переворота и достигшее апогея в 1922 г., принимало самые разные формы. Отмена государственных субсидий, конфискация церковного имущества, запрет на получение вознаграждения за отправление церковных треб оставили духовенство без средств к существованию. Церкви и монастыри были осквернены и употреблены на хозяйственные нужды новой власти; не избежали такой участи, хоть и в меньшем масштабе, синагоги и мечети. Священнослужителей всех конфессий (кроме мусульман) лишили гражданских прав и подвергали преследованиям и позорным судам, которые для многих оборачивались тюрьмой, а подчас и расстрелом. Религиозное воспитание запрещалось, и его место заняла атеистическая пропаганда, развернувшаяся в школах и молодежных организациях. Церковные праздники уступили место государственным, то есть коммунистическим.
Членам коммунистической партии вменялось в обязанность принимать активное участие в атеистической пропаганде и возбранялось, под угрозой исключения, участвовать в церковных обрядах, включая крещение и венчание7.
В царской России православные иерархи, как члены господствующей церкви, пользовались уникальными привилегиями. Им одним было дано право обращать в православие и запрещать переход в иные конфессии. Православная церковь пользовалась государственными дотациями. Накануне революции в России было около 40 000 приходов и более тысячи монастырей. А духовенство, «черное» (монашествующее) и «белое» (приходское), насчитывало 145 тыс.8.
Православная церковь была так тесно связана с монархией и так далека от политической жизни, бурлившей в стране, что отречение Николая II застигло ее врасплох и повергло в недоумение. Первым побуждением церкви было не замечать Февральской революции: в храмах продолжали служить молебны во здравие царя. По отношению к Временному правительству церковные иерархи сохраняли недружелюбный нейтралитет, который перерос в открытую враждебность к тому моменту, когда правительство пало. Единственную поддержку от церкви правительство видело со стороны богословов-реформаторов и того меньшинства приходского духовенства, которое приветствовало ослабление уз, связывающих церковь с государством9.
Хотя Временное правительство обращало мало внимания на церковные дела, его законодательная деятельность вела к понижению прежнего высокого статуса церкви в государстве. В июне 1917 г. оно упразднило пост обер-прокурора Святейшего Синода, учрежденный Петром Великим при отмене патриаршества. Эти меры приветствовали и консервативно, и либерально настроенные церковнослужители, которые уповали на созыв собора для реорганизации церкви. Менее благосклонно духовенство отнеслось к другим шагам правительства. В июле оно провозгласило равенство всех вероисповеданий, что лишало православное духовенство его привилегий. Далее последовал закон, передававший все школы, состоящие на государственном обеспечении, включая и те, которые находились в ведении церкви, под юрисдикцию министерства образования; затем вдвое сократились государственные субсидии церкви. Особенное недовольство духовенства вызвал указ правительства, упразднявший обязательное изучение катехизиса в школах10. Церковнослужители восприняли эти меры как шаги, ведущие к секуляризации, и видели в них причину упадка религиозного чувства в стране.
И действительно, в народе наблюдалась явная враждебность по отношению к церкви. Сразу после Февральской революции в некоторых деревнях крестьяне нападали на священников и изгоняли их. Известные реакционностью взглядов архиереи, и среди них архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий, были смещены со своих епархий11. Участились случаи, когда церковные земли захватывались и распределялись между членами общины. Есть свидетельства, что, когда русские военнопленные в немецких лагерях узнали о Февральской революции, они перестали посещать церковные службы12. Февральская революция, кроме того, дала выход тлевшему внутри церкви конфликту между приходским и монашествующим духовенством, которому единственному был открыт путь к высшим ступеням церковной иерархии13. Все это, на фоне воцарившейся по всей стране анархии, подталкивало консервативную в массе своей православную иерархию еще дальше вправо. 15 августа 1917 г. в Москве в кремлевском Успенском соборе открылся Поместный собор русской православной церкви, созванный впервые с 1666 года, которому предстояло проработать целый год. На открытии присутствовали Керенский и два министра Временного правительства. 588 делегатов от епархий в один голос говорили о падении нравов в стране и даже в войсках. Они предостерегали, что Россия стоит на самом краю пропасти, и призывали народ забыть распри14. Однако, когда речь зашла о внутри-церковных делах, сам Собор раскололся на две части — консервативное большинство и либеральное меньшинство. Самым решающим был на Соборе вопрос о восстановлении патриаршества. Консерваторы выступали за восстановление, потому что видели в патриархе вождя, который сможет защитить интересы церкви, лишившейся покровительства государства. Либеральное духовенство, опасаясь, что патриарх станет орудием в руках консерваторов, предпочитали вручить церковное управление собору.
В конце октября, когда между большевиками и их противниками шли бои за Кремль, Собор проголосовал в пользу восстановления патриаршества. Сначала определили трех кандидатов, причем наибольшее число голосов получил Антоний Храповицкий. Согласно обычаю урна со жребием была оставлена на ночь в храме. Наутро самый старый присутствующий монах, старец Зосимовой Пустыни иеромонах Алексий, вынул жребий, который выпал на митрополита Московского Тихона (Белавина), набравшего накануне меньше всего голосов. Среди русских архиереев Тихон был фигурой малопримечательной, один иностранный наблюдатель отозвался о нем как о «благочестивом простодушном монахе... насквозь проникнутом русским фатализмом и апатией»15. Церемония возведения на патриарший престол состоялась 21 ноября в Успенском соборе. А затем участники Собора приняли новый устав церкви, который послужил определенного рода компромиссом между консерваторами и реформаторами. Высшая власть в церкви принадлежала Собору, созываемому периодически, патриарх в едином лице становился высшим исполнительным органом, подчинявшимся Собору. Одной из его обязанностей было представлять церковь в сношениях со светской властью16.
Тихон твердо намеревался удерживать церковь в стороне от политики: ему нет дела до того, кто правит России, его истинное призвание — служить духовным нуждам народа. Его решимость сохранять нейтралитет доходила до того, что, когда князь Григорий Трубецкой в начале 1918 года перед отъездом на Дон в Добровольческую армию попросил благословения главнокомандующему (то есть Деникину), Тихон отказался и не уступил, даже получив заверения в сохранении этого акта в строгой тайне17. Такая политика нейтралитета по отношению к власти могла бы быть вполне оправданной, если бы действия самой власти укладывались в привычные рамки.
Но поскольку новая власть намеренно нарушала общепринятые нормы поведения, Тихон, вопреки своим наиблагим пожеланиям, вскоре оказался втянутым в самую гущу конфликта с ней.
В начале 1918 г. большевики еще не предприняли никаких открыто враждебных мер против церкви, хотя в их отношении к ней не оставалось иллюзий. Декрет о земле от 26 октября 1917 г. подразумевал, помимо прочего, национализацию церковных и монастырских земель: в европейской части России они составляли 750 тыс. акров (300 тыс. гектаров)18. А декрет от 18 декабря передавал традиционную прерогативу церкви в регистрации актов гражданского состояния светским властям. С этого времени законную силу имел лишь брак, зафиксированный государственными учреждениями. Дети внебрачные уравнивались в правах с детьми, рожденными в церковном браке19. 11 декабря все школы, включая и те, которые не получали государственных субсидий, были переданы в ведение Комиссариата народного просвещения под надзор государства20. Эти ущемления своих традиционных прерогатив церковь еще способна была снести, больше беспокоили ее сообщения о том, что правительственная комиссия работает над разработкой закона об отделении церкви от государства; прочтя сообщение об этом в прессе в январе 1918 г., митрополит Петроградский Вениамин предостерегал власти от подобного шага21. Нельзя было дольше не замечать все чаще случавшиеся нападения на духовенство со стороны солдат и матросов, которые большевики не только терпели, но и поощряли. Во многих местах церкви и монастыри разорялись, а священников избивали. В конце января 1918 г. пьяные солдаты убили митрополита Киевского Владимира. В патриаршем послании от 19 января/ 1 февраля Тихон сетовал на жестокость и ненависть, которым дали выход в России те, кого он назвал «извергами рода человеческого»: «Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани». Причастных к этим злодеяниям патриарх анафематствовал. [Введенский А.И. Церковь и государство М., 1923. С. 114—116. Непосредственным поводом этого послания послужил захват Александро-Невской лавры в Петрограде, произведенный 13 января отрядом солдат, возглавляемым большевиками. Это было сделано по наущению Александры Коллонтай (там же. С. 120—123).].
Большевики тотчас ответили декретом, в котором излагались принципы их политики в отношении религии, прерывавшие связь церкви со светской властью, установившуюся с первых дней существования Российского государства. Как и в большинстве советских законов того времени, за либерально звучавшим названием декрета намеренно скрывалась его истинная тоталитарная сущность. Первая статья «Декрета о свободе совести, церковных и религиозных обществах» объявляла об отделении церкви от государства. [Декреты советской власти. Т. 1. С. 371—374. В последующих публикациях он был переименован в декрет «Об отделении церкви от государства», под каковым именем он и известен.]. В следующих статьях всем гражданам гарантировалось право исповедовать любую религию или никакую. Многие иностранцы и все восторженные почитатели советской власти, принимая эти заявления за чистую монету, подумали, что счастливым гражданам России предоставляется беспримерная свобода вероисповедания22. Но это были пустые заверения, ибо действительный смысл декрета означал смертный приговор церковным учреждениям. В отличие от революционной Франции, где духовенство после национализации земель было поставлено на государственное жалованье, советский декрет не только лишал их казенного содержания, но и запрещал религиозным и церковным учреждениям владеть каким бы то ни было имуществом, включая церковные здания и богослужебные предметы. (Поскольку государство еще не готово было пойти на закрытие всех подряд христианских храмов, синагог и мечетей, оно позволяло местным властям передавать в бесплатное пользование религиозным общинам «здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей».) Более того, декрет запрещал церкви брать плату за требы. Духовенство, таким образом, оставалось без всяких средств к существованию. Советская конституция 1918 г. по статье 65 лишала духовенство права избирать и быть избранными в Советы23. Словно этих ущемлений в правах было мало, советские власти предпочли интерпретировать принцип отделения церкви от государства в том смысле, что духовенство не может действовать организованно, то есть как единая общенациональная церковь: попытки сообщения между общинами или признание иерархии рассматривались prima facie как бесспорное свидетельство контрреволюционных намерений. [«По смыслу декрета об отделении церкви от государства существование "церковной иерархии", как таковой, невозможно. Декрет предусматривает только существование отдельных, не объединенных между собой никакой административной властью, религиозных общин» (Известия. 1922. № 99/1538. 6 мая. С. 1).]. Дополнительные указы запрещали религиозное обучение лиц младше 18 лет24. Согласно 121 статье Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. «преподавание малолетним и несовершеннолетним религиозных вероучений в государственных или частных учебных заведениях или школах карается принудительными работами на срок до одного года»25. Ни одна из перечисленных мер не имела ничего общего с принципом отделения церкви от государства.
В ответ на новые законы церковный Собор в «Воззвании к православному народу» отметил, что «под видом отобрания церковных имуществ декрет стремится уничтожить самую возможность церковного богопочитания и богослужения», даже татары, закабалившие Россию, проявляли большее уважение к христианской вере. Собор предупреждал всех, кто помогает исполнять декрет, что они рискуют быть отлучены от церкви, и призывал верующих защитить храмы и монастыри от захвата26.
Декрет от 20 января вдохновил разгромы и разграбление храмов и монастырей, прокатившиеся по всей контролируемой большевиками территории, нередко при этом солдатам и матросам приходилось сталкиваться с упорным сопротивлением верующих, оборачивавшимся кровопролитием. По советским источникам, в период с февраля по май 1918 года в попытке защитить церковное имущество или в выступлениях верующих погибло 687 человек27.
Православная церковь и коммунистический режим вступили в состояние войны. В деревнях крестьян, уверовавших в приход антихриста и близость Страшного суда, охватил пьяный и истерический разгул28. Столкнувшись с такой ситуацией, власти воздержались от закрытия богослужебных зданий: в большинстве случаев местные советы предоставляли общинам право пользования экспроприированными православными храмами, синагогами и мечетями. Тем временем власти перенесли удар на монастыри, в которых видели оплот религиозной оппозиции и которые не пользовались такой симпатией населения. В 1918—1919 гг. они опустошили и закрыли большинство монастырей, к 1920 г. 673 монастыря были закрыты, а их владения — не только земли, но и свечные заводы, гостиницы, подворья — переданы либо крестьянам, либо государственным учреждениям29. Домовые церкви и часовни были разграблены и закрыты почти все без исключения и превращены в клубы или иные места проведения досуга трудящихся.
Тихон отошел от позиции невмешательства в политические дела в марте 1918 г., после ратификации Брестского мирного договора, воспринятого им крайне неодобрительно. «Святая Православная Церковь, — писал он, — искони помогавшая русскому народу собирать и возвеличивать государство русское, не может оставаться равнодушной при виде его гибели и разложения»30. Это было откровенно дерзкое выступление по чисто политическому мотиву.
После объявления большевиками в сентябре 1918 г. Красного террора патриарх повел себя еще решительней. 26 октября, в первую годовщину октябрьского переворота, он выступил с обращением к Совнаркому, осуждающим коммунистический режим за то, что он не дал стране ничего, кроме унизительного мира и братоубийственной войны, пролил потоки невинной крови, побудил к грабежам и лишил народ свободы. «Не наше дело судить о земной власти, — признавал патриарх, увещевая правительство, — отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук. XI, 51), и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52)»31.
Это был самый дерзкий вызов, когда либо брошенный новой власти лицом такого ранга, сравнимый с поступком митрополита Московского Филиппа, когда он пытался усовестить погрязшего во грехе Ивана Грозного и поплатился за это своей жизнью. Нам неведомо, что двигало патриархом, когда он позволил себе выступить открыто: хотел ли он поднять народ на борьбу против власти или просто исполнить свой нравственный долг. Некоторые историки, склоняясь к первому и отмечая пассивность к призывам патриарха, делали вывод о том, что послание не достигло цели32. Такие умозаключения не принимают в соображение не только обстановку необузданного террора, развязанного ЧК, но и тот факт, что сам Тихон в следующем послании (21 июля 1919) призывал христиан воздержаться от мести за мучения, которые им приходится претерпевать от рук властей33.
В ответ правительство заключило патриарха Тихона под домашний арест. Спустя три месяца, в начале октября, в советской прессе был обнародован удивительный документ — послание патриарха Тихона, в котором он наставлял духовенство держаться в стороне от политики, ибо не дело церкви разжигать братоубийственную войну. В опубликованной версии патриарх призывал всех христиан повиноваться властям: «Не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрительность Советской власти, подчиняйтесь и ее велениям»34. Эти слова были с глубокой горечью встречены в Добровольческой армии, в тот момент двигавшейся на Москву35. В действительности текст послания был существенно подправлен. Открытие советских архивов дало возможность убедиться, что Тихон определял свой призыв к послушанию властям с оговоркой — «поскольку они не противоречат вере и благочестию»36. А так как в глазах церкви любые деяния большевиков подрывали устои христианства, послание в его истинном виде приобретает совсем иной смысл.
* * *
Одновременно с подрывом экономического и юридического положения церкви власти повели наступление против самой веры. Атеистическая пропаганда, соединявшая в себе карнавальные черты со святотатством, прибегала ко всевозможным средствам воздействия: к печатному слову, карикатуре, театрализованным представлениям и пародийным религиозным церемониям.
1 марта 1919 г. в Москве развернулась кампания, направленная на развенчание культа мощей святых37. По православному представлению, мощи святых не подвержены тлению. В русских монастырях и храмах были выставлены богато украшенные раки, содержащие мощи святых, они становились местами паломничества, привлекавшими большое число верующих. При вскрытии рак, по распоряжению властей, в них обнаруживались либо скелеты, либо муляжи. Вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского, самого почитаемого русского святого, в Свято-Сергиевой Троицкой лавре произвело большую сенсацию. Результаты вскрытий подорвали престиж церкви в глазах наиболее образованной части верующих. На простых людей это, похоже, произвело обратное действие, укрепив их веру и породив множество рассказов об удивительнейших чудесах38. («Барышня, — объяснял один старый крестьянин американке, — наши святые ушли на небо и оставили вместо своих мощей тряпки и солому, когда узнали, что безбожники собираются осквернить их могилы. Это было великое чудо»39.)
К моменту, когда советское правительство предприняло резкую смену экономической политики (весна 1921), православная церковь уже утратила свои владения и привилегии. И все же она сохранила уникальный статус, оставаясь единственным институтом в Советской России (помимо крошечной в сравнении с ней Академии наук), свободным от партийного контроля. Строго говоря, с точки зрения властей, «церковь» как таковая не существовала — государство признавало отдельные религиозные общины, но не единую церковную иерархию. Всякое собрание духовенства, какова бы ни была его цель, уже само по себе было рискованно. В 1922 г. по поводу одного такого собрания «Известия» писали: «Самый факт этого собрания, помимо всех прочих данных, выплывших на процессе, свидетельствует о существовании особой "церковной" иерархии, являющейся чем-то вроде самостоятельного государства внутри Советской Республики»40. Однако по сути, если в этой статье и можно усмотреть «свидетельство» чего бы то ни было, то скорее всего, что право на любую организованную деятельность имело лишь государство.
Как мы покажем в следующей главе, по мысли Ленина, ослабление государственного надзора над экономикой в условиях перехода к нэпу в 1921 г. требовало усиления контроля в других сферах жизни государства. Именно в этом контексте следует рассматривать наступление на православную церковь, предпринятое в марте 1922 г.
Церковь к тому времени уже нашла способы сосуществования с новым режимом и не представляла для него угрозы41. Но Ленин был непревзойденный мастер провоцировать конфликты и, решившись воевать с церковью и сравнять с землей все, что осталось от ее прежней структуры, без труда нашел подходящий casus belli. Ленин издавна оттачивал искусство разжигания гражданских конфликтов. И в данном случае он вновь прибег к тактике двойного удара: изнутри — используя внутренние разногласия в стане противника, и извне — представляя фальшивые свидетельства его «контрреволюционной» деятельности. Антицерковная кампания 1922 г. должна была раз и навсегда покончить с последними проявлениями независимости религиозных институтов, другими словами — развернуть «Октябрь» в церкви, последнем осколке старого режима. И дабы преодолеть вероятное сопротивление, пятый отдел Наркомюста, ответственный за проведение этой кампании, объединил свои усилия с ЧК42.
В 1921 г. Советскую Россию поразил голод. Согласно официальным данным к марту 1922 г. более 30 млн человек страдало или умирало от голода. В стремлении помочь страждущим возникало множество частных инициатив. В июле группа гражданских лиц, специалистов по сельскому хозяйству, медиков, писателей, с разрешения правительства создали комитет, известный под именем «Помгол», с целью привлечь иностранную помощь, которую самому государству принимать было неловко. Патриарх Тихон согласился предоставить на нужды голодающих «неосвященную» церковную утварь, обычно изготовленную из драгоценных или полудрагоценных металлов. «Освященная» утварь не была включена, ибо ее использование в мирских целях воспринимается как святотатство43. Ленин быстро расправился с подобной частной инициативой, распустив комитет и арестовав его членов44. На предложение Тихона он тоже не откликнулся, ибо имел иные виды на церковные ценности. Ленина, который еще 22-летним юношей высказался против оказания помощи крестьянам Поволжья во время голода 1892 г.45, едва ли заботила судьба крестьян. Однако он изобразил крайнюю обеспокоенность с тем, чтобы поставить церковь во вдвойне сложное положение: с одной стороны, продемонстрировать ее противоречащую христианской морали алчность, с другой — приказав ей сделать то, чего она заведомо сделать не сможет, а именно распродать освященную церковную утварь в пользу голодающих, получить повод обвинить ее в непокорности государству.
Идея, по-видимому, родилась в голове Троцкого, который 30 января 1922 г. писал об этом Ленину, настаивая на том, чтобы операция, которая должна была начаться в марте, была подготовлена в полной тайне. [The Trotsky Papers. Vo'. 2. P. 670—673. Большевики подражали французским революционерам, которые в 1791 — 1794 гг. конфисковали церковную и монастырскую утварь и переплавили на монеты (Thompson J.M. The French Revolution. Oxford, 1947. P. 444—445). Биограф Троцкого Исаак Дойчер в своей книге «The Prophet Unarmed» (Oxford, 1959) ничего не говорит о роли Троцкого в этой кампании. Сам Троцкий говорит, что среди его «частных и неофициальных» занятий была и «антирелигиозная пропаганда, в которой Ленин был крайне заинтересован». Позднее, по инициативе Сталина, Троцкого в этом качестве сменил Емельян Ярославский (Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 213).]. Дабы запустить фальсифицированную волну общественного возмущения, советская пресса стала помещать статьи с требованием конфискации церковных ценностей в пользу голодающих46. Партия организовывала массовые митинги, на которых принимались резолюции о превращении «золота в хлеб»47. 23 февраля Троцкий разослал на места телеграмму с требованием прислать в Москву не менее 10 надежных рабочих и крестьян от каждой губернии, «которые могли бы от имени голодающих выдвинуть требование об обращении излишних церковных ценностей на помощь голодающим»48. Понимая, что стоит за этим, Тихон предложил собрать добровольные пожертвования на сумму, равную стоимости освященной церковной утвари, и в придачу сдать неосвященные ценности, но это предложение было отвергнуто49. Власти искали не способа справиться с голодом, а предлога расправиться с церковью.
Весь февраль коммунистические руководители обсуждали стратегию и тактику предстоящей кампании: очевидно, некоторые сомневались в ее целесообразности именно в тот момент, когда Москва стала получать международное признание50. ГПУ предостерегало Центральный Комитет о том, что конфискация церковных ценностей может вызвать «нежелательные волнения»51. Но Ленин и Троцкий настояли на своем: они преодолели возражения сомневающихся, и 26 февраля был опубликован декрет за подписью М.Калинина, занимавшего парадный пост председателя ВЦИК52. Декрет предписывал местным Советам изымать из церквей все предметы из золота, серебра и драгоценных камней, «изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа», и передать в пользу голодающих. Истинная цель этих мероприятий была не филантропическая, а политическая, ибо было понятно, что они неизбежно вызовут упорное сопротивление церкви, которое Ленин намеревался обернуть против нее же53. Проведение кампании было поручено комиссии Политбюро под председательством Троцкого.
Начало наступления было строго соотнесено с событиями на международной арене. В октябре 1921 года советское правительство через своего посла Чичерина внесло предложение о созыве международной конференции для решения вопроса о внешних долгах России. Союзники приняли инициативу, и в феврале—марте 1922 г. началась подготовка к конференции в Генуе, которая должна была явиться первым международным форумом, на который была приглашена Советская Россия. Ленин, по всей видимости, рассчитывал, что союзники не рискнут ставить вопрос о выплате долга в зависимость от судьбы Русской церкви. Если это так, то надо признать, что его расчет оказался верным.
Большую услугу ему оказало резкое и неосмотрительное поведение русского духовенства в эмиграции, возглавляемого Антонием Храповицким, который 20 ноября 1921 г. созвал в югославском городе Сремски Карловцы церковный Собор54. Самые реакционные представители православной церкви быстро овладели ситуацией на Соборе, политизировав его работу и призывая к восстановлению российской монархии. В резолюции, адресованной Союзникам, они призывали не допускать представителей Москвы на Генуэзскую конференцию, а, напротив, вооружить русских для освобождения своей родины. Несмотря на то, что митрополит Тихон и церковные иерархи в России не одобряли этой резолюции, она явилась удобным предлогом для обвинения всей православной иерархии, и в России и за границей, в контрреволюции.
Как и следовало ожидать, Тихон отказался подчиниться декрету от 26 февраля. Он заявил, что выдача освященных сосудов мирским властям есть святотатство, и угрожал мирянам, способствующим исполнению декрета, отлучением от церкви, а священнослужителям лишением сана55. За такую непокорность Тихон и его сторонники заслужили клеймо «врагов народа»56. В мае 1922 г. Тихон был снова взят под домашний арест.
Между тем во многих местах верующие, собираясь в большие толпы, иногда стихийно, иногда по призыву священника, пытались помешать насильственному изъятию ценностей. В Смоленске, например, многолюдная толпа день и ночь не покидала собор, не позволяя произвести конфискацию57. Согласно советскому источнику, в первые месяцы кампании Ревтрибунал «рассмотрел» около 250 дел о сопротивлении властям58. Известия писали о 1414 «кровавых инцидентах», связанных с противодействием изъятию церковных ценностей59. ГПУ и другие советские источники утверждали, что все эти инциденты суть не отдельные и случайные происшествия, а спланированы «черносотенной контрреволюционной организацией»60. И не только православная церковь проявляла неповиновение властям, в некоторых местах на защиту своих святынь от осквернения поднимались католики и евреи.
Один такой случай сопротивления изъятию церковных ценностей произошел в Шуе, городке в 300 километрах на север-восток от Москвы, известном своим текстильным производством. В воскресенье, 12 марта, верующие прогнали представителей властей, которые пытались вломиться в местный храм. Три дня спустя те вернулись с отрядом красноармейцев и пулеметами. В начавшейся свалке солдаты открыли огонь по преградившей им путь толпе и убили четверых или пятерых. [Известия 1922 № 70/1509 28 марта. С. 1 (РЦХИДНИ Ф. 5. Оп. 2. Д. 48. Л. 29.) В более позднем служебном донесении говорилось, что никто убит не был, но четверо солдат и 11 гражданских лиц получили ранения (там же. Л. 32).]. Эти события произвели отрезвляющее действие на советских руководителей. На заседании, состоявшемся 16 марта в отсутствие Ленина и Троцкого, Политбюро проголосовало за приостановление дальнейших конфискаций и 19 марта разослало инструкции местным партийным организациям о прекращении подобных акций впредь до последующих распоряжений61.
Ленин был болен и находился в то время за городом. Он воспользовался событиями в Шуе в качестве оправдания широкомасштабного наступления на церковную иерархию. В сверхсекретной записке членам Политбюро от 19 марта, с указанием не снимать копий, он сформулировал, как голод и сопротивление церкви конфискации ценностей можно использовать в политических и экономических целях правительства. Этот документ, впервые ставший известным благодаря публикации в эмигрантской печати в 1970 году и два десятилетия спустя воспроизведенный в официальной советской печати, так ярко отражает образ мыслей советского вождя, что достоин более пристального знакомства: «По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим планом борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20-го марта, то поэтому изложу свои соображения письменно.
Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно Роста [Российское телеграфное агентство] переслало в газеты не для печати, а именно, сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.
Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений и применений этого общего плана.
Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратегическую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь, и только теперь, громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство, в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам это не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализирование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.
<...> Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю себе следующим образом:
Официально выступить с какими то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, — никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.
<...> В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем несколько), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро дает детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.
<...> Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше <...>»62
Этот поразительный документ требует некоторых пояснений. Ленин предлагал получить выгоду от трагедии, в которой во многом была повинна его аграрная политика и которая унесла миллионы жизней, чтобы дискредитировать и уничтожить Церковь и вместе с ней то, что осталось от «буржуазии». Как в 1918 году Ленин пошел войной на деревню под предлогом необходимости накормить голодные города63, так теперь под столь же вымышленным предлогом отказа от помощи деревне во время голода мишенью стала церковь. Отобранные при этом у нее ценности должны были пойти вовсе не на борьбу с голодом, а на политические и экономические нужды режима. [Американская администрация помощи (ARA, организация по оказанию помощи странам, пострадавшим в Первой мировой войне), которая шесть месяцев спустя взяла на себя помощь голодающей России, утверждала, что нет необходимости в сборе дополнительных средств для приобретения продовольствия, «поскольку ARA располагает во всех портах и на всех дорогах, ведущих в Россию, большим объемом продовольствия, чем может осилить советский транспорт» (Szczesniak В. The Revolution and Religion. Notre Dame, Ind., 1959. P. 70).]. Ленин требовал проинструктировать суды (устно, дабы не бросить тень на себя и свой режим в случае утечки информации), чтобы они выносили побольше смертных приговоров без всякого предъявления обвинения: это был прецедент и модель для будущих расстрелов по спискам, в 30-е годы введенных в обиход Сталиным. Троцкий, которого Ленин поставил во главе антирелигиозной кампании (он был председателем Союза безбожников), из-за своего еврейского происхождения должен был держаться в тени, дабы не дать удобного повода антисемитам: ГПУ доносило Ленину о жалобах рабочих на то, что синагоги не подвергаются изъятию ценностей64. Ответственным работником, с которым в сознании людей была связана эта кампания, должен был стать Михаил Калинин, твердокаменный большевик, имевший облик типичного благодушного сельского учителя. В конце концов отчаянные попытки верующих отстоять освященные церковные сосуды были объявлены антигосударственным заговором. Вера в заговор, по-видимому, вполне искренняя, хоть и выраженная в истерической манере, говорит о том, что сознание вождя несколько пошатнулось. [Два месяца спустя Ленин перенес сильный приступ, что, впрочем, не помешало ему исполнять обязанности главы государства еще целый год, но пагубно отразилось на его способности оценивать ситуацию. Доктор, лечивший его в последней стадии болезни, отмечал, что болезнь «нередко вызывала припадки сильного раздражения, протекавшие бурно, сопровождавшиеся резко выраженным приливом крови к голове, опасным для больного, уменьшением задерживающих влияний, но что явилось естественным и неизбежным последствием глубокого склеротического поражения его сосудистой системы...» (Осипов В.П. // Красная летопись. 1927. № 2/23. С. 247)].
На следующий день Политбюро в составе Троцкого, Сталина, Каменева и секретаря ЦК Молотова во исполнение инструкций Ленина приняло решение: «В центре и в губерниях создать секретные руководящие комиссии по изъятию ценностей...
Одновременно с этим внести раскол в духовенство, проявляя в этом отношении решительную инициативу и взяв под защиту государственной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия.
Видных попов по возможности не трогать до конца кампании, но официально (под расписку через губполитотделы) предупредить их, что в случае каких-либо эксцессов они отвечают первыми...»65.
22 марта Комиссия по реализации ценностей, заседавшая под председательством Троцкого, проголосовала за продолжение изъятий и выход с изъятыми ценностями на международные рынки. Продажу должна была организовать пользующаяся дипломатической неприкосновенностью советская делегация на Генуэзской конференции, которая должна была состояться в апреле66. Красин настаивал на том, чтобы ценности продавались не случайным покупателям, а организованно: конфискованные алмазы, по его мнению, следовало продать компании Де Бирс, с которой он обсуждал эту сделку67.
Почти тотчас же начались судебные процессы. 13 апреля «Известия» сообщали, что 32 человекам предъявлено обвинение в «противодействии изъятию». В Шуе трое были приговорены к смерти68. В иных местах обвиняемые представали перед революционными трибуналами по обвинениям в «контрреволюции», попытке свергнуть советское правительство, что неотвратимо влекло смертный приговор69. Историк Д.А.Волкогонов ознакомился в архиве Ленина с его распоряжением, которым вождь требовал ежедневно ставить его в известность о числе расстрелянных священников70.
Так было положено начало печально знаменитым показательным судам — тщательно спланированным постановкам, где приговор был предопределен заранее и целью которых было унизить подсудимых и на их примере устрашить единомышленников. Тут мы имеем дело с любопытным явлением, когда жизнь подражает искусству. В 1919 г. большевистские пропагандисты изобрели и с тех пор неустанно совершенствовали особый тип театрального действа — «агитсуд». В таких спектаклях представали перед судом и получали справедливый приговор самые ненавистные властям личности и явления — «беляки», «кулаки» и «буржуи», а также еврейские школы и Священное Писание. Процессы над священниками, проходившие в 1922 г., в точности повторяли такие «агитсуды», за одним лишь исключением, а именно — приговоры были не театральными, а вполне реальными. Это послужило репетицией для сталинских показательных процессов.
В Москве перед судом предстали 54 человека, среди которых были и священники, и миряне. Суд проходил с 26 апреля по 6 мая в помещении Политехнического музея, находящегося по соседству с Лубянкой и вмещавшего 2 тыс. зрителей. Лжесвидетели из отступников-священников, принадлежавших к так называемой «Живой церкви» (о которой подробнее мы расскажем ниже), доказывали, что согласно церковным канонам выдача освященных сосудов при определенных условиях не только возможна, но и обязательна. Следуя инструкциям Ленина, процессы использовались для того, чтобы продемонстрировать, что иерархия православной церкви, в сговоре с эмигрантскими монархическими кругами, организовала «контрреволюционный заговор». Поскольку никакого такого «заговора» в действительности не было, подсудимые обвинялись в попытке противодействовать изъятию ценностей. 11 обвиняемых были приговорены к смерти за неподчинение распоряжению правительства о сдаче церковных ценностей71. Шестерым из них высшую меру заменили тюремным заключением, как говорили, по настоянию Троцкого. Остальные пятеро были расстреляны72.
За московским процессом последовал сходный процесс в Петрограде (11 июня—5 июля), где число подсудимых достигло 86. [Этот суд проходил параллельно с процессом над лидерами эсеров в Москве (см. ниже).]. Главным обвиняемым здесь был митрополит Вениамин73. Его защищал известный адвокат Я.С.Гурович. Митрополит и проходящие с ним по этому же делу обвинялись в том, что препятствовали выполнению декрета об изъятии церковных ценностей, допускали в храмах своих епархий «клеветнические проповеди» и поддерживали тайные сношения с эмигрантским церковным Собором в Карловцах. Главными свидетелями обвинения выступили священники-отступники Владимир Красницкий и Александр Веденский (будущий митрополит Московский), оба тесно связанные с ГПУ. Когда троих свидетелей со стороны защиты арестовали, больше смельчаков выступить в пользу обвиняемых не нашлось. Суд проходил в бывшем Дворянском собрании в крайне напряженной атмосфере. Приговоры, учитывая серьезность обвинения, оказались на удивление мягкими: Вениамина, как и многих его подельщиков, лишили сана. В действительности, однако, он и трое других были тайно убиты. [Регельсон Л. Трагедия русской церкви, 1917—1945. Париж, 1977. С. 308; McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Chrstianity. London, 1924. P. 52; Польский М. Новые мученики российские. Джорданвилль—Нью-Йорк, 1949. С. 56. Казнены были также архимандрит Сергий (В.П.Шеин), бывший депутат Думы, профессоры Ю.Л.Новицкий и И.М.Ковшаров (Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 298—303).]. Сообщения о казнях в печати не допускались, а иностранным журналистам было запрещено упоминать об этом в репортажах74.
Обвинения, выдвинутые на суде, были беспочвенны, а приговор заранее предопределен: как стало известно из письма Ленина от 19 марта, партийные органы указывали судам, какие им выносить решения. Советские судьи, действуя в духе уголовного кодекса 1922 г., могли отвергнуть любые неугодные им доказательства и в любом объеме, поскольку единственным критерием виновности или невиновности служили интересы государства75. Фальшь всей кампании хорошо видна из того факта, что Ленин отверг предложение Ватикана, сделанное ему 14 мая 1922 г., о выкупе всех православных и католических богослужебных предметов, предназначенных к конфискации, за любую требуемую сумму76. Кроме того, отмечалось, что в распоряжении большевиков находились драгоценные камни Российской короны, ценность которых во много раз превосходила все, что можно было взять у церкви, и, если бы большевики действительно заботились о голодающих, они могли бы продать их за границу. [McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 8. В марте 1922 года Ленину доложили, что в Оружейной палате Московского Кремля обнаружили драгоценности, стоимость которых, по оценкам экспертов, превосходила 3 миллиона золотых рублей (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1165). В 1923 г. советское правительство намеревалось пустить часть этих драгоценностей за поставки германского оружия (Muller R.D. Das Tor zur Weltmacht. Boppard am Rhein, 1984. S. 118—119)].
Кампания против церкви часто принимала форму самосудов и преследований со стороны ЧК, в чем убеждают даже отрывочные, случайно дошедшие до нас свидетельства. Существуют жуткие рассказы об издевательствах и истязаниях, которым подверглись некоторые известные духовные лица. Архиепископу Пермскому Андронику вырезали щеки, отрезали нос и уши и выкололи глаза, в таком виде провезли по городу, а затем бросили в реку. Гермогена Тобольского бросили в воду с камнем на шее77. В 1920 г. Тихон говорил, что, насколько ему известно, начиная с 1917 г. погибло 322 епископа и священника78. В 1925 г. незадолго до своей смерти он рассказал одному посетившему его англичанину, что около 100 архиереев и 10 тыс. священников находятся в тюрьмах и ссылках. [Mackenzie F.A. The Russian Crucifixion. London, n.d. P. 84. Согласно Маккензи, официальный список насчитывал 117 митрополитов, архиепископов и епископов, находящихся в тюрьмах или ссылках на 1 апреля 1927 г.]. Существует опубликованный список с именами 18 убитых или казненных епископов. Английский журналист установил, что антицерковная кампания стоила жизни 28 епископам и 1215 священникам79. Недавно ставшие доступными свидетельства говорят о том, что в течение 1922 года в столкновениях из-за церковных ценностей погибло или было казнено более 8 тыс. человек80. Среди жертв были и евреи, на которых пал народный гнев за осквернение святынь, вылившийся в еврейские погромы в Смоленске, Вятке и других местах. [Szczesniak В. The Russian Revolution and Religion. P. 70. В многих случаях зловещая роль евреев в антицерковных акциях намеренно выпячивалась большевиками: именно евреев посылали осквернять храмы. «В некоторых случаях, мне известных, — писал Максим Горький — юные евреи-коммунисты были нарочито вовлечены в эти акты для того, чтобы обыватель и мужик видел: именно евреи разоряют монастыри, издеваются над "святынями". Мне кажется, что это делалось отчасти из опасения, отчасти же с явной целью скомпрометировать еврейство. Делалось это антисемитами, которых немало и среди коммунистов» (Новое русское слово. 1954. №15559. 2 дек. С. 3)].
В сентябре 1922 г. власти объявили, что кампания по сбору церковных ценностей принесла 8 триллионов рублей в дензнаках и что эти деньги пошли на закупку продовольствия голодающим81. Но это были пустые цифры и лживые уверения. В конце года «Известия» в иных тонах характеризовали эффективность кампании: результат, названный «до смешного пустяковым», исчислялся 23 997 пудами серебра и небольшим количеством золота и жемчуга, в денежном выражении равный сумме от 4 до 10 млн. долларов — по-видимому, наиболее отвечает действительности именно низший предел. [Известия. 1922. № 2S7/1726. 19 дек. С. 3; № 197/1636. 3 сент. С. 4. При стоимости серебра от 52 до 74 центов за унцию сумма должна была равняться приблизительно 8 млн долларов. McCullagh F. (The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 8) исчисляет ее равной 1650000 фунтов стерлингов, что более или менее соответствует выше приведенной цифре. Луи Фишер (Current History. July 1923. P. 594) приводит официальную статистику, дающую цифру порядка 5 млн. долларов. Согласно Уолтеру Дюранте, «почти невозможно» получить точные цифры, но, судя по всему, «было реализовано не более 4 млн долларов а скорее всего — много меньше» (New York Times. 1922. October 16. P. 4).]. И хорошо, если хоть ничтожная доля этого пошла на борьбу с голодом.
Не может не удивлять и не поражать то, что все эти бесчинства учинили сами русские, при всем своем глубоком религиозном чувстве, и это не вызвало массового протеста населения: «История должна отметить тот факт, что в 1922 году русские православные солдаты громили церкви по призыву правительства, состоящего исключительно из атеистов и врагов церкви. Они скидывали в мешки священную утварь, в сверхъестественную силу которой верили еще десять лет назад. Они хватали священников, которых всего десять лет назад почитали за чудотворцев, способных повергнуть их в прах одним своим проклятием. Они расстреливали своих единоверцев за попытку защитить храмы; наконец, они расстреливали слуг Божиих. Нелепо говорить, будто во всем этом повинны евреи, латыши и китайцы; люди, совершившие все это, были, к несчастью, русскими, и более того, народ в целом не выразил особого недовольства, не поднялся на всенародное восстание, как того можно было ожидать»82.
Кампания против церкви сопровождалась новым антирелигиозным выступлением. В декабре 1922 г., в канун Рождества, правительство с помощью комсомола предприняло попытку дискредитации религиозных праздников. Во многих крупных городах устраивались сатирические театрализованные представления, высмеивающие церковные обряды. Самым популярным из них было так называемое «комсомольское рождество». В канун Рождества комсомольские ячейки получили указания от ЦК комсомола «проводить массовые карнавалы»83. В ночь на 6 января 1923 г. и на следующий день, когда православный мир отмечал Рождество (по старому стилю), на улицы с плакатами высыпали шумные толпы молодежи, глумясь над идущей в храмах службой. Вот как описывал это корреспондент «Известий»: «Невиданное зрелище узрела богобоязненная московская обывательщина. От Садовой до площади Революции протянулось нескончаемое шествие богов и жрецов мира... Здесь и желтый Будда с подкорченными ногами и благословляющими руками, изможденно-плутоватый и раскосый, и вавилонский Мардук, и православная богородица. Китайские бонзы, католические попы, в желтой тиаре римский папа, благословляющий новых своих адептов с пестрого автомобиля, протестантский пастор на длинном шесте... Русский поп в типичной епитрахили предлагает за небольшую мзду перевенчать кого угодно. А вот монах верхом на черном гробе с мощами. Он тоже выхваляет свой товар для невзыскательного покупателя. Еврейский раввин-кантор, воздевая руки, печально-истошным голосом рассказывает о том, как у попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса. Раввин показывает на собственной ладони, какой это был большой кусок мяса. Ах, он ее убил... Стройной колонной проходят молодые девушки, мелькая разрумяненными на морозе лицами. Мерзлый пар вырывается вместе с звуками песни:
Не надо нам раввинов, не надо нам попов.
Бей буржуазию, дави кулаков»84.
По мнению корреспондента, это представление, устроенное в один из самых священных для христиан дней, было историческим событием не только для Москвы и не только для Советской России в целом, но и для всего человечества.
Подобные «карнавалы» прошли и в других городах, как правило, в виду церкви во время всенощной. В Гомеле, городе со смешанным населением, в местном театре был устроен «суд» над православными, католическими и иудейскими «богами», представшими перед публикой в виде чучел. Судьи при шумной поддержке зрителей приговорили их к сожжению, которое и состоялось на следующий день, в Рождество, на городской площади85.
Антирелигиозная кампания не пощадила даже невинной детской веры в Святого Николая и ангелов, видя в ней символ «закрепощения детского сознания». И чтобы вытеснить эти упаднические суеверия, власти устраивали в Сочельник театрализованные представления, где детей потчевали «сатирами на Лозаннскую конференцию, правительство Керенского и буржуазную жизнь за границей»86.
Следующей весной подобным издевательским образом встречали праздник Пасхи. Затем наиболее почитаемый еврейский праздник Йом-Кипур87. Такие представления вкупе с карикатурами и плакатами, выполненными в намеренно вульгарной, шокирующей манере, нарушающие глубоко укоренившиеся нравственные запреты, производили эффект, близкий к порнографии.
Хотя коммунистическая пресса утверждала, что такая продукция с энтузиазмом встречена широкими массами, в действительности дело обстояло иначе. Г.П.Федотов, социал-демократ, обратившийся к богословию, так описывал сатирическую рождественскую процессию в Москве: «Население, и не только верующие, наблюдали этот отвратительный карнавал в немом ужасе. На безмолвных улицах не слышно было возмущения — годы террора сделали свое дело — но, сталкиваясь с этой невообразимой процессией, всякий спешил свернуть в сторону. Я лично, как очевидец московского карнавала, могу поручиться, что в них не было ни капли народного веселья. Парад продвигался по пустынным улицам, и его попытки вызвать смех или гнев встречались мрачным молчанием со стороны случайных свидетелей»88.
О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует решение партии о прекращении подобной деятельности. Резолюция, принятая XII съездом в марте 1923 года, требовала, чтобы атеисты воздержались от оскорбления чувств верующих, поскольку их насмешки приводят только к «закреплению религиозного фанатизма»89. Это была очевидная победа тактики Луначарского над приемами Емельяна Ярославского.
Хотя декрет об отделении церкви от государства даровал каждому гражданину свободу вероисповедания, исполнение религиозных потребностей в публичных местах запрещалось. Не дозволялось совершать церковные обряды даже на похоронах. Традиционные церковные праздники стали будничными рабочими днями. Им на смену пришли гражданские праздники: Новый год, годовщина Кровавого воскресенья (22 января) и Февральской революции (12 марта), день Парижской коммуны (18 марта), Международный день трудящихся (1 мая) и годовщина Октябрьской революции (7 ноября)90.
В 1922 г. вышла в свет ежедневная газета «Безбожник» под редакцией Ем. Ярославского, за которой в 1923 г. последовал еженедельник с тем же названием — в конце концов оба издания слились. В них публиковались короткие статьи и грубые карикатуры, высмеивающие религиозную веру и обряды: в отношении евреев они не чурались антисемитских стереотипов, предвосхитив нацистский «Stunner». Симпатизирующие направлению газеты приглашались вступать в Союз безбожников, образованный тогда же.
* * *
Суды над священниками и антирелигиозная пропаганда представляли собой лишь два внешних фланга широкомасштабной атеистической кампании. Другой фронт — внутренний — создавался путем углубления противоречий между реформаторским меньшинством и консервативным большинством в среде духовенства, с одной стороны, и между приходским духовенством и монашествующим, с другой. Излюбленная большевистская тактика «разделяй и властвуй» была узаконена решением Политбюро от 20 марта, предписывающим «внести раскол в духовенство». Исполняя это решение, власти опирались на те элементы в лоне православной церкви, которые по тем или иным причинам были недовольны ее руководством. Центральный комитет предписывал местным партийным организациям «взять под защиту государственной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия». «Политическая задача, — писал ЦК РКП(б), — состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретнейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства, поскольку эти верхи осмеливаются восставать против него»91.
Во исполнение этой директивы партии власти породили и вскармливали раскольное, обновленческое движение, известное как «Живая церковь». Идея расколоть церковную иерархию принадлежит, по-видимому, Луначарскому, который писал Ленину в мае 1921 г. об архиепископе Владимире, священнике-отступнике, расстриженном за, как выразился автор письма, «церковный большевизм». По словам Луначарского, Владимир предлагал воспользоваться расколом среди духовенства во благо революции и ради примирения с советским правительством92. В то время это предложение, как видно, не встретило должной поддержки. Почти год спустя, 12 марта 1922 г., Троцкий вновь поднимает этот вопрос: он предлагает внести раскол в церковь, воспользовавшись проблемой изъятия ценностей и привлекая сочувствующее советской власти духовенство к участию в конфискации93. На следующий день Политбюро это предложение одобрило. В конце марта с целью сначала обвинить церковную иерархию в преступлениях против властей и человечности, а затем отстранить ее от руководства церковью «Живой церкви» было, так сказать, дано право на жизнь94. Весьма разнообразная по своему составу, «Живая церковь» включала реформаторов-обновленцев, стремящихся привести церковную жизнь в соответствие с социальными переменами, произошедшими в России с 1917 г., в «Живую церковь» устремилось и приходское духовенство, недовольное исключительным правом монашествующих на продвижение по служебной лестнице, а центральным пунктом программы «Живой церкви» было снятие запрета для женатого духовенства на вступление в архиерейский сан. Были и просто отступники-оппортунисты, подкупленные властями95. Среди последних оказалось немало монархистов и черносотенцев: один из лидеров живоцерковников в период дела Бейлиса в 1913 г. был среди сторонников «кровавого навета», то есть обвинения евреев в том, что они используют в ритуальных целях христианскую кровь96.
«Живой церкви», эквиваленту левоэсеровской организации в 1917—1918 гг., была предназначена роль совершить переворот в церкви. В середине мая 1922 г. несколько священников-коллаборационистов посетили находящегося под домашним арестом в Троице-Сергиевой лавре патриарха Тихона. Они потребовали от него созыва Собора, а до этого времени устранения от всякого участия в делах. Мотивировалось это требование тем, что его клеветнические послания уже стоили жизни одиннадцати священникам, приговоренным к смертной казни в Москве, а также тем, что, находясь под арестом, он не может в полной мере осуществлять своих полномочий. Тихон ответил, что он никогда не искал патриаршества и с радостью откажется от него, если на то будет воля Собора. В тот же день он направил митрополиту Ярославскому Агафангелу послание, в котором объявлял, что «вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения <его> к гражданскому суду», он ставит Агафангела во главе церковного управления до созыва Собора97. Советская пресса по-своему исказила этот акт, придав ему значение отречения98. Когда же митрополит Агафангел дал понять, что не собирается сотрудничать с узурпаторами, ему не дали приехать в Москву и приступить к своим обязанностям; впоследствии он был арестован и сослан в Сибирь. Присущую патриарху власть присвоил себе церковный орган, именуемый Высшим церковным управлением и состоящий из деятелей «Живой церкви». 20 мая эта организация захватила патриаршую резиденцию и канцелярию. Это было не что иное, как церковный переворот. Руководство Высшим церковным управлением — отголоском отжившего свой век Святейшего Синода при царском режиме — осуществлялось «Живой церковью» номинально под контролем ЦИКа, а в действительности ГПУ, в котором был создан особый отдел по церковным делам: таким образом, церковная администрация стала чем-то вроде отдела государственной службы безопасности. Протесты из-за границы по поводу этого либо игнорировались, либо объявлялись недопустимым вмешательством во внутренние дела Советской России. Троцкий охарактеризовал протест британского духовенства, которое возглавил архиепископ Кентерберийский, «как продиктованный узкокастовой солидарностью, целиком направленный против действительных интересов народа и элементарных требований человечности»99.
Развернулась громкая публичная кампания, призывающая к отмене патриаршества и внушившая такой страх некоторым архиереям, что они примкнули к «Живой церкви». Те же, кто не признавал незаконную иерархию, подвергались аресту и заменялись более сговорчивыми священнослужителями. К августу 1922 г. православная церковь оказалась расколотой: из 143 епископов 37 поддерживали «Живую церковь», 36 не признавали ее, а остальные 70 стояли на распутье100. В том же августе «Живая церковь» провела съезд, одним из участников которого был В.Н.Львов, обер-прокурор Святейшего Синода во Временном правительстве и участник спора между Керенским и Корниловым101.
Готовый принять мученическую кончину, патриарх Тихон не уступал. В декабре 1922 г. он предал анафеме Высшее церковное управление и «всех имеющих с ним какое-либо общение» как «учреждение антихриста» и благословлял христиан принять геройскую смерть в защиту истинной церкви102. Патриаршая церковь стала вне закона и ушла в подполье.
Крайнее раболепие «Живой церкви» перед режимом проявилось в постановлениях Второго Поместного собора, который был созван в апреле 1923 г. и состоял по преимуществу из ее приверженцев (из 430 делегатов 385 представляли различные ответвления «обновленческого» движения)103. Собор приветствовал Октябрьскую революцию как «христианское творение» за ее борьбу с капитализмом, отверг возводимые на большевиков обвинения в преследовании церкви и проголосовал за выражение благодарности Ленину как «мировому вождю» и «вождю борцов за великую социальную правду». Советское правительство, заявлялось на Соборе, есть единственное в мире правительство, которое стремится осуществить на земле «идеалы Царства Божьего». Обвиняя Тихона в том, что он возглавил контрреволюционный заговор, Собор формально сместил его, не дав даже возможности высказаться, и упразднил патриаршество. Он даровал епископам право жениться, а овдовевшим священникам сочетаться вторым браком104.
В силу тяжести обвинений, выдвинутых против патриарха Тихона, ожидалось, что ему неотвратимо придется предстать перед судом и что именно таково намерение правительства. Но после месяца пребывания в тюрьме ГПУ он был отпущен на свободу. Служебное донесение начальника одного из отделов ГПУ, в сферу деятельности которого входило наблюдение за духовенством, позволяет предположить, что Тихон пошел на сотрудничество с большевиками ради сохранения власти в церкви и предотвращения гибельного раскола105. С той поры он стал крайне сговорчив и подписывал любой документ, предложенный ему. 16 июня 1923 г. он направил властям послание, почти наверняка составленное кем-то другим: он признавал справедливость обвинений, приведших к его аресту, и отрекался от своего «антисоветского» прошлого. Он также снял анафему, которой предал в декабре прошлого года «Живую церковь», заявив, что это была фальшивка106. В награду за это Тихона полностью реабилитировали и позволили вновь открыть патриаршие церкви.
Патриарх Тихон скончался в апреле 1925 г. от сердечного приступа, оставив завещание, в котором он прославляет Советское государство за предоставление полной свободы вероисповедания и призывает христиан оказывать поддержку советской власти, потому что она «действительно народная, рабочая и крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая»107.
По мнению одного русского богослова, при всей своей революционности именно «Живая церковь» представляла «старый, традиционный церковный уклад»108, возрождая издавнее подчинение церкви государству. С этой точки зрения, наоборот, патриаршая церковь, стремясь к независимости и самоуправлению, выступала за обновление.
«Живая церковь» была создана лишь с одной целью: расколоть и низвергнуть существующую церковь. Когда цель была достигнута, а это случилось вслед за капитуляцией патриарха Тихона, деятельность обновленцев потеряла смысл. Зная, что «Живая церковь» не пользуется никаким уважением в народе, власти перестали ее поддерживать. Вскоре она сошла со сцены и окончательно исчезла в начале 30-х, когда были арестованы ее лидеры.
Представители иных христианских сект (как, например, баптисты) — сектанты — пользовались сравнительно толерантным отношением властей к себе: большевики верили, что притесняемые царским режимом и официальной церковью, они будут более сочувственно относиться к новой власти109.
* * *
Хотя многие христиане были убеждены, что виновниками обрушившихся на них гонений были евреи и призывы духовенства к сопротивлению во многих местах сопровождались антисемитскими выходками, иудаистские религиозные институты тоже страдали от большевистской антирелигиозной политики. Немыслимо, разумеется, определить степень страданий представителей той или иной религии, лишенных возможности исполнять свои обряды. Однако в определенном смысле можно сказать, что евреи претерпели от большевистской политики больше, чем христиане, поскольку их религиозные институции служили не только для совершения обрядов и обучения детей, но были средоточием всей жизни еврейской общины: «Для евреев удар по религиозной жизни был особенно жесток и губителен, поскольку еврейская вера и обычаи пронизывали все стороны их повседневной жизни и были исполнены национальных ценностей и переживаний... Семейные отношения, работа, молитва, учеба, отдых и культура — все это сплеталось в неразрывную сеть, ни одной нити которой нельзя было затронуть, не всколыхнув ее всю»110.
Государственный атеизм раздирал самую ткань социальной и культурной жизни подавляющего большинства евреев, которые проживали в местечках, сохраняя традиционный уклад жизни. У русского человека, лишенного возможности посещать церковь, оставалась литература и вообще все окружающее культурное пространство; правоверный еврей без своей Торы, Пророков и Талмуда оказывался словно на пустыре.
Декрет от 20 января 1918 г. об отношениях между церковью и государством поначалу не так болезненно отозвался на евреях, как на православных христианах, поскольку им и прежде никогда не доводилось пользоваться государственными субсидиями или такой роскошью, как обязательное религиозное воспитание в школах. Да и в синагогах не хранилось никаких особых ценностей, на которые могли бы покуситься власти. Тем не менее, по смыслу этого декрета синагоги со всем их содержимым становились точно таким же объектом интереса властей, как и церкви. Согласно инструкциям 1918— 1919 гг., достаточно было местным Советам решить, что испытывается недостаток в помещениях для жилых, школьных или медицинских целей или просто такова воля «народных масс», чтобы обратить молитвенные дома на гражданские нужды111. На практике, как и церкви, до 1922 г. большинство синагог оставались нетронутыми.
Когда в начале 1922 г. было решено, что настал подходящий момент для широкого наступления на религию, большевики прибегли в отношении еврейских общин к той же испытанной тактике «разделяй и властвуй». Если в кампании против православной церкви они воспользовались разногласиями между реформаторами и консерваторами в среде духовенства, а также между приходским духовенством и монашествующим, в отношении евреев они пытались извлечь пользу из вечной вражды евреев-социалистов с раввинами и синагогами. Главной опорой в этом им послужил Бунд, еврейская секция социал-демократической партии. После Февральской революции бундовцы оказались отвергнутыми как правоверными их соплеменниками, так и теми, кто, не слишком строго блюдя еврейские религиозные традиции, исповедовал принципы сионизма. Поначалу бундовцы не поддержали октябрьский переворот, однако, оказавшись в изоляции, они стали тяготеть к большевизму. Именно их посредничеством и воспользовались в 20-е годы власти, чтобы разрушить еврейскую общину. Бундовцы попирали религию своих отцов с особым рвением, дабы на деле доказать несправедливость антисемитских подозрений. Вот пример того, как рассуждала обратившаяся к коммунизму член Бунда: «Если русским однажды западет в голову, что мы небеспристрастны к евреям, то евреям придется туго. На благо евреям мы должны быть абсолютно объективны в отношении к духовенству, равно еврейскому или нееврейскому. Опасность состоит в том, что массы могут подумать, будто антирелигиозная пропаганда не затрагивает иудаизма, и, значит, еврейским коммунистам нужно быть еще беспощаднее к раввинам, чем нееврейским коммунистам к своим священникам». [Bogen B.D. Born a Jew. New York, 1930. P. 329. Автор приведенного рассуждения, Эстер Фрумкин, была арестована в 1938 г. и сгинула в сталинских лагерях (Gitelman Z. A Century of Ambivalence. New York, 1988. P. 110)].
Наблюдая за неистовством евреев-коммунистов, один еврей заметил: «Хотел бы я видеть, чтобы русские коммунисты так врывались в монастыри в святые дни, как это делают еврейские коммунисты в Йом-Кипур»112.
По аналогии с «Живой церковью» власти стали создавать «Еврейские секции» (евсекции) Российской коммунистической партии. Подавляя свою неприязнь к еврейскому национализму (ибо он не считал евреев настоящей нацией), Ленин в конце 1918 г. согласился в качестве пропагандистского приема организовать особые отделения Российской компартии, дабы нести революцию в еврейские массы. Их назначением было «разрушение традиционной еврейской жизни, сионистского движения и еврейской культуры»113. Их членами состояли в основном бывшие бундовцы, которые в 1920 г. приняли коммунистическую программу, а в марте 1921 г. вошли в Компартию114.
Евсекции начали свою разрушительную деятельность летом 1919 г., следуя распоряжениям Центрального еврейского комиссариата относительно упразднения кагалов, традиционных еврейских органов самоуправления. Сопротивление этому было упорным и во многих случаях вполне эффективным, ибо в отдельных местах кагалы просуществовали вплоть до конца 20-х. Со временем все еврейские культурные и общественные организации подверглись гонениям. В 1922 г., разворачивая наступление на православную церковь, партия не забывала и об иудаизме. Задумали и осуществляли эту травлю сами евреи: «Евсекция ревниво оберегала свое исключительное право на преследование иудаизма»115. Арсенал приемов был привычный: собрания и представления, якобы стихийные, но в действительности тщательно спланированные, призывающие к закрытию религиозных училищ; срыв религиозных церемоний в праздничные дни; статьи, высмеивающие еврейские обычаи, не далеко ушедшие от обычных антисемитских штампов; и издевательские «суды» над религиозными школами и обычаями.
«На Рош-Хашан [еврейский праздник Нового года] в 1921 г. в Киеве был устроен «суд» над иудаизмом, по иронии судьбы разыгранный в том самом помещении, в котором проходил суд над Бейлисом. Перед «судьями» прошел странный ряд «свидетелей»: «раввин», торжественно сознавшийся, что он обучал религии с целью держать массы в невежестве и раболепии; тучный «буржуй», увешанный сверкающими драгоценностями, приводил свидетельства о союзе эксплуататоров с иудаизмом. «Прокурор» <...> потребовал «приговорить к смерти еврейскую религию». Еврей-учитель, выступивший из зала в защиту иудаизма, был арестован на месте. Когда «судьи» возвратились из совещательной комнаты и огласили смертный приговор, это ни для кого не явилось неожиданностью»116.
В ознаменование «освобождения» евреев от капитализма публиковались «Красные Хаггады». В Гомеле в июле 1922 г. «евреи-клерикалы», воспротивившиеся закрытию хедера (религиозной школы), предстали перед судом117 .
По-видимому, самый первый случай захвата здания синагоги произошел в 1921 г. в Витебске, когда власти решили, что синагог в городе слишком много, и распорядились закрыть их и передать в собственность государства. Правоверные евреи окружили обреченные синагоги, но их оттеснили всадники, а затем здания были превращены в партийный «университет» и клуб, столовую и общежитие118. Вскоре в Минске, Гомеле и Харькове большие, так называемые «хоральные», синагоги были конфискованы и превращены в коммунистические клубы и столовые119.
«Схема была почти повсюду одинаковая. Евсекция устраивала собрания "рабочих", в основном беспартийных членов профсоюза, по месту работы. Резолюции принимались "единогласно" от имени "всех трудящихся" с требованием превратить синагоги, которые объявлялись непосещаемыми и бездействующими, "служащими гнездом контрреволюции" или местом сбора спекулянтов, в рабочие клубы или иные учреждения. Местные власти, разумеется, прислушивались к "желаниям трудящихся" и спешили их удовлетворить»120.
Ценности, хранившиеся в синагогах, разграблялись, Торы, извлеченные из ковчега Завета сваливались в помойные ямы; в некоторых местах молитвенные дома подверглись осквернению.
В расколе еврейского духовенства коммунисты преуспели меньше, чем в православии. Ничего, что бы могло соответствовать движению «Живой церкви», в раввинате не возникло. Из тысячи раввинов в Советской России только шестеро выражали симпатии к коммунизму121. Случаев, когда еврейские духовные лица возводили обвинения друг на друга перед властями, как это часто было в среде православных священников, практически не известно.
После появления резолюции XII съезда партии, требовавшей проявлять большее уважение к чувствам верующих, конфискация синагог, как и церквей, прекратилась. Но ненадолго. Антирелигиозное наступление возобновилось в 1927 г., и к концу 30-х годов не осталось ни одной действующей синагоги. А совершение религиозных обрядов на дому каралось законом.
Особенно ущемлены были евреи запрещением использовать и учить древнееврейский язык религиозных служб и сионистского движения. Советские власти поначалу не находили никакого вреда в иврите, не видели в нем никакой угрозы, но коммунисты из евсекции убедили их в том, что это язык еврейской «буржуазии». В 1919 г. еврейские издательства были национализированы. Вскоре исчезли все следы публикаций на иврите. К середине 20-х иврит был уже вне закона и изучался подпольно в частном порядке. Идиш, который бундовцы считали истинным языком масс, был объявлен национальным языком еврейского народа, и, хотя этот язык был широко распространен в повседневной жизни, он едва ли мог стать краеугольным камнем высокой национальной культуры.
Евсекция использовала свое положение и власть в споре со своими соперниками-сионистами. Чтобы заручиться поддержкой режима, не имевшего своего мнения на этот счет, они объявили евреев, стремящихся уехать в Палестину, где собирались заниматься земледелием, «буржуями» и «контрреволюционерами». Упорство, с которым коммунистические власти преследовали сионистов начиная с 1919 г., было инспирировано разногласиями в еврейской среде, ибо, хотя Ленин отвергал идею еврейской нации и сионистскую идеологию, на нее опирающуюся, в первый год после революции сионисты не привлекали его внимания. Гонения начались под влиянием бундовцев, которые ухватились за возможность расправиться с соперничающим движением, имевшим несравненно больше сторонников. В сентябре 1919 г. евсекции закрыли Центральное бюро сионистов, и в течение следующего года ЧК арестовала и выслала многих деятелей сионистского движения. В 1922 г. возобновилась кампания арестов и судов, прокатившихся по городам России и Украины. В сентябре 1924 г. прошли массовые аресты, жертвами которых стали несколько тысяч активистов сионизма. Однако корни сионизма были столь глубоки, что при всех гонениях движению еще несколько лет удавалось просуществовать в подполье.
В конце концов евсекции ожидала та же судьба, что и «Живую церковь»: в декабре 1929 г. они были ликвидированы на том основании, что нет необходимости в отдельных организациях для еврейского «пролетариата»122. Бывшие сотрудники евсекции в 1937 г. подверглись «чистке» и исчезли из поля зрения123. Председатель евсекции Семен Диманштейн был расстрелян.
* * *
Католическая церковь тоже не избежала репрессий. 21 марта 1923 г. власти устроили в Петрограде суд над польским архиепископом Яном Цепляком и 15 католическими священниками, тоже в основном поляками. Им предъявили обвинение в «контрреволюционной» деятельности и противодействии изъятию ценностей124. Этим представлением руководил Николай Крыленко, прокурор Российской Республики, год назад выступавший обвинителем по делу эсеров (см. ниже). Крыленко обвинил подсудимых в том, что они ставят каноническое право выше законов государства и ведут религиозное воспитание молодежи. Архиепископ Цепляк и каноник костела Св. Екатерины в Петрограде Константин Будкевич были приговорены к высшей мере. Под влиянием поднявшейся за рубежом волны протестов, особенно сильных в Польше, которая заявила, что суд нарушает условия Рижского договора, гарантировавшего соблюдение религиозных прав поляков в Советской России, Москва смягчила приговор, заменив архиепископу смертную казнь тюремным заключением. В конце концов его освободили и разрешили уехать в Польшу. Будкевич был расстрелян.
* * *
Из трех основных религий, распространенных на территории Советского государства, наименьшие испытания выпали на долю мусульман. Сравнительно мягкое обхождение с ними объяснялось политическими соображениями, а именно опасением настроить против себя колониальные народы, игравшие ключевую роль в стратегии Коминтерна, поскольку в деле подрыва «империализма» делалась ставка на мусульман Ближнего Востока. Султан Галиев, ведущий специалист по этому вопросу, предостерегал Москву, что антирелигиозная пропаганда среди мусульман должна проводиться весьма осмотрительно, не только из-за их фанатичной веры, но и потому, что исламский мир воспринимает себя «одним нераздельным и единым целым» и в притеснении каждого отдельного правоверного видит оскорбление всему исламу125. Существовала также опасность, что мусульмане России могут расценить антиисламскую пропаганду как возрождение прежней дореволюционной христианской миссионерской деятельности126.
Руководствуясь такими соображениями, советские власти воздержались от прямой атаки на мусульманские учреждения. В конституциях, данных советским мусульманским республикам, проявилось гораздо более терпимое отношение к исламу, чем к христианству или иудаизму в трех славянских республиках. Пропаганда атеизма не была обязательной, и муллы обладали всеми гражданскими правами, включая участие в выборах. Не запрещалось религиозное воспитание молодежи, и религиозным школам позволялось сохранять свое имущество. Исламские суды по-прежнему могли рассматривать гражданские и уголовные дела. Этими привилегиями мусульманские духовные лица пользовались вплоть до конца 20-х годов127.
* * *
Эффект, который возымели гонения на чувства и практику верующих в первое десятилетие коммунистического режима, трудно определить. Существует, однако, множество косвенных свидетельств того, что верующие продолжали соблюдать религиозные обряды и обычаи, относясь к коммунистам так, словно они были завоеватели-басурмане. Хотя на соблюдение религиозных праздников был наложен запрет, строго осуществить его оказалось невозможно. Уже в 1918 г. рабочие выхлопотали себе право праздновать Пасху, при условии, что они прекратят работу не более чем на пять дней128. Позднее власти позволили не работать и на Рождество, отмечаемое как по старому, так и по новому стилю129. Есть сообщения о крестных ходах в столице и губернских городах. В деревне религиозные обряды соблюдались повсеместно. Игнорируя советское законодательство, крестьяне признавали законным только брак, скрепленный церковным обрядом венчания130.
Религиозное чувство, заметно притупившееся в 1917 г. вслед за охлаждением монархических настроений, вспыхнуло с новой силой весной 1918 г., когда многие христиане шли на мученическую смерть, открыто выступая за веру, выходя на митинги протеста, и, не таясь, соблюдали религиозные праздники. С каждым годом не угасавший огонь веры разгорался все сильнее: в 1920 г. «храмы наполнялись молящимися, при этом среди молящихся не было того преобладания женского пола, которое замечалось до революции. Исповедь получила особое значение <...> Церковные праздники привлекали колоссальное количество народа. Церковная жизнь в 1920 году восстановилась полностью, а быть может, стала даже насыщенней, чем прежде, до революции. Вне всякого сомнения, внутренний рост церковного самосознания верующего русского общества достиг такой высоты, равной которой не было за последние два столетия русской церковной жизни»131.
В разговоре с американским журналистом в том же году Тихон подтвердил справедливость этого наблюдения, говоря, что «влияние церкви на жизнь народа сильнее, чем когда-либо во всей ее истории»132. Вывод, к которому пришел в 1926 г. один хорошо осведомленный наблюдатель — церковь вышла победительницей из схватки с коммунистами, — говорит о том же: «Единственное, чего достигли большевики, это ослабления иерархии и раскола церкви»133.
Но впереди церковь ждали испытания, равных которым история еще не знала.
ГЛАВА 8. НЭП, ИЛИ ЛЖЕТЕРМИДОР
Термидором назывался месяц июль во французском революционном календаре, когда наступил конец якобинскому правлению, уступившему место более умеренному режиму. Для марксистов этот термин символизировал триумф контрреволюции, в конце концов приведший к реставрации Бурбонов. Такое развитие событий у себя в стране большевики во что бы то ни стало стремились предотвратить. Когда в марте 1921 г. перед лицом хозяйственного кризиса и массовых возмущений Ленин вынужден был пойти на крутой поворот в экономической политике, выразившийся в значительных уступках частному предпринимательству, то есть следовать курсу, ставшему известным под названием новой экономической политики или нэпа, многие и в России и за границей поверили, что русская революция тоже вступила в фазу Термидора1.
Историческая аналогия оказалась в данном случае неприменима. И самое первое и очевидное различие между 1794 и 1921 гг. состоит в том, что если во Франции во время Термидора якобинцы были свергнуты, а их вожди уничтожены, то в России именно якобинцы — в их советском исполнении — создали и проводили новый, умеренный курс. И делали они это с сознанием, что нынешнее отступление — явление временное: «Я прошу вас, товарищи, ясно понимать, — говорил Зиновьев в декабре 1921 г., — что новая экономическая политика есть лишь временное отклонение, тактическое отступление, освобождение земли для новой и решительной атаки труда на фронт международного капитализма»2. Ленин любил сравнивать нэп с Брест-Литовским договором, который в свое время тоже ошибочно воспринимался как уступка германскому «империализму», но был всего лишь одним шагом назад: как бы долго это ни продлилось, но «не навсегда»3.
Во-вторых, в отличие от французского Термидора, при нэпе либерализация не пошла дальше экономической сферы: «Как правящая партия, — говорил Троцкий в 1922 г., — мы можем допустить спекулянта в хозяйство, но в политическую область мы его не допускаем»4. Действительно, намеренно стремясь предотвратить скатывание от ограниченного капитализма, допускавшегося при нэпе, к реставрации капитализма полноценного, власти сопровождали новый курс усилением политических репрессий. Именно в 1921—1923 гг. большевики окончательно расправились со своими соперниками в лице социалистических партий, установили тотальную цензуру, расширили полномочия органов безопасности, развернули кампанию против церкви и усилили контроль за партийными кадрами как в России, так и за рубежом.
В то время далеко не всем были понятны тактические резоны этого отступления. Правоверные коммунисты возмущались таким, как им представлялось, предательством идеалов Октябрьской революции, тогда как противники режима вздохнули с облегчением, предвидя близкий конец ужасного эксперимента. В последние два года своей жизни Ленину постоянно приходилось оправдывать переход к нэпу и доказывать, что революция идет верным курсом, хотя, судя по всему, во глубине души его не оставляло ощущение поражения. Он убедился, что эксперимент построения коммунизма в стране столь отсталой, какой была Россия, оказался преждевременным и его следовало отложить до лучших времен, когда сформируются необходимые экономические и культурные предпосылки. Все пошло не так, как было задумано: «Вырывается машина из рук, — невольно проговорился он однажды, — как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда ее направляют, а туда, куда направляет что-то, не то нелегальное, не то беззаконное, те то Бог знает откуда взятое»5. Внутренний «враг», действуя в обстановке экономического краха, представлял собой угрозу его режиму большую, чем все белые армии вместе взятые: «На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение, гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное»6. В сущности, это было признание того, что, сочтя Россию страной, достигшей высшей стадии капитализма и созревшей для социализма уже в 90-х годах прошлого века, Ленин допустил серьезную ошибку7.
До марта 1921 г. коммунистам еще удавалось в определенной мере подчинять экономику государственному контролю. Впоследствии эта политика получила название «военного коммунизма» — сам Ленин впервые употребил данный термин в апреле 1921 г., уже отказываясь от этого курса8. Такое определение призвано было оправдать губительные последствия экономических экспериментов новой власти потребностями, якобы вызванными гражданской войной и иностранной интервенцией. Однако тщательное изучение современных источников не оставляет сомнения, что эта политика в действительности была продиктована не столько экстренными потребностями военного времени, сколько стремлением в самый кратчайший срок во что бы то ни стало построить коммунистическое общество9. «Военный коммунизм» означал национализацию средств производства и другого имущества, запрещение частной торговли, отмену денежного обращения, подчинение национальной экономики страны всеобщему плану и использование принудительного труда10.
Эти эксперименты разрушили до основания российскую экономику. В 1920—1921 гг. в сравнении с 1913 г. промышленное производство упало на 82%, производительность труда до 74%, а производство зерна до 40%11. Города опустели, поскольку их жители в поисках пропитания бросились в села: население Петрограда уменьшилось на 70%, Москвы — более чем на 50%; и подобная картина наблюдалась и в других индустриальных центрах12. Несельскохозяйственная рабочая сила сократилась по сравнению с моментом, когда большевики пришли к власти, более чем наполовину: с 3,6 до 1,5 миллиона. Реальный заработок рабочих упал до трети от уровня 1913—1914 гг. [Гимпельсон Е.Г. // Советский рабочий класс, 1918—1920 гг. М, 1974. С. 80; Советское народное хозяйство в 1921-1925 гг. М., 1960. С. 531, 536. Более пристальное изучение этой статистики показывает, что в 1920 г. в Советском государстве было только 923 тыс. промышленных рабочих, потому что более трети тех, кого зачисляли в рабочие, были в действительности ремесленниками-кустарями, работающими в одиночку или с напарником, часто просто членом своей семьи (Гимпельсон Е.Г. Указ. соч. С. 82; Изменения социальной структуры советского общества: Октябрь 1917-1920. М., 1976. С. 258).]. Большей частью потребительских товаров население снабжал черный рынок, вездесущий и неистребимый в силу своей незаменимости. Коммунистическая политика успешно развалила экономику одной из пяти крупнейших мировых держав и истощила богатства, накопленные столетиями «феодализма» и «капитализма». Современный советский экономист назвал этот крах бедствием, «беспримерным в истории человечества»13.
Между тем зимой 1919—1920 гг. гражданская война закончилась, и если признать, что большевистские методы хозяйствования были продиктованы военными условиями, то сейчас, казалось бы, настало самое подходящее время отказаться от них. Однако год, последовавший за разгромом Белой армии, наоборот, ознаменовался самыми дикими экспериментами в экономике, такими как «милитаризация» труда и отмена денег. Правительство продолжало насильственное изъятие «излишков» продовольствия у крестьян. Те в ответ прятали зерно, сокращали посевные площади и вопреки запретам властей сбывали продукты на черный рынок. Из-за неблагоприятных погодных условий в 1920 г. скудные резервы совсем истощились. Тогда-то деревня, до тех пор жившая в сравнении с городом довольно сыто, испытала первые приступы голода.
Эти провалы хозяйствования имели не только экономические, но и политические последствия, подрывая опору большевиков в народе, обращая сочувствующих во врагов, а врагов в мятежников. «Народные массы», которых большевики убеждали, что во всех тяготах их жизни повинны белогвардейцы с их зарубежными приспешниками, ожидали, что с окончанием войны восстановятся нормальные условия существования. Гражданская война до поры до времени служила властям удобной ширмой, за которой они могли уберечься от всеобщего недовольства их методами, оправдываясь чрезвычайными военными условиями. Но когда война завершилась, такие объяснения больше уже не годились: «Народ твердо надеялся на смягчение жестокого большевистского режима. Ожидалось, что по окончании гражданской войны коммунисты ослабят гнет, отменят запреты военного времени, введут некоторые основные свободы и приступят к обустройству более нормальной жизни... К несчастью, этим ожиданиям не суждено было сбыться. Коммунистический режим не проявлял никакого желания облегчить ярмо»14.
Теперь до сознания даже тех, кто в своих сомнениях готов был принять сторону большевиков, стало доходить, что последние их попросту использовали в своих интересах, что истинная цель нового режима не улучшение благосостояния народа, но удержание власти в своих руках, и что ради этого власть готова пожертвовать благополучием масс и даже их жизнью. Осознание этой горькой истины привело к народному вооруженному сопротивлению, невиданному по размерам и жестокости. Окончание одной гражданской войны привело немедленно к началу другой: разбив белогвардейцев, Красной Армии пришлось биться с разношерстными партизанскими отрядами, куда стекались крестьяне, дезертиры и демобилизованные солдаты, прозванные в просторечии «зелеными», но официально именовавшиеся «бандитами»15.
В 1920 и 1921 гг. российская деревня на пространстве от Черного моря до Тихого океана стала ареной восстаний, которые по числу участников и охватываемой территории значительно превзошли знаменитые крестьянские бунты Стеньки Разина и Емельяна Пугачева16. Истинные масштабы разгоревшегося мятежа не поддаются точному определению, поскольку исторические материалы еще недостаточно изучены. Власти тщательно занижали его размах: так, по данным ЧК, за февраль 1921 г. отмечено 118 крестьянских вооруженных выступлений17. В действительности их было в несколько раз больше, а участвовали в них сотни тысяч бунтовщиков. Ленин получал регулярные донесения с этого фронта, включавшие подробные карты всей территории страны, ясно указывающие, какой гигантский размах приобрела схватка18. Признавая тот факт, что некоторые «банды кулаков» насчитывали до 50 000 и более человек, советские историки дают возможность косвенно оценить истинные размеры этой гражданской войны19. Некоторое представление о размерах и жестокости битвы можно получить из официальных данных о потерях в воинских частях Красной Армии, участвовавших в подавлении мятежей. По последним данным, в кампаниях 1921—1922 гг., которые велись почти исключительно против крестьян и других внутренних врагов, они составили 237 908 человек20. Среди восставших погибло наверняка не меньше, а всего вероятнее, и много больше.
Россия никогда ничего подобного не знала, ибо в прошлом крестьяне поднимали оружие против помещиков, но не против правительства. Подобно тому, как царские власти называли крестьянские возмущения «крамолой», так и новый режим окрестил их «бандитизмом»21. Противоборство новой власти не ограничивалось деревней. Гораздо опаснее, хотя и не столь яростным, было возмущение рабочих. К весне 1918 г. большевики во многом уже утратили ту поддержку, какую им оказал рабочий класс в октябре 1917 г. Пока шла война с белыми, им удавалось при активном содействии меньшевиков и эсеров сплотить рабочих вокруг себя, пугая их угрозой реставрации монархии. Но после разгрома противника, когда этой опасности более не существовало, рабочие стали уходить от большевиков кто куда, от крайне левых до крайне правых движений. В марте 1921 г. Зиновьев говорил делегатам X съезда партии, что массы рабочих и крестьян не принадлежат вообще ни к какой партии и большая доля политически активных предпочитают меньшевиков и черносотенцев22. Троцкий был просто поражен предположением, что, как он выразился, «одна сотая часть рабочего класса зажимает рот 99/100», и потребовал замечание Зиновьева в отчет не включать23. Но факты свидетельствовали неумолимо: в 1920— 1921 гг. вся страна была против большевистского режима, если не считать собственно партийных кадров, в которых тоже наблюдалось брожение. Впрочем, ведь и сам Ленин определял большевиков как всего лишь каплю в народном море24. И вот теперь это море взбушевалось.
Властям удалось справиться со всеобщим народным возмущением тактикой сочетания репрессий, отличавшихся неумолимой жестокостью, и уступок в рамках новой экономической политики. И еще два объективных фактора сыграли им на руку. Одним из них была разобщенность недовольных: новая фаза гражданской войны представляла собой множество отдельных мятежей, не связанных между собой ни общим вождем, ни единой программой. Разгораясь стихийно то здесь, то там, они не могли соперничать с хорошо вооруженными частями Красной Армии под командованием профессиональных военачальников. Другим фактором явилась неспособность мятежников выдвинуть политическую альтернативу правящему режиму, ибо ни бастующие рабочие, ни мятежные крестьяне не мыслили в политических терминах. То же относится и к многочисленным движениям «зеленых»25. Характерную особенность крестьянского сознания — представление о власти как о чем-то раз и навсегда данном и не подверженном изменениям — не сокрушили ни революция, ни все сопряженные с ней революционные преобразования26. Рабочим и крестьянам действия советского правительства принесли одни несчастья, но увязать это с зловредной сущностью этого правительства они не могли, точно так же, как при царе они оставались глухи к радикальной и либеральной агитации. По этой причине сейчас, как и тогда, их можно было легко успокоить, удовлетворив сиюминутные запросы и не меняя ничего в целом. В этом была суть нэпа: обеспечение сохранности политических завоеваний ценой экономических подачек, которые легко могут быть взяты назад, едва лишь стихнет возмущение населения. Бухарин откровенно говорил об этом: «Мы идем на экономические уступки, чтобы избежать политических»27. Эту практику большевики унаследовали от царского режима, защищавшего свои самодержавные прерогативы, откупаясь от главного потенциального соперника — дворянства — экономическими привилегиями28.
* * *
Приход новой власти повлиял на жизнь села двояко29. С одной стороны, распределение частных землевладений между общинами увеличило крестьянские наделы и сократило число бедных и богатых в пользу «середняков», что тешило мужицкую страсть к уравниловке. С другой стороны, большинство приобретенного крестьянин терял в результате растущей инфляции, обесценивавшей его накопления. К этому следует добавить тяжкую обязанность сдавать государству «излишки» и нести многочисленные трудовые повинности, из которых самой обременительной была заготовка дров. Во время гражданской войны большевики вели непрекращающуюся войну с деревней, пассивно и активно противящейся реквизициям продуктов.
В культурном отношении большевизм не имел влияния в деревне. Крестьяне, для которых суровость была верным признаком настоящей власти, уважали коммунистов и признавали: века рабства выработали у крестьян прочные навыки лукавого смирения. Анжелика Балабанова с удивлением отмечала: «Как быстро они усвоили большевистскую терминологию и новую фразеологию и как бойко толкуют различные статьи нового законодательства. Как будто они всю жизнь с ними прожили»30. Они приспосабливались к новым господам, как могли бы приспособиться к чужеземным захватчикам, как сумели примириться их предки при татарах. Но смысл большевистской революции, ее лозунги оставались для них загадкой, не достойной понимания. Исследования советских ученых, проводившиеся в 20-х годах, показали, что послереволюционная деревня живет своей жизнью самодостаточно и замкнуто для посторонних, как и жила извечно, подчиняясь собственным неписаным законам. Коммунистическое присутствие было едва заметно: партийные ячейки, которые образовались в деревнях, состояли в основном из горожан. Антонов-Овсеенко, которого Москва в начале 1921 г. послала усмирять Тамбовскую губернию, в личном донесении Ленину писал, что крестьяне отождествляют новый режим с «наездными комиссарами или уполномоченными» и продотрядами: «Крестьянство привыкло смотреть на Советскую власть как на нечто внешнее по отношению к нему, нечто только повелевающее, распоряжающееся весьма ретиво, но совсем не хозяйственно»31.
Грамотные крестьяне не интересовались советскими газетами, предпочитая им душеспасительную литературу32. Лишь самое отдаленное эхо международных событий достигало деревни, и, как правило, в невероятном, искаженном до неузнаваемости виде. Мужиков не слишком беспокоило, кто правит Россией, хотя в 1919 г. можно было наблюдать ностальгию по старому режиму33. Ничего удивительного поэтому, что крестьянские восстания против большевиков преследовали негативные цели: «[Восставшие] стремились не столько идти на Москву, сколько отрезать себя от ее влияния». [Figes О. Peasant Russia, Civil War. Oxford, 1989. P. 322—323. Исключение составляло Тамбовское восстание под предводительством Антонова (см. ниже).].
Крестьянские волнения не затихали с 1918 по 1919 г., вынуждая правительство направлять на их подавление крупные военные силы. В разгар гражданской войны большая часть территории контролировалась «зелеными», у которых антибольшевистские, антисемитские, антибелогвардейские настроения переплетались с тривиальным бандитизмом. В 1920 г. этот тлеющий огонь вспыхнул яростным пламенем.
Самая жестокая крестьянская война разразилась в Тамбовской губернии, сравнительно благополучном сельскохозяйственном регионе со слабо развитой промышленностью, расположенном всего в 350 км к юго-востоку от Москвы34. До революции в ней производилось до 60 млн пудов (1 млн тонн) зерна в год, почти треть которого продавалась за границу. В 1918—1920 гг. Тамбов испытал на себе все прелести продразверстки. Вот как описывал Антонов-Овсеенко причины разгула «бандитизма»: «Разверстка на 1920—1921 г., хотя и вдвое пониженная против прошлогодней, явилась совершенно непосильной. При громадном недосеве и крайне плохом урожае значительная часть губернии не могла обойтись своим хлебом. По данным экспертных комиссий Губпродкома, на душу приходилось хлебов (с вычетом потребности на обсеменение, но без вычетов корма скоту) 4,2 пуда. Среднее потребление в 1909—1913 годы <...> было 17,9 пуда и, кроме того, кормовых 7,4 пуда. То есть в Тамгубернии в прошлом году покрывалась местным урожаем едва 1/4 часть потребности. При разверстке предстояло отдать 11 миллионов пудов хлеба и 11 миллионов картофеля. При 100% выполнении у крестьян осталось бы на душу 1 п. хлеба и 1,6 п. картофеля. И все же разверстка была выполнена почти в 50%. Уже к январю [1921] половина крестьянства голодали»35.
Восстание вспыхнуло стихийно в августе 1920 г. в деревне под Тамбовом, когда крестьяне, отказавшись сдать зерно, убили нескольких бойцов продотряда и оказали сопротивление подошедшему подкреплению36. Предвидя карательные акции, мужики вооружились кто как мог: нашлось несколько винтовок, но в основном в ход пошли вилы и дубины. К бунтовщикам присоединились близлежащие селения. В последовавших столкновениях с частями Красной Армии военное счастье оказалось на стороне восставших. Вдохновленные успехом мятежники двинулись на Тамбов, число их по мере приближения к городу возрастало. Большевики подтянули подкрепление и в сентябре нанесли контрудар, сжигая мятежные села и расстреливая взятых в плен. На этом мятеж мог бы и иссякнуть, если бы на сцене не объявился крестьянский вождь в лице Александра Антонова.
Антонов, сын слесаря, в 1905—1907 годах участвовал в «эксах», организованных партией эсеров для пополнения своей казны. Он был пойман, изобличен и сослан на каторжные работы в Сибирь37. В 1917 г., вернувшись с каторги, примкнул к левым эсерам. Впоследствии стал сотрудничать с большевиками, но летом 1918 г. порвал с ними из-за несогласия с их аграрной политикой. Следующие два года организовывал террористические акты против советских деятелей, за что был заочно приговорен к смерти. Ему удавалось уходить от властей, и вскоре он снискал славу народного героя-заступника. Он возглавил небольшой отряд и на свой страх и риск выступил под эсеровскими лозунгами, хотя и не поддерживал больше никаких отношений с этой партией.
В сентябре 1920 г. Антонов объявился вновь и повел за собой крестьян, упавших духом после неудачной попытки взять Тамбов. Талантливый организатор, он сформировал партизанские отряды, применявшие тактику молниеносных набегов на колхозы и железнодорожные узлы, с которой власти оказались неспособны справиться не только потому, что нападения совершались в самых неожиданных местах (иногда люди Антонова переодевались в красноармейскую форму), но и потому, что после каждой такой операции партизаны возвращались по домам и растворялись в крестьянской массе. Сподвижники Антонова не имели никакой официальной программы: их целью было «выкурить» коммунистов из сел, как они когда-то «выкуривали» помещиков. Нередко звучали антисемитские лозунги, что, впрочем, было характерной чертой большинства оппозиционных режиму движений того времени. Тамбовские эсеры в это время создали Союз трудового крестьянства, выдвинувший программу с требованиями политического равенства всех граждан, частной экономической свободы и денационализации промышленности. Но едва ли эта декларация что-либо значила для крестьян, которые в действительности желали лишь двух вещей: отменить продразверстку и получить право распоряжаться излишками по своему усмотрению. Можно предположить, что платформу придумала эсеровская интеллигенция, которая не могла и шагу ступить без идеологической базы: «Слова подоспели задним числом» после дел38. Тем не менее Союз помог восставшим организовать сельские комитеты, которые вербовали добровольцев.
К концу 1920 г. у Антонова было около 8 тыс. бойцов, по большей части конных. В начале 1921 г. он объявил призыв в ряды своей армии, благодаря чему численность ее возросла до 20—50 тыс. человек — точное число спорно. Даже по самым скромным расчетам, оно сравнимо с силами, собранными самыми знаменитыми в русской истории бунтовщиками Разиным и Пугачевым. Организованное по схеме Красной Армии, войско Антонова было разделено на 18 или 20 полков39. Антонов организовал хорошую разведку, наладил сеть коммуникаций, назначил в отряды политических комиссаров и установил строгую дисциплину. Он продолжал избегать открытых столкновений, по-прежнему предпочитая быстрые, внезапные набеги. Центром восстания была юго-восточная часть Тамбовщины, однако оно стремительно разрасталось и перекинулось на соседние Воронежскую, Саратовскую и Пензенскую губернии40. Антонову удалось перерезать железнодорожные коммуникации, по которым увозили конфискованный хлеб, и теперь все, что оставалось сверх необходимого его людям, он раздавал крестьянам41. В контролируемых им районах он разгонял советские учреждения и расстреливал взятых в плен коммунистов, часто подвергая их жестоким пыткам, — число его жертв, по слухам, превышало тысячу человек. Такими методами ему удалось дочиста вымести в Тамбовской губернии все следы советской власти. Однако амбиции Антонова простирались дальше, и он выпустил воззвание к русскому народу с призывом присоединяться к нему и идти походом на Москву, чтобы освободить страну от угнетателей42.
Первой реакцией Москвы (август 1920) было решение взять непокорную губернию в осаду. Публично восставших назвали бандитами, действующими по наущению партии эсеров. Впрочем, власти прекрасно знали, как явствует из их служебных документов, что восстание вспыхнуло стихийно и поводом послужило сопротивление продотрядам. Хотя многие местные эсеры поддержали восстание, центральные органы партии отрицали какую бы то ни было свою связь с ним: Бюро эсеров отозвалось о нем как о «полубандитском движении», и ЦК партии запретил ее членам всякое с ним сношение43. ЧК, однако, воспользовалась Тамбовским восстанием для ареста всех эсеровских активистов, до которых сумела добраться.
Когда стало очевидно, что регулярная армия не может справиться, Москва в конце февраля 1921 г. направила в Тамбов Антонова-Овсеенко возглавить полномочную комиссию. Наделенный широчайшими полномочиями, он должен был докладывать обстановку непосредственно Ленину. Но его преследовали неудачи, в большой мере это объясняется тем, что многие красноармейцы под его командованием были сами из крестьян и сочувствовали восставшим. Стало очевидным, что единственный способ подавить беспорядки — это перенести удар на мирное население, поддерживающее восставших, и тем самым изолировать мятеж, а это требовало применения методов неограниченного террора: концентрационных лагерей, расстрела заложников, массовых депортаций. Антонов-Овсеенко запросил разрешения у Москвы и получил «добро»44.
* * *
В течение зимы 1920—1921 гг. положение с продовольствием и топливом в городах Европейской части России напоминало ситуацию накануне Февральской революции. Разруха на транспорте и нежелание крестьян расставаться со своей продукцией создали катастрофическое положение с поставками продовольствия; чувствительнее всего снова пострадал Петроград, наиболее удаленный от центров сельскохозяйственного производства. Заводы останавливались из-за нехватки топлива; многие покинули города; те, кто оставался, ездили в деревню выменивать мануфактуру, выданную им бесплатно правительством или вынесенную с предприятий, на провизию, но на обратном пути их ожидали «заградительные отряды», конфисковывавшие всю добычу.
На таком фоне в феврале 1921 г. матросы Кронштадта, «гордость и краса Революции», по словам Троцкого, подхватили знамя мятежа.
Искрой, разжегшей это пламя, явилось распоряжение правительства от 22 января о сокращении на одну треть норм на хлеб в ряде городов, включая Москву и Петроград, на период в десять дней45. Эта мера была вызвана нехваткой топлива, парализовавшей движение на многих железнодорожных линиях46. Первые протесты стали раздаваться в Москве. На конференции беспартийных металлистов Московской губернии, состоявшейся в начале февраля, раздавались резкая критика экономической политики властей, требование упразднить «привилегии» в нормах для всех без исключения, в том числе работников Совнаркома, и заменить выборочное изъятие продуктов чем-то вроде регулярной подати. Некоторые ораторы призывали к созыву Учредительного собрания. 23—25 февраля многие московские рабочие вышли на забастовку, требуя, чтобы им позволили доставать провизию самостоятельно, помимо официальной системы нормирования47. Эти беспорядки были подавлены силой.
Недовольство перекинулось на Петроград, где нормы питания для промышленных рабочих сократились до 1000 калорий в день. В начале февраля 1921 г. из-за нехватки топлива пришлось закрыть некоторые крупнейшие предприятия города48. 9 февраля по городу прокатилась волна стихийных стачек: Петроградская ЧК не нашла никаких признаков «контрреволюции», видя чисто экономические причины волнений49. С 23 февраля проходили фабрично-заводские митинги, которые иногда заканчивались демонстрациями. Поначалу петроградские рабочие требовали лишь права ездить в деревню за продуктами, но вскоре, возможно, под влиянием меньшевиков и эсеров, включили и политические требования, призывая к проведению честных выборов в советы, свободы слова и прекращения полицейского террора. И здесь антибольшевистские настроения нередко сопровождались антисемитскими лозунгами. В конце февраля в Петрограде возникла реальная угроза всеобщей забастовки. Для предотвращения этого ЧК предприняла арест всех лидеров меньшевиков и эсеров в городе, в обшей сложности 300 человек. Попытка Зиновьева успокоить взбунтовавшихся рабочих не возымела успеха: аудитория была настроена слишком враждебно и не дала ему говорить50.
Столкнувшись с дерзким неповиновением, Ленин повел себя в точности как четыре года назад царь Николай — прибег к помощи войск. Но если последний царь действовал, словно сам того не желая, как бы под давлением обстоятельств, и скоро уступил, то теперешний вождь был готов пойти на все ради сохранения власти. 24 февраля Петроградский комитет коммунистической партии учредил «Комитет обороны» — от кого предполагалось обороняться, не уточнялось, — который в выражениях, весьма напоминающих распоряжения генерала Хабалова 25—26 февраля 1917 г., объявил военное положение и запретил уличные собрания. Комитет возглавил Зиновьев, которого анархист Александр Беркман назвал «самым ненавистным человеком в Петрограде». Беркман слышал выступление одного из членов этого комитета, большевика М.МЛашевича, выглядевшего «толстым, жирным и оскорбительно чувственным», который прогнал протестующих рабочих, «как вымогающих подаяние попрошаек»51. Бастующих рабочих уволили, что означало для них лишение даже скудного продовольственного пайка. В Петрограде и всюду по стране власти продолжали арестовывать меньшевиков, эсеров и анархистов, чтобы изолировать их от бунтующих «масс». Если в феврале 1917 г. главным источником волнений здесь был гарнизон, то теперь им стали заводы и фабрики. И все же стоящие в Петрограде части Красной Армии тоже доставляли властям беспокойство, поскольку некоторые из них объявили, что не примут участия в подавлении рабочих демонстраций. Эти части разоружили.
Новость о рабочих волнениях в Петрограде докатилась до крепости в Кронштадте. Ее десятитысячный матросский контингент всегда выказывал предпочтение анархизму без какой бы то ни было идеологической ориентации, преисполненный ненависти к «буржуям» вообще. В 1917 г. эти настроения помогли большевикам, теперь они обернулись против них. После октябрьских событий симпатии к большевикам в Кронштадте пошли на убыль, и, хотя в 1919 г., защищая Петроград, матросы храбро сражались на стороне красных, они без всякого восторга относились к власти, в особенности после окончания гражданской войны52. Осенью и зимой 1920—1921 гг. половина членов кронштадтской парторганизации, насчитывавшей 4 тыс. человек, вернули билеты53. Когда дошли слухи, будто по бастующим рабочим в Петрограде открыли стрельбу, делегацию матросов послали разузнать, что в действительности произошло; вернувшись, они рассказали: с рабочими обращаются как в царских тюрьмах. 28 февраля команда линкора «Петропавловск», недавнего оплота революции, вынесла антибольшевистскую резолюцию. Они призывали провести перевыборы Советов тайным голосованием, требовали свободы слова и печати (правда, лишь для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий), свободы собраний и профсоюзов и предоставления крестьянам права по своему усмотрению распоряжаться землей, не пользуясь наемным трудом54. На следующий день эта резолюция была принята почти единогласно митингом матросов и солдат в присутствии Калинина, присланного усмирить бунтовщиков. Многие коммунисты, присутствовавшие на собрании, тоже проголосовали за эту резолюцию. 2 марта матросы создали Временный революционный комитет, который должен был взять на себя руководство островом-крепостью и организовать ее оборону в случае ожидавшегося нападения с материка. Мятежники не питали иллюзий относительно своей способности долго противостоять напору Красной Армии, но рассчитывали сплотить вокруг себя народ и склонить на свою сторону вооруженные силы.
Им пришлось испытать горькое крушение надежд, поскольку власти предприняли быстрые и эффективные меры, дабы предотвратить распространение мятежа вширь — в этом отношении новый тоталитарный режим проявил себя гораздо более компетентным, чем царский. Матросы оказались втянуты в гущу сражения, исход которого был предрешен.
Любопытно пронаблюдать, как скоро и легко большевики переняли манеру свергнутого режима приписывать всякую угрозу своей власти проискам темных, чужеродных сил. Тогда это были евреи, теперь белогвардейцы. 2 марта Ленин и Троцкий объявили мятеж заговором генералов, за которыми стоят эсеры и французская контрразведка. [Правда. 1921. № 47. 3 марта. С. 1. Впоследствии сталинская пропаганда пошла еще дальше, заявив, что Кронштадтский мятеж финансировался Вашингтоном (Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике (1921—1922). М, 1954. С. 39).]. Чтобы кронштадтская зараза не перекинулась на Петроград, Комитет обороны приказал войскам рассеивать в городе скопления людей и в случае неповиновения открывать огонь. Репрессивные меры сочетались с уступками: Зиновьев снял «заградительные отряды» и дал понять, что правительство собирается отменить реквизицию продуктов. Это сочетание силовых методов с показной уступчивостью успокоило рабочих, лишив матросов жизненно необходимой поддержки.
Через неделю после начала мятежа в Москве открылся X съезд партии. Хотя мысли всех участников были заняты кронштадтскими событиями, в повестке дня съезда вопрос о них не стоял. В обращении к собравшимся Ленин, не придавая ему особого значения, разъяснил, что это контрреволюционный заговор, участие белых генералов «полностью доказано», и вообще все было задумано в Париже55. В действительности большевистские вожди воспринимали ситуацию очень серьезно.
5 марта в Петроград прибыл Троцкий. Он приказал мятежникам незамедлительно сдаться на милость правительства; в противном случае их ждет военная расправа56. С незначительными поправками такой ультиматум мог бы предъявить какой-нибудь царский генерал-губернатор. В одном обращении к восставшим говорилось, что если они не прекратят сопротивления, то будут «расстреляны, как куропатки»57. Троцкий приказал взять в заложники живущих в Петрограде жен и детей повстанцев58. Выведенный из себя упорством главы Петроградской ЧК, именовавшего мятеж «стихийным», Троцкий обратился в Москву с просьбой снять этого упрямца с поста59.
Действия Троцкого заставили непокорных кронштадтцев припомнить приказ, отданный войскам через пять дней после Кровавого воскресенья 1905 г., как считалось, петербургским генерал-губернатором Д.Ф.Треповым: «патронов не жалеть». «Революция трудящихся, — клялись мятежники, — смоет гнусных клеветников и насильников с оскверненного их деятельностью лица Советской России»60.
Кронштадт представляет собой по сути остров, к которому войска могли подступиться только по льду, и в тот год в начале марта воды, его омывающие, все еще были скованы льдом. Это обстоятельство сильно облегчило задачу нападавших, тем более что мятежники не вняли советам своих офицеров взломать лед артиллерией. 7 марта Троцкий отдал приказ о наступлении. Красными частями командовал Тухачевский. Ввиду ненадежности регулярных войск61 Тухачевский укрепил их отрядами особых элитных частей, сформированных специально для борьбы с внутренним врагом. [В 1919 г. для борьбы с контрреволюцией большевики создали элитные соединения, известные как части особого назначения (или ЧОН), высший и низший командный состав которых был укомплектован по преимуществу коммунистами. В декабре 1921 г. в них насчитывалось 39 673 бойца и 323 373 в запасе (Гриф секретности снят / Под ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 1993. Сн. 46). Кроме того, были еще войска внутренней службы (или ВНУС), созданные в сентябре 1920 г. в сходных целях, в которых в конце 1920 г. было 360 тыс. бойцов (там же. Сн. 45).].
Атака, которую повели с плацдарма к северо-западу от Петрограда, началась утром 7 марта артиллерийской подготовкой из орудий материковых батарей. В ту ночь красноармейцы, обернувшись в белые полотна, перебежали по льду к крепости под прицелом пулеметного взвода ЧК, которому был дан приказ стрелять во всякого, кто повернет назад. Некоторые бойцы отказались исполнять приказ; около тысячи перешло на сторону восставших. Троцкий приказал расстрелять каждого пятого из неподчинившихся солдат.
На следующий день, после того как раздался первый выстрел, «Известия» Временного революционного комитета Кронштадта опубликовали программное заявление: «За что мы боремся, призывая к "Третьей революции"». Этот документ, анархистский по духу, носящий явные признаки интеллигентского происхождения, тем не менее достаточно точно выражал мысли и чувства защитников крепости, чему ярким свидетельством служила готовность сражаться и умереть за них.
«Совершая Октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся достичь своего раскрепощения. В результате же создалось еще большее порабощение личности человека. Власть полицейско-жандармского монархизма перешла в руки захватчиков — коммунистов, которые трудящимся, вместо свободы, преподнесли ежеминутный страх попасть в застенок чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей жандармское управление царского режима.
Штыки, пули и грубый окрик опричников из чека, вот что после многочисленной борьбы и страданий приобрел труженик Советской России. Славный герб трудового государства — серп и молот — коммунистическая власть на деле подменила штыком и решеткой ради сохранения спокойной, беспечальной жизни новой бюрократии, коммунистических комиссаров и чиновников. Но что гнуснее и преступнее всего, так это созданная коммунистами нравственная кабала: они наложили руку и на внутренний мир трудящихся, принуждая их думать только по-своему. Рабочих при помощи казенных профессиональных союзов прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым рабством. На протесты крестьян, выражающиеся в стихийных восстаниях, и рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам, они отвечают массовыми расстрелами и кровожадностью, которой им не занимать стать от царских генералов. Трудовая Россия, первая поднявшая красное знамя освобождения труда, сплошь залита кровью замученных во славу господства коммунистов. В этом море крови коммунисты топят все великие и светлые залоги и лозунги трудовой революции. Все резче и резче вырисовывалось, а теперь стало очевидным, что Р.К.П. не является защитницей трудящихся, каковой она себя выставляла, ей чужды интересы трудового народа, и, добравшись до власти, она боится лишь потерять ее, а потому дозволены все средства: клевета, насилие, обман, убийство, месть семьям восставших. Долготерпению восставших пришел конец. Здесь и там заревом восстаний озарилась страна в борьбе с гнетом и насилием. <...>
Настоящий переворот дает трудящимся возможность иметь, наконец, свои свободно избранные Советы, работающие без всякого насильственного партийного давления, пересоздать казенные профессиональные союзы в вольные объединения рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Наконец-то сломана полицейская палка коммунистического самодержавия»62.
В течение следующей недели, держа защитников крепости в постоянном напряжении ночными вылазками, Тухачевский подтягивал подкрепление. Не получая поддержки с земли и испытывая недостаток в продовольствии, осажденные явно поникли духом, о чем кронштадтские коммунисты, которых восставшие не сочли нужным изолировать или хотя бы запретить пользоваться телефоном, тотчас оповестили большевистское командование. Для поддержания морального духа в своих войсках коммунисты вели интенсивную агитацию, выставляя мятежников слепым орудием контрреволюции.
Решающее наступление 50-тысячных частей Красной Армии началось в ночь с 16 на 17 марта: на сей раз основные силы двигались с юга, со стороны Ораниенбаума и Петергофа. Защитников было 12—14 тыс., из которых 10 тыс. моряков, а остальные — пехота. Нападающим удалось пробраться незамеченными до самого острова. Началось жестокое, по преимуществу рукопашное сражение. К полудню 18 марта остров был полностью под контролем большевиков. Несколько сотен из двух тысяч пленных было убито. Некоторые из мятежников, включая лидеров, сумели спастись, уйдя по льду в Финляндию, где они были интернированы. ЧК намеревалась рассеять оставшихся пленных мятежников, выслав в Крым и на Кавказ, но Ленин сказал Дзержинскому, что следует «их сосредоточить где-нибудь на Севере»63. Это означало заключение в самые суровые концентрационные лагеря на Белом море, откуда мало кто возвратился.
Разгром Кронштадтского восстания был встречен населением довольно мрачно. Он не прибавил славы Троцкому, и, хотя он не упускал случая покичиться собственными военными и политическими победами, в мемуарах он обходит молчанием свою роль в этих трагических событиях.
* * *
Ленин и Троцкий получали регулярные донесения от Полевого штаба Реввоенсовета о ходе военной операции против «банд», действующих в Тамбове, так, словно это был настоящий театр военных действий64. Хотя штаб докладывал об одной победе за другой, в ходе которых «бандитов» либо рассеивали, либо уничтожали, было очевидно, что этот враг, ведущий войну не по правилам, не может быть разбит обычными военными методами. Поэтому Ленин решил поручить Тухачевскому проведение особой решительной военной кампании65. Приехав в Тамбов в начале мая, новый командующий собрал войска, насчитывавшие в разгар операции более 100 тыс. человек66. Частям Красной Армии помогали «Интернациональные отряды» из венгерских и китайских добровольцев. Тухачевский понимал, что ему придется иметь дело не только с военной силой — тысячами партизан, — но еще и с многомиллионным враждебно настроенным населением. В докладе Ленину, после того как хребет восстания уже был сломлен, он объяснял, что «на предстоявшие действия приходилось смотреть не как на какую-нибудь более или менее длительную операцию, а как на целую кампанию или даже войну»67. «Наше высшее командование решило не увлекаться мерами карательными, а вести целую кампанию, — объяснял другой большевик. — Все операции решено было вести с жестокостью, чтобы самый характер действий внушал уважение к мерам»68. Командующий применил стратегию методичного захвата территории, дабы отрезать партизан от гражданского населения, оказывавшего им разнообразное содействие и дававшего пополнение69. Но поскольку имеющихся в его распоряжении сил было недостаточно, чтобы завоевать и занять территорию всей губернии, Тухачевский восполнял свое бессилие «жестокостью», то есть показательным террором.
Важнейшую роль в такой стратегии играет надежная разведка. Используя платных осведомителей, ЧК получила список партизан: особым приказом комиссии Антонова-Овсеенко (№ 130) предписывалось взять в качестве заложников членов их семей. Руководствуясь этим перечнем, дополненным именами крестьян, подпадающих под категорию «кулаков», ЧК согнала тысячи заложников в концентрационные лагеря, специально созданные для этой цели. Области, отличавшиеся особой партизанской активностью, были выделены для проведения в них, как говорилось в официальных документах, «массивного террора». А чтобы сломить упрямое запирательство населения и заставить выдавать участников восстания, согласно донесению Антонова-Овсеенко Ленину, красные командиры использовали следующую процедуру: «Таким селам выносится особый "приговор", в котором перечисляются их преступления пред трудовым народом, все мужское население объявляется под судом реввоентрибунала, изъемлются в концентрационный лагерь все бандитские семьи в качестве заложников за их сочлена — участника банды, дается двухнедельный срок для явки бандита, по истечении которого семья высылается из губернии, а имущество ее (раньше условно арестованное) окончательно конфискуется»70.
При всей жестокости этих мер, они все же не производили должного действия, поскольку партизаны ответили захватом заложников и уничтожением семей красноармейцев и коммунистов, порой весьма садистским образом. Поэтому 11 июня комиссия Антонова-Овсеенко издала другой, еще более свирепый приказ (№ 171), предписывающий применять без излишних формальностей расстрел на месте в отношении целого ряда категорий «бандитов»:
«1) Граждан, отказывающихся назвать свое имя, расстреливать на месте.
2) Селениям, в которых скрывается оружие, властью Уполиткомиссии или Райполиткомиссиями объявляется приговор об изъятии заложников. Расстреливать таковых в случае несдачи оружия.
3) В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.
4) Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии. Имущество ее конфискуется, и старший работник в этой семье расстреливается на месте без суда.
5) Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитские, и старшего работника семьи расстреливать на месте без суда.
6) В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными советвласти крестьянами, а оставленные дома сжигать.
7) Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно. Прочесть на сельских сходах»72.
В результате сотни, если не тысячи, крестьян были убиты: подлежащими казни, как впоследствии при нацистах, оказывались лица, единственная вина которых заключалась в том, что они давали приют оставшимся без родителей детям «бандитов»73. Во многих селах проводили массовые расстрелы заложников. По словам Антонова-Овсеенко, во «втором наиболее бандитском уезде» 154 «бандита-заложника» было расстреляно, 227 семей «бандитов» взято в заложники, 17 домов сожжено, 24 разгромлено и 22 передано «бедноте» (эвфемизм для коллаборационистов)74. В случае особенно упорного сопротивления жители непокорной деревни все поголовно «перемещались» в одну из соседних губерний. Ленин не только полностью одобрял эти меры, но и требовал от Троцкого следить за тем, чтобы они проводились неукоснительно75.
В конце мая 1921 г. Тухачевский развернул мощные военные действия. Ему было позволено применить против бунтовщиков отравляющие газы, о чем он немедленно оповестил:
«...Участники белобандитских шаек, партизаны бандиты, сдавайтесь! Или будете беспощадно истреблены. Ваши имена известны. Ваши семьи и все ваше имущество объявлено заложниками за вас. Скроетесь в деревне — вас выдадут соседи. Если у кого ваша семья найдет приют, тот будет расстрелян и семья того будет арестована... Если укроетесь в лесу — выкурим. Полномочная комиссия решила удушливыми газами выкуривать банду из лесов...»76.
Десять дней спустя армия Антонова была окружена и уничтожена, но ему самому удалось скрыться. Другая партизанская армия А.Богуславского, выступавшего в союзе с Антоновым, продержалась еще несколько недель. В конце концов от мощного партизанского войска остались небольшие разрозненные отряды, совершавшие беспорядочные налеты. Население, отчасти под воздействием акций устрашения, отчасти умиротворенное отменой продразверстки 21 марта, перестало поддерживать бунтовщиков. Следующий, 1922 год был счастливым годом для русского крестьянства: урожай выдался богатый, а поборы стали вполне умеренными.
Почти год Антонов, словно загнанный зверь, скитался по окрестностям, скрываясь от властей. Конец наступил 24 июня 1922 г., когда, выданный своими бывшими товарищами, он был выслежен и застрелен сотрудниками ГПУ. Утверждалось, что, когда его труп провозили по деревням по дороге в Тамбов, крестьяне проклинали его и приветствовали его убийц77. Но, впрочем, все это могло быть и инсценировкой.
Внушительный успех партизанских предводителей, вроде Антонова, в их противостоянии регулярной армии произвел должное впечатление на высшее советское военное руководство. М.В.Фрунзе, в годы гражданской войны командовавший различными фронтами Красной Армии, позднее сменивший Троцкого на посту наркомвоенмора, распорядился заняться изучением особых форм ведения боевых действий против технически лучше оснащенного врага78. Используя этот опыт, были развернуты широкомасштабные партизанские действия против войск нацистской Германии. А немецкое командование, в свою очередь, применяло методы террора и устрашения гражданского населения, выработанные Красной Армией в 1921—1922 гг. в кампании против крестьян.
* * *
Необходимость успокоить деревню стала очевидна Ленину еще до Кронштадтского мятежа: этот вопрос обсуждался на Политбюро в феврале 1921 г. Событием, которое, возможно, побудило пойти на послабление аграрной политики, было разгоревшееся 9 февраля в Западной Сибири восстание79. Мятежники, число которых измерялось десятками тысяч, заняли несколько крупных городов, включая Тобольск, и перерезали железную дорогу, соединяющую Центральную Россию с Западной Сибирью. Местные силы неспособны были справиться с восстанием, и Центр мобилизовал 50-тысячную армию80. В упорных боях она в конце концов сумела подавить сопротивление бунтовщиков. Но двухнедельный перерыв железнодорожного сообщения с Сибирью, прервавший поставки продовольствия, привел к такому бедственному положению, что заставил советское руководство, пока восстание еще пылало в полную силу, пересмотреть всю свою аграрную политику81.
Последней каплей был Кронштадт: именно 15 марта, когда Красная Армия готовилась к решительному штурму мятежной крепости, Ленин поднял вопрос о том, что стало краеугольным камнем новой экономической политики: о замене произвольной конфискации продуктов, так называемой «продразверстки», чем-то вроде регулярной подати, продналогом. Продразверстка была самой ненавистной и взрывоопасной чертой «военного коммунизма» — у крестьян она отнимала право воспользоваться плодами своего труда, но и горожан лишала продуктовых рынков.
Продразверстка проводилась крайне произвольным и несправедливым образом. Народный комиссариат продовольствия еще до уборки урожая устанавливал общий объем необходимого ему продовольствия, причем определялось это по потребностям городов и армии, а не с учетом того, что могли реально дать производители. Полученные таким манером цифры распределялись, на основании неверных и часто устаревших сведений, по губерниям, уездам и селам. Эта система была столь же неэффективна, сколь и жестока: в 1920 г., к примеру, Москва спустила в деревню продразверстку на 583 млн пудов (9,5 млн тонн) зерна, но сумела собрать лишь половину82.
Продотрядовцы действовали в полной уверенности, что крестьяне заведомо лукавят, уверяя, будто зерно, которое их вынуждали сдавать, суть вовсе не излишки, а кровно необходимое им для пропитания своих семей и посевов на будущий год, на самом же деле каждый хранит в тайниках достаточные запасы. Если в 1918 и 1919 гг. это, возможно, и походило на правду, то к 1920 г. припрятывать было уже нечего; в результате, как мы видели на примере Тамбовской губернии, продразверстка, даже малоэффективная с точки зрения властей, оставляла крестьян почти ни с чем. Более того, усердные сборщики ссыпали не только «излишки» и хлеб, необходимый для существования семьи, но и посевной материал на следующий год: один советский чиновник высокого ранга признавал, что во многих местах власти забирали 100% урожая. [Скворцов И.И. //Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 69. Существуют инструкции Ленина, предписывающие изымать даже зерно, необходимое крестьянам для собственного пропитания и посевов (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 219). В середине 1921 г. Комиссариат продовольствия распорядился половину посевного зерна переправить из Тамбовской губернии в Самару (The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 550—551). О злоупотреблениях при проведении продразверстки см.: Известия. 1921. № 42/1185. 25февр. С.2.]. Отказ сдавать зерно оборачивался конфискацией скота, сопровождавшейся нередко избиением хозяина. Вдобавок, продотрядовцы и местные власти, наклеив на крестьянина, не подчиняющегося их требованиям, клеймо «подкулачника» или «контрреволюционера», могли свободно отнять его хлеб, скот и даже одежду для своих собственных потребностей83. Крестьяне отчаянно сопротивлялись: только на Украине, как сообщалось, было убито 1700 продармейцев84.
Более саморазрушительную политику трудно было бы придумать. Ведь если вся система покоилась на абсурдной посылке: чем больше крестьянин произведет, тем больше можно будет у него взять, то простая логика подсказывала иное — земледелец, наоборот, постарается посеять и собрать как можно меньше (или совсем ничего) сверх нужного для удовлетворения нужд собственного хозяйства. Чем богаче был регион, тем безжалостней разграбляло его государство и тем быстрее в нем уменьшался объем производства: в период между 1916—1917 и 1920—1921 гг. сокращение посевных площадей в центральных губерниях страны, там, где наблюдался традиционный дефицит зерна, составило 18%, тогда как на главных хлебородных территориях, где зерна доставало в избытке, оно достигло 33%. [Golder F.A., Hutchinson L. On the Trail of the Russian Famine. Stanford, 1927. P. 8. В масштабах страны, по подсчетам Каменева, площади посевных земель в 1920 г. сократились на 25% (Правда. 1921. 2 июля. Цит. по: Heller М. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1979. Vol. XX. № 2. P. 137). Сокращение посевных площадей было вызвано еще и нехваткой рабочего скота, вследствие реквизиций, проводившихся обеими воюющими сторонами в период гражданской войны: число рабочих лошадей и быков в России и на Украине в 1920 г. в сравнении с периодом, непосредственно предшествовавшим революции, сократилось на 28 и 31% соответственно (Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике. С. 49).]. Из-за общего падения урожайности, вызванного нехваткой удобрений, а также тяглового скота, производство зерна, исчислявшееся в 1913 г. 80,1 млн тонн, в 1920 г. снизилось до 46,1 млн тонн85. На свою беду, крестьяне не могли даже вообразить, что власти все равно возьмут столько, сколько захотят, даже если это будет означать, что самим крестьянам совсем не останется ни хлеба насущного, ни посевного зерна.
Причины, заставившие правительство отказаться от продразверстки, носили как экономический, так и политический характер. У землепашцев, поставленных на грань голодной смерти, уже больше нечего было взять, и упрямо проводившаяся продразверстка разжигала всенародное возмущение. Наконец, 15 марта Политбюро решило отменить продразверстку. [Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 856—857. Троцкий в автобиографии (Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 198—199) припоминает, что он предлагал ЦК заменить продразверстку продналогом уже в феврале 1920 г., но тогда его предложение не прошло. Его достаточно предусмотрительное предложение можно найти в кн.: Троцкий Л. Соч. Т. 17. Ч. 2. М—Л., 1926. С. 543-544.]. Новая политика была обнародована 23 марта86. С этих пор от крестьян требовалось сдавать правительственным органам в виде налога определенную меру зерна; произвольные реквизиции «излишков» отменялись.
Представляя новый курс, Ленин подчеркивал его политическое значение: нельзя успешно управлять такой страной, как Россия, без поддержки со стороны крестьянства, составлявшего огромное большинство населения. В одном из разговоров Каменев сказал, что первоочередная задача теперешней политики — «внести политическое успокоение в крестьянство», а затем побудить его увеличить посевные площади87. Ранее ходившее в классовых врагах, крестьянство ныне стало союзником. Ленин признал тот факт, прежде им не учитывавшийся, что в России, в отличие от почти всех европейских стран, большинство сельского населения не было ни наемными рабочими, ни арендаторами, а независимыми мелкими производителями88. Разумеется, они были типичными «мелкими буржуями» и уступка им позорным отступлением, но лишь временным: по Ленину, речь шла лишь об «экономической передышке», а Бухарин и Д.Б.Рязанов, проводя аналогию с Брест-Литовским договором, говорили о «крестьянском Бресте»89. Как долго эта «передышка» может продлиться, не говорилось, но однажды Ленин признал, что для того, чтобы «переделать» крестьян, нужны поколения90. Эти и другие замечания Ленина на сей счет дают основания предполагать, что, хотя и он видел конечную цель в коллективизации, он, быть может, не взялся бы проводить ее столь скоропалительно, как это сделал Сталин.
В апреле 1921 г. было разъяснено, что новая политика накладывала на каждое крестьянское хозяйство обязательство сдать заранее установленную меру зерна, картофеля и масличных культур. Позднее к списку добавились яйца, молочные продукты, шерсть, табак, сено, фрукты, мед, мясо и сыромятная кожа91. Объем зерна определялся, исходя из минимальных потребностей Красной Армии, промышленных рабочих и других несельскохозяйственных групп населения. Распределение налога, возложенное на сельские Советы, должно было соизмеряться с тем, что каждое конкретное крестьянское хозяйство может произвести, исходя из его размеров, площади пахотной земли и величины местных урожаев в этой местности. Чтобы побудить крестьян увеличить объем производимой ими сельхозпродукции, декрет опирался в своих расчетах на размеры всей облагаемой налогом земли, то есть на всю потенциальную, а не на реально обрабатываемую площадь. Принцип круговой ответственности за выполнение государственных заданий отменялся92.
Первый продналог был установлен в размере 240 млн пудов, что было на 60 млн меньше собранного в 1920 г. и составляло лишь 41% от квоты продразверстки, ранее установленной на 1921 г. Правительство надеялось покрыть разницу, предложив крестьянам мануфактуру в обмен на излишки на бартерной основе, что по расчетам должно было принести дополнительные 160 млн пудов93. Эти ожидания, однако, не оправдались — из-за сильнейшей засухи, поразившей весной 1921 года основные хлебородные земли, вместо предполагаемых 240 миллионов продналог дал лишь 128 миллионов94. Не спас и бартер, поскольку предложить крестьянам для обмена было, собственно, нечего.
Хотя новая политика не принесла немедленных перемен к лучшему, ведь поначалу она оказалась даже менее продуктивна, чем продразверстка, но она знаменовала значительный сдвиг в коммунистическом сознании, давший впоследствии положительные результаты. Ибо в противоположность прежней практике, считавшей крестьян лишь объектом эксплуатации, продналог хоть в какой-то мере учитывал и их интересы.
Если экономическая польза новой аграрной политики была не сразу очевидна, то политическая ее выгода обнаружилась тотчас же. Отмена продразверстки лишила «горючего» мужицкие бунты. На следующий год Ленин мог заявить, что крестьянские восстания, прежде «определявшие общую картину России», прекратились. [Ленин В.И. Соч. 3-е изд. Т. 27. С. 347. Текст этого пассажа в последующих изданиях сочинений Ленина (Полн. собр. соч. Т. 45. С. 285) звучит иначе.].
Вводя продналог, большевики не помышляли о том, какие еще важные перемены это вызовет к жизни, ибо не предполагали что-либо менять в центральном управлении народным хозяйством, и тем более не собирались терять государственную монополию в торговле и легкой промышленности. Они твердо рассчитывали собрать излишки зерна путем обмена его на товары легкой промышленности. Вскоре стало очевидно, что эти надежды беспочвенны, в связи с чем, шаг за шагом, им приходилось проводить все более смелые реформы, создавшие в конце концов тот уникальный гибрид социализма и капитализма, который и носил название новой экономической политики (этот термин впервые вошел в обиход зимой 1921—1922 гг.)95. Продналог «неизбежно подразумевал возрождение для крестьянства всех прав торговли в той части излишков зерна, которая оставалась в их распоряжении (в противном случае эта мера оказалась бы не более чем номинальной уступкой, не способной побудить увеличение сельхозпроизводства). Это, в свою очередь, вело к восстановлению рынка сельскохозяйственной продукции, а вслед за тем рыночных отношений, как естественного связующего звена между сельским хозяйством и промышленностью, и реанимации сферы денежного обращения»96.
Продналог, таким образом, неизбежно вел, в первую очередь, к реставрации частной торговли зерном и другими сельхозпродуктами — а ведь не прошло и пятнадцати месяцев с тех пор, как Ленин клялся, что скорее все вымрут, чем он ослабит государственную монополию на торговлю зерном97. Кроме того, это означало возврат к привычной денежной практике, со стабильной валютой, обеспеченной общепризнанными ценностями. Далее следовало ожидать отказа от государственной монополии в промышленности, поскольку крестьяне проявляли готовность расстаться с излишками только при условии, если могли приобрести на них продукцию легкой промышленности: а это, в свою очередь, влекло приватизацию доброй доли производства потребительских товаров. Таким образом, экстренные меры, предназначенные загасить пылающее всенародное восстание, увлекли большевиков на неизведанную тропу, которая могла привести к реставрации капитализма и увенчаться установлением «буржуазной демократии». [Хотя считается, что «военный коммунизм» был импровизацией, а нэп спланированным шагом, в действительности все было наоборот.].
В период между 1922 и 1924 гг. Москва отказалась от идеала безденежной экономики и обратилась к традиционной финансовой практике. Переход к денежным обязательствам был затруднен из-за того, что правительству требовались горы бумажных денег, чтобы покрыть бюджетный дефицит. В первые три года нэпа в Советском Союзе одновременно существовали две денежные системы: одну представляли собой практически обесценившиеся бумажки, называвшиеся дензнаками или совзнаками; другую — новые золотые рубли, называвшиеся «червонцами».
Бумажные рубли выпускались со скоростью, с какой только могли работать печатные станки. В 1921 г. их выпуск составил 16 триллионов, в 1922-м около двух квадриллионов: «Число из 16 знаков под более ясным экономическим небосклоном скорее ассоциировалось бы с астрономией, чем с финансами»98. Крестьяне отказывались принимать «бумажки» и предпочитали иные эквиваленты, главным образом меры зерна.
Продолжая наводнять страну ничего не стоившими «бумажками», правительство предприняло меры для создания новой прочной валюты. Финансовые реформы были поручены Н.Н.Кутлеру, бывшему банкиру и министру в кабинете Сергея Витте, ставшему после ухода с государственной службы депутатом от кадетов в Думе, и Г.Я.Сокольникову, новому наркому финансов. Кутлер вошел в правление Госбанка, который был создан по его совету в октябре 1921 г. По его же рекомендации власти выпустили новую валюту и произвели пересчет государственного бюджета в царских рублях99. (Двумя годами позже подобную реформу провели в Германии под эгидой директора Рейхсбанка Ялмара Шахта.) В ноябре 1922 г. Госбанку было дано право выпустить червонцы трех разных достоинств, обеспеченные на 25% золотыми слитками и иностранными валютными резервами, а в остальном товарами и краткосрочными облигациями; каждый новый рубль представлял 7,7 грамма чистого золота, то есть золотой эквивалент 10 царских рублей. [В царской России червонцами назывались золотые монеты; большинство советских червонцев выпускались в виде бумажных, но имели хождение и металлические.]. Червонцы, предназначенные более для крупных денежных операций между государственными предприятиями, чем в качестве законного платежного средства, циркулировали наряду со старыми дензнаками, которые, несмотря на астрономические номиналы, были необходимы для мелких розничных сделок. (Ленин, недовольный восстановлением прежнего значения золота в денежной политике, пообещал, что, как только коммунизм победит в глобальном масштабе, этот металл будет применяться только при постройке сортиров100.) К февралю 1924 г. девять десятых всех расчетов производились в червонцах101, в это время бумажные рубли были изъяты из обращения и заменены «государственными казначейскими билетами», приравненными по значению к одному царскому рублю. Тогда же крестьянам позволили расплачиваться по налогам с государством не только продуктами, но и частично или полностью деньгами.
Закономерные изменения претерпела и налоговая система, приобретая все более традиционный облик. Государственный бюджет, исчисляемый золотыми рублями, урегулировался. Дефицит, который в 1922 г. достигал более половины расходных статей бюджета, постепенно сокращался. Законы, изданные в 1924 г., запрещали выпуск банкнот как средства покрытия дефицита102.
Несмотря на сопротивление новых руководителей национализированных предприятий, были изданы декреты, поощряющие мелкое частное и кооперативное производство, владельцам которого придали статус юридических лиц и позволили использовать труд ограниченного числа наемных рабочих. Крупные предприятия оставались в руках государства и пользовались его субсидиями. Прекрасно понимая, что нэп грозит подорвать социалистические основы государства, а вместе с ними и саму основу власти, Ленин озаботился тем, чтобы «командные высоты» экономики оставались в руках правительства: банки, тяжелая промышленность, международная торговля103, а также транспорт. Средним предприятиям было предложено перейти на самофинансирование, то есть ввести так называемый хозрасчет. Производства, неспособные работать по новой системе или малоэффективные, подлежали сдаче в аренду104: более 4 тыс. предприятий, большую долю которых составляли мукомольни, взяли внаем либо прежние владельцы, либо кооперативы105. Эти экономические уступки правительства были особенно значимы с точки зрения принципов, которые они внедрили в жизнь, особенно в отношении права на использование наемного труда, вызывавшего особое негодование социалистов. Однако их реальный эффект оказался малоощутимым. В 1922 г. 92,4% от общего объема национального промышленного производства в стоимостном выражении приходились на долю государственных предприятий106.
Переход на хозрасчет заставил отказаться от сложной системы распределения бесплатных услуг и товаров, благодаря которой зимой 1920—1921 гг. удовлетворялись на казенный счет основные нужды 38 миллионов граждан107. Почтовые и транспортные услуги стали платными. Рабочие получали заработок и должны были приобретать продукты на свободном рынке. Продовольственные нормы тоже постепенно отменили. Шаг за шагом розничная продажа приватизировалась. Гражданам разрешалось приобретать недвижимость в городах, владеть издательствами, фармацевтическими производствами и сельскохозяйственной техникой и орудиями. Было отчасти восстановлено наследственное право, упраздненное в 1918 г.108.
Нэп породил непривлекательный тип дельца, весьма далекий от образа классического «буржуя»109. Отношение окружающих к частному предпринимательству было таким недружелюбным, а его будущее столь неопределенным, что те, кто рискнул воспользоваться экономическими свободами, не задумываясь о завтрашнем дне, спешили насладиться своим достатком сегодня же. На презрение к ним правительства и общества «нэпманы» отвечали той же монетой. На фоне всеобщей нищеты и голода они утопали в кичливой безвкусной роскоши и нарочито выставляли ее напоказ, без зазрения совести кутили в ресторанах и ночных клубах со своими дамами, щеголявшими драгоценностями и мехами.
Совокупный результат всех мер, обеспечивших развитие новой экономической политики, безусловно положителен, хотя и не ровен по всем показателям. Определить в точности их эффект невозможно, ибо советская статистика в области экономики крайне ненадежна, и ее данные, в зависимости от источника, могут расходиться на несколько сотен процентов. [Так, например, на X съезде партии Зиновьев заявил, что членами «пролетарских» профсоюзов в 1921 г. являются 4,5 млн человек (Десятый съезд РКП(б) Стеногр. отчет. С. 343). Согласно другому советскому источнику, в России в 1922 г. было всего 1,1 млн рабочих (Советское народное хозяйство в 1921-1925 гг. М., 1960. С. 531).].
Положительный эффект сказался прежде всего и главным образом на сельском хозяйстве. В 1922 г., благодаря пожертвованиям и закупкам посевного зерна за границей, а также благоприятной погоде, Россия получила очень хороший урожай. Вдохновленные новой налоговой политикой крестьяне увеличили размеры пахотной земли: площадь, занятая под посевы в 1925 г., сравнялась с 1913 годом110. Производительность, тем не менее, не достигала дореволюционного уровня, соответственными были и урожаи: даже в 1928 г., накануне коллективизации, они оказались на 10% ниже уровня 1913 г.
Рост промышленного производства шел замедленно из-за нехватки капиталов, изношенности оборудования и иных причин, требующих немедленного устранения. Иностранные концессии, на которые так рассчитывал Ленин, сыграли слабую роль, поскольку деловые люди Запада не решались на инвестиции в стране, которая не возвращала займов и национализировала средства производства. Советская бюрократия, враждебно настроенная к зарубежному капиталу, делала все, что было в ее силах, чтобы воспрепятствовать концессиям, прибегая к разным средствам канцелярской волокиты. Да и ЧК, а затем ГПУ сыграли свою роль, расценивая всякую иностранную экономическую деятельность в России как предлог для шпионажа. В последний год нэпа (1928) в Советском Союзе было только 31 действующее иностранное предприятие с капиталом (в 1925 г.) всего 32 млн руб. (16 млн долларов). Большинство их занимались не производством, а эксплуатацией российских природных ресурсов, в особенности леса, где использовалось 85% западного капитала, вложенного в концессии111.
Нэп препятствовал всеобъемлющему планированию народного хозяйства, которое большевики считали неотъемлемой чертой социализма. Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) отказался от идеи организации экономики и сосредоточился, в меру своих возможностей, на управлении практически бездействующей индустрией посредством кредитов. Государством выдавались кредиты финансовые и сырьевые (в виде сырья и оборудования) — другие необходимые для производства материалы производители могли приобрести на свободном рынке. Вся продукция, сверх необходимого для покрытия расходов, передавалась государству. С целью планирования экономики Ленин в феврале 1921 г. создал новое учреждение, известное как Госплан (Государственная плановая комиссия), первой задачей которого было разработать всеобщую систему электрификации, которая должна была заложить основу будущего индустриального и социалистического развития страны. Еще до нэпа, в 1920 г., Ленин создал Государственную комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО), которая в ближайшие 10—15 лет должна была провести электричество в деревню, в основном используя энергию гидростанций. Он возлагал фантастические надежды на этот проект, способный, по его мнению, покончить со всеми пока неразрешимыми проблемами. Его чаяния нашли выражение в знаменитом призыве, точный смысл которого не слишком ясен и сегодня: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны»112. В решениях XII съезда партии (1923) электрификация описывается как центральный момент планирования народного хозяйства и «краеугольный камень» экономического развития России. Ленин вкладывал в это еще больший смысл. Он искренне верил, что электрический свет истребит дух капитализма в его последнем прибежище — крестьянском хозяйстве — и подорвет веру в Бога: Симон Либерман слышал рассуждения Ленина о том, что электричество заменит крестьянину Бога и он станет молиться на него113.
Весь план был еще одной утопией, не учитывающей затрат и зашедшей в тупик из-за нехватки средств: скоро стало понятно, что его реализация требует ежегодных затрат в размере 1 триллиона золотых рублей (500 миллиардов долларов) в период на ближайшие 10—15 лет. «При наличии практически не работающей отечественной индустрии и полным отсутствии сельскохозяйственного экспорта для закупки за границей необходимого оборудования и технической документации, — по словам одного советского историка, — вся эта затея с электрификацией действительно смахивала на "электрофикцию"»114.
В целом экономические мероприятия, проводившиеся с марта 1921 г., выражали, по сути, утрату прежних иллюзий о построении коммунизма в России. Одерживая победы всюду, где решала грубая сила, большевики оказались наголову разбиты на хозяйственном фронте, бессильные перед непреложными законами экономики. В октябре 1921 г. Ленин признал: «Мы рассчитывали — или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета — непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку»115.
* * *
Для большевиков утрата контроля над экономикой, позволившая хоть в известных пределах возродиться частному предпринимательству, таила серьезную политическую угрозу. Поэтому экономическую либерализацию они сопроводили усилением контроля в сфере политической. На XI съезде партии Ленин так объяснял резоны этой, казалось бы, противоречивой политики: «Отступать после победоносного великого наступления страшно трудно; тут имеются совершенно иные отношения; там дисциплину если и не поддерживаешь, все сами собой прут и летят вперед; тут и дисциплина должна быть сознательней и в сто раз нужнее, потому что, когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление, тут иногда достаточно и немногих панических голосов, чтобы все побежали. Тут опасность громадная. Когда происходит такое отступление с настоящей армией, ставят пулеметы и тогда, когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командуют: "Стреляй!". И правильно». [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 88—89. Ленин уже говорил о пулеметах как средстве решения политических проблем на предыдущем X съезде партии. Когда же докладчик от рабочей оппозиции указал на опасность обращения пулеметов против несогласных, Ленин, по-видимому, единственный раз в жизни принес публичные извинения и пообещал никогда не прибегать к таким выражениям (Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 544). Вероятно, он позабыл о своем обещании, потому что через год заговорил в том же духе.].
Период с 1921 по 1928 г. характеризовался, таким образом, сочетанием экономической либерализации с усилением политических репрессий. Последние выразились в подавлении тех независимых институтов, которые еще сохранились в России, а именно православной церкви и конкурирующих социалистических партий, в усилении карательных мер по отношению к интеллигенции и университетам, сопровождавшихся массовыми высылками из страны представителей духовной элиты, признанных наиболее опасными, в ужесточении цензуры и уголовного законодательства. Тем, кто возражал, что такие действия могут произвести дурное впечатление за границей как раз в тот момент, когда экономическая либерализация возвысила престиж государства, Ленин отвечал, что нет нужды «угождать "Европе"», а следует «продвинуться дальше в усилении вмешательства государства в "частноправовые отношения ", в- гражданские дела»116.
Главным орудием такого вмешательства была политическая полиция, которая при нэпе была преобразована из орудия слепого террора во всеохватывающее ведомство государственного аппарата. Согласно служебной инструкции, в ее новые задачи входило пристально следить за экономическими условиями, предотвращать «саботаж» антисоветских партий и иностранного капитала и обеспечить высокое качество и своевременную поставку товаров государству117. Чтобы понять, насколько политическая полиция пронизывала все сферы советской жизни, достаточно взглянуть на то, какие посты занимал в разное время ее глава Ф.Э.Дзержинский: наркома внутренних дел, наркома путей сообщения, председателя ВСНХ.
ЧК ненавидели все, и дурную славу, какую она заслужила, проливая потоки невинной крови, упрочило еще и мздоимство и коррупция, процветавшие в ее аппарате. В конце
1921 г. Ленин решил реформировать ЧК по образцу царской тайной полиции. Из сферы полномочий ЧК изымались обычные преступления (в противоположность государственным), которые отныне переходили в ведение Комиссариата юстиции. В декабре 1921 г., приветствуя успехи ЧК, Ленин разъяснял, что при нэпе требуются иные методы безопасности и что «революционная законность» была велением времени: стабилизация страны сделала возможным «сужение» функций политической полиции118.
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) была распущена 6 февраля 1922 г. и немедленно заменена другой организацией, с безобидным названием Государственное политическое управление (ГПУ). (В 1923 г., после образования Советского Союза, она была переформирована в ОГПУ, то есть Объединенное ГПУ.) Руководство осталось неизменным, и во главе его, как и прежде, стоял Дзержинский, его заместителем — Я.Х.Петерс, да и все прочие остались на своих местах, «так что почти ни один чекист не покинул Лубянку»119. Как и царский департамент полиции, ГПУ входило в состав министерства, или, по-новому, комиссариата внутренних дел. Ему вменялось в обязанность подавление «открытых контрреволюционных выступлений, в том числе бандитизма», борьба со шпионажем, охрана железных дорог и водных путей, охрана государственных границ и «выполнение специальных поручений по охране революционного народа»120. Другие преступления попадали в сферу действия судов и революционных трибуналов.
На первый взгляд, ГПУ пользовалось меньшими правами, чем ЧК. Но в действительности это было не так. Ленин и его сподвижники верили, что проблемы создают люди и что решить их можно, устранив смутьянов. В марте 1922 г., не прошло и месяца после создания ГПУ, Ленин наставлял Петерса, что ГПУ «может и должно бороться со взяточничеством и другими экономическими преступлениями» и карать расстрелом по суду: директиву на этот счет следовало представить Наркомюсту через Политбюро121. Декрет от 10 августа уполномочил Наркомвнудел в административном порядке высылать граждан, причастных к «контрреволюционной деятельности», за границу или в установленные местности в России сроком до трех лет122. В приложении к этому декрету, изданному в ноябре, ГПУ даровалось право бороться с «бандитизмом», как оно сочтет необходимым, не прибегая к законной процедуре, вплоть «до казни через расстрел», кроме того, позволялось сопровождать ссылку принудительным трудом123. В январе 1923 г. судебные полномочия ГПУ были еще более расширены правом применять административную высылку «к лицам, пребывание коих в данной местности (и в пределах Р.С.Ф.С.Р.) представляется по их деятельности, прошлому, связи с преступной средой с точки зрения охраны революционного порядка опасным»124. Как и при царизме, высланных сопровождали под вооруженным конвоем до места назначения, часто пешком в суровых условиях. Теоретически приговор о высылке выносил Комиссариат внутренних дел по рекомендации ГПУ, на деле рекомендация ГПУ была равносильна приговору. 16 октября 1922 г. ГПУ получило право выносить приговор и даже приводить его в исполнение без суда в отношении лиц, повинных в вооруженном грабеже и бандитизме и пойманных на месте преступления125. Таким образом, менее чем за год с момента своего возникновения как органа «революционной законности» ГПУ обрело равные с ЧК права распоряжаться жизнями советских граждан.
ГПУ/ОГПУ представляло собой сложную структуру, со специализированными отделами, ответственными не только за вопросы, входящие в юрисдикцию политической полиции, как, скажем, экономические преступления и подстрекательство к мятежу в вооруженных силах. Несмотря на вынужденное сокращение штата с 143 тыс. в декабре 1921 г. до 105 тыс. сотрудников в мае 1922-го126, ГПУ оставалось весьма внушительной организацией. Ведь помимо гражданского персонала оно располагало военизированными частями, которые в конце 1921 г. насчитывали сотни тысяч бойцов и командиров, а также особыми пограничными войсками численностью 50 тыс. человек127. Размещенные по всей стране, эти войска выполняли функции, сходные с теми, которые были присущи царскому Отдельному корпусу жандармов. ГПУ создало агентуру за границей с двойной задачей: следить за русской эмиграцией и сеять разлад в ее среде, а также приглядывать за работниками Коминтерна. ГПУ, кроме того, помогало Главлиту Наркомпроса исполнять цензурные обязанности, и в его ведении находилось большинство тюрем. Вообще говоря, трудно назвать сферу общественной деятельности, в которую бы не вмешивалось или не внедрялось ГПУ.
При нэпе сеть концентрационных лагерей расширилась: с 84 в конце 1920 г. до 315 в октябре 1923-го128. Частью лагерей заведовал Комиссариат внутренних дел, другими ГПУ. Самые известные из них были расположены на крайнем Севере, на Соловках (Соловецкий лагерь особого назначения, или СЛОН), откуда редко кто выходил живым. Здесь вместе с обычными преступниками содержались пленные белогвардейские офицеры, участники крестьянских восстаний в Тамбове и других губерниях и матросы Кронштадта. Смертность среди заключенных была очень высокой: за один год (1925) в СЛОНе зарегистрировано 18 350 умерших129. Когда летом 1923 г. лагерь оказался переполнен, власти расширили его за счет строений древнего монастыря на Соловецких островах, который использовался для заключения лиц, обвиненных в антигосударственной или антицерковной деятельности, еще со времен царствования Ивана Грозного. В 1923 г. в Соловецком лагере, самом крупном в системе ГПУ, содержалось 4 тыс. заключенных, включая 252 социалиста130.
В период нэпа принцип «революционной законности» в России нарушался с той же легкостью, с какой прежде, и не только из-за чрезвычайных судебных полномочий, присвоенных ГПУ, но и потому, что Ленин рассматривал закон как орудие политики, а суды — как верных слуг правительства. Его концепция права стала ясна в 1922 г., когда составлялся проект первого в советском государстве уголовного кодекса. Недовольный проектом, представленным наркомом юстиции Д.И.Курским, Ленин дал точные указания относительно политических преступлений. К ним он относил «пропаганду, или агитацию, или участие в организации, или содействие организациям, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи» международной буржуазии. Такие преступления карались «высшей мерой наказания» либо, при смягчающих вину обстоятельствах, лишением свободы или высылкой за границу131. Ленинские формулировки напоминали столь же расплывчатые определения политических преступлений из Уложения о наказаниях 1845 г., составленного в царствование Николая I, где предусматривались суровые кары лицам, «изобличенным в составлении и распространении письменных или печатных сочинений или изображений с целью возбудить неуважение к Верховной власти, или же к личным качествам Государя, или к управлению Его государством». При царизме, однако, такие действия не карались смертью132. Следуя ленинским инструкциям, советские юристы составили «всеядную» — omnibus clause — статью 57, которая предоставила судам полное право приговаривать неугодных за так называемую контрреволюционную деятельность, которой Сталин впоследствии воспользовался, придавая вид законности развязанному им террору. Из указаний, данных Лениным Курскому относительно назначения правосудия, совершенно ясно, что вождь прекрасно понимал, к чему могут привести его инструкции: «открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора... Суд должен не устранить террор... а обосновать и узаконить его принципиально»133. Впервые в истории права функции судебной процедуры определялись не в смысле отправления правосудия, а для устрашения населения.
Советские историки права, обсуждая правоприменительную практику 20-х годов, определяли закон как «дисциплинирующее начало, способствующее укреплению советского государства и развитию социалистической экономики». [Сорок лет советского права. Т. 1. Л., 1957. С. 72. Эта концепция продолжала, по духу, если не буквально, царскую традицию. По словам одного из специалистов по конституционному праву в дореволюционной России, функция права заключалась не столько в установлении правосудия, сколько в поддержании общественного порядка (Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1909. Т. 1. С. 215—222)]. Это определение оправдывало репрессии по отношению к любому отдельному лицу или группе лиц, которые, по мнению властей, наносили вред интересам государства или препятствовали развитию нового экономического порядка. Таким образом, «ликвидация» «кулаков», произведенная Сталиным в 1928—1931 гг., в ходе которой миллионы крестьян были лишены имущества и депортированы из родных мест, в основном по лагерям, где находили свою смерть, проводилась строго в рамках ленинской юриспруденции134. Согласно статье 1 первого советского Гражданского кодекса 1923 года гражданские права охраняются законом, только если они не осуществляются «в противоречии с их социально-хозяйственным назначением»135.
Чтобы судьям было проще исполнять новые обязанности, Ленин освободил их от традиционных юридических норм и процедур. Преступное деяние определялась не по формальным критериям — нарушение закона, — но по тем потенциальным последствиям, которые это деяние могло за собой повлечь, то есть согласно некоему «материальному» или «социологическому» стандарту, определявшему преступление как «всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку»136. Виновность могла быть также установлена путем доказательства «намерения», объектом наказания становилось «субъективное уголовное намерение». [Schlesinger R. Soviet Legal Theory. New York, 1945. P. 76. И в этом случае тоже существует исторический прецедент: в Уложении 1649 г. в случаях, касающихся преступлений против государства, не делается различия между намерением и деянием (Пайпс Р., Россия при старом режиме, М., 2004. С. 155).]. В 1923 г. в приложении к статье 57 Уголовного кодекса дается столь широкое определение «контрреволюционной» деятельности, что оно перекрывает собой любое деяние, не угодное властям. Помимо действий, совершаемых с явной целью свержения или ослабления сушествующего строя, или оказания помощи «международной буржуазии», как «контрреволюционное» квалифицируется действие, «которое, не будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, тем не менее, заведомо для совершившего деяние, содержит в себе покушение на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской революции»137.
Согласно такому определению, намерение получить прибыль, например, может быть истолковано как контрреволюционная деятельность и вполне заслуживать высшей меры наказания. Комментируя изменение статьи 57, Н.В.Крыленко отмечал, что такая «эластичность» карательной политики нужна для того, чтобы бороться с преобладающими «скрытыми формами контрреволюционной деятельности»138. Принцип «аналогий» позволял судить граждан за преступления, не описанные непосредственно в кодексе, но сходные по сути (статья 10 Уголовного кодекса). [Этот принцип применялся следующим образом: «[ст.ст. 57 и 74 дают] общее определение преступлений контрреволюционных и против порядка управления. На основании ст.ст. 57 и 74, если бы было совершено деяние, подпадающее под общее понятие государственного преступления, но в Кодексе в качестве отдельного вида не предусмотренное, то в силу статьи 10 могла быть применена статья того же раздела, по содержанию наиболее сходная» (Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР: Часть особенная. Л., 1925. С. 7).].
Такие стандарты были весьма растяжимыми. Советский юрист А.Н.Трайнин, доводя партийную философию права до ее логического завершения, доказывал в 1929 г., то есть пока еще сталинский террор не развернулся в полную силу, что существуют случаи, когда «уголовная репрессия применяется при отсутствии "вины"»139. Трудно зайти дальше в разрушении основ права и законности.
Целью судебных заседаний, проводившихся на этих принципах, было не доказательство вины или невиновности — это предопределялось заранее партийными властями, — но получение еще одной трибуны для политической агитации и пропаганды с целью воспитания населения. Юристы, взявшие на себя роль защитников на судебном процессе, должны были состоять в Коммунистической партии и принимали виновность своих подзащитных как данность, ограничиваясь приведением смягчающих обстоятельств. Пока был жив Ленин, «чистосердечное» признание своей вины вкупе с ложными свидетельствами против других подзащитных еще могли спасти подсудимого или хотя бы смягчить приговор. Позднее даже этого стало недостаточно.
Жертвами судебного маскарада в первую голову становились, понятно, те обвиняемые, судьба которых была предрешена политическими или пропагандистскими соображениями. Но и общество в целом платило дорогую цену. В России народ в массе своей всегда относился к закону и судам с большим недоверием, преодолеть которое постепенно помогли судебные реформы 1864 г. И вот теперь приходилось усваивать новую науку: правосудие, как в том убеждала большевистская практика, это то, что угодно властям. И если признавать, что уважение к закону есть фундаментальное условие нормальной жизнедеятельности общества, то ленинское формализованное беззаконие было антисоциальным в полном смысле этого слова.
* * *
Ленин жаждал битвы — политические сражения были его истинным призванием. Но для этого ему требовался достойный противник. Дважды потерпев тяжкое поражение — сначала неудачи с экспортом революции, а затем провал при построении социалистической экономики в своем отечестве, — он обратил боевой пыл на борьбу с вымышленными врагами. И жертвы, которые он избрал, не были повинны в том, что они совершили что-либо противозаконное или хотя бы намеревались совершить: просто самим своим существованием они угрожали революционной законности.
Главными объектами его гнева стали духовенство и социалисты.
Кронштадт, Тамбов, а также требования демократических перемен, идущие из недр самой Коммунистической партии (см. ниже: гл. 9), внушили Ленину мысль, что эсеры и меньшевики не дремлют, используя экономический кризис для подрыва режима. Он не мог признаться даже самому себе, что у людей могут быть веские причины для недовольства его властью: обнаруживая образ мыслей, приличествующий скорее служащему царского департамента полиции, он усматривал в любой смуте плоды деятельности вражеских агитаторов. В действительности эсеры и меньшевики вполне приспособились к ленинскому диктаторству, позволявшему им делать то же, что и при царизме: ворчать и критиковать, не неся ответственности. Они тысячами вступали в Коммунистическую партию. В октябре 1920 г. ЦК эсеров запретил вести вооруженную борьбу против советской власти. Но согласно большевистской логике: чего желает человек «субъективно» и кем он является «объективно» — совсем не одно и то же. Как говорил Дзержинский арестованному эсеру: «Субъективно вы революционер, каких побольше бы, но объективно вы служите контрреволюции». [Jansen M.A Show Trial under Lenin. The Hague, 1982. По этому принципу, «объективно», разумеется, Ленин в 1917—1918 гг. был германским агентом.]. По словам другого чекиста, Петерса, несущественно, поднимали или нет социалисты оружие против Советской России — все равно они должны быть уничтожены140. Пока шла гражданская война, эсеров и меньшевиков терпели, поскольку они помогали большевикам в борьбе с белыми. Преследования их начались, как только военная угроза отпала. Пристальное наблюдение, сопровождавшееся арестами, началось в 1920-м и усилилось в 1921 году. 1 июня 1920 г. ЧК распространила по своим отделам на местах циркуляр, в котором указывалось, как обращаться с эсерами и меньшевиками, и немало места отводилось сионистам. Циркуляр предписывал «обращать сугубое внимание на разлагающую деятельность меньшевиков, работающих в профсоюзах, в кооперации, и в особенности среди печатников; тщательно собирая обвинительный материал, привлекать их к ответственности, не как меньшевиков, а как спекулянтов и подстрекателей к забастовкам и т.д.». Что касается сионистов, то органы безопасности должны были собирать сведения о всех известных сторонниках этого движения и следить за ними, запрещать устраивать собрания и разгонять незаконные, читать их корреспонденцию, не давать разрешения на передвижение по железной дороге и «постепенно под разными предлогами занимать их помещения, мотивируя это необходимостью для военных и других учреждений»141.
Но преследования и аресты социалистов не решали вопроса до тех пор, пока их идеи находили сочувствие у определенной части населения: Ленину нужно было дискредитировать их, представив как предателей, и в то же время продемонстрировать, что критика его режима и слева, и справа равносильна контрреволюции. Говоря словами Зиновьева: «Всякая критика партийной линии, хотя бы так называемая "левая", является ныне объективно меньшевистской критикой»142. Чтобы расставить все точки над i, Ленин провел первые в Советской России показательные суды.
В качестве жертв он избрал эсеров, а не меньшевиков, поскольку первые пользовались почти всеобщей симпатией среди крестьянства. Аресты членов партии ср. начались во время Тамбовского восстания: к середине 1921 г. тысячи их, включая членов ЦК, сидели в тюрьмах.
Затем, летом 1922 г., начались судебные процессы143. Решение предать эсеров суду Верховного революционного трибунала при ВЦИК было принято 28 декабря 1921 г. по рекомендации Дзержинского144, но осуществление постановления отложили на полгода, чтобы дать чекистам возможность подготовить необходимые свидетельства. Главной уликой предстала книга Г.Семенова-Васильева, бывшего эсеровского боевика, ставшего осведомителем ЧК, опубликованная в Берлине в 1922 г.145. Как во всякой удачной фальсификации, в ней сплелись правда и ложь. Семенов, имевший отношение к покушению на жизнь Ленина, совершенному Фанни Каплан в августе 1918 г., приводит некоторые любопытные подробности этого акта, но при этом коварно приплетает к нему лидеров эсеров. Впоследствии он предстал перед судом одновременно и как обвиняемый, и как главный свидетель обвинения. 20 февраля 1922 г., за неделю до объявления процесса над эсерами, Ленин направил сердитое письмо наркому юстиции, сетуя на его нерасторопность в борьбе с политическими и экономическими преступлениями. Репрессии против меньшевиков и эсеров должны были быть усилены с помощью ревтрибуналов и нарсудов. Он подчеркивал: требуются «постановки ряда образцовых (по быстроте и силе репрессии; по разъяснению народным массам, через суд и через печать, значения их) процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах; воздействие на нарсудей и членов ревтрибуналов через партию в смысле улучшения деятельности судов и усиления репрессии; — все это должно вестись систематично, упорно, настойчиво, с обязательной отчетностью»146.
Троцкий поддержал предложение Ленина и в письме в Политбюро призвал провести суд, который имел бы характер «законченного политического произведения»147. Как и в случае с духовенством, последовавшее действо более напоминало театр агитпропа, чем трибунал: тщательно подобраны исполнители и заранее распределены роли, придуманы свидетельства, для оправдания суровости правосудия создана соответствующая атмосфера непримиримости, сами приговоры предопределены партийными органами, а «массам» отведена роль публики в уличном балагане. Самые элементарные процедурные формальности отброшены, подсудимые обвинялись в преступлениях, которые на то время, когда они якобы совершались, не квалифицировались как таковые, ибо кодекс, по которому их судили, был утвержден всего лишь за неделю до процесса, когда все подследственные уже находились в тюрьмах.
Оповещение президиума ГПУ о том, что лидеры так называемых правых эсеров предстанут перед Верховным революционным трибуналом по обвинению в контрреволюционной деятельности, включая терроризм и вооруженные операции против советского правительства, сделанное 28 февраля148, вызвало волнение среди социалистов на Западе, где у эсеров было много друзей. Как будет показано ниже, как раз в это время Москва была заинтересована в создании «единого фронта» с европейскими социалистами. Чтобы успокоить их, Радек на совместной конференции Социалистического и Коммунистического интернационалов в Берлине в апреле 1922 г. заверил, что обвиняемые смогут пригласить своих защитников и что высшая мера к ним не будет применяться. Ленин был взбешен таким соглашательством («Мы заплатили слишком дорого» называлась его статья на эту тему) [Этот документ, опущенный в предыдущих изданиях ленинских работ, был впервые опубликован в 1964 г. в полном собрании сочинений (Т. 44. С. 396—400). Ленин запрещал всякое публичное упоминание о его содержании, потому что «глупо открывать врагу нашу стратегию» (там же. С. 399)] и обещанием не применять смертной казни. Он, однако, разрешил подсудимым эсерам воспользоваться помощью независимых защитников из-за рубежа, прекрасно понимая, что всегда можно будет устроить так, что те все равно будут не в состоянии исполнять свои обязанности.
Список действующих лиц был тщательно продуман. Обвиняемых — всего 34 человека — разделили на две группы: 24 несомненных и неисправимых, так сказать, «закоренелых преступника», среди них 12 членов ЦК эсеров во главе с Абрамом Гоцем и Дмитрием Донским. Другую категорию составляли второстепенные персонажи — подсудимые, изъявившие готовность сотрудничать со следствием, и их роль заключалась в даче показаний в пользу обвинения, признаниях и раскаянии в «преступлениях», в обмен на что им обещали оправдательный приговор. Целью этого представления было убедить рядовых эсеров порвать все связи со своей партией 149.
Роль главного обвинителя поручили Н.В.Крыленко, который был известен как сторонник осуждения невиновных в качестве меры убеждения населения150. Суд над эсерами явился для него хорошей школой для предстоящих сталинских показательных процессов 30-х годов, где он выступал как прокурор республики. Сейчас в ходе судебного разбирательства ему помогали Луначарский и историк М.Н.Покровский. Председательствующим был Г.Л.Пятаков, член ЦК РКП(б). Защищали обвиняемых три бригады, одна из которых, состоявшая из четырех социалистов, приехала из-за рубежа: ее глава, бельгиец Эмиль Вандервельде, был председателем Международного бюро Второго Интернационала и бывшим министром юстиции Бельгии. На железнодорожных станциях по пути в Москву местное население в порыве «праведного негодования» осыпало их проклятиями и угрозами расправы, а в Москве их ждала хорошо организованная толпа с криками «Долой предателей рабочего класса!». Дзержинский дал указание своим сотрудникам начать планомерную «кампанию» по дискредитации Вандервельде, сделав достоянием гласности его привычку делать маникюр и носить башмаки на шнуровке151. Вторую бригаду защитников назначили сами устроители спектакля: в нее входили Бухарин и М.П.Томский, оба члены Политбюро. Им отводилась роль просить суд о предоставлении подсудимым, которые искренне раскаялись в содеянном, возможности «морально реабилитироваться».
В ходе предварительного следствия, длившегося три месяца, Крыленко удалось обработать многих свидетелей. Пытки в прямом смысле к ним не применялись, но следователи знали много иных способов воздействия и принуждения. Члены ЦК эсеровской партии не сломились: наоборот, по примеру политических процессов 70-х годов прошлого века они надеялись использовать суд как трибуну для обличения власти. В ходе процесса они держались с большим достоинством — эсеров всегда отличала не столько политическая мудрость, сколько отчаянный героизм.
Заседания суда открылись 8 июня 1922 г., через месяц после окончания московского суда над духовенством и за четыре дня до начала сходного антицерковного процесса в Петрограде. Всем подсудимым предъявлялось обвинение в ведении вооруженной борьбы против Советского государства, в организации Тамбовского восстания, а также в актах саботажа и терроризма и, в частности, в организации покушения на жизнь Ленина, исполнителем которого была Фанни Каплан. На заседания трибунала, проходившие в Колонном зале здания бывшего московского Дворянского собрания, публика допускалась только по билетам, которые выдавались, за редким исключением, лишь благонадежным партийным активистам. В ходе слушаний публика вела себя как в настоящем агиттеатре: аплодировала обвинению и освистывала подсудимых и их адвокатов. Зарубежные защитники выразили протест против некоторых характерных особенностей судебного разбирательства: что все заседатели являлись членами Коммунистической партии, что многих свидетелей лишили возможности представить суду свои показания, что на суд не допустили большинство пришедших друзей подсудимых. Эти и другие возражения были отклонены на том основании, что советский суд не обязан соблюдать «буржуазные» правила. На восьмой день заседаний, после того как Радек взял назад свое обещание о неприменении смертного приговора и после отклонения судом дополнительных естественных требований иностранных защитников, включая право иметь собственного стенографиста, четверо из них объявили, что покидают эту «пародию на правосудие». Один из них впоследствии писал о процессе: «С человеческими жизнями обходились так, словно это был товар»152.
Через две недели заседания приняли еще более уродливый характер. 20 июня власти организовали массовые демонстрации на Красной площади в Москве. Толпа, посреди которой вышагивали судьи в одном ряду с обвинителем, требовала вынесения смертных приговоров подсудимым. Бухарин обратился к народу с речью. Подсудимых вынудили появиться на балконе на посмешище улюлюкающей толпы, казалось, готовой их растерзать. Позднее организованную делегацию пропустили в зал суда, и она дружно завопила: «Смерть убийцам!» Бухарин, игравший жалкую роль в этой комедии, немногим отличавшейся от той, которая 16 лет спустя приговорит к смерти его самого по совершенно сфальсифицированным обвинениям, поблагодарил безумствующую толпу за то, что они дали услышать «голос рабочих». Весь этот эпизод заснял на пленку гений советской кинодокументалистики Дзига Вертов153.
Хотя они не добились даже подобия справедливого суда, эсеры все же получили возможность подвергнуть большевистский режим неограниченной критике — это последний такой случай на советском политическом процессе. В 1931 г., когда сесть на скамью подсудимых настала очередь меньшевиков, их показания были гораздо лучше подготовлены и отрепетированы154.
Приговор, объявленный 7 августа, никого не удивил, ибо Ленин еще раньше ясно дал понять, чего следует ожидать. На XI съезде партии в марте 1922 г., высмеивая их взгляды, он заявил, обращаясь к меньшевикам и эсерам: «Позвольте поставить вас за это к стенке»155. Уолтер Дюранте писал 13 июля в «Нью-Йорк Таймс», что процесс продемонстрировал «справедливость» предъявленных обвинений, что вина большинства подсудимых «доказана» и что будет «несколько смертных приговоров»156. Окончательный приговор был вынесен на основании статьи 57 через статью 60 Уголовного кодекса: 12 человек приговорены к высшей мере, но трое из них, оказавшие содействие суду, помилованы. [Бухарин попросил помилования для Г.Семенова (New York Times. 1922. August 6. P. 16). На показательном процессе над Бухариным шестнадцать лет спустя в связи с обвинением его в планировании террористических актов против советских вождей всплыл и этот эпизод с Семеновым (Jansen М. A Show Trial under Lenin. The Hague, 1982). Семенов, как и Бухарин, сгинул в период сталинских чисток.]. Подсудимые, которые дали показания в пользу обвинения, были тоже прощены. Те, кто входил в первую группу, не признали себя виновными ни по одному из пунктов обвинения: они отказались встать, когда судьи вошли в зал для оглашения приговора, за что были изгнаны, как выразился Дюранте, «с собственных похорон»157.
Хотя поспешное обещание Радека в Берлине было объявлено судом, не имеющим силы, и хотя эсеры не собирались подавать прошение о помиловании, судьи объявили о приостановке исполнения приговора. Это удивительное милосердие, похоже, было вызвано болезненным страхом Ленина перед убийством. Троцкий в мемуарах описывает, что он предложил компромисс: «Смертный приговор со стороны трибунала был неизбежен [!]. Но приведение его в исполнение означало бы неотвратимо ответную волну террора... Не оставалось другого выхода, как поставить выполнение приговора в зависимость от того, будет или не будет партия продолжать террористическую борьбу. Другими словами: вождей партии превратить в заложников»158. Иезуитский ум Троцкого придумал еще одно новшество: сначала приговорить группу людей к смерти за преступления, которые они не совершали и которые вообще не являлись по закону преступлениями на тот момент, когда они будто бы совершались, а затем взять их жизни в залог тех преступлений, которые другие могут совершить в будущем. Ленин, по словам Троцкого, принял это предложение «сразу и с облегчением».
Судьям было велено объявить, что приговоренные к смерти будут казнены «в том случае, если партия эсеров не откажется от методов вооруженной борьбы и террора против Советской власти»159. В январе 1924 г. смертные приговоры были заменены пятью годами тюремного заключения. Об этом заключенные узнали лишь через полтора года, которые они провели на Лубянке в ожидании расправы.
Казнь их все же нашла. В 30-е и 40-е годы, когда уже не оставалось опасности террора против советского руководства, эсеров систематически истребляли. Только двум активным деятелям эсеров — двум женщинам — довелось пережить Сталина160.
* * *
Культурная жизнь при нэпе внешне продолжала сохранять относительное многообразие первых послереволюционных лет. Но уже начались процессы, которые вымостили дорогу тупому единообразию сталинской эпохи. Ведь коль скоро утвердился принцип, что культура должна подчиниться интересам партии и что ее задача содействовать построению коммунистического общества, а инструментом претворения этого принципа в жизнь стало введение цензуры и государственной монополии на всю печатную и сценическую продукцию, превращение культуры в беспрекословную служанку политики стало лишь вопросом времени.
Удивительно, но в данном случае стремление к единообразию шло как бы снизу. Партийные лидеры оказались перед трудным выбором. Они хотели, чтобы культура служила им, однако понимали, что ни при каких условиях нельзя рассчитывать, что искусство и литература станут производить заданную продукцию по плану, словно винтовки или трактора. Поэтому они остановились на компромиссе: заставить замолчать откровенных антисоветчиков и терпеть попутчиков. Эту позицию сформулировал Троцкий: «Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец, области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать»161.
На практике такой подход означал, что за художественным творчеством власти намерены пристально следить, хотя и не вмешиваться непосредственно; журналистику наставлять; а в области высшего образования и науки руководить162. И действительно при нэпе, когда в сфере торговли и кустарного производства власти разрешили частное предпринимательство, едва ли было возможно соблюдать неизменно жесткую позицию по отношению к духовной сфере163. Этих взглядов придерживались Ленин и Бухарин.
Такая терпимость к культуре «классово чуждой» проявлялась на фоне яростных нападок самозваных «пролетарских» писателей164. В большинстве своем это были бесталанные графоманы, не снискавшие признания читателей и вскоре всеми позабытые: по словам директора Госиздата, его предприятие не получило «ни одного запроса на пролетарского писателя»165. Их судьба целиком зависела от покровительства государства, которое им бы не хотелось ни с кем делить. Чтобы добиться благосклонности властей, они рядились в коммунистические одежды, обличая политически нейтральную литературу в контрреволюции и требуя, чтобы вся культура служила большевистской идеологии166. Они пользовались поддержкой полуобразованных партийных руководителей, как правило, по своему происхождению не обремененных интеллигентскими «предрассудками», которых партия бросила на «культурный фронт». Эти чиновники не могли взять в толк рассуждения о том, что творческая интеллигенция, и только она исключительно, не нуждается в партийном контроле167. Им благоприятствовало то обстоятельство, что в начале 1924 г. Троцкий, главный сторонник терпимого отношения к попутчикам, стал терять свое влияние в РКП(б).
Борьба достигла той напряженности, когда партия уже не могла оставаться в стороне. И в мае 1924 г. ЦК выразил свою позицию в несколько двусмысленно звучащей резолюции, принятой XIII съездом, в которой говорилось, что хотя ни одна литературная школа или «направление» не имеют, права говорить от имени партии, но все же следует предпринять меры для «урегулирования вопроса о литературной критике»168. «Впервые неполитическая литература стала предметом обсуждения партийного съезда. И в последний раз партия формально сохранила ее нейтралитет между различными литературными "течениями, школами и группами"; и этот нейтралитет едва ли мог долго сочетаться с необходимостью тщательного контроля литературной продукции в свете партийных установок»169.
Идеологический контроль и гонения не обошли и науку: в 1922 г. началась кампания против релятивистской теории Альберта Эйнштейна и других «идеалистических» учений.
* * *
Традиционным бедствием России были неурожаи: за последние несколько десятилетий перед революцией это случалось в 1891 — 1992, 1906 и 1911 гг. Многовековой опыт научил крестьянина бороться с превратностями природы, запасая продукты впрок в количестве, достаточном, чтобы пережить один или даже два неурожайных года. Обычно недород приводил к сильному голоду, но редко к катастрофе. Потребовалось три года бессовестной, методической, губительной для сельского хозяйства работы большевиков, чтобы Россия познала величайший голод, унесший жизни миллионов людей. [Можно понять, почему советские историки не могли посвятить этой теме достойного внимания. Но труднее уразуметь, почему ее проигнорировали западные ученые. Например, в трехтомной «Истории Русской революции» Карра, где нашлось место для самой эзотерической информации, отводится ужасающей катастрофе один-единственный абзац на том только основании, что «данные о погибших недостоверны» (The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 285). Сходные доводы приводили неонацистские историки как достаточное основание для того, чтобы вообще не говорить о Холокосте. К моменту создания этой книги не появилось еще ни одного серьезного научного исследования, посвященного голоду 1921 года.].
Ему предшествовала засуха 1920 г. Тогда беду удалось временно отвратить благодаря тому, что во вновь присоединенных Украине и Северном Кавказе, еще не испытавших на себе всех прелестей советского режима, скопились большие запасы зерна: в 1921 г. половина продуктов, собранных государством по продналогу, поступала с Украины171. Однако, поскольку механизм сбора продуктов на Юге и в Сибири еще не заработал в полную силу, тяжкий груз продналога ложился на истощенные центральные губернии172.
Климатические условия, повлекшие голод 1921 г., были сходны с обстановкой 1891—1992 гг. Осень 1920 г. выдалась необычайно засушливой. Зимой выпало мало снега, да и тот сразу растаял. Весной 1921 г. Волга обмелела и не разлилась, как обычно. Затем наступили испепеляющая жара и засуха — злаки сгорели, земля растрескалась. Огромные пространства черноземных пашен превратились в пыль173. То, что еще оставалось на земле растущим, пожрала саранча.
Но природные бедствия не были главной причиной трагедии. Голод 1921 г. подтвердил справедливость народной пословицы: «Неурожай от Бога, голод от людей». Засуха только приблизила катастрофу, которая рано или поздно неизбежно должна была наступить в результате аграрной политики большевиков: авторитетный знаток этой проблемы утверждает, что, если бы не политические и экономические факторы, засуха не обернулась бы столь тяжкими последствиями174. Бездумная конфискация «излишков», которые чаще всего были вовсе не излишками, а минимумом, необходимым для выживания, обеспечила трагедию. В 1920 г., по словам наркома продовольствия А.Цюрупы, крестьянского урожая было достаточно ровно для того, чтобы прокормить себя и отложить зерно для посева. Таким образом, никаких запасов на черный день, какие извечно приберегали крестьяне, не оставалось.
Засуха 1921 г. поразила приблизительно половину хлебородных районов, из них в 20 процентах урожай погиб полностью. Население, охваченное голодом, исчислялось в марте 1922 г. в 26 млн в России и 7,5 млн на Украине, то есть всего 33,5 млн, из которых 7 млн было детей. В результате, по подсчетам американского эксперта, от 10 до 15 млн человек умерли или получили необратимые последствия для здоровья. [Известия. 1922. № 60/1499. 15 марта. С. 2; Hutchinson L. In: Colder F.A., Hutchinson L. On the Trail of the Russian Famine. P. 17. Несколько иные цифры дает Помгол (Итоги борьбы с голодом в 1921—22 гг. М., 1922. С. 460.) Данные о детях взяты из кн.: Pethybridge P. One Step Backwards, Two Steps Forward. Oxford, 1990. P. 105.]. Более всего пострадал поволжский черноземный регион, в иные времена главный поставщик зерна: Казанская, Уфимская, Оренбургская и Самарская губернии, где урожай в 1921 г. составлял менее 5,5 пуда на человека, то есть половину того, что требовалось для выживания, и ничего для посевов. [Хотя данные в разных регионах несколько разнятся, грубый подсчет показывает, что крестьянину требовалось ежегодно как минимум 10 пудов (163 кг) зерна для жизни и еще от 2,5 до 5 пудов (40—80 кг) для посева (Революционная Россия. 1921. № 14—15. С. 13), Л.Каменев подсчитал, что средний объем потребления зерна на человека в России до 1914 г. составил 16,5 пудов в год (включая посевное зерно) (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп.2.Д.9.Л.2).]. Пострадали и бассейн Дона и южная Украина. Во всех остальных регионах страны урожай снизился до 5,511 пуда на человека, чего едва хватало для пропитания175. Продукция двадцати пораженных голодом хлебородных губерний европейской и азиатской России, которые до революции давали 20 млн тонн зерна ежегодно, в 1920 г. снизилась до 8,45 млн тонн, а в 1921 г. составила только 2,9 млн тонн, то есть сократилась на 85%176. В 1892 г., когда из-за неблагоприятных погодных условий наблюдался самый крупный в последние годы существования царского режима неурожай, производство зерна снизилось всего на 13% в сравнении с обычной нормой177. Этот разительный контраст следует отнести по большей части за счет аграрной политики большевиков.
О том, что размеры катастрофы были не столько результатом коварных капризов природы, сколько делом рук человеческих, наглядно свидетельствуют показатели по регионам, где традиционно снимали самые крупные урожаи, а теперь получали наименьшие. Немецкая автономная область Поволжья, например, слывшая оазисом благополучия, страдала сильнее других, а ее население сократилось более чем на 20%: здесь в 1920—1921 гг. реквизировали 41,9% всего урожая зерна178.
Весной 1921 г. крестьяне пораженных бедствием губерний вынуждены были питаться травой, корой деревьев и грызунами. Голод усиливался, и никакой помощи от правительства не ощущалось, предприимчивые татары продавали в вымирающих районах некий продукт, который они называли «съедобной глиной», запрашивая до 500 рублей за фунт. С приходом лета крестьяне, обезумевшие от полного истощения, бросали свои деревни и кто пешком, кто на подводах тянулись к ближайшей железнодорожной станции в надежде добраться до тех мест, где, по слухам, было вдоволь еды: сначала такой землей обетованной слыла Украина, а потом Туркестан. Вскоре миллионы несчастных скопились на вокзалах и полустанках, но им не давали уехать, потому что до июля 1921 г. Москва не хотела признавать факт катастрофы. Люди зря дожидались «поездов, которые так и не пришли, или смерти, которая была неминуема». Вот как выглядела железнодорожная станция в Симбирске летом 1921 г.: «Представьте себе массы грязных тряпок, из которых там и сям видны истощенные, оголенные руки и лица, уже несущие печать смерти. Прежде всего ощущается ядовитый запах. Пройти невозможно. Зал, коридоры, каждая пядь свободного места занята лежащими, сидящими, скорчившимися в самых немыслимых позах. Если приглядеться, то увидишь, что эти грязные тряпки кишат червями. Тифозные ползают и бьются в лихорадке, тут же их дети. Грудные дети потеряли голоса и уже не кричат. Каждый день умирает больше двадцати человек, их уносят, но убрать всех невозможно. Подчас трупы остаются лежащими среди живых больше пяти дней. Женщина пытается утешить младенца, лежащего у нее на коленях. Ребенок плачет, прося кушать. Мать укачивает его на руках. Затем она внезапно шлепает его. Малыш снова заходится. Женщина словно сходит с ума. С искаженным гневом лицом она начинает яростно бить ребенка. Удары сыплются на личико, голову, и наконец швыряет его на пол и пинает ногой. Вокруг поднимается ропот возмущения. Ребенка поднимают с полу, все проклинают мать, которая после дикой вспышки сидит совершенно равнодушная ко всему происходящему вокруг, глядя застывшими и ничего не видящими глазами»179.
«Бесполезно пытаться в нескольких строках изобразить весь ужас бедствия, — писал очевидец из Самары, — да и не найдешь таких слов, которые способны были бы его выразить. Надо видеть своими глазами этих скелетов-людей, скелетов-детей, с землистыми, часто опухшими лицами, с горящими огнем голода глазами, слышать это робкое, замирающим шепотом произносимое: "кусочек"...»180.
Поступало много сообщений о том, что доведенные до безумия люди убивали и съедали соседей и даже родственников. Фритьоф Нансен, норвежский филантроп, посетивший в то время Россию, говорил о каннибализме как феномене, распространившемся «до ужасающих размеров»181. Профессор Харьковского университета, предпринявший попытку проверить достоверность этих сообщений, подтвердил 26 случаев людоедства: «В семи случаях... было совершено убийство и тела проданы на рынке в виде колбасы»182. Были отмечены также случаи некрофагии — поедания трупов.
В голодающих районах из деревни в деревню можно было не заметить никаких признаков жизни — жители либо бросили родные места, либо лежали в домах не в силах пошевелиться. В городах трупы загромождали улицы — их собирали, грузили на телеги, часто сняв всю одежду, — и сваливали в безвестные общие могилы.
Голод сопровождался эпидемиями, косившими вконец обессиленных людей. Сильнее всего свирепствовал тиф, но жертвы холеры, брюшного тифа и черной оспы тоже исчислялись сотнями тысяч.
Весьма назидательно провести сравнение отношения большевистского правительства к голоду с действиями царского правительства, тридцать лет назад оказавшегося перед лицом подобной трагедии, когда голодом были поражены 12,5 млн крестьян183. Вопреки пропаганде, распространявшейся в то время радикалами и либералами и повторяющейся неизменно с тех пор, что, мол, правительство не сделало ничего, а вся помощь шла только от частных организаций, документы свидетельствуют о том, что власти распорядились быстро и эффективно. Они организовали распределение продуктов для 11 млн голодающих и оказали щедрую экстренную помощь местным органам управления. В результате смертельные случаи, вызванные неурожаем 1891—1892 гг., исчисляются в пределах от 375 до 400 тыс. человек — цифра ужасающая, но составляет лишь 1/13 часть скорбной жатвы бедствия при большевиках184.
В Кремле наблюдали за распространением голода, словно в прострации. Хотя донесения из села предупреждали о надвигающейся катастрофе, а когда она разразилась, о ее масштабах, Москва не делала ничего, потому что не могла признать факта национальной трагедии, которую невозможно было бы приписать проискам «кулаков», «белогвардейцев» или «империалистов». [Хотя надо заметить, что Ленин несколько раз пытался это сделать, см., например: Полн. собр. соч. Т. 44. С. 75, 312—313.]. Во-вторых, она просто не знала эффективных средств борьбы: «Советское правительство столкнулось с проблемой, которую, впервые, не способно было решить с помощью силы»185. В мае и июне 1921 г. Ленин распорядился приобрести зерно за границей, но оно предназначалось для снабжения городов, главного предмета его забот, а не для деревни186. Голод волновал его лишь постольку, поскольку грозил обернуться возможными неприятными политическими последствиями: в июне 1921 г., к примеру, вождь говорил об «опасном положении», возникшем в связи с голодом187. И, как мы уже видели, он использовал его в качестве предлога для начала наступления на Православную церковь. В июле 1921 г. Дзержинский предупреждал ЧК об опасности контрреволюции в местностях, пораженных голодом, и назначил жесткие превентивные меры188. Советской прессе запрещалось даже намекать на неурожай, и еще в начале июля она продолжала сообщать, что в деревне все в порядке. Большевистские лидеры тщательно избегали всякой сопричастности к бедствию: Калинин, кремлевский представитель от крестьянства, был единственный, кто посетил вымирающие регионы189. 2 августа, когда катастрофа достигла наивысшей точки, Ленин обратился с воззванием к «международному пролетариату», где с лукавым простодушием сообщалось, что «в России в нескольких губерниях голод, который, по-видимому, лишь немногим меньше, чем бедствие 1891 года»190. Ни в одной статье или выступлении главы партии и правительства в тот период нельзя встретить ни слова сочувствия миллионам его подданных, гибнущих от голода. Действительно, можно предположить, что народное горе с политической точки зрения было ему вполне на руку, поскольку голод настолько ослабил крестьянство, что «изгонял саму мысль о крестьянской борьбе», и «усмирял» деревню даже быстрее, чем отмена продразверстки191.
В июле Кремль, наконец, вынужден был признать то, что всем уже было известно: страна в объятиях катастрофического голода. Но, не желая объявлять об этом прямо и открыто, советское правительство предпочло, чтобы печальная правда и зов о помощи исходили от частных лиц. 13 июля, очевидно с одобрения Ленина, Горький обратился с воззванием «Ко всем честным людям» с просьбой помочь продовольствием и медикаментами. 21 июля правительство одобрило просьбу группы гражданских лиц об образовании добровольной частной организации в помощь терпящим бедствие. Она называлась «Всероссийский комитет помощи голодающим», или просто «Помгол», и насчитывала 73 члена различной политической ориентации, среди них были Максим Горький, графиня Софья Панина, Вера Фигнер, экономист С.Н.Прокопович и его жена Екатерина Кускова и еще много известных агрономов, врачей и писателей192. Комитет действовал по подобию Особого комитета помощи голодающим, образованного в 1891 г., чтобы помочь царскому правительству в сходных обстоятельствах, с той лишь разницей, что, по распоряжению Ленина, в его состав включили «ячейку» из 12 видных коммунистов, председателем которой был Каменев, а А.И.Рыков — его заместителем. Это было сделано ради уверенности в том, что первая в Советской России независимая организация, получившая право на существование, не выйдет за рамки строго определенной ей миссии.
23 июля Герберт Гувер, министр торговли Соединенных Штатов Америки, откликнулся на призыв Горького. Он основал и с большим успехом возглавлял Американскую администрацию помощи (American Relief Administration, или ARA) — организацию, предназначенную безвозмездно снабжать продовольствием и медикаментам послевоенную Европу. Убежденный антикоммунист, он оставил политику в стороне, чтобы энергично взяться за работу в России. Он поставил два условия: чтобы американской организации, отвечающей за облегчение положения голодающих, было позволено действовать самостоятельно, без вмешательства коммунистических сотрудников, и чтобы граждане США, содержащиеся в советских тюрьмах, были выпущены на свободу. Требование независимости и невмешательства в дела заокеанских служащих взбесило Ленина: «Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги наций сугубая, — писал он в Политбюро. — Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел, и Совету Лиги наций тоже». В личной переписке он назвал Гувера «наглецом и лгуном», а американцев «подлыми торгашами»193. Но у него не было выбора, и он уступил. 25 июля Горький от имени советского правительства принял предложение Гувера194. 21 августа ARA подписала с Максимом Литвиновым в Риге договор о предоставлении помощи. Гувер начал свою деятельность с 18,6 млн долларов, которые даровал Конгресс США, к ним добавились частные пожертвования, а также 11,3 млн долларов, вырученных советским правительством от продажи золота. К моменту окончания своей деятельности ARA потратила в пользу России 61,6 млн долларов (или 123,2 млн золотых рублей). [Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. New York, 1927. P. 553. Прибыль от продажи российского золота, очевидно, шла исключительно на продовольствие для городов. Первый пример иностранной помощи России во время голода отмечен в Новгороде в 1231 г., население которого, сократившееся в десять раз из-за голода, было спасено благодаря хлебу, поступившему из Германии (Новый энциклопедический словарь. СПб., бд.Т. 14. С. 40-41)].
Ленин нашел собственное применение Помголу: он воспользовался его посредничеством, чтобы избежать неловкости прямого обращения за помощью к «империалистам». И Помгол не только исправно служил этим целям, но и вынужден был сносить изъявления ленинского гнева в свой адрес. 26 августа Ленин попросил Сталина поставить на Политбюро вопрос о немедленном роспуске Помгола и аресте или ссылке его лидеров, на том будто бы основании, что они «не желают» работать. Он также потребовал, чтобы прессе было указано «на сотни ладов» «высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев» его членов195. На Политбюро, где рассматривалось указание Ленина, Троцкий, поддержавший его, отметил, что в ходе переговоров с ARA американцы ни разу не упоминали о советском комитете196. На следующий день, когда первая партия продовольствия от ARA поступила в Россию и члены Помгола собрались для встречи с Каменевым, все русские общественники, за исключением двух человек, были арестованы ЧК и посажены на Лубянку. (Горький не присутствовал, по-видимому, предупрежденный заранее197.) Через прессу их обвинили во всевозможных контрреволюционных деяниях. Все ожидали смертной казни, но спасло вмешательство Нансена; выпущенные из тюрьмы, они были высланы: кто за границу, кто в отдаленные места родного отечества198. Помгол продолжал теперь существование уже как комитет при правительстве еще год, прежде чем был окончательно распущен199.
Летом 1922 г., когда деятельность ее была в полном разгаре, ARA кормила ежедневно 11 млн человек. Другие иностранные организации взяли на себя заботу о еще 3-х миллионах голодающих. Советское правительство и иностранные посредники импортировали продовольствия за этот период в общей сложности 115—120 млн пудов, или 2 млн тонн200. В результате этой деятельности уже к началу лета 1922 г. «сообщения о голодных смертях практически перестали поступать»201. ARA, кроме того, поставила медикаментов на 8 млн долларов, что помогло сдержать эпидемии. Более того, в 1922 и 1923 гг. ARA снабдила Россию посевным зерном, обеспечив возможность получения хороших урожаев в последующие годы. Благодаря структуре, разработанной Гувером, несколько сотен американцев, сотрудников ARA, с помощью тысяч советских граждан контролировали раздачу продовольствия и медикаментов. Хотя советские власти согласились не вмешиваться в деятельность гуверовской организации, ЧК, а затем ГПУ не сводили с нее глаз. Ленин позаботился о том, чтобы иметь в ARA своих агентов, дав распоряжение Молотову создать комиссию, которая бы следила за иностранными сотрудниками, ею нанятыми, и мобилизовала «максимум знающих английский] язык коммунистов] для внедрения в к[омисс]ии Гувера и для других видов надзора и осведомления»202. Позднее, когда ARA была расформирована, советские власти стремились отыскать самые зловещие мотивы ее деятельности, включая шпионаж и желание наводнить Россию товарами, которые больше некуда девать203. А еще позже, после Второй мировой войны, видимо, чтобы оправдать отказ Сталина от помощи по Плану Маршалла, некоторых оставшихся в живых советских граждан, работавших на ARA, заставляли подписать признание в шпионской деятельности.
Коль скоро заботу о прокормлении голодающих советских граждан взяли на себя американская и другие иностранные организации, Москва обратила свои ресурсы на иные цели. 25 августа, через три дня после подписания договора с Гувером, Литвинов сообщал в Москву, что он продал в Англии драгоценностей на сумму в 20 млн золотых рублей и что покупатель готов приобрести еще на 20 млн фунтов стерлингов (100 млн долларов)204 — средства, превышающие пожертвования США и Европы голодающей России вместе взятые. В начале октября 1921 г. Троцкий давал строго секретные указания советскому агенту в Германии, Виктору Коппу, разместить заказы на винтовки и пулеметы на сумму 10 млн золотых рублей205. В то время об этом никто не знал. Но что стало известно и вызвало сильное изумление в американских благотворительных кругах, это сведения о том, как в то же самое время, когда советское правительство предоставило западным благотворителям возможность кормить свой народ, оно предлагало сбывать собственные продукты за границу206. Осенью 1922 г. Москва сообщила, что располагает миллионами тонн зерна на экспорт, когда, по ее собственным расчетам, грядущей зимой 8 млн ее граждан будут испытывать недостаток в продуктах питания, который невозможно покрыть отечественными ресурсами207. Советские власти объясняли это странное обстоятельство тем, что им нужны деньги для приобретения промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Более чем странный поступок вызвал негодование американских служащих: советское правительство «пытается продать часть своего продовольствия на иностранных рынках, прося весь мир жертвовать им продовольствие взамен экспортируемого»208. Гувер выразил протест против «бесчеловечной политики правительства, отрывающего у голодающего народа продовольствие в обмен на импорт оборудования и сырья, ради обеспечения успешной хозяйственной деятельности тех, кому посчастливится выжить»209. Но поскольку худшее было уже позади, Москва могла себе позволить пренебречь мнением заграницы. Сообщения об экспорте зерна из России сделали невозможным сбор средств в ее пользу, и в июне 1923 г. ARA прекратила всю деятельность здесь.
Потери в период голода 1921 г. трудно определить, поскольку никто не занимался подсчетом жертв. Самые большие потери наблюдались в Самарской и Челябинской губерниях, в автономной области немцев Поволжья и Башкирской автономной республике, общее число населения которых сократилось на 20,6%210. В социальном плане больше всего страдала деревенская беднота, особенно те, у кого не было молочного скота, спасшего от смерти многие семьи211. В возрастном плане больнее всего голод ударил по детям, лишив значительную часть тех, кому довелось уцелеть, родителей и крова. В 1922 г. более полутора миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничали, прося подаяние и воруя; смертность в приютах для беспризорных достигала 50%212. Советское центральное статистическое управление определило дефицит населения за период с 1920 по 1922 гг. равным 5,1 млн человек213. Голод в России 1921 г., если не считать военных потерь, был крупнейшей для того времени катастрофой в европейской истории после средневековья.
Утраты оказались бы значительно большими, если бы не филантропическая деятельность Гувера, которая спасла жизнь по крайней мере 9 млн человек214. В письме руководителю ARA Горький приветствует его поступок как не имеющий себе равных: «Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов русских... которых вы спасли от смерти»215. [Тем более странно слышать, когда американский историк приписывает Гуверу «фантастическую уверенность», что «федеральное правительство не должно... кормить умирающих от голода людей» (Schlesinger A.M. The Vital Center. Boston, 1949. P. 28).]. Многие государственные деятели занимают видное место в истории благодаря тому, что послали на смерть миллионы людей; Герберт Гувер, чья последующая деятельность на посту президента Соединенных Штатов не принесла ему славы, и скоро забытый в России, имеет редкую возможность занять достойное место в людской памяти как спаситель миллионов.
* * *
Нэп обусловил и внешнюю политику Советской России, в которой теперь еще более отчетливо просматривалось два противоречивых уровня: общепринятый торгово-дипломатический и свой, особый, нелегальный подрывной. Москва стремилась наладить прочные отношения с зарубежными странами, необходимые для развития торговли и привлечения в страну иностранного капитала, что составляло неотъемлемую черту нэпа. Методы вооруженной борьбы отошли в прошлое: помимо поспешно сымпровизированного и неудачного путча в Германии в 1923 г., больше попыток поднять восстание в Европе не предпринималось. Наоборот, Коминтерн прибег к стратегии постепенного проникновения в западные институции.
Мы отмечали, что в Советской России одним из следствий экономической либерализации стало усиление политических репрессий. Это верно и для международного коммунистического движения. 21 условие приема, навязанные Коминтерну в 1920 г., полностью подчинили иностранные коммунистические движения Москве, но сохранили иллюзию, что Коминтерн есть федерация равноправных организаций. Эта иллюзия рассеялась в декабре 1922 г. на IV конгрессе Коминтерна. Принятые на нем резолюции ясно говорят, что, во-первых, зарубежные коммунистические партии не имеют права на собственное мнение и, во-вторых, что, если между ними возникает конфликт, на первом месте должны стоять интересы Советского государства, а не иностранных коммунистических движений.
Как ни парадоксально, но именно отказ от идеи неизбежной революции в Европе укрепил позиции Москвы перед ее собратьями за рубежом: «Именно потому, что мировая революция не была больше насущной реальностью, [иностранные] коммунисты были вынуждены все свои надежды возлагать на Советскую Россию. Только Россия вышла победительницей из классовых битв революционного периода и успешно защитила себя от бесчисленных врагов. Она была живым символом грядущей мировой революции и мощным оплотом против мирового капитализма. Чем труднее становилось коммунистам за рубежом захватить власть в своих странах, тем теснее должны были они сплочаться с Советской Россией. В этой отчаянной ситуации, сложившейся в мире, не могло быть ничего естественней, чем то, что Советская Россия стала отчизной для коммунистов всего мира»216.
Тем, кому, как и автору выше приведенных строк, послевоенная стабилизация в мире внушала «отчаяние», Москва действительно представлялась единственной надеждой. И она сумела извлечь из этого свою выгоду.
Готовясь к IV конгрессу, Москва решила стереть последние следы федерализма из коминтерновских организационных структур. Бухарин, один из руководителей Коминтерна, истолковал пункт 14 из 21 условия, требующий от иностранных коммунистов оказывать помощь Советской России в борьбе с «контрреволюцией», в смысле обязательства во все времена поддерживать международную политику советского правительства217. В действительности коммунист мог иметь только одну отчизну, Советскую Россию, и одно правительство — советское. Он обязан был одобрять все, что оно делает, в том числе и проводимую им внешнюю политику, даже соглашения между Советским Союзом и «буржуазными странами», включая его собственную, — если это служит интересам Советской России, как их определяет Политбюро ЦК РКП(б). Эти соображения должны были, в первую очередь, заглушить критику в отношении советско-германского договора, подписанного в апреле 1922 г. в Рапалло.
Чтобы зарубежные партии не ставили под сомнение и не пытались вмешаться в резолюции номинального высшего руководящего органа Коминтерна — конгресса, — на IV конгрессе постановили, чтобы впредь входящие в него коммунистические партии проводили свои съезды только после очередного конгресса Коминтерна. В силу такой процедуры делегаты не могли заручиться полномочиями выдвигать независимые резолюции от имени своих партий, не имели права передавать поручений от них, ибо это «противоречило духу интернациональной, централизованной, пролетарской партии». С 1919 г. в практику Коминтерна вошло посылать своих эмиссаров на съезды национальных коммунистических партий: теперь это было формализовано в постановлении, дающем право Исполкому Коминтерна «в исключительных обстоятельствах» направлять в зарубежные партии своих представителей, «наделенных широчайшими полномочиями», для наблюдения за исполнением 21 условия и решений конгресса, то есть, по сути, отвергать неугодные решения национальных партий и изгонять недисциплинированных членов. Национальные партии были лишены даже права посылать по своему выбору представителей в Исполком Коминтерна: кандидатов отбирал конгресс. Отставка служащих Коминтерна не принималась без одобрения Исполкома, на том основании, что «что всякая исполнительная должность в Коммунистической партии принадлежит не лицу, ее занимающему, а Коммунистическому Интернационалу в целом». Из 25 членов нового Исполкома 15 должны были жить и работать в Москве218.
Все это уже целиком содержалось в практике большевистской партии, начиная с 1903 г., и уставе Коминтерна, принятом на его II конгрессе. Новостью была только откровенность резолюций 1922 г., которые даже не пытались изображать, пусть хотя бы формальное, равенство между русскими и их зарубежными друзьями. Гуго Эберлайн, немецкий делегат, которого Москва использовала как глашатая своих идей, опровергал утверждения о московском диктате: «Для нас само собой разумеется, что и в будущем в руководстве Коммунистическим Интернационалом, в его Президиуме и Исполкоме русским товарищам должно быть отведено сильное, и сильнейшее, влияние, потому что именно они накопили наибольший опыт на полях международной классовой борьбы. Только они сумели совершить настоящую революцию и вследствие этого далеко превосходят по опыту всех делегатов от других секций»219.
IV конгресс принял новые правила практически единогласно, единственное исключение составил делегат из Бразилии.
«Коммунистический Интернационал был трансформирован во всемирную большевистскую партию, строго централизованную, с военной дисциплиной, готовую, как продемонстрировал [IV] конгресс, безоговорочно принимать приказания русских. И коммунистические партии во всем мире теперь стали, по сути, секциями Российской коммунистической партии, руководимой тем же Политбюро, которое одновременно руководит и Российским государством. Таким образом, они превратились в представительства российского правительства»220.
Эта трансформация, часто приписываемая Сталину, произошла еще тогда, когда политику Коминтерна определял Ленин.
ГПУ вошло в тесный рабочий контакт с Исполкомом Коминтерна, чтобы имеющимися у него средствами усилить наблюдение за их подопечными за границей. Оно открыло отделения в девяти столицах, в основном под прикрытием советских дипломатических миссий; каждое из них отвечало за несколько соседних стран. Так, парижское бюро ГПУ контролировало тайные операции в семи западноевропейских странах помимо Франции, включая Великобританию и Италию. Среди функций зарубежных отделов ГПУ был надзор за агентами Коминтерна221. Сфера деятельности Коминтерна была разнообразной. В 1922—1923 гг. он финансировал 298 изданий на 24 языках222. Он также организовал школу для обучения студентов из колониальных стран искусству агитации.
Европейские социалисты, которых такое развитие событий не могло не взволновать, все же не теряли надежды на сотрудничество с Коминтерном. Они предпочли проигнорировать то обстоятельство, что Коминтерн, характеризуя их как «социал-фашистов», методично вносил раскол в их ряды, тем самым ослабляя международное социалистическое движение. Невзирая на это, они всегда были готовы пойти на примирение. И на какое-то время их надеждам, казалось, суждено было сбыться. После поражения революции в Германии в 1921 г. Ленин сформулировал тактику «объединенного фронта» с социалистами — поскольку коммунисты были слишком слабы на Западе, чтобы действовать самостоятельно, он пришел к идее сотрудничества, до определенных пределов, с тред-юнионистами и социалистами. Свои соображения он представил Исполкому Коминтерна, где они встретили упорное сопротивление со стороны Зиновьева, Бухарина и других. При поддержке Троцкого Ленин сумел настоять на своем и вынести свое предложение на III конгресс Коминтерна (июнь—июль 1921). Идея сотрудничества с «социал-империалистами» и «социал-предателями» вызвала сильное негодование, но в конце концов конгресс одобрил ленинскую тактику223. В то же самое время Ленин не допускал никакого сотрудничества с российскими социалистами (меньшевиками и эсерами), будто бы потому, что они были «противниками Советской власти», но в действительности видя в них реальных соперников в борьбе за власть224.
Результатом новой тактики было участие Коминтерна в Берлине 25 апреля 1922 г. в совместной конференции со II и «двухсполовинным» Интернационалами с целью выработки общей программы борьбы с нарастающей силой «капитализма» и признания Советской России225. В мае 1923 г. делегаты европейских социалистических партий собрались отдельно в Гамбурге. Они выступали от имени 6,3 млн членов и 25,6 млн избирателей, то есть значительно представительнее партий, входящих в Коминтерн226. Была создана новая организация под названием Социалистический рабочий интернационал. По своей структуре она была федеративной, и партии-участницы были вольны решать свои внутренние вопросы по своему усмотрению. Меньшевики и эсеры развернули перед собравшимися горестную картину условий жизни в Советском Союзе и судеб социалистов там. Их вежливо выслушали, но никак не прореагировали. Английский делегат, сорвавший бурные аплодисменты, напомнил конгрессу, что «повинны в тех жертвах, которые томятся в русских тюрьмах, которые казнены и сосланы, в первую голову капиталистические правительства Запада!»227. Резолюция по Советской России отвергала всякое иностранное вмешательство во внутренние дела. Осуждая советское правительство за «методы террора», резолюция гласила: «Всякое вмешательство [со стороны капиталистических правительств] будет направлено не на исправление ошибок текущей фазы русской революции, но на разрушение самой революции. И далекое от установления истинной демократии, оно лишь создаст правительство кровавых контрреволюционеров, которое послужит средством эксплуатации русского народа западным империализмом. Конгресс поэтому призывает все социалистические партии... не только противостоять интервенции, но развернуть кампанию по полному дипломатическому признанию российского правительства и быстрому восстановлению нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией»228.
В сущности, европейские социалистические партии и профсоюзы, на словах осуждая коммунистический режим в России, повлиять на который они никак не могли, фактически солидаризировались с Москвой. Поэтому они определили большевизм как «фазу» русской революции, подразумевая, что его предосудительные черты преходящи; утверждая, что единственная альтернатива ему «кровавые контрреволюционеры», и требуя дипломатического признания Советской России и восстановления нормальных торговых отношений с ней.
«Единый фронт» развалился почти сразу из-за внутренних противоречий, в нем заключенных, — ибо как можно было объединяться с социалистами и в то же самое время добиваться их раскола? — а также из-за мощной оппозиции в рядах Второго и Третьего Интернационалов. Вскоре Коминтерн вернулся к прежней оценке социалистов как «социал-фашистов».
* * *
В 20-е годы (а в данном вопросе и в 30-е) советская внешняя политика была ориентирована на Германию, которая представлялась одновременно и ареной грядущей революции, и потенциальным союзником против Британии и Франции, принципиальных противников Советской России. Москва преследовала одновременно две цели, пусть и взаимоисключающие — подрыв и сотрудничество — друг друга, и тем самым расчищала Гитлеру путь к власти.
Самым значительным, повлекшим за собой далеко идущие последствия событием постверсальских международных отношений (сравнимым разве что только с отказом Америки вступить в Лигу наций), был Рапалльский договор, заключенный Советской Россией и Веймарской республикой 16 апреля 1922 г. во время работы международной конференции в Генуе и явившийся совершенной неожиданностью для всего мира.
Генуэзская конференция была созвана с двумя целями: урегулировать политические и экономические проблемы Восточной и Центральной Европы, оставшиеся не решенными в Версале, и реинтегрировать Россию и Германию в международное сообщество — для них это было первым после окончания мировой войны приглашением на международный форум столь высокого ранга. Дополнительный интерес союзников вызывало желание предупредить возможное русско-германское сближение, тревожные указания на которое стали поступать. Как оказалось, Генуэзская конференция не достигла ни одной из этих целей — единственным ее достижением был советско-германский договор, который она хотела предотвратить.
У Германии имелись серьезные основания искать сближения с Советской Россией. Одним из них были торговые интересы давних традиционных партнеров. Экономики обеих стран выгодно взаимодополняли друг друга: одна обладала несметными запасами сырья, а другая технологиями и опытом организации и управления производством, столь недостающими первой. Немецкие деловые круги понимали, что в послевоенном мире, на господство в котором явно претендуют «англосаксы», единственную надежду на развитие жизнеспособной экономики Германия может возлагать лишь на тесное сотрудничество с Москвой. Переход к нэпу сулил широкие возможности для такого сотрудничества. В 1921 — 1922 гг. немецкие бизнесмены строили смелые планы развития коммерческих отношений с Советской Россией, в которых ей отводилась роль чего-то вроде потенциальной колонии229. Их привлекала перспектива освоения больших лесных пространств Севера России и Сибири и сибирских железорудных и каменноугольных ресурсов, которые могли бы заменить потерянные Эльзас и Лотарингию230. Обсуждались грандиозные проекты превращения Петрограда при технической и финансовой поддержке Германии в крупный промышленный центр и порт. Торговые переговоры между двумя странами начались уже в 1921 г. после того, как Ленин пригласил зарубежные фирмы вкладывать капитал в России231. В мае германские промышленники представили Красину план широкомасштабных инвестиций, которые могли бы помочь восстановить советскую экономику в обмен на контроль над некоторыми ее ключевыми секторами232.
Но соображения коммерческого плана отступали на второе место перед геополитическими, а именно: сложившимся пониманием, что только с помощью России Германия сможет сбросить с себя путы, накинутые на нее в Версале. Немцы, надо полагать, в подавляющем большинстве считали условия мирного договора столь унизительными и столь обременительными, что готовы были на любые средства, дабы избавиться от них. Нежелание (или, как она сама определяла, неспособность) Германии исполнять свои обязательства согласно договору вызвало санкции возмездия со стороны Франции, которые еще сильнее подрывали позиции немецких политиков прозападной ориентации. В этих обстоятельствах националистические круги Германии стали искать союзника, и какая еще великая держава, кроме коммунистической России, тоже низведенной на роль парии, лучше подходила для этой цели?
Поводом к Генуэзской конференции послужило заявление советского наркома иностранных дел Г.В.Чичерина, сделанное 28 октября 1921 г., о том, что российское правительство готово, при определенных условиях, «признать свои обязательства по отношению к другим странам и их гражданам, проистекающие из государственных долгов, сделанных царским правительством до 1914 года». С этой целью он предлагал созвать «международную конференцию... для обсуждения претензий союзников к России и России к союзникам и составить определенный договор о мире между ними»233. Ллойд Джордж увидел в этом удобную возможность решить наконец-то наболевшие вопросы, поставленные русской революцией. 6 января Верховный совет союзных держав решил созвать международную конференцию для рассмотрения вопросов об экономической реконструкции Центральной и Восточной Европы, включая восстановление имущественных прав, нарушенных «конфискацией или временным приостановлением прав собственности».
Мы уже отмечали (в гл. 4) роль, какую сыграли в начале 1919 г. немецкие генералы во главе с Гансом фон Зектом в наведении тайных мостов с коммунистической Россией. Решительные шаги, приведшие к советско-германскому военному сотрудничеству, были предприняты весной 1921 г. после перехода к нэпу и подписания Рижского договора, завершившего войну с Польшей. Неприятно пораженный и обеспокоенный жалким зрелищем, какое являла собой Красная Армия в сравнение с польской, Ленин обратился к Германии за помощью в деле модернизации вооруженных сил. В этом интересы обеих стран совпадали, ибо и Германия была не менее заинтересована в таком сотрудничестве. По условиям Версальского договора ей было запрещено производство современных видов вооружения. Советская Россия, в свою очередь, тоже мечтала получить новейшее оружие. На этом основании было достигнуто соглашение, благодаря которому Советская Россия предоставляла Германии площадки, где можно было создавать и испытывать вновь созданные образцы техники, за что Германия предоставляла ей часть этой продукции и обучала Красную Армию обращению с ней. Это сотрудничество продолжалось вплоть до сентября 1933 г., то есть девять месяцев спустя после прихода к власти Гитлера. Оно оказалось весьма выгодным для обеих армий. Когда ему пришел конец, Тухачевский, тогда особополномочный комиссар по русско-немецкому военному сотрудничеству, сказал германскому поверенному в делах в Москве, что, «несмотря на достойное сожаления развитие событий» в Германии, «никогда не будет забыто, что Рейхсвер решительно помог Красной Армии в ее организации»234. [Незадолго до того, в мае 1933 г., когда возможность военного сотрудничества с нацистской Германией все еще представлялась вполне реальной, Тухачевский заявил, обращаясь к приехавшей в Россию германской делегации «И всегда думайте вот о чем: вы и мы, Германия и СССР, можем диктовать свои условия всему миру, если мы будем вместе» (Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР М, 1992. С. 25)].
Формально Ленин обратился к германской армии за помощью в реорганизации Красной Армии в середине марта 1921 года235. Предвидя такое развитие событий, Зект несколько ранее организовал в военном министерстве «Специальную группу Р» (Sondergruppe R) — секретный отдел, сотрудники которого имели опыт общения с русскими. После обращения Ленина переговоры стали быстро продвигаться вперед. 7 апреля Копп докладывал Троцкому из Берлина, что германская «Группа» предложила использовать три немецкие фирмы по производству оружия — Блём и Восс, Альбатросе и Крупп, — которые могли бы предоставить технический персонал и наладить производство, соответственно, подводных лодок, самолетов, пушек и снарядов. Немцы предлагали кредиты и техническую помощь для постройки военных заводов, которые могли бы производить оружие одновременно для Красной Армии и Рейхсвера. Ленин одобрил доклад Коппа236. Вскоре представители «Спецгруппы Р» приехали в Москву, чтобы открыть там свое представительство. Немцы настаивали на строгой секретности. Российско-германское сотрудничество было так успешно законспирировано, что полтора года германский социалистический президент пребывал в полном неведении — впервые он узнал об этом от Зекта в ноябре 1922 г., когда дал свое запоздалое одобрение237.
Решительный поворот в сторону советско-германского сотрудничества произошел в мае 1921 г., после того как союзники отвергли просьбу Германии о пересмотре условий репарации. Самые консервативные и националистические элементы в Германии увидели в сближении с русскими коммунистами долгожданную возможность утереть нос союзникам.
Советские мотивы такого соглашения тоже легко просматриваются: помимо военных и политических, были и экономические интересы. Ленин верил, что реконструкция советского хозяйства требует широкого привлечения западного капитала и технологий, и это всего быстрей можно было получить из Германии. Союзники хотели торговать с Москвой, но не желали предоставлять кредитов, пока не будет удовлетворительно решен вопрос о внешнем долге России. В российско-германских отношениях это не представляло особого препятствия, поскольку потери Германии от советских неплатежей и национализации были значительно скромнее и уже частично компенсированы условиями договоров 1918 г. между двумя странами. Другим препятствием для развития советско-союзнических отношений было требование союзников, чтобы советские наркоматы входили в деловые отношения не с частными западными фирмами, а с консорциумами. Это никак не устраивало Москву, ибо лишало ее возможности применять излюбленную тактику сталкивания иностранных фирм друг с другом. В противоположность союзникам, Германия не препятствовала русским входить в контакт с предпринимателями один на один: министр иностранных дел Ратенау пообещал Радеку, что его страна не войдет ни в один международный торговый консорциум без одобрения Москвы238. 21 и 24 сентября Красин встречался с офицерами германского Генерального штаба, среди которых был представитель фон Зекта, для разработки деталей российско-германского военного сотрудничества239. Согласно докладу Ленину, он действовал из предпосылки, что бессмысленно привлекать немецких банкиров и промышленников, которые заботятся только о выгоде и боятся союзников, а лучше всего иметь дело с теми немцами, кто «серьезно думает о реванше». Сотрудничество должно было держаться в строжайшей тайне от германского правительства и не выходить за рамки военного. Германия предоставляла финансовую помощь, а также технический и управленческий персонал для обеспечения налаженного военного производства в России, формальный контроль за которым возлагался на некий советский «трест». Все мероприятие, по словам Красина, следовало представить как модернизацию Красной Армии, хотя его непосредственной целью было дать возможность Германии вооружить современнейшим и запрещенным оружием войска в несколько сотен тысяч человек.
Решившись добиться соглашения, Ленин использовал сценарий, который в 1939 г. с еще большим успехом повторил Сталин: изображая желание пойти на сближение с союзниками, он вынудил Германию подписать сепаратное соглашение. Такая тактика помогла преодолеть сопротивление прозападно настроенных элементов в правительстве и деловых кругах Германии, опасавшихся идти на открытый конфликт с Францией и Англией.
В конце января 1922 г. Радек объявился в Берлине с поразительными известиями: Москва вот-вот готова заключить соглашение с Францией о признании де-юре Советской России и о коммерческих кредитах в обмен на обещание Москвы помочь добиться исполнения условий Версальского договора. Если Россия пойдет на это, уверял Радек, Франция может даже отказаться от Польши. [Von Blucher W. Deutschlands Weg nach Rapallo. Wiesbaden, 1951 S. 154-155. Джеральд Фрейнд, приводя это сообщение, называет Радека «безответственным» (Unholy Alliance. New York, 1957. P. 112—113), предполагая, что он действовал по своему усмотрению. Но очевидно, что в делах такой важности ничего не делалось без одобрения Политбюро и лично Ленина. Доказательством того, что это было именно так, может служить тот факт, что два месяца спустя советская делегация в Генуе во главе с Чичериным использовала сходную тактику, побуждая немцев к подписанию Рапалльского договора (Freund G. Op. cit. P. 116—117).]. Радек убеждал Ратенау, что необходимо предупредить такой ход дел, договорившись с Россией. А это потребует больших капиталов. Ратенау предложил кредиты в 5 миллиардов бумажных марок, не желая поддаваться на шантаж, но Радек отверг такую сумму (равную 50—60 млн золотых марок) как слишком ничтожную, чтобы повлиять на советскую политику. [РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 1124. Донесение из Берлина от 14 февраля 1922 г. В записке Ленину от 22 февраля 1922 г., описывая стратегию в Генуе, Чичерин настаивал на том, что без иностранного капитала нельзя надеяться на восстановление советского транспорта и промышленности (там же. Д. 1151).]. Ратенау уклонялся, обеспокоенный возможной реакцией союзников и скептически оценивая способность России оплатить импорт. Утверждение о немедленном договоре с Францией не имело под собой никакой почвы, но оно, по крайней мере, помогло Радеку и его друзьям в Министерстве иностранных дел Германии найти пути воздействия на Ратенау — если Германия хочет помешать возрождению довоенного франко-русского альянса, ей следует действовать, и безотлагательно. Чтобы ускорить создание индустрии современного вооружения в России, Радек поведал Зекту, что Красная Армия подготавливает весеннее наступление на Польшу и отчаянно нуждается в самолетах. Легковерные немцы поверили и этому и поспешили открыть в апреле 1922 г. в Филях под Москвой авиационный завод Юнкерса. Они же инициировали совместные с Красной Армией штабные учения воображаемого вторжения в Польшу240. Радека поддержал Чичерин, который приехал в Берлин в начале апреля по дороге в Геную. Он привез с собой наброски предлагаемого советско-германского соглашения, которое после доработки с помощью экспертов Министерства иностранных дел Германии и легло в основу текста Рапалльского договора241.
28 февраля Политбюро одобрило ленинский план действий на Генуэзской конференции, сосредоточивающий внимание на экономических соглашениях и провоцирующий раскол в «буржуазном» лагере путем перетягивания на свою сторону «пацифистского крыла»:
«Пацифистской частью того лагеря (или иным, специально подобранным вежливым выражением) мы должны считать и называть мелкобуржуазную и полупацифистскую демократию, типа II Интернационала и II 1/2, затем типа Кейнса и т.п. Одна из главных, если не главная наша политическая задача в Генуе, выделить это крыло буржуазного лагеря изо всего их лагеря, стараться льстить этому крылу, объявить допустимым, с нашей точки зрения, и желательным соглашение с ним не только торговое, но и политическое (как один из немногих шансов мирной эволюции капитализма к новому строю, чему мы, как коммунисты, не очень верим, но помочь испытать согласны и считаем своим долгом, как представители одной державы, перед лицом враждебного ей большинства других).
Сделать все возможное и кое-что невозможное для того, чтобы усилить пацифистское крыло буржуазии и хоть немного увеличить шансы его победы на выборах; это — во-первых; и во-вторых, — чтобы разъединить между собой объединенные в Генуе против нас буржуазные страны, — такова наша двоякая политическая задача в Генуе. Никоим образом не развитие коммунистических взглядов»242.
Когда Чичерин возразил, что пацифизм, на котором Ленин строил свою генуэзскую политику, — «мелкобуржуазная иллюзия», тот с нескрываемым раздражением разъяснил, что если даже и так, то это еще не повод не использовать «пацифистов <...> для разложения врага, буржуазии»243.
Генуэзская конференция открылась 10 апреля. Советскую делегацию возглавил Чичерин, а не Ленин, который намеревался поехать и уже взял на себя руководство делегацией, но, предупрежденный Красиным об опасности покушения, предпочел остаться. Не пожелал он также, чтобы его заместили Троцкий или Зиновьев244. Согласно полученной инструкции Чичерин в первый же день огласил всеобъемлющую «пацифистскую» программу всеобщего разоружения. Это был циничный ход, учитывая, что Советская Россия к тому времени имела самую многочисленную армию в мире (более 800 тыс.)245, которую она модернизировала с немецкой помощью.
По настоянию Франции это предложение было признано не отвечающим повестке работы конференции.
Основная экономическая цель Советов в Генуе состояла в получении иностранных займов и инвестиций. Глава Восточного департамента Министерства иностранных дел Германии сказал графу Гарри Кесслеру, «попутчику», сыгравшему в 1918 г. роль связного между германским министерством иностранных дел и советским послом Адольфом Иоффе, что «все, что интересует русских, это деньги, деньги, деньги»246. И действительно, Ленин писал в «Правде» накануне конференции, что русские едут в Геную «не как коммунисты, а как купцы»247. Советская политика в Генуе была сконцентрирована на Германии: «Самостоятельная германская экономическая политика в России, — писала ведущая советская газета, — открывает путь к рациональному использованию германского капитала не только в самой России, но и дальше на востоке, куда путь лежит через Россию и куда Германия сейчас проникнуть не может»248.
Союзники призывали советское правительство признать долги России и компенсировать потери иностранцев, которые они понесли в результате его, советского правительства, «действий или небрежения», что можно было осуществить, пустив в обращение за границей советские облигации249. Чичерин со многими оговорками выразил готовность компенсировать потери иностранцев в случае, если его страна получит дипломатическое признание и займы, необходимые для реконструкции народного хозяйства250. Продолжая публично вести переговоры о конкретных условиях, русская делегация втайне вела работу в направлении договора с Германией.
И в этом им способствовала нелепая дипломатия Ллойд Джорджа. Дабы занять место «первого среди равных», премьер-министр давал в Генуе ланчи делегациям разных стран, включая и Советскую Россию. Его частные встречи с русскими невольно подтвердили справедливость предостережений Радека и Чичерина о готовящемся российско-союзническом альянсе251. Убеждаемый советниками в том, что события могут принять неприятный оборот в любой момент, Ратенау подавил в себе дурные предчувствия и 16 апреля в отеле Св. Маргариты в близлежащем Рапалло поставил свою подпись под советско-германским договором, в основном следуя предложенному Москвой проекту. [Два месяца спустя он поплатился за это своей жизнью: как «прокоммунистический еврей» он был убит немецкими националистами.]. Впоследствии, отводя обвинения в двоедушии, немцы приводили в оправдание своих действий тот аргумент, что союзники тоже вели сепаратные переговоры с Москвой252.
По условиям договора подписавшие его стороны помимо дипломатического признания предоставляют друг другу статус наибольшего благоприятствования253. Они отказываются от взаимных претензий, вызванных войной, и обязуются сохранять дружественные экономические отношения. Немцы отказались также от требований о возмещении потерь, понесенных государством и гражданами Германии в результате национализации, проводившейся советским правительством. Рапалло явилось третьим случаем после перемирия, когда Германия действовала на международной арене независимо от стран Согласия и вопреки их желаниям — впервые в 1919 г., отказавшись присоединиться к блокаде, а затем в — 1920 г., не дав Франции разрешение на перевозку через ее территорию в Польшу военного снаряжения.
Застигнутые врасплох, союзники направили Германии коллективный протест, обвиняя ее в принятии решений в одностороннем порядке по вопросам, представляющим предмет многосторонних международных переговоров: Германия была приглашена как равноправный партнер, а в благодарность подорвала дух единства. Этим поступком она исключила себя из последующих совместных обсуждений, продолжавшихся с Советской Россией254. Работа Генуэзской конференции развалилась. Запад был, по всей видимости, менее обеспокоен положениями Рапалльского договора, чем его последствиями — замаячившим «союзом сердитой Германии с голодной Россией»255.
Рапалло было первым международным договором, подписанным Германией после Версаля. Большинство немецких политиков поддерживало его на том основании, что он открывает для германской экономики и политики путь в Россию. Социал-демократы выражали недовольство, утверждая, что Россия использует Германию в интересах мировой революции256.
Договор укрепил советско-германские торговые связи в ущерб торговле с Великобританией. В 1922 и 1923 гг. треть советского импорта шла из Германии. В 1932 г. этот показатель достиг 47%257.
* * *
Москве важно было, чтобы Германия и союзники оставались «на ножах», и в Версальском договоре она нашла для этого подходящее средство. И если СПГ, ведущая социалистическая партия Германии, старалась действовать в рамках договора и поддерживать дружественные отношения с союзниками, то коммунисты адресовались к самым реакционным, националистическим элементам. В декабре 1920 г. Ленин заявил, что германская «буржуазия» вынуждена искать альянса с Советской Россией: «И вот эта страна, связанная Версальским договором, находится в условиях, невозможных для существования. И при таком положении Германия, естественно, толкается на союз с Россией... Союз с Россией этой страны, которая задушена... это положение привело к тому, что в Германии получилось политическое смешение: германские черносотенцы шли в сочувствии к русским большевикам со спартаковцами»258.
В действительности не немецкие «черносотенцы» обхаживали коммунистов, а коммунисты подлизывались к черносотенцам, а точнее, к нацистам и родственным им по духу. Коммунистическо-фашистское сотрудничество достигло высшей точки после января 1923 г., когда французы и бельгийцы, объявив, что Германия не выплачивает репараций, заняли Рур. Исполком Коминтерна тотчас принял сторону Германии в ее столкновении с Францией, и Москва обещала помощь, если Польша вступит в военный конфликт на стороне Франции259. В мае 1923 г. Коммунистическая партия Германии (КПГ) приняла резолюцию, допускающую возможность привлечения националистически настроенных масс260. Главным агентом Ленина в сношениях с немецкими консервативными и праворадикальными кругами был Карл Радек. Он понимал, что единственным способом для немецких коммунистов вырваться из изоляции было пойти на союз с националистическими элементами. В оправдание такого кувырка с ног на голову он приводил тот аргумент (которому вторил и Зиновьев), что в случае «угнетенных народов» национализм есть феномен «революционный»261. И угнетенным немцам он предлагал составить единый фронт против стран Антанты. Он убеждал германское правительство, что в случае войны с Францией Советская Россия будет соблюдать «благосклонный нейтралитет», а Германская коммунистическая партия окажет активную поддержку262. В июне 1923 г. в выступлении на Исполкоме Коминтерна Радек непомерно восхвалял Альберта Шлагатера, нацистского убийцу, расстрелянного французами за саботаж на транспорте в Руре: он-де и «мученик германского национализма», и «отважный солдат контрреволюции», снискавший «искреннее уважение солдат революции». «Если патриотические круги Германии, — заявил Радек, — не решат сделать дело большинства народа своим собственным и таким образом создать фронт против союзнических капиталистов и германского капитала, тогда путешествие Шлагатера было путешествием в никуда»263. Радек впоследствии признался, что текст этого сенсационного выступления был заранее одобрен и Политбюро и Исполкомом Коминтерна264. Орган немецких коммунистов (КПГ) Die Rote Fahne («Красное знамя») теперь предоставила свои страницы националистам; нацисты выступали на коммунистических сходках, а коммунисты на нацистских собраниях. На лозунгах КПГ свастика мирно уживалась с красной звездой265. Спарта-ковка Рут Фишер, несмотря на то что сама была еврейкой, призывала немецких студентов «топтать» и «вешать» еврейских капиталистов266. Это сотрудничество прекратилось в августе 1923 г., когда нацисты порвали с ними.
Окончательно спутав все карты, Москва, помимо двух, одновременно развиваемых направлений своей германской политики — альянса с правительством и сотрудничества с правыми, — стала делать ставку на социальную революцию. Чтобы не дать новому премьер-министру Густаву Стреземану реализовать свою идею переговоров с союзниками о финансовой помощи и смягчении условий Версальского договора, которые ввели бы Германию прочно в западный лагерь, Политбюро 23 августа 1923 г. решило сбросить его правительство267. Надеясь воспользоваться волной забастовок, прокатившейся по Германии в это время, Троцкий отправил туда военную миссию во главе с генералом Алексеем Скобелевским для организации переворота268. Миллион тонн зерна хранился в Петрограде, готовый к отправке в Германию в случае вероятной блокады со стороны союзников; в тех же целях был припасен фонд в размере 200 млн золотых рублей269. Следуя советам немецких коммунистов, с которыми Троцкий обсуждал тактические вопросы революции, было решено начать переворот в Саксонии и Тюрингии. Но немецкие рабочие не откликнулись на революционные призывы, и переворот с треском провалился. С ноября 1923 г. по март 1924-го немецкая коммунистическая партия была вне закона.
* * *
Рапалльский договор ускорил военное сотрудничество двух стран. 29 июля 1922 г. был подписан договор между А.П.Розенгольцем, членом советского Реввоенсовета, и представителем генерала Зекта. (Этот документ до настоящего времени не обнаружен.) [Muller R.D. Das Tor zur Weltmacht. Boppard am Rhein, 1984. P. 100. В архиве фон Рабенау (Bundesarchiv-Militararchiv Freiburg, Nachlass von Rabenau, 62 39, Bd 2 (1938), Heft 5) хранится документ («Aus Tagebuch Hasse»), в котором упоминается этот договор на основании информации, полученной от Зекта (см.: Freund G. Unholy Alliance. P. 124). О Розен-гольце, сгинувшем в 1938 г. во время сталинских чисток, см.: Волобуев П.В. В кн.: Реввоенсовет республики М., 1991. С. 318-325.]. Советская миссия во главе с Э.М.Склянс-ким, заместителем Троцкого во время гражданской войны, прибыла в Берлин в январе 1923 г. Русские предложили приобрести у Германии оружие на сумму в 300 млн золотых марок в счет их долга, но немцы отказались на том основании, что производство едва способно удовлетворить их собственные нужды270. Тогда Россия согласилась разрешить Германии наладить производство вооружения, запрещенное по Версальскому договору, на российской территории и более того, проводить там обучение военных кадров271. За это немцы обязались обучать и советских командиров272. На следующий год Рейхсвер выделил на эти цели 75 млн золотых марок и открыл представительство в Москве273. Представители двух стран обсуждали конфиденциально планы совместных военных операций против Польши и даже союзников274.
Само производство вооружения оказалось для немцев не столь успешным из-за примитивности и неэффективности советского народного хозяйства. Но основная польза от военного сотрудничества для обеих сторон заключалась в возможности испытать новые виды вооружения, предназначенные для будущих войн, и обучить обращению с ними своих военных.
К 1924 году многие крупные немецкие оружейные предприятия имели концессии в Советском Союзе. Известны, по крайней мере, три германских военных завода в Советской России: один в Филях по производству самолетов «Юнкере», другой в Самарской губернии по изготовлению горчичного газа и фосгена и танковый в Казани275. Немецкие офицеры, переодетые гражданскими, приезжали в Россию обучаться военному искусству276. С начала 1924 г. на летной базе, расположенной под Липецком, немецкие пилоты тренировались на «Фоккерах», тайно закупленных в Голландии: по меньшей мере 120 летчиков и 450 человек обслуги прошли обучение там277. По словам генерала Гельма Шпайделя, сотрудника «Спецгруппы Р», обучение в Липецке заложило «духовную основу будущей Люфтваффе»278. Считается, что опыт, полученный в России, обеспечил немецким военно-воздушным силам десять лет преимущества в сравнении с союзниками279. Русские пилоты и наземные службы тоже обучались на Липецкой базе.
Кроме того, в Казани и Самаре германские офицеры обучались танковому делу и приемам ведения химической войны. Неизвестно, какое количество оружия, произведенного в Советской России, было тайно переправлено в Германию. В 1926 г. немецкие пацифисты в Щецинском порту обнаружили три советских корабля, груженных 300 тыс. артиллерийских снарядов, изготовленных в России. Это открытие позволило лидеру социалистов Филиппу Шейдеману обнародовать факты военного сотрудничества между двумя странами и обвинить правительство в использовании советского оружия против немецких рабочих. [Carsten F.L. // Survey. 1962. № 44—45. P. 121; Freund G. Unholy Alliance. P. 211; Muller R.D. Das Tor zur Weltmacht. S. 146. Очевидно, предупрежденная советская пресса в тот же день, 16 декабря, признала существование германских предприятий на территории СССР, но охарактеризовала их как оборонные (Правда. 1926. № 291/3520. 16 дек. С. 1. Ср.: Радек К. // Известия. 1926. № 291—92. 16 дек. С. 2.). Это, по-видимому, единственное упоминание о военном сотрудничестве с веймарской Германией в советской прессе.]. Однако надеждам немцев на создание мощного производства запрещенного оружия в России не суждено было сбыться. Изготовление отравляющих газов столкнулось с большими трудностями. Еще большие проблемы возникли на авиационном заводе в Филях: неспособность русских навести порядок на своем предприятии вынудила Рейхсвер в 1926 году закрыть его280. Проект построения подводных лодок, по-видимому, и вовсе не покинул чертежной доски.
С 1925 года советские командиры, выдавая себя за других — например, за болгар, — наблюдали за маневрами Рейхсвера. Другие были откомандированы в Германию для прохождения секретных курсов при Генеральном штабе, на которых преподавали будущие гитлеровские генералы, включая фельдмаршала Вернера фон Бломберга, первого нацистского министра обороны, а также генералов Моделя, Браухица, Кейтеля и Гудериана; среди курсантов будто бы были Тухачевский и Якир. «Во время обучения русские могли видеть и изучить все директивы, тактические и операционные учения, методы набора новобранцев и их обучения и даже организационные планы нелегального перевооружения. От них ничего не скрывалось»281.
Очевидно, что сотрудничество на таком уровне не могло оставаться незамеченным. И действительно, польская и французская разведки знали об этом, а после открытий Шейдемана это перестало быть секретом для всех. Но союзников это почему-то не настораживало. Они ничего не сделали, чтобы положить конец техническому сотрудничеству двух стран, продолжавшемуся еще не один год.
Таким образом, Советская Россия помогла заложить основу возрождения германской армии, плодами которого воспользовался Гитлер. Тактика бомбардировок на бреющем полете, моторизованных бросков и комбинированных воздушно-наземных операций, составлявших ядро гитлеровского блицкрига, впервые испытывалась на российской земле. Красная Армия, со своей стороны, благодаря этому сотрудничеству оказалась лучше подготовлена к войне с Германией, чем войска союзников.
Немецкие генералы, активно сотрудничавшие с Советским Союзом, готовились ко Второй мировой войне, призванной покончить с Версальским договором и принести Германии господство в Европе, которого ей не удалось достичь в минувшую войну. Очевидно, что они не стали бы посвящать русских в свои военные секреты, если бы не надеялись видеть их на своей стороне в грядущих сражениях. Таким образом, очертания нацистско-советского пакта 1939 года, развязавшего 2-ю мировую войну и благодаря которому Германия, при «благосклонном нейтралитете» Москвы, завоевала почти всю Европу, складывались еще в начале 20-х годов, еще при жизни и под руководством Ленина.
ГЛАВА 9. КРИЗИС НОВОЙ ВЛАСТИ
«Как решить такую проблему: раз крестьянство не с нами, раз рабочий класс подпадает под влияние разных мелкобуржуазных анархических элементов, раз он тоже имеет склонность отойти от нас, на что же может опираться сейчас Коммунистическая партия?»
Юрий Милонов на X съезде РКП (б)(март 1921 г.1)Не осталось ничего, что бы могло препятствовать правительству, но и не было ничего, что могло быть ему опорой.
Алексис Токвиль2Политический кризис, охвативший РКП(б) в 1921—1923 годы, проистекал из того, что подавление партийных соперников не устранило разногласий, а только перенесло их с широкой публичной арены на внутрипартийный уровень. Такое развитие событий подрывало главные устои большевизма — партийную дисциплину и монолитность партии. Решения XI съезда косвенно приоткрывают суть происходящего: «Чтобы закрепить победу пролетариата и отстоять в обостреннейшей гражданской войне диктатуру его, пролетарскому авангарду пришлось лишить свободы организации все те политические группировки, которые были враждебны советской власти. Российская коммунистическая партия осталась единственной легальной политической партией в стране. Это обстоятельство дало, разумеется, много преимуществ рабочему классу и его партии. Но оно же, с другой стороны, вызвало явления, крайне усложнившие работу партии. В ряды единственной легальной политической партии неизбежно устремились, ища приложения своих сил, такие группы и слои, которые при иных условиях находились бы не в рядах Коммунистической партии, а в рядах социал-демократии или другой разновидности мелкобуржуазного социализма»3.
Как выразился Троцкий: «Наша партия — ныне единственная в стране; все недовольство идет только через нашу партию»4. Ее руководство оказалось перед роковым выбором: пожертвовать единством и всеми преимуществами, какие оно обеспечивает, снося инакомыслие в своих рядах, или искоренить его и любой ценой сохранить единство, даже сознавая угрозу омертвения аппарата партийного руководства и его удаления от партийных масс, которые такой путь сулит. Ленин, не колеблясь, избрал второй путь и тем самым заложил основу грядущему диктату Сталина.
Большевистское руководство, и в первую очередь самого Ленина, очень беспокоила бюрократизация власти. Они чувствовали — и это вполне подтверждалось статистическими данными, — что и государство и партию отягчает и тянет вниз паразитический класс функционеров, которые используют свое положение в личных интересах. Хуже того, чем мощнее становилась бюрократия, чем больше поглощала она бюджетные средства, тем хуже справлялась она со своими задачами. Это было справедливо даже в отношении ЧК/ГПУ: в сентябре 1922 года Дзержинский потребовал полного отчета о деятельности сотрудников, добавив, что ожидает «убийственных» результатов от такой проверки5. А для Ленина в последний период его жизни губительная бюрократизация стала неотступной заботой.
Тот факт, что феномен бюрократизации явился для советских вождей неожиданностью, служит еще одним подтверждением того, что за их суровым реализмом скрывалось удивительное простодушие. [В апреле 1921 г. Ленин признал, что в первые полтора года власти он не подозревал об опасности бюрократизации. Он публично заявил об этом только в 1919 году на VIII съезде партии, на котором была принята новая партийная программа, в которой признавался прискорбный факт «частичного возрождения бюрократизма внутри советского строя» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 229). Но и тогда Ленин приписывал это методам кустарного производства и торговли, вызванным гражданской войной (там же. С. 230).]. Им следовало понимать, что полное подчинение государству всех сторон жизни, включая экономическую деятельность, неизбежно приведет к росту чиновничества. Но, похоже, им не приходило в голову, что «власть», которой им никогда не бывало достаточно, не только дает блага, но и налагает определенные обязанности, исполнение которых есть тяжкий повседневный труд, требующий привлечения соответствующего штата специалистов; и что от этих специалистов-профессионалов не приходится ожидать «беззаветной преданности» и забвения личных интересов во имя общественного блага. Бюрократизация, сопровождавшая становление большевистского строя, была наиболее всех выгодна выходцам из мелкой буржуазии, открывая перед ними невиданные возможности для чиновничьей карьеры, прежде для них закрытой6. И даже рабочие, сменившие фабричные цеха на конторы, переставали быть рабочими и пополняли слой чиновничества, хотя в партийных отчетах они продолжали числиться в рядах пролетариата: в частном письме Ленину Калинин требовал, чтобы рабочими считали только тех, кто занят ручным трудом, а «мастеров, отметчиков, сторожей» считать служащими7. Вот как писал об этом эмигрантский меньшевистский орган печати накануне нэпа: «...она [большевистская диктатура] выкидывала из всех сфер управления государственного и общественного не только царскую бюрократию, но и дипломированную, вышедшую из буржуазных кругов, интеллигенцию и тем открывала "дорогу наверх" тем бесчисленным выходцам из мещанства, из рабочих и крестьянских кругов, из армии и т.д., которые привилегиями имущественного и образовательного ценза прикреплялись к общественным низам и которые составляют теперь многочисленное "советское чиновничество" — этот новый по существу и по стремлениям мелкобуржуазный городской слой, всеми своими интересами связанный с революцией, потому что только она дала ему подняться до положения, освобождающего от тяжелого труда в производстве, и вовлекла его в механизм управления государством, подняв его над народной массой»8.
Большевики не смогли предусмотреть такого хода развития, поскольку их философия рассматривала политику как побочный продукт классовой борьбы, а управление государством как не более чем орудие в руках правящего класса — в силу этих представлений государство и его служащие не могли иметь иных интересов, чем интересы класса, которому они были призваны служить. Та же философия не позволяла им увидеть истинные причины явления, даже когда им пришлось признать его существование. Ленин, совершенно в духе какого-нибудь царского консерватора, для борьбы со злоупотреблениями чиновников не мог выдумать ничего лучше, чем нагромождать одну «контрольную» комиссию на другую, рассылая во все концы проверяющих и полагая, что нет таких нарушений, которых не могли бы исправить «хорошие люди». Причины, кроющиеся в порочности самой системы, так и остались для него сокрыты.
Бюрократизация поразила и государственный, и партийный аппараты.
Хотя большевистская партия имела строго централизованную структуру, в ней традиционно сохранялись неформальные демократические отношения9. В силу принципа «демократического централизма» решения, вынесенные руководящими органами партии, должны были выполняться на низших уровнях беспрекословно. Но сами решения, принимавшиеся сначала в Центральном Комитете, а затем на Политбюро путем голосования, отражавшего волю большинства, вырабатывались в ходе свободной дискуссии, где каждый имел возможность высказать свое мнение. Высшие партийные органы регулярно интересовались мнением местных ячеек. Даже будучи по сути безграничным диктатором в стране, Ленин был лишь primus inter pares («первым среди равных») — ни в Политбюро, ни в Центральном Комитете не было должности председателя. Делегаты на партийные съезды — высший орган партии — избирались местными ячейками. Местные партийные руководители избирались рядовыми членами партии. И хотя Ленин почти всегда начальствовал, пользуясь своим авторитетом основателя партии, в действительности, тем не менее, он не мог быть в полной уверенности, что его мнение обязательно возьмет верх, — случалось, что и ему приходилось уступать.
По мере того как партия прибирала к рукам рычаги государственного управления, все сильнее разбухали и ряды ее членов, и ее управленческий аппарат. До марта 1919 года всеми вопросами организационной партийной работы и кадровыми заведовал один-единственный человек — Я.М.Свердлов. Он вел все повседневные партийные дела, предоставляя Ленину и его ближайшему окружению возможность решать вопросы политические и военные10. В любом случае такая система не могла бы просуществовать долго, учитывая, что в марте 1919 года в РКП (б) насчитывалось 314 тыс. членов. Неожиданная смерть Свердлова поставила партию перед необходимостью формализовать партийное руководство. С этой целью на VIII съезде партии в марте 1919 года были созданы два новых органа Центрального Комитета: Политбюро, поначалу состоявшее из пяти членов (Ленина, Троцкого, Сталина, Каменева, Н.Н.Крестинского), для оперативного рассмотрения насущных вопросов, не ожидая созыва ЦК в полном составе; и Оргбюро, также состоящее из пяти членов, для решения вопросов организационных, что на практике выражалось в назначениях на партийные должности. Третий орган ЦК — Секретариат, — учрежденный еще в марте 1917 года, до назначения Сталина в апреле 1922 года в качестве Генерального секретаря был занят по преимуществу делами канцелярского свойства. Секретари ЦК являлись и членами Оргбюро. Сравнивая текущие дела Оргбюро и Секретариата после прихода Сталина, трудно увидеть существенные различия в их полномочиях — обе структуры занимались кадровыми вопросами, хотя, по всей видимости, Оргбюро непосредственно отвечало за кадровую работу в целом11. Создание этих органов положило начало процессу сосредоточения власти в партийных делах на вершине административной пирамиды, в Москве.
К моменту окончания гражданской войны Коммунистическая партия уже имела обширный штат, занятый бумажной работой. Партийная перепись, проводившаяся в 1922 году, выявила любопытные подробности о его составе. Только 21% членов партии был занят физическим трудом в сельском хозяйстве или на производстве; остальные 79% заполняли всевозможные чиновничьи места. [Соловьев Н. // Правда. 1921. № 190. 28 авг. С. 3—4. Хотя эта перепись была не полной — она покрывала лишь 2/3 Российской Федерации, — результаты, касающиеся партии в целом, можно считать репрезентативными. Данные переписи не включали Москвы, сведения по которой были объявлены «недостоверными», но, если учитывать и эти цифры, соотношение партийцев-чиновников было бы еще большим, ведь столица была сердцем всей бюрократической империи.]. Образовательный уровень партийцев был крайне низок и несоразмерим с той властью, которой они были наделены: в 1922 г. только 0,6% (2316 чел.) имели высшее образование, а 6,4% (24 318) среднее. Исходя из этого, один русский историк сделал вывод, что к тому времени 92,7% членов партии были полуграмотными (18000, или 4,7%, совершенно не знали грамоты)12. Из рядов чиновничества сложилась элита партийных функционеров, подвизающихся в Москве в центральных органах Коммунистической партии. Летом 1922 г. она составляла более 15000 человек13.
«Бюрократизация партийной жизни влекла неизбежные последствия... Партийные чиновники, занятые исключительно партийными делами, имели неоспоримое преимущество перед теми рядовыми членами партии, которые работали на фабрике или в государственном учреждении. В силу профессионального занятия партийным руководством партаппарат становился центром, из которого исходила всякая инициатива и директивы и осуществлялся контроль. На всех уровнях партийной иерархии наблюдался переход власти, сначала от съездов или конференций к комитетам, которые ими избирались, а затем от комитетов к партийным секретарям, которые якобы исполняли их волю»14.
Аппарат ЦК постепенно, естественно и как-то незаметно подменил собой местные партийные органы не только в принятии большинства резолюций, но также и в подборе исполнительных кадров на всех уровнях. Процесс централизации на этом не остановился, развиваясь с неопровержимой логикой: сначала Коммунистическая партия подчинила себе всё политическое руководство в стране, затем ЦК взял на себя руководство партией, подавляя всяческую инициативу и критику, потом все решения за ЦК стало принимать уже только Политбюро, затем — триумвират — Сталин, Каменев и Зиновьев — стал полностью контролировать Политбюро и, наконец, за Политбюро стал все решать один-единственный человек — Сталин. Достигнув наивысшей точки диктата одного, процесс централизации не мог иметь дальнейшего развития, и в результате смерть Сталина привела к медленному распаду партии и ее власти в стране.
Уже в 1920 году привычной практикой Оргбюро было так называемое «назначенство», то есть назначение партийных руководителей местных организаций, не сообразуясь с мнением этих организаций15. В стране с многовековым бюрократическим укладом и системой управления путем директив, спускаемых сверху, такая процедура казалась нормальной, и несогласным с ней суждено было оставаться в непредставительном меньшинстве.
Несомненно, среди коммунистов были и такие, кто пришел по зову сердца, из идеалистических побуждений, но большинство вступало в партию ради тех преимуществ, какие это сулило. Члены партии пользовались привилегиями, которыми в XIX веке обладало дворянство, а именно — доступом к «ответственным» постам в правительстве. Троцкий называл таких партийцев «редисками», то есть красными снаружи и белыми внутри. Взобравшиеся достаточно высоко по партийной лестнице получали дополнительные пайки и доступ к закрытым распределителям, а также высокую зарплату. Они были недосягаемы для суда и следствия, что при российском беззаконии было весьма существенно. Следуя практике царизма, советское правительство уже в 1918 году установило принцип, согласно которому партийные функционеры не могли быть привлечены к суду за противоправные действия, совершенные ими при исполнении их партийных обязанностей16. Но если прежде чиновника разрешалось судить лишь по согласованию с его непосредственным начальством, то советский партийный функционер мог быть арестован «только с ведома и согласия партийной организации соответственно рангу, занимаемому им в партии»17. Ленин усиленно боролся с такой практикой, требуя, чтобы коммунистов карали за проступки еще суровей, чем других, но поломать укоренившийся обычай ему оказалось не под силу18. Статус партии, стоящей над законом, который был установлен с первых дней правления коммунистов, распространился и на отдельных ее членов.
Обладание такой властью в сочетании с неприкосновенностью не могло не приводить к злоупотреблениям. Уже на VIII партийном съезде (1919) раздавались жалобы на коррумпированность партийных работников и их отстраненность от народных масс19. Страницы большевистской печати изобиловали рассказами о презрении партийными работниками самых элементарных норм порядочности: судя по некоторым примерам, большевистские руководители вели себя словно помещики-крепостники XVIII века. Так, в январе 1919 года партийный орган печати Астрахани рассказал о визите Климента Ворошилова, сталинского товарища по оружию и командующего 10-й армией в Царицыне. Ворошилов появился в шикарном экипаже, запряженном шестеркой лошадей, в сопровождении десяти повозок с оруженосцами и около 50 подвод, груженных полными сундуками, бочками и всякой всячиной. Во время таких наездов местные жители вынуждены были прислуживать вельможным гостям, под дулом нагана исполняя все их прихоти20.
Чтобы покончить с подобным безобразием, партия в конце 1921 — начале 1922 г. провела чистку своих рядов. Хотя ее формальным объектом были карьеристы, которые вступили в партию, пользуясь упрощенными условиями приема, введенными в период гражданской войны, в действительности чистка была направлена против тех, кто перешел в РКП(б) из других социалистических партий, в основном меньшевиков, которых Ленин обвинял в том, что они заражают демократизмом и другими еретическими идеями коммунистические ряды21. «Вычищены» оказались многие, и вместе с добровольным выходом в основном не согласных с политикой партии рабочих число коммунистов снизилось с 659 тысяч до 500 тыс., а затем упало и вовсе до 400 тысяч. [В сентябре 1922 года Орготдел сообщал Сталину, что в 1921—1922 гг. выход из партии по провинции колебался в пределах от 6,8 до 9,2% (РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2429). По мнению Калинина, большинство тех, кто покидал ряды партии, были крестьянами и рабочими (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 27. Л 9).]. В это время была внедрена практика испытательного срока для «кандидатов в члены партии», лишь после прохождения которого они допускались в ряды РКП(б). Исключения и добровольные выходы из партии в ходе последующих чисток (1922— 1923) свели численность ее почти к половине22. Эти процедуры могли избавить партию от меньшевиков и других «мелкобуржуазных социалистов», но не в состоянии были искоренить коррупцию в рядах большевиков. Злоупотребления не прекращались, поскольку они проистекали из привилегированного статуса партии и полной свободы от ответственности. Если рядовой гражданин ни как избиратель, ни как собственник не имел никаких способов взыскать с тех, кто управлял им, и если, более того, члены партии не несли ответственности перед законом, то административный корпус неизбежно должен был превратиться в замкнутую, бессменную и служащую исключительно своим интересам касту. Контрольная комиссия, учрежденная в 1920 г. для наблюдения за партийной этикой, сообщала: партийные работники понимают, что за исполнение своих обязанностей они несут ответственность только перед теми, кто им вручил власть, а не перед «партийными массами»23, не говоря уже о массах народных. Этим убеждением новый режим был обязан старому, где подобные настроения разделяло подавляющее число чиновников24.
Но хуже всего то, что партия сама создавала условия для коррупции. В июле 1922 г. Оргбюро приняло безобидно звучащее распоряжение «Об улучшении быта активных партработников», первоначально опубликованное в сокращенном виде25. Оно предусматривало введение шкалы заработной платы для партийных функционеров: они должны были получать несколько сотен рублей (новых), не считая прибавок на членов семьи и за сверхурочные, которые в совокупности могли составлять сумму, сравнимую с основным жалованьем, и это в то время, когда рабочий зарабатывал в среднем 10 руб. в месяц. Высшие партийные чиновники, кроме того, обеспечивались бесплатным продовольственным пайком, жилищем, одеждой и медицинским обслуживанием, а в некоторых случаях персональным автомобилем с шофером. Летом 1922 года «ответственным работникам», служащим в центральном аппарате партии, были выданы дополнительные продовольственные пайки по 26 фунтов мяса и 2,6 фунта масла в месяц. На железной дороге им предоставлялись специальные вагоны с мягкими диванами и освещением, тогда как простые смертные, которым посчастливилось достать билет, ездили в битком набитых вагонах в третьем классе или просто на товарных поездах26. Партийцы самого высокого ранга могли себе позволить ежегодно проводить от месяца до трех в заграничных санаториях, за что партия расплачивалась золотом. В ноябре 1921 г. не менее шести высших партийных руководителей проходили лечение в Германии, один из них (Л.М.Карахан) приехал оперировать геморрой27. Устанавливал эти льготы Секретариат ЦК, штат чиновников которого к моменту, когда его возглавил Сталин, насчитывал 600 человек28. Летом 1922 года особые привилегии распространялись на 17 тыс. человек, в сентябре того же года Оргбюро увеличило это число до 60 тысяч. Партийным лидерам выделялись дачи. И первым был Ленин, который в октябре 1918 г. занял дом в Горках, в 35 километрах к юго-западу от Москвы, бывшее владение царского генерала. Не заставили себя ждать и другие: Троцкий поселился в одной из самых шикарных подмосковных усадеб в Архангельском, владении Юсуповых, тогда как Сталин облюбовал себе дом нефтяного магната в Зубалово29. В Горках в распоряжении Ленина имелся автопарк из шести лимузинов, которым заведовало ГПУ30. Хотя он не искал благ для себя, но не гнушался просить за родственников и друзей, как, например, когда распорядился присоединять для скорости к военным эшелонам персональный вагон, в котором его сестра с семьей Бухарина ехали отдыхать в Крым31. Посещая театры и оперы, коммунистические вожди, как само собой разумеющееся, располагались в царских ложах. [Яркое описание привилегий, присвоенных себе высшим советским руководством, можно найти в кн.: Павлова И.В. Сталинизм: становление механизма власти. Новосибирск, 1993].
Неприметно новые правители переняли повадки прежних. Адольф Иоффе в 1920 году жаловался Троцкому на гниение, поразившее организм партии: «Сверху донизу и снизу доверху — одно и то же. На самом низу дело сводится к паре сапог и гимнастерке; выше — автомобилю, вагону, совнаркомовской столовой, квартире в Кремле или "Национале"; а на самом верху, где имеется уже и то, и другое, и третье, — к престижу, громкому положению и известному имени»32.
По словам Иоффе, сложилась новая психологическая установка «вождям все можно». Эти патрицианские замашки «слуг народа» не имели ничего общего с марксизмом, но хорошо соотносились с российской традицией.
Ключевыми фигурами территориального управления при новом режиме были секретари губернских комитетов партии (губкомов). Со времен Петра Великого губерния была основной административной единицей в России, а ее глава — губернатор — пользовался широкими исполнительными и полицейскими полномочиями как представитель императорской власти на местах. Большевистский режим перенял эту традицию: секретари губкомов стали, в действительности, преемниками царских губернаторов. Назначение на такой пост требовало высочайшего покровительства. До революции губернаторы назначались царем по рекомендации министра внутренних дел; секретарей губкомов назначал Ленин по предложению Оргбюро и Секретариата. Особый отдел Секретариата — Учетно-распределительный (Учраспредотдел), созданный в 1920 году, занимался отбором и перемещением партийных кадров. В декабре 1921 г. было постановлено, что пост секретаря губкома может занимать только член партии, вступивший в ее ряды до 1917 года, секретари уездных комитетов (укомов) должны иметь партийный стаж не менее трех лет. Все такие назначения совершались только с одобрения высшего партийного руководства33. Такой порядок мог помочь соблюсти дисциплину и единую идеологическую линию, но лишал партийные ячейки свободы в выборе своих руководителей. Незаметно для окружающих эта система назначений заметно укрепила власть центрального аппарата: «Право Оргбюро или Секретариата на одобрение кандидатуры... стало на практике равносильно праву "рекомендации" или "назначения"»34. Все это наблюдалось еще до того, как в апреле 1922 года Сталин занял пост Генерального секретаря.
В результате рядовые члены партии почти уже не могли влиять на назначения на ключевые партийные посты в губерниях, которые производились в основном из «Центра». В 1922 году 37 секретарей губкомов были смещены или переведены Москвой, а 42 назначены по «рекомендации» из Москвы. [Fainsod M. How Russia Is Ruled. Cambridge, Mass., 1963. P. 633. Note 10. В 1923 г. Е.А.Преображенский утверждал, что 30% секретарей губкомов были «рекомендованы» ЦК, который он назвал «государством в государстве» (Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1968. С. 146).]. Теперь, как и при царизме, главной характеристикой при назначении стала личная преданность режиму: в циркуляре ЦК «преданность партии данного товарища» предлагалась в качестве основного критерия отбора35. В 1922 году Секретариат и Оргбюро произвели более 10000 назначений36. Поскольку Политбюро было перегружено текущей работой, многие решения о назначениях принимались единолично Генеральным секретарем или Оргбюро. Часто в губернии посылали инспекционные комиссии для проверки деятельности губкомов — отголосок «ревизий» прежнего режима. На X партийной конференции, проходившей в мае 1921 года, было решено, что секретари губкомов должны каждые три месяца являться в Секретариат ЦК с отчетом37. В.М.Молотов, работавший в Секретариате, обосновывал внедрение такой практики тем обстоятельством, что, мол, предоставленные самим себе, губкомы углубляются в собственные, местные дела и не уделяют должного внимания всеобщим партийным задачам38. В действительности губкомы превратились в «приводные ремни московских директив»39.
Кроме того, Секретариат пользовался правом подбирать делегатов на партийные съезды, номинально высшие органы руководства РКП (б). К 1923 г. большинство делегатов назначалось по рекомендации секретарей губкомов, которые, в свою очередь, сами были в подавляющем большинстве назначены Секретариатом40. Эта привилегия давала Секретариату возможность обуздать оппозицию среди рядовых членов. Так, когда на X съезде партии (1921) в остром споре столкнулись с ЦК так называемая «Рабочая оппозиция» и «демократические централисты», 85% делегатов при голосовании за предложенную ЦК резолюцию с осуждением несогласных взяли сторону ЦК, что, судя по имеющимся свидетельствам, едва ли отражало мнения партийного большинства41.
Так в рядах партийных работников образовалась своя аристократия. Практика, сложившаяся через пять лет после прихода большевиков к власти, далеко ушла от того, что декларировалось в первые дни, когда партия настаивала на том, чтобы ее члены получали меньшее жалованье, чем средний рабочий, и жили в квартирах из расчета комнаты на человека42. Позабыт был и принцип, согласно которому рабочие-коммунисты не только не имели каких-то особых преимуществ перед другими рабочими, но и несли «более высокие обязанности»43.
* * *
Все, что говорилось о бюрократизации партии, справедливо и в отношении государственного аппарата, где эта болезнь протекала еще наглядней. Всероссийская структура Советов очень скоро утратила то скромное влияние, какое она могла оказывать на большевистскую политику, и к 1919—1920 гг. превратилась в простую машину, послушно проштамповывающую партийные резолюции, проводимые через Совнарком и его органы. Выборы в Советы всех уровней превратились в простую церемонию единогласного одобрения кандидатур, предложенных партией: в голосовании принимали участие менее четверти имеющих право голоса граждан страны44. Советы превратились в бюрократические государственные учреждения, за которыми стояла всесильная партия. В 1920 г. — последний год, когда Советам было позволено открыто дискутировать, — жалобы на бюрократизацию были общим местом45. В феврале 1920 г. была создана Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин), во главе которой встал Сталин, для контроля за злоупотреблениями государственных учреждений; однако два года спустя Ленину пришлось признать, что новый контролирующий орган не оправдал ожиданий46.
Бюрократизация правительственных органов легко объясняется в первую очередь тем обстоятельством, что правительство взяло в свои руки руководство теми сферами жизни, которые до октября 1917 находились в частных руках. Уничтожив частный сектор в банковском деле и промышленности, упразднив земства и городские думы, распустив все общественные объединения, правительству пришлось принять на себя исполнение их функций, что, в свою очередь, потребовало расширения чиновничьего аппарата. Достаточно будет привести один пример. До революции школы состояли на попечении отчасти Министерства народного просвещения, отчасти церкви и отчасти частных организаций и лиц. В 1918 году, когда правительство национализировало все учебные заведения, передав их в ведение Наркомпроса, тому потребовалось набрать штат, способный исполнять функции, прежде не входившие в сферу забот государства. Со временем на Наркомпрос возложили руководство всей культурной жизнью страны, почти целиком находившейся в частных руках, и поручили цензуру. Как следствие — уже в мае 1919 года штат Наркомпроса насчитывал 3000 служащих — в десять раз больше, чем чиновников соответствующего министерства в царские времена47.
Но расширение административных обязанностей было не единственной причиной роста советской бюрократии. Служащий, даже стоящий на самой низкой ступени чиновной лестницы, в тех тяжких условиях советской жизни, когда речь шла о выживании, получал существенные преимущества перед простым смертным, то есть имел доступ к товарам, для других недоступным, и возможность обогащения за счет взяток.
Результатом явилось колоссальное раздувание штатов. На фоне общего спада производства в многочисленных учреждениях, управлявших советским хозяйством, как на дрожжах вырастали все новые конторские места. В то время как число рабочих, занятых в производстве, сократилось с 856 тыс. в 1913 году до 807 тыс. в 1918-м, число чиновников возросло с 58 до 78 тысяч. Так, уже в первый год советской власти соотношение служащих к рабочим в сравнении с 1913 годом возросло на треть48. В следующие три года этот разрыв стремительно расширялся: если в 1912 году на каждую сотню заводских рабочих приходилось 6,2 чиновника, летом 1921 года их стало 1549. На транспорте при общем спаде производительности до 80% и неизменившемся числе рабочих штат чиновников увеличился на 75%. Если в 1913 году на один километр дороги приходилось 12,8 человека, считая вместе и служащих и рабочих, то в 1921 году на выполнение той же работы требовалось уже 20,7 железнодорожника50. Данные опроса по одному из сельских уездов Курской губернии, проводившегося в 1922—1923 гг., показали, что в местных сельскохозяйственных конторах, в которых при царизме было 16 служащих, теперь числилось 79 — при том, что производство сельхозпродуктов резко сократилось. В органах охраны порядка в том же уезде количество сотрудников в сравнении с дореволюционными годами удвоилось51. Самым чудовищным был рост бюрократии в учреждениях народного хозяйства: в Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) весной 1921 года значилось 224 305 служащих, из которых 24 728 работали в Москве, 93 593 — в губернских отделениях и 105 984 — в уездах — и все это в то время, когда промышленное производство, за которое отвечал ВСНХ, сократилось более чем в пять раз в сравнении с 1913 годом52. В 1920-м, к ярости и недоумению Ленина, в Москве насчитывалась 231 тысяча служащих, а в Петрограде — 185 00053. Всего между 1917-м и серединой 1921 года число госслужащих увеличилось почти впятеро — с 576 тысяч до 2,4 миллиона. И к этому времени число чиновников в стране более чем в два раза превышало число рабочих54.
Учитывая острую нужду в специалистах и низкий образовательный уровень собственных кадров, советской власти ничего не оставалось, как в больших пропорциях нанимать на службу бывших чиновников, в особенности тех, кто был способен исполнять работу в аппаратах новых министерств — народных комиссариатов. Приводимая ниже таблица указывает процентное соотношение таких сотрудников в комиссариатах в 191855:
Комиссариат внутренних дел 48,3% Высший совет народного хозяйства 50,3% Комиссариат по военным и морским делам 55,2% Комиссариат государственного контроля 80,9% Комиссариат путей сообщения 88,1% Комиссариат финансов 97,5%«Есть основания полагать, что более половины служащих в центральных отделах комиссариатов и, по-видимому, 90 процентов высшего эшелона до октября 1917-го работали на той или иной административной должности»56. Только ЧК, где на службе состояло 16,1% прежних чиновников, да Комиссариат иностранных дел, где процент «бывших» составлял 22,9 (по данным на 1918 год и в том и другом случае), были укомплектованы по преимуществу новыми сотрудниками57. На основе этих свидетельств один западный ученый пришел к поразительному выводу, что перемены в личном составе, произведенные большевиками в первые пять лет, «можно сравнить с теми, что происходят в Вашингтоне после прихода к власти новой партии и раздачи ею постов своим сторонникам»58.
Новая бюрократия формировалась по модели дореволюционной. Как и до 1917 г., чиновники служили государству, а не народу, который они воспринимали как враждебную силу. Анархист Александр Беркман, посетивший Россию в 1920 г., так описывал типичное госучреждение при новой власти: «Советские учреждения [на Украине] являли собой привычную московскую картину: скопище усталых, изможденных людей, изголодавшихся и безразличных ко всему происходящему. Картина типичная и печальная. Коридоры и кабинеты переполнены просителями, добивающимися разрешения сделать что-либо или получить право чего-нибудь не делать. Лабиринт новых декретов столь запутан, что служащие предпочитают решать сложные проблемы самым простым "революционным" методом, руководствуясь собственным "революционным сознанием", и, как правило, не в пользу просителя.
Повсюду длинные очереди, и во всех кабинетах барышни в туфельках на высоких каблуках беспрестанно пишут и перекладывают какие-то бумаги. Они пыхтят папиросками и оживленно оценивают преимущества той или иной службы по размеру пайка, символа советского быта. Рабочие и крестьяне, с обнаженными головами, смиренно приближаются к длинным столам. Почтительно, почти раболепно, они просят выдать справку, ордер на одежду или "талон" на обувь. "Не знаю", "В следующем кабинете", "Приходите завтра" — обычные ответы. Кто возмущается, кто жалуется, кто умоляет снизойти и выслушать или хоть что-то посоветовать»59.
Как и при царе, советское чиновничество было строго классифицировано. В марте 1919 года власти разбили государственную службу на 27 тщательно разграниченных категорий. Различие в жалованьи между категориями было не слишком резким: так, обслуга самого низкого разряда, куда входили швейцары, уборщицы и т. д., получала порядка 600 руб. (старыми), а служащие наивысшего, 27-го разряда (главы отделов комиссариатов и т.п.) получали 2200 рублей60. Но жалованье само по себе в условиях гиперинфляции значило мало: главным становились различные привилегии, из которых самыми важными были продовольственные пайки. Так, в 1920 году Ленин не мог, конечно, просуществовать на свое жалованье в 6500 рублей месяц, сумму, достаточную для приобретения разве что штук 30 огурцов на черном рынке, кстати, единственном месте, где рядовые граждане могли их достать61. Помимо пайка, чиновники прикармливались от взяток; взяточничество, несмотря на суровые меры борьбы с ним, принимало ужасающие размеры62.
Ленин предпочитал приписывать пороки советского аппарата засилью бывших царских служащих: «Наш госаппарат, за исключением Наркоминдела, — писал он, — в наибольшей степени представляет из себя пережиток старого, в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым типичным старым из нашего старого госаппарата»63. Но об истинных причинах зла, как можно судить по его отрывочным и путаным замечаниям, у него не было ни малейшего представления. Размер бюрократизации определялся непомерными амбициями советского руководства на управление всей жизнью страны, тогда как его коррумпированность предопределялась отсутствием общественного контроля за деятельностью аппаратчиков.
* * *
Летом 1920 г. партию потряс удар изнутри: инакомыслие в собственных рядах, которое партвожди окрестили «Рабочей оппозицией». Она отражала недовольство большевиков-рабочих тем, что власть в стране захватила интеллигенция, а конкретно была протестом против бюрократизации на производстве и одновременного падения авторитета профсоюзов и утраты ими своей независимости. Хотя возглавляли оппозицию ветераны РКП(б), она отражала настроения большинства рабочих, не принадлежавших ни к какой партии или склонявшихся к меньшевикам. Наиболее сильна она была в Самаре, где на ее стороне был губком, а также в Донбассе и на Урале. Особенно сильным влиянием пользовались оппозиционеры в металлургической, горнодобывающей и текстильной отраслях промышленности64. Лидер оппозиции, Александр Гаврилович Шляпников, возглавлял Союз металлистов, самый мощный в стране и традиционно наиболее симпатизирующий большевикам профсоюз. Рабочего происхождения, партийный функционер высшего ранга, он в годы Первой мировой войны руководил петроградским большевистским подпольем, а в 1917 году возглавил Наркомат труда. Его любовница Александра Михайловна Коллонтай была наиболее красноречивым идеологом движения. Параллельно «Рабочей оппозиции» возникла еще одна «ересь» — «демократический централизм». Это движение, куда входили известные партийцы-интеллигенты, выступало против бюрократизации партии и использования в промышленности «буржуазных специалистов». Сторонники «демократического централизма» требовали предоставления большей власти Советам, противостоя притязаниям профсоюзов на доминирующую роль в управлении народным хозяйством. Один из лидеров этой оппозиции, Т.В.Сапронов, старый большевик, тоже пролетарского происхождения, отважился на партийном съезде назвать Ленина «невеждой» и «олигархом». [Изъятые из официальных протоколов, эти эпитеты впервые обнародовал Сталин в 1924 г.: Сталин И. Об оппозиции. М.—Л., 1928. С. 73.].
Рабочую оппозицию составляли твердокаменные большевики. Они признавали партийный диктат и «руководящую роль» партии в профсоюзах; они одобряли отмену «буржуазных» свобод и подавление иных политических партий. Они не видели недостатков в политике партии по отношению к крестьянству. Во время Кронштадтского мятежа в 1921 году они были в числе первых, кто записывался добровольцами в отряды, формировавшиеся для подавления восставших матросов. По словам Шляпникова, его расхождения с Лениным касались не сути, а средств. Рабочая оппозиция не могла смириться с тем, что интеллигенция, образовавшая новую бюрократию, оттесняет от руля управления правящий класс — пролетариат. Ведь фактически в «рабочем» правительстве на руководящих постах не было ни одного рабочего: большинство из них не только нигде и никогда не занимались физическим трудом, но и вообще не имели никакого постоянного занятия, кроме революции65.
Ленин очень серьезно отнесся к этим обвинениям: он не собирался оставлять безнаказанным проявление «рабочей стихии», с которой ему приходилось бороться с момента основания партии большевиков. Заклеймив «Рабочую оппозицию» как проявление меньшевизма и синдикализма, Ленин тотчас же расправился с ней. Но при этом ему пришлось применить приемы, которые окончательно растоптали последние остатки демократизма в партии. Чтобы сохранить миф о том, что установившийся диктат большевиков это и есть обещанная диктатура пролетариата, и при этом пренебрегать требованиями этого самого якобы носителя власти, потребовалось изолировать правительство даже от его же сторонников.
«Рабочая оппозиция» открыто проявилась на IX съезде партии (март 1920) в связи с решением Москвы ввести в промышленности принцип единоличного руководства. До тех пор работой национализированных предприятий руководило правление, куда входили вместе с техническими специалистами и партийными работниками представители профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. Такое устройство оказалось малоэффективным, и на него возложили вину за катастрофическое падение промышленного производства. Партийное руководство уже в 1918 году приняло решение о переходе к личной ответственности, однако тогда, из-за сопротивления рабочих, исполнить его было трудно. Теперь, после окончания гражданской войны, IX съезд партии принял решение о введении в действие «сверху донизу неоднократно провозглашавшегося принципа точной ответственности определенного лица за определенную работу. Коллегиальность, поскольку она имеет место в процессе обсуждения или решения, должна безусловно уступать свое место единоличию в процессе исполнения»66. Ожидая такого поворота, Всероссийский центральный совет профсоюзов (ВЦСПС) в январе 1920 г. проголосовал против единоличного руководства. Ленин не стал прислушиваться к этому мнению, как не придал он значения и настроениям рабочих Донбасса, делегаты которых проголосовали в соотношении 21 против 3 в пользу сохранения коллегиального руководства в промышленности67.
При новом укладе, внедрявшемся по всей стране в 1920 и 1921 годах, профсоюзы и фабзавкомы уже не участвовали в принятии решений, но лишь содействовали исполнению распоряжений, отданных вышестоящими руководителями. Ленин добился того, чтобы на IX съезде приняли резолюцию, запрещавшую профсоюзам вмешиваться в управление. Эта резолюция обосновывалась тем соображением, что при коммунизме, который устранил эксплуатирующие классы, профсоюзам нет необходимости защищать интересы рабочих, ибо за них это делает само государство. Их роль при новой государственной формации должна сводиться к повышению производительности и поддержанию трудовой дисциплины, как проводников политики правительства: «При диктатуре пролетариата профессиональные союзы превращаются из органов борьбы со стороны продавцов рабочей силы против господствующего класса капиталистов в аппараты правящего рабочего класса. Задачи профсоюзов лежат, главным образом, в области организационно-хозяйственной и воспитательной. Эти задачи профессиональные союзы должны выполнять не в качестве самодовлеющей, организационно-изолированной силы, а в качестве одного из основных аппаратов Советского государства, руководимого Коммунистической партией»68.
Иными словами, советские профсоюзы отныне должны были представлять не рабочих, а правительство. Троцкий всецело поддерживал такой взгляд, утверждая, что в «рабочем государстве» профсоюзы должны избавиться от привычки считать работодателя врагом и превратиться в фактор производительности под руководством партии69. Этот взгляд на роль профсоюзов на практике означал, что их лидеры будут не избираться членами своей организации, а назначаться партией. Как не раз случалось в истории России, институт, созданный какой-либо социальной группой для защиты своих интересов, прибрало к рукам государство в собственных целях.
Лидеры профсоюзов серьезно поверили утверждениям о построении государства с «диктатурой пролетариата»: плохо разбирающиеся в диалектических тонкостях, они не могли понять, на каком основании партийное руководство, представленное интеллигенцией, знает, что нужно рабочим, лучше самих рабочих. Они выступали против устранения рабочих представителей из органов управления и возвращения под видом «специалистов» прежних хозяев производства. Они жаловались на то, что эти люди обращаются с ними в точности как при старом режиме. Что же тогда изменилось? И в чем вообще смысл революции? Они выступали и против установления в Красной Армии командной иерархии и восстановления чинов. Они критиковали бюрократизацию партии и сосредоточение власти в руках ее Центрального Комитета. Они осуждали практику назначения местных партийных руководителей по указаниям из Центра. Чтобы приблизить партию к трудящимся массам, они предлагали проводить частую смену состава ее руководящих органов, открывая дорогу в них настоящим людям труда70.
Оппозиция дала выход подспудно тлевшему еще с конца XIX века конфликту между меньшинством политически активных рабочих и интеллигенцией, которая берется выступать от их имени71. Радикально настроенные рабочие, тяготеющие более к синдикализму, чем к марксизму, кооперировались с интеллигенцией и позволяли руководить собой, потому что ощущали в себе недостаток политического опыта. Но они никогда не забывали о той пропасти, которая пролегает между ними и их партнерами, и, как только образовалось «государство рабочих», они уже не видели причины уступать власть «белоручкам». [В 1925 году Крупская писала Кларе Цеткин, что «широкие слои крестьян и рабочих отождествляют интеллигентов с крупными помещиками и с буржуазией. Ненависть народа к интеллигентам сильна» (Известия ЦК КПСС. 1989 № 2/289. С. 204)].
Проблемы, поднятые «Рабочей оппозицией», стояли в центре дискуссии X съезда партии, состоявшегося в марте 1921 года. Накануне его созыва Александра Коллонтай выпустила для внутреннего партийного пользования брошюру, в которой обрушивалась на бюрократизацию новой власти72. (Партийные правила запрещали вести такую дискуссию публично.) «Рабочая оппозиция», утверждала автор, состоящая исключительно из трудящихся мужчин и женщин, чувствует, что партийное руководство потеряло связь с ними: чем выше начальник, тем меньше сочувствие «Рабочей оппозиции». Это происходит потому, что советский аппарат захватили классовые враги, презирающие коммунизм: мелкая буржуазия заправляет чиновниками, а «крупная буржуазия» под видом «специалистов» заняла руководящие позиции в промышленности и армии.
«Рабочая оппозиция» представила на X съезде две резолюции: одну в отношении партийной организации, другую о роли профсоюзов. Это был последний случай, когда на партийном съезде обсуждалась независимая, то есть исходящая не от ЦК, резолюция. В первом документе говорилось о кризисе в партии, вызванном застарелыми привычками военного командования, усвоенными в годы гражданской войны, и отдалением руководства от трудящихся масс. Партийные дела вершатся без должной гласности или демократии, в бюрократическом стиле, людьми, которым рабочие не доверяют, что подрывает авторитет партии в целом и вынуждает их целыми группами покидать ее ряды. Чтобы исправить положение, партия должна провести тщательную чистку своих рядов, избавиться от оппортунистских элементов и расширить членство рабочих. Каждый коммунист должен не менее трех месяцев в году заниматься физическим трудом. Все функционеры должны избираться своими партийными товарищами и нести ответственность перед ними; назначения сверху, из Центра, возможны лишь в виде исключения. Состав высших органов должен постоянно обновляться: большинство постов должно сохраняться за рабочими, а основной упор в партийной деятельности следует перенести с центра на ячейки73.
Резолюция о профсоюзах была не менее радикальной74. В ней выражалось недовольство ослаблением роли профсоюзов, сведением их статуса «почти до нуля». Восстановление народного хозяйства требует максимального участия масс: «Система и методы строительства, опирающиеся на громоздкую бюрократическую машину, исключают всякую творческую инициативу и самодеятельность организованных в союзы производителей». Партия должна продемонстрировать доверие к рабочим и их организациям. Сами производители должны реорганизовывать народное хозяйство снизу. Со временем, когда массы обретут опыт, управление производством будет передано новому органу, Всероссийскому съезду производителей, не назначенному Компартией, но избранному профсоюзами и ассоциациями «производителей». (При обсуждении этой резолюции Шляпников отверг включение в понятие «производителей» крестьянство75.) При таком устройстве за партией сохраняются вопросы общей политики, а управление народным хозяйством предоставляется трудящимся.
Предложения, выдвинутые старыми большевиками из рабочих масс, проявили их удивительное незнание большевистской теории и практики. Ленин во вступительной речи без обиняков назвал оппозиционеров представителями «ярко синдикалистского уклона». В таком уклоне не было бы ничего страшного, если бы не экономический кризис, переживаемый страной, и бандитские отряды (под чем он понимал крестьянские мятежи). «Мелкобуржуазная стихия» таит в себе даже большую опасность, чем представляла Белая гвардия, и требует как никогда сплоченности партии76. По отношению к Коллонтай Ленин применил, как ему казалось, убийственную иронию, бросив реплику, намекающую на ее личные отношения с вождем «Рабочей оппозиции» («Ну, слава Богу, так и будем знать, что тов. Коллонтай и т. Шляпников — "классово спаянные, классово сознательные"»). [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 41. Ср.: Balabanoff A. My Life as a Rebel. Bloomington, Ind.—London, 1973. P. 252. Ленин был так рассержен тем, что Коллонтай примкнула к «Рабочей оппозиции», что не хотел даже говорить с ней или о ней. «На съезде, когда Коллонтай подошла к нему, он отказался пожать ей руку» (Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 97-98).].
Отступничество рабочих ставило Ленина и его соратников перед проблемой: как управлять от имени «пролетариата», когда тот повернулся к ним спиной. Один выход — расслоить российский рабочий класс. Все чаще стали говорить, что «настоящие» рабочие отдали свои жизни в гражданскую войну, а их места заняли отбросы общества. Бухарин заявлял, что российский рабочий класс «окрестьянился» и что, «объективно говоря», «Рабочая оппозиция» была «крестьянской оппозицией», тогда как один чекист говорил меньшевику Дану, что петроградские рабочие — «сволочь», оставшаяся в тылу, когда все настоящие рабочие ушли на фронт77. Ленин на XI съезде партии утверждал, что в России вообще не была «пролетариата» в марксовском понимании, поскольку ряды промышленных рабочих заполнили клеветники и «всяческие случайные элементы»78. Отвечая на подобные обвинения, Шляпников заметил, что 16 из 41 делегата X съезда, поддерживающих «Рабочую оппозицию», вступили в партию до 1905 года, а все остальные — до 1914-го79.
Еще один путь решить проблему оппозиции — выставить «пролетариат» как некоторую абстракцию: партия, при таком взгляде, по определению и есть «народ» и действует от его имени, невзирая на то, что думают реальные люди80. Такой подход избрал Троцкий: «Необходимо сознание, так сказать, революционного исторического первородства партии, которая обязана удержать свою диктатуру, несмотря на временные колебания стихии, несмотря на временные колебания даже в среде рабочих... Без этого сознания партия может погибнуть зря на одном из поворотов, а их много... Партия в целом связана единством понимания того, что над формальным моментом стоит диктатура партии, которая отстаивает основные интересы рабочего класса даже при временных колебаниях его настроения»81.
Иными словами, партия существует сама по себе и сама в себе и самим фактом своего существования отражает интересы рабочего класса. Живые желания живых людей — стихия, просто «формальный момент». Троцкий критиковал Шляпникова за то, что он «фетишизировал принципы демократии»: «Выборность внутри рабочего класса как бы ставилась над партией, как если бы партия не имела права отстаивать свою диктатуру даже и в том случае, если эта диктатура временно сталкивалась с преходящим настроением рабочей демократии»82. Невозможно было вручить управление народным хозяйством рабочим хотя бы по той простой причине, что среди них почти не было коммунистов: в этой связи Троцкий приводит слова Зиновьева о том, что в Петрограде, самом крупном индустриальном городе России, 99% рабочих либо вообще не имеют никакой партийной принадлежности, либо симпатизируют меньшевикам или «черносотенцам»83. Иными словами: либо коммунизм («диктатура пролетариата»), либо власть рабочих — и то и другое одновременно невозможно: в демократии таилась гибель коммунизма. Ничто не говорит о том, что Троцкий или кто-либо другой из коммунистических лидеров улавливали абсурдность такой позиции. Бухарин, например, открыто заявлял, что коммунизм не может примириться с демократией. В 1924 г. на закрытом Пленуме ЦК он говорил следующее: «Наша задача — видеть две опасности: во-первых, опасность, которая исходит от централизации нашего аппарата. Во-вторых, опасность политической демократии, которая может получиться, если демократия пойдет через край. А оппозиция видит одну опасность в бюрократии. За бюрократической опасностью она не видит политической демократической опасности...Чтобы поддержать диктатуру пролетариата, надо поддержать диктатуру партии». [Волкогонов Д. Сталин. Триумф и трагедия. Т. 1. Ч. 1. М., 1989. С. 197 (Курсив наш. — Авт.) Бухарин обращал свои слова к Троцкому, который в 1924 году, по причинам, которые будут подробнее изложены ниже, переменил свои взгляды и стал отстаивать идеи, присущие ранее «Рабочей оппозиции».].
Шляпников признавал, что единство партии высшая цель, однако, утверждал он, партия утратила единство, присущее ей до прихода к власти, именно из-за отрыва от партийных масс84. Этот отрыв и явился причиной волны забастовок в Петрограде и Кронштадтского мятежа. Проблема не в «Рабочей оппозиции»: «Причины того недовольства, которые мы наблюдаем в Москве и других рабочих городах, ведут нас не к "Рабочей оппозиции", а в Кремль». Рабочие ощущают себя совершенно чужими партии. Среди петроградских рабочих-металлистов, традиционного оплота большевизма, менее 2% были членами партии; в Москве эта пропорция равнялась 4%. [В начале 1922 г. в Секретариат Ленина поступило секретное донесение из Петрограда, подтверждающее утверждения Шляпникова. В нем сообщалось, что членами Коммунистической партии являются только 2 или 3 процента рабочих (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 27. Л. 11).]. Шляпников не согласился с доводами, которые выдвигал ЦК, что экономические беды объясняются объективными факторами, а именно гражданской войной: «То, что мы сейчас наблюдаем в нашем хозяйстве, есть результат не только объективных, независимых от нас причин. В том развале, который мы наблюдали, доля ответственности падает и на усвоенную нами систему»85.
Предложения «Рабочей оппозиции» не были вынесены на голосование, но делегаты могли выразить свое отношение при голосовании за одну из двух резолюций, предложенных Лениным: «О единстве партии» или «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии», которая отвергала платформу «Рабочей оппозиции» и осуждала ее приверженцев.
Первая резолюция набрала 413 голосов против 25, при 2 воздержавшихся; вторая 375 против 30 голосов, при 3 воздержавшихся и одном голосе, признанном недействительным86.
«Рабочая оппозиция» потерпела сокрушительное поражение и принуждена была самораспуститься. Она была обречена с самого начала потому, что выступила против интересов центрального аппарата и одновременно разделяла недемократические предпосылки коммунизма, включая идею однопартийного государства. Она ратовала за демократические процедуры в партии, сама идеология которой и тем более структура подразумевали пренебрежение волей народных масс. Признавая единство партии высшей ценностью, оппозиция сама оказывалась безоружной перед обвинением в подрыве основ.
Мы отвели так много места частному эпизоду в истории Коммунистической партии потому, что «Рабочая оппозиция», впервые и, как оказалось, в последний раз поставила партию перед фундаментальным выбором. Стремительно и катастрофически теряя популярность среди населения, партия теперь оказалась перед угрозой мятежа в своих собственных рядах — бунта тех самых рабочих, которые провозглашались ее хозяевами. Партия могла либо признать этот факт и отступить, или проигнорировать его и сохранить свои позиции. В последнем случае ей ничего не оставалось, как внедрить внутри себя те же диктаторские методы, какие она применяла в управлении страной. Ленин избрал второй путь, и в этом его единодушно поддержали соратники, включая Троцкого и Бухарина, которые потом, когда им пришлось ощутить эти методы на себе, встали в позу народных трибунов и защитников демократии. Сделав роковой шаг, Ленин обеспечил гегемонию центрального аппарата над рядовыми членами партии, а поскольку безраздельным хозяином в этом аппарате становился Сталин, Ленин тем самым обеспечил его восхождение.
Дабы предотвратить в дальнейшем разногласия в партии, Ленин провел на X съезде еще одну судьбоносную резолюцию, запрещавшую создание «фракций», то есть организованных группировок со своей платформой. Основной, заключительный абзац резолюции «О единстве партии», хранившийся в секрете, предусматривал суровое наказание для нарушителей: «Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и во всей советской работе и добиться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд дает ЦК полномочия применять в случаях нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий вплоть до исключения из партии». [Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1963. С. 573. Этот пункт был впервые обнародован Сталиным в январе 1924 года на XIII конференции с целью осуждения Троцкого (Сталин И.В. Соч. М, 1947. Т. 6. С. 15).].
Для исключения требовалось две трети голосов членов и кандидатов в члены ЦК и Контрольной комиссии.
Похоже, Ленин и большинство проголосовавших за резолюцию не представляли, какими она чревата серьезными последствиями. Они, между тем, не замедлили сказаться: Леонард Шапиро считает принятие этой резолюции ключевым моментом в истории Коммунистической партии87. Просто говоря, воспользовавшись словами Троцкого, политический режим в государстве был перенесен на внутреннюю жизнь правящей партии88. С этого времени и в самой партии устанавливался диктаторский режим. Особое мнение допускалось лишь до тех пор, пока его выражала отдельная личность, а не организованная группа. Резолюция запрещала членам партии выступать против большинства, контролируемого ЦК, несогласие индивидуума можно было всегда объявить нерепрезентативным, тогда как организованное несогласие поставили вне закона.
«Запрет внутрипартийных группировок делал его неотменяемым и необратимым, ведь в силу этого запрета невозможно было создать какое-либо движение к пересмотру его самого. Он устанавливал внутри партии казарменную дисциплину, быть может, необходимую в армии, но убийственную для политической организации, — дисциплину, допускающую единоличное недовольство, но то же недовольство, высказанное от имени нескольких лиц, признающую мятежом89».
Трудно было придумать лучшие условия для установления мертвой бюрократии, окончательно задушившей все живое в коммунистическом движении. Ибо именно для усиления действия запрета фракционности Ленин учредил в 1922 году пост Генерального секретаря и решил, что его займет Сталин.
Последствия запрета фракционности стали осязаемы на следующий год на XI съезде партии. Из 30 делегатов, которые имели смелость на предыдущем съезде проголосовать против резолюции Ленина, осуждавшей «Рабочую оппозицию» и обвинявшей ее в «анархо-синдикалистском уклоне» (голосование было открытым), осталось только шестеро, остальных сменили более сговорчивые члены партии. Молотов теперь мог похвастаться, что фракционность в партии искоренена90. К моменту созыва XII съезда в 1923 году еще трое из этих шестерых исчезло, и среди них сам Шляпников91. Такие тихие чистки обеспечивали неоспоримое господство ЦК, который укомплектовывал съезды делегатами, поддерживающими его позицию и интересы: достаточно сказать, что 55,1% делегатов XII съезда (1923) были всецело заняты партийной работой, а еще 30% активно совмещали ее с основной92. Неудивительно, что на XII и всех последующих съездах резолюции принимались только единогласно. Характеристика, данная Ключевским Земским соборам Московской Руси — «совещание правительства со своими собственными агентами», целиком применима и к этим съездам.
Но даже такие крутые меры и угрозы не заставили «Рабочую оппозицию» сдаться. Игнорируя партийные решения, в мае 1921 года фракция Коммунистической партии в Союзе рабочих-металлистов отвергла голосованием в соотношении 120 против 40 список руководителей, спущенный из Центра. ЦК признал это голосование недействительным и продолжал управлять и этим и всеми другими профсоюзами. Членство в профсоюзах стало принудительным, и их финансирование целиком зависело от государства93.
Антифракционная резолюция поставила «Рабочую оппозицию» вне закона и создала предпосылки для ее преследования. И Ленин не стеснялся в средствах, преследуя ее лидеров. В августе 1921 г. на Пленуме ЦК он потребовал исключить их из партии, но до необходимых для принятия решения двух третей не хватило одного голоса. [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 526—527; Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 748. Действия Ленина в этом случае противоречат часто повторяемым его поклонниками утверждениям, что, пока он был у власти, ни один ведущий партийный деятель или партийная группировка не исключались или им не угрожали исключением (напр.: Роговин В. Была ли альтернатива? М., 1992. С. 25). Не избежал этой ошибки и автор этого труда в своей книге «Русская революция». Ч. 2. С. 183—184.]. Однако им чинились всевозможные препятствия, и под тем или иным предлогом они были смещены с партийных постов94. Чтобы быть услышанной, «Рабочая оппозиция» опрометчиво вынесла свой вопрос на Исполком Коминтерна, не заручившись одобрением ни партии, ни даже российской делегации. Исполком, уже ставший отделом Российской компартии, отклонил их заявление. В сентябре 1923 г. после волны забастовок многих сторонников «Рабочей оппозиции» арестовали95. Сталин позаботился, чтобы все были уничтожены. Единственным исключением оказалась Коллонтай: в 1923 г. ее отправили в Норвегию, затем в Мексику и, наконец, послом в Швецию — первая в мире женщина, ставшая, как говорилось, главой дипломатической миссии. Тут, похоже, сработала склонность Сталина к грубому юмору; его, должно быть, забавляло, что певица свободной любви стала его представителем в стране этой самой любви. Шляпникова он расстрелял в 1937 году.
* * *
Первые признаки болезни Ленина проявились в феврале 1921 года, когда он стал жаловаться на головные боли и бессонницу. Причины его недомоганий были не только физиологического свойства. Ленин потерпел ряд унизительных поражений, тут и военная кампания в Польше, положившая конец надеждам на распространение революции в Европе, и экономический кризис, вынуждавший пойти на досадные уступки в пользу рыночных отношений. Медицинские симптомы были схожи с теми, которые наблюдались у него в другой критический для партии момент, когда социал-демократическое движение чуть не погибло из-за внутренних разногласий. [Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. 2-е изд. М., 1933. Была и еще одна причина тяжелых душевных переживаний: в сентябре 1920 г. внезапно скончалась его давняя подруга Инесса Арманд.]. Летом 1921 года головные боли постепенно стали проходить, но бессонница его не оставляла. [В 1922 г. Ленин заказывал в кремлевской аптеке успокоительные (сумнацетин и веронал) (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23036).]. Осенью вопросом о самочувствии Ленина озаботилось Политбюро и настояло на облегчении его режима работы. 31 декабря, все еще обеспокоенное неудовлетворительным состоянием его здоровья, Политбюро распорядилось отправить Ленина в шестинедельный отпуск: он мог вернуться на работу только с разрешения Секретариата96. Как бы странно ни выглядели такие резолюции, они были привычным явлением в отношениях центральных партийных органов со своим персоналом: как говорила Е.Д.Стасова, помощница Ленина, красному командиру С.С.Каменеву, большевики должны относиться к собственному здоровью как к «казенному добру»97.
В самочувствии Ленина не наступало улучшения. Его приводило в бешенство то, что он, который в прежнее время мог работать за двоих, теперь едва справляется с нагрузкой одного. Почти весь март 1922 г. он провел за городом, пристально следя за всем происходящим и работая над докладами на грядущем XI съезде партии. Он был мрачен и раздражителен, и врачи характеризовали его состояние «как неврастению, связанную с переутомлением»98. В это время его обычная жестокость приобрела почти клинические проявления: именно в таком состоянии давал он распоряжения об арестах, судах и расстрелах эсеров и священников.
Плачевное физическое состояние Ленина стало очевидно на проходившем в марте 1922 года XI съезде — последнем, в котором он смог принять участие. Он произнес две маловразумительные речи, настороженные по тону и пересыпанные личными желчными выпадами в адрес всех, кто мог быть с ним несогласен, не щадя ближайших соратников. Наблюдая его нетвердые жесты, провалы памяти и временами случавшиеся затруднения речи, некоторые врачи пришли к заключению, что диагноз значительно серьезней, а именно прогрессирующий паралич, который практически неизлечим и неотвратимо ведет к полной потере дееспособности и скорой смерти. Ленин, еще в феврале 1922 г. в личном письме Каменеву и Сталину не находивший «никаких объективных признаков»99 своей болезни, сейчас, по-видимому, стал понимать серьезность положения, ибо стал задумываться о передаче власти. Это оказалось мучительной задачей, не только потому, что власть была для него в жизни всем, но и потому, что, как он писал позже в декабре 1922 года в своем так называемом «Завещании», он не видел вокруг никого, кто был бы действительно способен взвалить на себя эту ношу. [В архивах сохранился любопытный документ: записка Ленина ЦК от 21 марта, в которой он настаивает на том, чтобы заезжий немецкий специалист «по нервным болезням» обследовал Чичерина, Троцкого, Каменева, Сталина и некоторых других высших советских работников (РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22960).]. Его также мучило предчувствие, что его уход из политики приведет к разрушительным личным ссорам среди соратников.
В то время самым естественным кандидатом в преемники Ленина казался Троцкий: кто, как не «организатор побед», как называл его Радек100, был более достоин стать наследником Ленина? Но это лишь на первый взгляд. Троцкий вступил в партию поздно, только накануне октябрьского переворота, а до этого много лет критиковал и высмеивал Ленина и его единомышленников. Старая гвардия не простила ему этого: каковы бы ни были его заслуги перед партией после 1917 года, для самого узкого круга большевиков он оставался чужаком. Хотя он был членом Политбюро, но он не занимал при этом никакой должности в исполнительных структурах партии и поэтому не мог рассчитывать на поддержку среди партийцев, тем более на влияние в кадровых вопросах. На X съезде (1921) при выборах ЦК он занял десятое место — ниже Сталина и даже сравнительно малоизвестного В.М.Молотова101. На следующем съезде молодой армянский коммунист Анастас Микоян пренебрежительно отозвался о нем как о «военном человеке», не знающем о том, как партия действует в провинции102. Но и личные человеческие качества Троцкого отличали его не слишком выгодно. Очень многим были не по душе его резкость и высокомерие: как он сам признавал, он заслужил упреки «в неартельности, в индивидуализме, в аристократизме»103. Даже его преданный биограф вынужден был признать, что он «редко мог удержаться, чтобы не напомнить другим об их ошибках и не подчеркнуть своего превосходства и проницательности»104. Сетуя на коллегиальный стиль руководства Ленина и других большевистских вождей, он как председатель Реввоенсовета республики, то есть высшее должностное лицо в вооруженных силах страны, требовал беспрекословного подчинения, порождая разговоры о «бонапартистских» амбициях. Так, в ноябре 1920 года, рассерженный неповиновением воевавших с Врангелем частей, он издал приказ, содержащий следующий пассаж: «Я, красный вождь ваш, назначенный правительством и облеченный доверием народа, требую полного доверия к себе». Любые попытки оспорить его приказы будут влечь массовые расправы105. Высокомерный стиль руководства привлек внимание ЦК, который в июле 1919 г. подверг его суровой критике106. Опрометчивая попытка военизировать труд, предпринятая Троцким в 1920 году, не только поставила под сомнение его компетентность, но и усилила подозрения в «бонапартизме»107. В марте 1922 г. он направил пространное письмо в Политбюро, требуя устранения партии от прямого участия в управлении экономикой. Политбюро отвергло это предложение, и Ленин, как он часто поступал с записками Троцкого, начертал «В архив», однако оппоненты представили поступок Троцкого как попытку «уничтожить руководящую роль партии»108. Не желая погружаться в повседневные дела, часто уклоняясь от кабинетных заседаний и всяческих совещаний, Троцкий усвоил себе роль политика, стоящего выше споров и суеты. «Для Троцкого главное — лозунг, трибуна, эффектный жест, а не черновая работа»109. Его административные таланты были весьма невысокими. Из кипы документов, хранящихся в его архиве в Гарвардском университете, и многочисленных записок Ленину складывается впечатление, что Троцкий в принципе неспособен был сформулировать краткое и деловое предложение — Ленин, как правило, никак на них не откликался и не принимал в расчет.
По всем этим причинам в 1922 году, обдумывая, как могли бы распределяться его партийные обязанности среди соратников, Ленин вообще обошел Троцкого. Он главным образом заботился о том, чтобы его преемник в своей работе руководствовался принципом коллегиальности, а Троцкий, никогда не умевший «играть в команде», на такую роль просто не годился. У нас есть свидетельство сестры Ленина Марии Ульяновой, которая находилась при нем до последних минут, что Ленин, высоко ценя его таланты и трудолюбие и ради этих качеств не давая волю своим чувствам, все же «симпатии к Троцкому <...> не чувствовал — слишком много у этого человека было черт, которые необычайно затрудняли коллективную работу с ним». [Известия ЦК КПСС. 1989. № 12/299. С. 197. По ее словам, Троцкий, в отличие от Ленина, не умел контролировать себя и однажды на заседании Политбюро обозвал ее брата «хулиганом», Ленин побелел как мел, но сдержался (там же).]. Сталин лучше отвечал замыслам Ленина. Поэтому-то он и наделил Сталина еще большими полномочиями, в результате, когда Ленина не стало, тот смог воспринять его роль и таким образом фактически стать его наследником.
В апреле 1922 года Сталин был назначен Генеральным секретарем ЦК, то есть главой Секретариата: формализовано это было на партийном пленуме 3 апреля по предложению Каменева. [Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1. Ч. 1. С. 132—136. Троцкий (Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 202—203 и The Suppressed Testament of Lenin. New York, 1935. P. 22) утверждал, не приводя никаких доказательств, что это назначение было сделано вопреки воле Ленина; потом Троцкий совсем запутал дело, заявив, что Сталин был назначен на X съезде и сделано это было будто бы по инициативе Зиновьева.]. Хорошо знавшие партийную кухню современники полагали, что Ленин пошел на этот шаг, поскольку Сталин постоянно предупреждал его об опасности раскола в партии и говорил, что предотвратить его способен лишь он один110. Однако реальные обстоятельства этого дела остаются туманными, и другие утверждают, что Ленин не представлял себе всех последствий выдвижения Сталина на пост, который до тех пор мало что значил111.
В ведение Секретариата под руководством Сталина входило два рода вопросов: обработка входящих и исходящих документов Политбюро и предотвращение уклонов в партии.
В отчете об организационных вопросах на XI съезде партии Молотов жаловался, что ЦК завален бумагами, по большей части самого тривиального свойства: в предыдущем году получено 120000 отчетов от местных партийных ячеек, и круг вопросов, которые требуют разрешения, увеличился почти в полтора раза112. На том же съезде Ленин высмеял тот факт, что Политбюро приходится возиться с такими важными проблемами, как импорт мясных консервов из Франции113. Ему представлялось абсурдным то, что он лично вынужден подписывать все распоряжения правительства114. Поэтому одной из задач Генерального секретаря и становилась подготовка поступивших документов: то есть отбор наиболее важных и достойных рассмотрения на Политбюро и обеспечение должного исполнения его решений115. Секретарь, таким образом, отвечал за распорядок работы Политбюро, за обеспечение его соответствующими материалами и доведение до сведения широких партийных кругов принятых решений. Это были функции не более чем передаточного звена канцелярского конвейера. И поскольку, строго говоря, пост Генерального секретаря сам по себе не обеспечивал влияния в политических вопросах, не многие осознавали, какая в нем таится потенциальная власть.
«Ленин, Каменев, Зиновьев и в меньшей степени Троцкий поддерживали выдвижение Сталина на все посты. Он занимался такого рода работой, которая не могла привлечь светлые умы из Политбюро. Весь их блеск в вопросах доктрины, вся их сила политического анализа не могли найти приложения ни в Рабоче-крестьянской инспекции, ни в ... Секретариате. Там требовались недюжинные способности к тяжелому и невдохновляющему труду и терпеливое и неустанное вхождение во все организационные детали. Никто из его коллег не завидовал Сталину в его назначении»116.
Ключом к расширению власти Сталина послужило сочетание полномочий, врученных ему одновременно как члену Оргбюро и как главе Секретариата. Он мог распоряжаться продвижением партийных работников по служебной лестнице, их перемещениями и увольнениями. Этими полномочиями Сталин воспользовался не только для устранения тех, кто был не согласен с мнением ЦК, как того хотел Ленин, но и для назначения функционеров, лично ему, Сталину, преданных. По замыслу Ленина, Генеральный секретарь должен был укреплять идеологически верную линию, пристально следя за партийными кадрами и отвергая или исключая элементы, вносящие раскол. Сталин скоро понял, что может использовать свои возможности для укрепления собственной власти в партии, назначая на ответственные посты, под видом заботы о чистоте идеологии, людей, лично ему обязанных. Он составил «номенклатурные списки» партийных работников, пригодных к работе в исполнительных структурах, и назначения производились только из лиц, в эти списки занесенных. В 1922 году Молотов докладывал, что ЦК завел подробнейшие личные дела на 26 000 партийных функционеров (или «партийных работников», как их уклончиво называли); в течение 1920 года 22 500 из них получили назначения117. Дабы ничто не могло ускользнуть от его внимания, Сталин потребовал от секретарей губкомов ежемесячно отчитываться персонально перед ним118. Сверх того он договорился с Дзержинским, чтобы ГПУ седьмого числа каждого месяца составляло обзорные доклады Секретариату"9. Исчерпывающие знания о партийных делах с самого верха до самого низа, полученные такими способами, в сочетании с возможностью распоряжаться назначениями, давали Сталину в руки мощные рычаги управления партийной машиной. Пользуясь принципом секретности большинства партийных документов, включая протоколы пленумов, он мог скрывать по своему усмотрению ценную информацию от своих соперников120. Самовозвеличивание Сталина не проходило незамеченным: на XI съезде друг Троцкого жаловался, что Сталин присвоил себе слишком много полномочий. Ленин нетерпеливо отмахнулся от таких обвинений121. Сталин делает дело, он видит высшую необходимость в сохранении единства партии, он скромен в поведении и нетребователен в быту. Позднее, осенью 1923 г., соратники генсека, возглавляемые Зиновьевым, который в личном письме Каменеву говорил о «диктатуре Сталина», вошли в тайный сговор с целью урезать его власть. У них ничего не получилось, Сталин ловко обыграл противников122. В своем упорном стремлении раскрутить тяжелую государственную машину и предотвратить раскол Ленин вручил Сталину власть, которую он сам шесть месяцев спустя охарактеризовал как «безграничную». Но тогда ограничивать ее было уже поздно.
* * *
Ленин не предвидел, что установленный им в России режим приведет к единоличному правлению. Это казалось ему невероятным. В январе 1919 г., в переписке с историком-меньшевиком Н.А.Рожковым, который высказывал такие опасения, он говорил: «Насчет «единоличной диктатуры», извините за выражение, совсем пустяк. Аппарат стал уже гигантским — кое-где чрезмерным — а при таких условиях «единоличная диктатура» вообще неосуществима и попытки осуществить ее были бы только вредны»123.
В действительности он не представлял себе, до каких гигантских размеров разросся аппарат и каких затрат он требовал. Он с недоверием отнесся к сведениям, которые ему сообщил Троцкий в феврале 1922 года, о том, что в предыдущие 9 месяцев партийный бюджет поглотил 40 млн рублей. [РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22737. Эта сумма почти равнялась кредиту, который Германия предложила в это время Советской России (см. выше, с. 506)].
Ленина больше волновало нечто иное: он опасался, что партия будет растерзана соперничеством на верхах и парализована бюрократизацией снизу. Но и тут он не видел крайней опасности. Ко всему происходящему коммунисты относились как к закономерным и научно объяснимым явлениям жизни. Ко всему, кроме собственных ошибок — здесь они становились крайними волюнтаристами, объясняя все свои промахи человеческими недостатками. Проблемы, беспокоившие Ленина и угрожавшие делу революции, со стороны представляются заложенными в самих основах его режима. Необязательно разделять романтические взгляды Исаака Дойчера на идеалы большевиков, чтобы признать справедливость его анализа противоречий, которые они сами создали: «В идеальном представлении о себе партия большевиков была дисциплинированным и при этом внутренне свободным и беззаветно преданным делу отрядом революционеров, неподвластных искушениям власти. Они считали себя обязанными блюсти пролетарскую демократию и уважать свободу малых народов, ибо без этого невозможно построение истинного социализма. Ради достижения своих идеалов большевики построили гигантскую и централизованную машину власти, которой они постепенно шаг за шагом уступали свои идеалы: пролетарскую демократию, права малых народов и, наконец, свою собственную свободу. Отказаться от своей власти, не отказавшись от достижения своих идеалов, они не могли; но теперь эта власть заслоняла и крушила их идеалы. Перед ними встал серьезнейший выбор; и глубокая пропасть пролегла между теми, кто оставался верен мечтам, и теми, кто взял сторону власти»124.
Этой причинно-следственной связи Ленин не увидел. В последние месяцы своей активной жизни он не нашел лучшего способа сохранения своего режима, нежели реорганизация учреждений и пересмотр штатов.
Скрепя сердце ему пришлось признать, что слияние партийных и государственных органов, которое он проводил с момента прихода к власти, не может оставаться непременным принципом, поскольку всецело зависит от характеристик конкретной личности, а точнее, от него самого, в его двойном качестве председателя Совнаркома и лидера Политбюро, руководящего и тем и другим одновременно. Такое совмещение, в любом случае, перестало эффективно действовать, поскольку политические органы партии захлебнулись в потоке дел разностепенной важности, но в большинстве своем малозначительных, окончательное решение по которым на них перекладывал государственный аппарат. После частичного отстранения Ленина от дел возникла необходимость изменить прежний порядок. В марте 1922 г. Ленин возмущался тем, что «из Совнаркома тащат все в Политбюро», и признавал свою вину за такое положение, «так как многое по связи между Совнаркомом и Политбюро держалось персонально мною. А когда мне пришлось уйти, то оказалось, что два колеса не действуют сразу»125.
В апреле 1922 года, в то же самое время, когда Сталин занял пост Генерального секретаря, у Ленина зародилась идея назначить двух верных соратников наблюдать за государственным аппаратом. С этой целью он предложил назначить двух заместителей (или кратко «замов») в Совнарком и Совет труда и обороны (СТО), [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 152—159. СТО был самой важной комиссией Совнаркома. Он занимался в основном экономическими вопросами и представлял из себя что-то вроде «кабинета министров по экономике» (Nove A. An Economic History of the USSR. Hammondsworth, 1982. P. 70. Ср.: Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике. М., 1954. С. 362). О подробностях этого предложения см.: Rigby Т.Н. Lenin's Government: Sovnarkom, 1917—1922. Cambridge, 1979. Ch. 13.] которые он сам возглавлял. В качестве кандидатур «замов» Ленин предложил специалиста по аграрным вопросам А.Д.Цюрупу и А.И.Рыкова, с указанием наркоматов, которые каждый из них должен был контролировать, и четким распределением функций между ними. [Исаак Дойчер (The Prophet Unarmed. London, 1959. P. 35—36), ссылаясь без уточнения на Архив Троцкого, утверждает, что 11 апреля 1922 г. на заседании Политбюро Ленин предложил Троцкому пост третьего заместителя. Однако нигде не встречается упоминаний о заседании Политбюро, состоявшемся в этот день, да и в Архиве Троцкого нет документов, подтверждающих утверждение Дойчера. Нет также подтверждений и другому утверждению Дойчера, что Троцкий объяснял свой отказ от упомянутого предложения тем, что это «уничтожило бы его политически» (Deutscher I. Op. cit. P. 87. См. также: Rigby Т.Н. Lenin's Government. P. 292—293).]. Троцкий, не имевший голоса в вопросах управления хозяйством, подверг это предложение жесткой критике, утверждая, что полномочия замов настолько широки, что теряют смысл. Он считал, что неудовлетворительное состояние народного хозяйства не изменится до тех пор, пока не будут внедрены авторитарные методы управления из Центра, без вмешательства партии126, в чем большинство усмотрело его стремление стать «диктатором» в экономике. Ленин заявил, что Троцкий «в корне неправ», и упрекнул в том, что он выносит непродуманные суждения127.
25—27 мая 1922 г. у Ленина случился первый удар, вызвавший паралич правой руки и правой ноги и временную потерю дара речи и способности писать. Два последующих месяца он находился в Горках, вдали от дел. Врачи снова пересмотрели диагноз и склонялись теперь к артериосклерозу мозга, возможно, наследственного происхождения (две сестры Ленина и брат скончались от сходных недугов). В этот период вынужденного бездействия на наиболее важных постах председателя Политбюро и Совнаркома его замещал Каменев, который, кроме того, был председателем Московского Совета. Сталин руководил Секретариатом и Оргбюро, ведя текущую работу партийного аппарата. Зиновьев возглавлял Петроградский Совет и Коминтерн. Эта «тройка» господствовала в Политбюро и через него во всем партийном и государственном механизме. Все трое, и даже зять Троцкого Каменев, имели серьезные основания объединиться против своего общего соперника. Они даже не удосужились оповестить Троцкого, который в это время был в отпуске, о том, что случилось с Лениным128. Сами они поддерживали постоянный контакт с Лениным. Судя по журналу посещений за этот период (25 мая — 2 октября 1922), чаще других в Горках бывал Сталин — он встречался с Лениным 12 раз; по словам Бухарина, Сталин оказался единственным членом ЦК, которого Ленин пожелал видеть в самые серьезные моменты своей болезни. [Известия ЦК КПСС. 1989. № 12/229. С. 200. Сн. 19. Позднее, однако, Бухарин признавался меньшевику историку Борису Николаевскому, что он часто посещал Ленина в конце 1922 и имел с ним серьезные беседы (Nicolaevsky B.I. Power and the Soviet Elite. New York, 1965. P. 12—13).]. По свидетельству Марии Ульяновой, это были очень оживленные встречи: «В.И.Ленин встречал его [Сталина] дружески, шутил, смеялся, требовал, чтобы я угощала Сталина, принесла вина и пр. В этот и дальнейшие приезды они говорили и о Троцком, говорили при мне, и видно было, что тут Ильич был со Сталиным против Троцкого»129. Ленин часто общался со Сталиным и письменно. В его архиве содержится много записок, в которых он просит его совета в самых разнообразных делах, включая вопросы внешней политики. Беспокоясь о том, как бы Сталин не переутомился, он просит Политбюро убедить его отдыхать по два дня в неделю за городом130. Узнав от Луначарского, что Сталин живет в плохой квартире, он потребовал, чтобы ему подыскали что-нибудь получше131. Свидетельств столь же близких и участливых отношений с кем-либо другим из членов Политбюро мы не найдем.
Заручившись согласием Ленина и договорившись предварительно между собой, триумвират представлял на Политбюро и в Совнаркоме свои решения, которые там послушно принимались. Троцкий в таких случаях либо присоединял свой голос к большинству, либо воздерживался. Выступая сплоченным блоком в Политбюро, состоявшем тогда из семи членов (кроме них и отсутствующего Ленина, еще Троцкий, Томский и Бухарин), эта троица получила возможность проводить любые решения и оттеснить Троцкого, не имевшего в этом органе своих сторонников.
Сталин блестяще исполнял свою роль, сумев внушить всем, включая и Ленина, самое благоприятное впечатление. Он брал на себя тяжелейшую, но важнейшую работу, которую другие выполнять не хотели: ведение обширной двусторонней переписки между партийными ячейками и Политбюро, не говоря уже о бесчисленных персональных назначениях. И никто, похоже, не догадывался, что ключевое положение в решении кадровых вопросов дает Сталину возможность конструировать неуязвимый политический механизм. При всяком удобном случае он давал понять, что для него всегда на первом месте стоит благополучие партии. Казалось, он лишен личных амбиций и тщеславия, охотно уступая Троцкому, Каменеву и Зиновьеву удовольствие купаться в лучах славы. Он так искусно изображал скромного партийного служащего, что в 1923 году никто не видел в нем соперника в борьбе за ленинское наследие, которая с очевидностью должна была развернуться между Троцким и Зиновьевым132. Сталин был способен доказывать в одном случае, что единство партии есть высшее благо и что во имя этого можно поступиться даже принципами, а в другом, без особых колебаний, — что ради верности принципам можно пойти даже на раскол. И в зависимости от того, что ему было наиболее выгодно в данный момент, он выдвигал либо одни, либо другие доводы. В спорах он всегда занимал позицию здравого смысла, стремясь во что бы то ни стало примирить высокие требования с практическими соображениями — пример скромности и безобидности. У него не было врагов, за исключением разве что Троцкого, но и с ним он стремился сблизиться, пока тот решительно не отверг его дружбу, охарактеризовав генсека как «выдающуюся посредственность», не заслуживающую внимания по своей ничтожности. Сталин часто собирал партруководителей, иногда с женами и детьми, на своей загородной даче. Там в непринужденной обстановке не только обсуждались важные вопросы, но и предавались воспоминаниям, танцевали, пели133. И ничто в его речах или поступках не настораживало окружающих и не давало им повода разглядеть за этой маской радушия и хлебосольства коварного убийцу. Словно хищник, умеющий принимать вид безобидного ягненка, он втирался в среду своих ничего не подозревающих жертв.
11 сентября 1922 года Ленин направил Сталину записку для Политбюро, в которой ввиду долгого отсутствия в отпуске Рыкова и невозможности Цюрупе нести на себе весь груз обязанностей рекомендовал назначить еще двух заместителей, одного контролировать работу Совнаркома, а другого — работу СТО: оба должны работать под пристальным наблюдением Политбюро и лично Ленина. На эти посты он предлагал Троцкого и Каменева. Этот факт дал друзьям и недругам Троцкого пищу для самых смелых обобщений: первые утверждали, будто Ленин избрал Троцкого своим преемником. (Макс Истмен, например, вскоре после того писал, что Ленин попросил Троцкого «стать главой советского правительства, и тем самым всего мирового революционного движения»134.) Действительность была много прозаичней. По словам сестры Ленина, это предложение «носило характер дипломатии», чтобы погладить Троцкого по шерстке135; по сути, предполагаемое назначение было столь незначительным, что Троцкий заведомо не захотел бы его принять. При голосовании рекомендации Ленина на Политбюро Сталин и Рыков написали «Да», Каменев и Томский воздержались, Калинин начертал «Не возражаю», тогда как сам Троцкий выразился резко: «Категорически отказываюсь». [РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26002; Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. Прим. 198. Сталинские воспоминания об этом эпизоде были по его требованию изъяты из первоначального издания протоколов XII съезда (там же. Прим. 199).]. Объясняя Сталину причину своего отказа, он отметил, что ранее уже критиковал институт заместителей по сути, но теперь к этому добавились и процедурные возражения: предложение не обсуждалось ни на Политбюро, ни на пленуме. Кроме того, он собирается взять отпуск на четыре недели136. Но истинной причиной отказа была, видимо, унизительная подоплека предложения: его ставили в один ряд с тремя другими такими же заместителями, из которых один (Цюрупа) не был даже членом Политбюро, и без четко определенных полномочий: бессмысленное заместительство — не более чем пост ради самого поста. Если принять такое назначение значило покорно проглотить пилюлю, то отказ давал в руки его врагов смертельное оружие. Ибо еще не было случая, чтобы высший советский руководитель «категорически» отклонял предложение такого рода, исходящее от самого Ленина.
Сталин вернулся в Горки на следующий день. Что они обсуждали во время встречи с Лениным, длившейся два часа, неизвестно. Но есть все основания предполагать, что одной из тем их беседы был отказ Троцкого; и судя по последующим событиям, не приходится сомневаться и в том, что Ленин не возражал против вынесения ему формального выговора. Политбюро на заседании 14 сентября, в отсутствие Троцкого, выразило «сожаление», что он не пожелал принять предложенный пост. Это был первый выстрел в кампании дискредитации Троцкого. Вскоре Каменев, действуя от имени триумвирата, в письме Ленину предложил исключить Троцкого из партии. Ленин ответил гневно: «Выкидывать за борт Троцкого — ведь на это вы намекаете. Иначе нельзя толковать — верх нелепости. Если вы считаете меня оглупевшим до безнадежности, то как вы можете это думать!!! Мальчики кровавые в глазах...» [РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1239. Документ датирован архивистом: после 12 июля 1922-го; более точная дата, как показал В.Наумов в «Коммунисте» (1991. № 5. С. 36), октябрь 1922-го. Почти наверняка записка связана с предложением Каменева и Зиновьева об исключении Троцкого, на которое Сталин наложил вето. См. ниже, с. 573.].
Похоже, звезды на политическом небосводе внезапно стали благосклонней к Троцкому. В сентябре врачи позволили Ленину вернуться к работе. 2 октября вопреки протестам Сталина и Каменева, будто бы заботившихся о его здоровье, он появился в Кремле и установил крайне напряженный режим работы: по 10—12 часов в день. Знакомство с деятельностью «тройки» в его отсутствие вызвало у него определенные подозрения: «Ленин почуял, — писал Троцкий, воображая несуществующее единодушие с вождем, — что, в связи с его болезнью, за его и моей спиною плетутся пока еще почти неуловимые нити заговора»137. По-видимому, у Ленина действительно сложилось ощущение, вскоре переросшее в уверенность, что, изображая повышенную заботливость, его коллеги изо всех сил стремятся отгородить его от реальных дел. Одним из доказательств его правоты послужила процедура проведения заседаний Политбюро. Поскольку Ленин быстро уставал, ему часто приходилось покидать заседания, не дожидаясь их окончания. На .следующий день он узнавал, что в его отсутствие были приняты серьезнейшие решения по вопросам, даже не внесенным заранее в повестку дня138. Чтобы положить конец такой практике, 8 декабря он установил правило, что заседания Политбюро должны длиться не долее трех часов (с 11 до 13 часов) — все нерешенные вопросы следует переносить на завтра. Повестка дня должна сообщаться членам Политбюро по крайней мере за 24 часа139.
Сближение Ленина с Троцким произошло по мелкому поводу монополии на внешнюю торговлю и укрепилось на основе расхождений со Сталиным по «грузинскому вопросу», возникшему в то же самое время (см. ниже). В отсутствие Ленина ЦК проголосовал за предоставление советским предпринимателям и фирмам большей свободы в сотрудничестве с иностранными державами. Красин, считая, что это раскалывает государственную монополию на торговлю с заграницей, выступил против, так как монополия, по его мнению, дает Советской России большое преимущество перед конкурирующими иностранными государствами и предприятиями140. Для Ленина монополия на иностранную торговлю была одной из «командных высот», удерживаемых государством при нэпе. Его гнев подогревался ощущением, что соратники хотят воспользоваться его отсутствием, чтобы уступить установленные им защитные рубежи против реставрации капитализма. Узнав, что Троцкий разделяет его взгляды, 13 и 15 декабря Ленин надиктовал записки к нему с просьбой отстоять их общую позицию на следующем заседании Пленума ЦК141. Троцкий так и поступил и 18 декабря на Пленуме без большого труда добился признания позиции Ленина.
Эти мелкие бюрократические поражения и призрак возможного альянса Ленина—Троцкого насторожили триумвират, ведь их политическое благополучие обусловливалось полным отстранением Ленина от руководства. 18 декабря, в тот день, когда Троцкий одержал победу на Политбюро, Сталин и Каменев добились от Пленума мандата, дающего Сталину права распоряжаться режимом работы Ленина. Ключевой пункт, в передаче его Сталиным секретарю Ленина Лидии Фотиевой, звучал так: «На т. Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками [партработниками], так и переписки»142.
Согласно инструкциям Сталина Ленин должен был работать лишь короткими периодами, диктуя секретаршам, одной из которых была жена Сталина Н.И.Аллилуева. Как ни парадоксально, но с Лениным и его женой обошлись словно с умственно неполноценными. Ленин тотчас же заподозрил, что ЦК действует, не столько прислушиваясь к рекомендациям врачей, сколько указывая врачам, что говорить ему143.
Чувствуя, как его все туже оплетает паутина интриги, нити которой соединяются в руках Сталина, Ленин обратился за помощью к Троцкому, который был в сходных стесненных обстоятельствах. Согласно Троцкому, а другими свидетельствами мы не располагаем, в частной беседе где-то в первой половине декабря — это был последний непосредственный контакт Ленина с Троцким — Ленин снова стал уговаривать Троцкого принять пост заместителя председателя Совнаркома. Но на этот раз, как утверждает Троцкий, Ленин пошел дальше, предлагая ему вступить в «блок» против бюрократии вообще и Оргбюро в частности. Троцкий понял это как союз против Сталина144.
В ночь с 15 на 16 декабря Ленина сразил еще один удар, после чего врачи предписали ему полный покой и воздержание от всякой политической деятельности. Ленин отказывался подчиниться145. Он ощущал, что стоит на пороге полной недееспособности и, вероятно, скорого конца и хотел оставить после себя порядок во всех делах. 22 декабря он попросил Фотиеву достать ему цианистого калия, на случай, если лишится дара речи146. С подобной просьбой он обращался и к Сталину в начале мая, и в этом факте Мария Ульянова видела доказательство особого его доверия к Сталину. [Известия ЦК КПСС. 1989. № 12/299. С. 197-198. Эти воспоминания инициировал Бухарин по просьбе Сталина, и они сохранились в записи рукой Бухарина, что дает основания усомниться в их достоверности (Роговин В. Была ли альтернатива? М., 1992. С. 71). В 1939-м, незадолго до убийства, Троцкий припоминал об одном эпизоде, произошедшем на заседании Политбюро в феврале 1923 г., на котором Сталин со зловещей улыбкой сообщил о том, что Ленин просил его достать яду, чтобы покончить со своим безнадежным положением (Троцкий Л.Д. Портреты. Benson, Vt., 1984. С. 45—49). Троцкий до конца дней считал вполне вероятным, что Ленин умер от яда, которым его снабдил Генеральный секретарь (Houghton Library, Harvard University, Trotsky Archive, dMS Russian 13 T-4636, T-4637, T-4638). Троцкий, однако, несколько лукавил, ведь в его распоряжении была телеграмма Дзержинского от 1 февраля 1924 года, в которой сообщалось, что при вскрытии следов яда в крови Ленина не обнаружено (РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 322). По свидетельству Фотиевой, Сталин никогда не приносил Ленину яда (Московские новости. 1989. № 17. 23 апр. С. 8).].
21 декабря, видимо, не доверяя своим секретарям, Ленин продиктовал Крупской дружественную записку Троцкому, поздравляя его с победой в битве за монополию иностранной торговли, достигнутой «без единого выстрела простым маневренным движением». Он убеждал его усилить наступление147. Содержание этой записки стало тотчас же известно Сталину, получившему подтверждение своим подозрениям, что Ленин и Троцкий объединились против него. На следующий день он позвонил Крупской, грубо отругал ее за то, что она писала под диктовку мужа, нарушая режим, который он, Сталин, установил по воле партии, и угрожал ей разбирательством в Центральной контрольной комиссии. После разговора с Крупской случилась истерика: она рыдала и каталась по полу148. В ту ночь, прежде чем она успела рассказать Ленину о том, что произошло, его сразил еще один удар. Крупская написала Каменеву, что за все годы в партии никто не разговаривал с нею так, как Сталин. Кто же больше беспокоится о здоровье мужа, чем она, и кто лучше нее знает, что ему хорошо, а что нет149? Узнав об этом письме, Сталин почел за лучшее позвонить Крупской и принести свои извинения; но, действуя в сговоре с Каменевым, он предпринял дополнительные меры для усиления карантина Ленина. 24 декабря, следуя инструкции Политбюро (Бухарин, Каменев и Сталин), врачи велели Ленину ограничить диктовку 5—10 минутами в день. К надиктованным текстам относились скорее как к личным заметкам, чем как к средству двустороннего общения с вождем: таким изощренным путем можно было закрыть ему доступ к государственным делам и прервать переписку с Троцким. «Ни друзья, ни домашние, — гласила инструкция, — не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений»150. Так, под предлогом заботы о его здоровье, Сталин и его друзья по сути поместили Ленина под домашний арест. [Этот эпизод получил зловещее продолжение 30 лет спустя. Осенью 1952 года врач Сталина нашел его состояние неудовлетворительным и потребовал немедленно прекратить работу. Сталин, по-видимому, памятуя о том, что случилось с его предшественником, приказал арестовать врача (Яковлев Е. // Московские новости. 1989. № 4/446. 22 янв. С. 9).]. Излюбленные Лениным политические приемы дорого стоили ему. Двадцать лет он безраздельно властвовал над своими соратниками, а теперь им, вкусившим власти, не терпелось самим встать у руля. Свой по сути тихий государственный переворот они оправдывали передаваемыми шепотом в партийных кругах разговорами о том, что «старик» неконтактен, почти «умственный инвалид»151. Троцкий вероломно присоединился к заговорщикам. В январе 1923 г. Ленин передал в «Правду» статью, адресованную предстоящему партийному съезду, в которой он выражал беспокойство вероятным расколом в партии и предлагал способы избежать его152. На совместном заседании Политбюро и Оргбюро обсуждался вопрос о публикации этой статьи, способной вызвать недоумение и ужас у рядовых членов партии, даже не подозревавших о существовании разногласий в рядах руководства. Поскольку Ленин пожелал увидеть выпуск «Правды» со своей статьей, В.В.Куйбышев предложил отпечатать один-единственный экземпляр, чтобы успокоить вождя. В конце концов было решено обнародовать статью без абзаца, где говорилось о том, что на заседаниях Политбюро должны присутствовать представители Центральной контрольной комиссии (ЦКК), которые ни при каких условиях не могут испытывать влияния «личности», в том числе и в особенности Генерального секретаря153. В то же самое время руководство разослало в губернские и уездные партийные организации циркуляр, предназначенный нейтрализовать предполагаемый вредный эффект статьи. В письме от 27 января, составленном Троцким и подписанном собственноручно всеми членами Политбюро и Оргбюро, включая Сталина, сообщалось, что Ленин болен и не может посещать заседания Политбюро. Этим объясняется его неосведомленность о реальном положении дел, не дающем ни малейших оснований предполагать раскол в партии154. Знай Ленин об этом документе, он вполне мог бы повторить слова Николая II, которые тот записал в своем дневнике после отречения: «Кругом измена, трусость и обман!»
В качестве награды за поддержку Сталин в январе еще раз предложил Троцкому место зама в ВСНХ или Госплане. Троцкий вновь отказался155.
Ленин отбивался, как загнанный зверь. В минуты просветления, неизменно подробно осведомляясь о деятельности «тройки», он готовил мощную кампанию против нее. Хотя его физическое состояние явно не соответствовало этому, он планировал участвовать в работе намеченного на март XII съезда партии, чтобы с помощью Троцкого провести коренные перемены в политическом и экономическом управлении страной. Троцкий был его естественным союзником, ибо находился почти в такой же политической изоляции. Если бы Ленину удалось проделать то, что он задумал, то карьера Сталина была бы серьезно поколеблена, если не сокрушена до основания.
* * *
Раздражение Ленина поведением Сталина, принимавшее все более ощутимые формы, усугублялось высокомерием последнего в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Ленин придавал особое значение национальному вопросу, не только потому, что от его успешного решения напрямую зависела целостность государства, но и из-за его широкого резонанса среди колониальных народов. По существу вопроса у Ленина со Сталиным расхождений не было: национализм был «буржуазным предрассудком», которому не место при «диктатуре пролетариата». Не вызывало сомнений и то, что Советское государство должно быть безусловно централизованным и решения правительства обязательны для всех его субъектов без различия национальности. Однако сталинских методов Ленин не одобрял. Ленин полагал, что малые народы имеют право не любить русских за все, что им пришлось претерпеть от них в прошлом. И эту историческую неприязнь он предполагал преодолеть путем существенных уступок вроде формального предоставления им федерального статуса и некоторой культурной автономии, а также и прежде всего соблюдая особый такт в отношениях с ними. Человек, абсолютно лишенный национального чувства, он презирал великорусский шовинизм и боялся его, как угрозы мировым интересам коммунизма.
Сталин, грузин, говоривший по-русски с неистребимым акцентом, смотрел на вещи по-иному. Он давно понял, что основную силу коммунизм черпает из русского народа. Из 376 тыс. членов партии в 1922 г. 270 тыс., или 72%, были русскими, а из остальных большая часть — половина украинцев и две трети евреев — русифицированными или ассимилированными156. Более того, в ходе гражданской войны и еще более — войны с Польшей наблюдалось невольное смешение понятий коммунизма с русским национализмом. Ярчайшим проявлением этого явилось движение «Смены вех», снискавшее популярность среди консервативной части русского зарубежья, объявив Советское государство единственным защитником величия России и призывая всех ее эмигрантов к возвращению на родину. На X съезде партии (1921) один из делегатов заметил, что достижения Советского государства «наполнили гордостью сердца всех тех, кто был связан с этой русской революцией, и создался своего рода русский красный патриотизм»157. Для такого тщеславного политика, как Сталин, более заинтересованного в реально осязаемой власти у себя дома и сейчас, чем в грядущем облагодетельствовании всего человечества, такое развитие представлялось не опасностью, а, напротив, удобным стечением обстоятельств. С самого начала партийной карьеры, и с каждым годом своего диктаторства все более и более, Сталин становился на позиции русского национализма в ущерб интересам национальных меньшинств.
К 1922 году большевики завоевали большую часть приграничных территорий. Разумеется, решающим фактором в ходе имперской экспансии служила Красная Армия, но немалый вклад внесла пропагандистская и подрывная деятельность местных коммунистов, и после установления новой власти они захотели получить свою долю властных полномочий. Но их притязания не находили почти никакого отклика в центре: в качестве наркомнаца (наркома по делам национальностей) Сталин каждую из так называемых советских республик воспринимал как неотъемлемую часть России, не далеко уйдя в этом смысле от политики царского правительства. Результатом стали обиды и конфликты между местными коммунистами и московским аппаратом, в конце 1922 года обратившие на себя внимание Ленина.
Самое серьезное столкновение на этой почве наблюдалось в Грузии. Сталин считал покоренное гнездо меньшевизма своей собственной епархией, и после завоевания Грузии он с помощью своего соратника грузина Серго Орджоникидзе, главы Кавказского бюро РКП(б), стал бесцеремонно командовать здешними коммунистами. Применяя ленинскую инструкцию об интегрировании экономики Закавказья, Орджоникидзе объединил Азербайджан, Армению и Грузию в единую федерацию, подготавливая ее присоединение к Советской России. Местные коммунисты, такие как Буду Мдивани и Филипп Махарадзе, воспротивились и пожаловались в Москву на высокомерное поведение Орджоникидзе158. Приняв во внимание эти протесты, Ленин на некоторое время приостановил политическую и экономическую интеграцию Закавказья, но затем, в марте 1922 года, распорядился возобновить прерванный процесс. К этому моменту Орджоникидзе объявил о создании Федеративного союза советских социалистических республик Закавказья: большинство полномочий правительств трех республик должны были делегироваться новому руководящему федеративному органу. Протесты из Тифлиса не тронули Ленина, который в таких вопросах полагался на рекомендации Сталина.
Летом 1922 года коммунистическая империя состояла из четырех республик: России (РСФСР), Украины, Белоруссии и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР). Формальные отношения между ними определялись двусторонними соглашениями; в действительности все четыре находились под прямым руководством Российской коммунистической партии. Теперь было решено, что настало время поставить отношения между республиками на более прочную основу. В августе 1922 года Ленин поручил задачу выработки принципов федеративного союза комиссии под председательством Сталина159. Сталин придумал поразительно простое решение: три нерусские республики должны войти в состав РСФСР на правах автономий, а центральные государственные органы Российской республики должны принять на себя федеральные функции. При таком устройстве не возникает никаких различий в конституционном статусе между Украиной или Грузией, с одной стороны, и автономными республиками в составе РСФСР, как, например, Якутия или Башкирия, с другой стороны. Это было в высшей степени централизованное устройство, при котором все важнейшие государственные функции вручались Москве160. В действительности этим возрождался исповедуемый царизмом принцип «единой и неделимой России».
Ленин предполагал нечто совсем иное. Уже в 1920 году он задумывал образование двух типов советских республик — «союзных», наделенных всеми формальными признаками суверенитета, для крупных национальных общностей, и «автономных» для меньших наций. Но Сталин считал эти различия умозрительными, поскольку в административной практике Москва не делала разграничений между большими и малыми народами161. Получив мандат от Ленина, он начал проектировать новую государственную структуру согласно собственным представлениям.
Тезисы Сталина, основанные на концепции «автономизации», были переданы на одобрение самим республикам, где были встречены крайне враждебно. Более всех возмущались грузинские коммунисты, которые 15 сентября 1922 года объявили намеченные меры «преждевременными»162. Орджоникидзе отклонил возражения и сообщил Сталину от имени Закавказской федерации, что тезисы одобрены. Украина воздержалась от оценки, а Белоруссия заявила, что солидаризируется с решением Украины. Комиссия же Сталина единодушно приняла его план.
Ленин ознакомился с тезисами Сталина 25 сентября. Он прочел также и резолюцию ЦК КП Грузии, к которой Сталин приложил необычно пространную (для него) объяснительную записку. Он оправдывал свой план тем, что в реальности невозможно найти компромисс между истинной независимостью каждой из республик и их объединением в одно целое. К сожалению, писал Сталин, в годы гражданской войны, когда «мы... вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах»163.
Ленину очень не понравились как содержание, так и тон. Сталин не только пренебрег доводами местных коммунистов, но и весьма грубо о них отзывался. 26 сентября вождь вызвал Сталина на беседу, которая длилась два часа и сорок минут и после которой он направил в Политбюро записку, в которой сурово раскритиковал тезисы Сталина164. Вместо трех республик, входящих в состав Российской, он предложил, чтобы все они наряду с РСФСР образовали новое наднациональное объединение с предположительным названием «Союз Советских Республик Азии и Европы». Опуская в названии нового государства слово «Россия», Ленин хотел, с одной стороны, подчеркнуть равенство всех входящих в него членов (по его выражению, «чтобы не дать пищу сепаратистам») и создать ядро, вокруг которого могли бы консолидироваться страны, которые придут в будущем к коммунизму. [Как отмечал Сталин в то время, новый союз явился «новым решительным шагом по пути к объединению трудящихся всего мира в Мировую Советскую Социалистическую Республику» (Сталин И.В. Соч. Т. 5. М., 1947. С. 155).]. Ленин, кроме того, предлагал не возлагать на ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) функций союзного органа, как планировал Сталин, а сформировать с этой целью новый Всесоюзный ЦИК.
В ответ на ленинскую критику Сталин не выказал полагающегося по отношению к партийному лидеру почтения. Соглашаясь с мнением Ленина относительно структуры государства и представляя комиссии пересмотренный проект, он продолжал упрямо настаивать на превращении ЦИК РСФСР во Всесоюзный ЦИК. Иные возражения Ленина он отверг как несущественные, а в одном пункте упрекнул Ленина в «национальном либерализме»165. В конце концов ему все же пришлось принять все ленинские пожелания и соответствующим образом исправить свой проект166. В таком виде проект стал хартией Союза Советских Социалистических Республик, об образовании которого было формально объявлено 30 декабря на X съезде Советов РСФСР. Дополненный представителями трех республик, съезд объявил себя Первым Всесоюзным съездом Советов.
Грузины стояли на своем: они не могли примириться с тем обстоятельством, что, в то время как Украина и Белоруссия вступают в Союз как суверенные республики, им приходится фигурировать в составе Закавказской федерации в качестве автономных единиц. Поверх сталинского секретариата, они объявили Кремлю, что если предложение пройдет, их ЦК в полном составе уйдет в отставку167. В своем ответе Сталин сообщил им, что ЦК единодушно отклонил их возражения. 21 октября пришла телеграмма от Ленина: он тоже осудил грузинский ЦК — и суть их протеста, и тон, в котором он был выражен168. Получив ответ, весь ЦК Грузинской КП подал в отставку — беспрецедентный случай в истории Компартии169. Орджоникидзе воспользовался этим обстоятельством для обновления состава ЦК недавно вступившими в партию коммунистами, покорными его и Сталина воле. 24 октября Сталин телеграфировал об одобрении его действий ЦК РКП(б)170.
До этого времени Ленин соглашался со Сталиным по грузинскому вопросу. Но в конце ноября, в раздражении на Сталина, изучая поступившие из Тифлиса материалы, он пришел к выводу, что все не так уж ясно в грузинском деле. Он потребовал отправить в Грузию особую комиссию по изучению фактов. Сталин поставил во главе комиссии Дзержинского. Не доверяя действиям Генерального секретаря и желая наладить собственный контакт с Тифлисом, Ленин попросил Рыкова также отправиться в Грузию. Один из секретарей Ленина отметил, что он со жгучим нетерпением ожидал результатов расследования171.
Дзержинский вернулся из Тифлиса 12 декабря. Ленин тотчас же выехал из Горок в Москву на встречу с ним. Дзержинский полностью оправдывал Орджоникидзе и Сталина, но Ленина это не убедило. Особенно его удручил рассказ о том, что в ходе политического спора Орджоникидзе ударил товарища по партии (тот назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком»172). Ленин приказал Дзержинскому вернуться в Грузию и собрать дополнительные свидетельства. На следующий день (13 декабря) он в течение двух часов беседовал со Сталиным — это была их последняя встреча. После этого разговора Ленин собирался послать Каменеву подробную записку по национальному вопросу, но еще один удар, случившийся 15 декабря, не позволил ему осуществить это намерение.
Ленин чувствовал себя преданным своими соратниками, и в оставшиеся ему 13 месяцев жизни он категорически отказывался встречаться с кем бы то ни было из них, общаясь лишь через своих секретарей. По хронике его жизни видно, что в течение 1923 года он не виделся ни с Троцким, ни со Сталиным, ни с Зиновьевым, Каменевым, Бухариным или Рыковым. Никого из них не допускали к нему по его прямому распоряжению173. Такое отстранение от ближайших соратников напоминало поведение Николая II, который в последние месяцы царствования решил порвать, отношения с великими князьями.
* * *
Ленин вновь приступил к работе в конце декабря и в оставшиеся два месяца в короткие промежутки просветления сознания надиктовывал отрывочные заметки, в которых выражал крайнюю озабоченность направлением, какое приняла советская политика во время его болезни, и указывал пути реформирования. Эти записки характерны отсутствием связности, нарушением логики построения фразы, повторами — всеми симптомами помутнения сознания. Самые острые из них оставались не опубликованными вплоть до смерти Сталина. Поначалу использованные преемниками Сталина с целью его дискредитации, позднее, в 80-е годы, они послужили оправданием процесса перестройки, начатого Михаилом Горбачевым. Записки посвящены экономическому планированию, проблемам кооперации, реорганизации Рабоче-крестьянской инспекции и отношениям между партией и государством. Во всех статьях и речах Ленина последнего времени проходит сквозной темой беспокойство об отчаянно низком культурном состоянии страны, в котором он стал видеть главное препятствие для построения социализма. «Раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т.д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную "культурную" работу»174. Этими словами Ленин признавал, что тридцать лет назад он ошибался, отвергая как «буржуазные» рассуждения Петра Струве о том, что России прежде, чем перейти к социализму, следует признать пробелы в культуре и пройти школу капитализма175.
Самые важные из поздних статей Ленина посвящены проблемам преемства власти и национальному вопросу. Между 23 и 26 декабря, а затем еще и 14 января, готовясь к предстоящему XII съезду, Ленин составил отдельные персональные характеристики своих ближайших соратников, составившие так называемое «Завещание Ленина». [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 343—348. Весной 1924 г. Крупская, по просьбе Ленина, передала его записки товарищам по партии. Каменев зачитал «Завещание» Совету старейшин XIII съезда партии в 1924 году. Благодаря предложению Зиновьева не ворошить прошлого Сталин избежал острой ситуации, которая могла возникнуть, если бы текст был роздан всем делегатам. Невзирая на возражения Крупской, но при поддержке Троцкого, было решено, что делегатов с документом ознакомят, однако опубликован он не будет (Яковлев Е. // Московские новости. 1989. № 4/446. 22 янв. С. 8—9). Содержание его впервые стало известно из статьи Макса Истмена в «Нью-Йорк тайме» 18 октября 1926 года. Троцкий, который в 1925 году категорически отрицал существование «завещания» (Большевик. 1925. № 16. С. 68), десять лет спустя опубликовал его под заголовком «Скрытое завещание Ленина». Здесь он припомнил, что, когда «Завещание» зачитали лидерам партии, Сталин, услышав замечания Ленина о нем, выругался; что именно сказал Сталин, Троцкий не сообщает (Скрытое завещание Ленина. С. 16). В СССР «Завещание» было впервые опубликовано в 1956 году.]. Обеспокоенный соперничеством между Сталиным и Троцким, он предлагал расширить состав ЦК с 27 до 100 человек, набирая новых членов из рабочих и крестьян. Таким образом достигалась двойная цель: смыкание пропасти между партией и «массами» и рассредоточение власти руководящих партийных органов, теперь находящихся целиком в руках Сталина.
Ленин требовал, чтобы эти и подобные им документы хранились в строгом секрете в запечатанных конвертах, которые вскрывать имеют право только он сам или Крупская. Однако секретарша М.А.Володичева, записывавшая за Лениным с 23 декабря, не решаясь взять на себя ответственность за сокрытие столь важного документа, обратилась за советом к Фотиевой, которая предложила показать его Генеральному секретарю. Прочтя его в присутствии Бухарина и Орджоникидзе, Сталин попросил Володичеву сжечь бумаги, что она и сделала, не сказав, что в Горках в сейфе хранится еще четыре копии176.
Не подозревая ничего дурного, Ленин на следующий день продиктовал Володичевой еще более резкие характеристики ведущих деятелей партии177. Он опасался, что Сталин, получивший на посту Генерального секретаря «необъятную власть», не сумеет «всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». 4 января он продиктовал Фотиевой следующее дополнение: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д.»178.
Ленин, как можно видеть, уловил лишь мелкие пороки Сталина, сводившиеся к вспыльчивому темпераменту, а его садистскую жестокость, манию величия, ненависть ко всем и всякому, кто может быть в чем-то выше его, так до конца и не разглядел.
Троцкого Ленин охарактеризовал как, «пожалуй, самого способного человека в нынешнем ЦК, но при этом чрезмерно самоуверенного и чрезмерно увлекающегося чисто административной стороной дела». Под последним вождь подразумевал не пристрастие к бумажной работе, а неколлегиальный, командный стиль руководства. Он припомнил постыдное поведение Зиновьева и Каменева в 1917 г., когда они выступили против захвата власти, однако нашел несколько добрых, хотя и сдержанных, слов в адрес Бухарина и Пятакова — первого он оценил как самого выдающегося теоретика и любимца партии, хотя и ненастоящего марксиста, немного схоластичного. Кого он сам предпочел бы видеть на посту Генерального секретаря, Ленин не говорит, но ясно, что не Сталина. [За год до того Ленин давал такие уничижительные эпитеты Каменеву: «бедненький, слабенький, боязливенький, интимидированный» (РЦХИД-НИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22300).]. Эти обрывочные записки оставляют впечатление того, что Ленин не находил среди своего ближайшего окружения никого, кто был бы достоин принять на себя его функции. Фотиева немедленно сообщала содержание записок Сталину179.
Другой постоянной темой размышлений последних дней Ленина был национальный вопрос, которому посвящены три записки, надиктованные 30—31 декабря. В них он резко раскритиковал манеру обращения партийного аппарата с нацменьшинствами. [Впервые опубликованные в «Социалистическом вестнике» (1923. № 23— 24/67—70. 17 дек.), эти записки по причинам, указанным ниже, не обнародовались в Советском Союзе вплоть до XX Съезда КПСС (1956) (Полн, собр. соч. Т. 45. С. 356—362). Опубликованный за два года до того, в 1954 году, перевод был сделан автором этой книги на основе копии, хранящейся в Архиве Троцкого в Гарварде.]. Основной пафос записок: сталинские тезисы «автономизации», к тому времени уже отклоненные, совершенно не учитывают обстановки и имеют целью дать возможность советской бюрократии, пережитку царизма, распространиться по стране. Он обвинял Сталина и Дзержинского в шовинизме: первого он назвал «не только истинным и настоящим "социал-националистом", но и "великорусским держимордой"». Сталин и Дзержинский должны нести персональную политическую ответственность за «эту истинно великорусскую националистическую кампанию» против грузин. В практическом плане Ленин требовал укрепления Союза, но, в то же время, предоставления народам максимума прав, не нарушающих национального единства: всякое посягательство на независимость со стороны республиканских министерств, подчеркивал Ленин, «может быть парализовано достаточно партийным авторитетом». Это типично ленинское решение — скрыть за демократическим фасадом тоталитарную сущность. Знал или нет Сталин об этих заметках по национальному вопросу, неизвестно: во всяком случае у него не могло быть сомнений, что Ленин разворачивает против него широкую кампанию, в результате которой он может лишиться многих, если не всех, своих постов. (Троцкому Ленин открылся, что «готовит бомбу» против Сталина на XII съезде партии.) Сталин боролся за свое политическое существование: при всем его могуществе в единоборстве с Лениным у него не оставалось шансов на победу. Он мог надеяться лишь на плохое физическое состояние вождя, на то, что он потеряет дееспособность прежде, чем успеет низвергнуть Сталина.
Дзержинский возвратился из второй поездки в Грузию в конце января 1923 г.. На требование Ленина познакомить его с привезенными материалами Дзержинский уклончиво ответил, что передал их Сталину. В течение двух дней Сталина нигде не удавалось разыскать; когда его наконец нашли, он заявил Фотиевой, что может выполнить просьбу Ленина только после одобрения Политбюро, и поинтересовался, не сообщала ли она «Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, откуда он в курсе текущих дел?». Тут Фотиевой не пришлось краснеть, поскольку она сообщала Сталину все. Впоследствии Ленин высказал ей в лицо, что подозревает ее в измене180. Ленин был абсолютно прав. По архивным материалам было установлено, что Фотиева, пренебрегая распоряжением Ленина об «абсолютной» и «категорической» секретности диктовок, аккуратно сообщала их содержание Сталину и некоторым другим членам Политбюро. [Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1. Ч. 1. С. 153. В благодарность за верную службу Сталин пощадил Фотиеву в 30-е годы в период чисток. Она пережила Сталина и скончалась в 1975 году.].
1 февраля Политбюро наконец уступило требованиям Ленина и вручило его секретарям материалы, собранные Дзержинским во время второй поездки. Ленин был не в состоянии сам читать и передал документы сотрудникам своего секретариата с точным указанием, на информацию какого рода им следует обратить внимание и доложить ему, как только закончат работу. Собираясь выступить на XII съезде против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе, Ленин пристально следил за работой своих сотрудников: по свидетельству Фотиевой, в феврале 1923 г. грузинский вопрос занимал его больше всего181. Отчет секретариата был представлен Ленину 3 марта. Ознакомившись с ним, Ленин тотчас принял сторону грузинской оппозиции. 5 марта он послал Троцкому записку по национальному вопросу с просьбой взять на себя защиту грузинских коммунистов перед ЦК. «Дело это сейчас находится под "преследованием" Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив»182.
В тот же самый день, 5 марта, после того как Ленин расспросил Крупскую о подробностях телефонного разговора, который ему довелось слышать, она рассказала ему о случае, имевшем место в декабре прошлого года183. Ленин немедленно продиктовал следующую записку:
«Уважаемый т. Сталин!
Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения». [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 329—330. Ленин не употреблял в обращении к своим товарищам эпитет «уважаемый», и это в данном случае означает, что он перестал считать Сталина своим соратником. Как мы видим, Ленин не предполагал «разрывать все личные и товарищеские отношения» со Сталиным (как утверждал впоследствии Троцкий (напр.: Портреты. С. 42)), если только он не принесет извинений — Сталин извинения принес.].
Крупская тщетно пыталась остановить Ленина от этого шага, убедить не посылать письма — оно было персонально вручено Сталину Володичевой 7 марта, а копии отданы Каменеву и Зиновьеву184.
Сталин спокойно прочел его и написал ответ (впервые опубликованный в 1989 году), который можно лишь с большой натяжкой считать извинением. Утверждая, что он не хотел наносить оскорблений, а просто напоминал Крупской о ее ответственности за здоровье Ленина, он заключает: «Если Вы считаете, что для сохранения "отношений" я должен "взять назад" сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя "вина" и чего, собственно, от меня хотят». [Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 199. По словам Марии Ульяновой, здоровье Ленина ухудшалось столь стремительно, что он уже не мог прочесть «извинений» Сталина (там же).].
На следующий день Ленин продиктовал еще одну записку — ставшую последней в его жизни, — адресованную лидерам грузинской оппозиции (копии Троцкому и Каменеву), где сообщал, что следит за их делом «всей душой», «возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского» и готовит выступление по этому вопросу185.
Перед Сталиным встала реальная угроза политической смерти. Если учесть, что Ленин заговорил о разрыве, а Троцкий выступал в роли обвинителя, шансы Сталина сохраниться на посту Генерального секретаря были равны почти нулю. Все, однако, было не так плохо: врачи, наблюдавшие Ленина, с которыми генсек находился в постоянном контакте, сообщали, что состояние их пациента ухудшается с каждым днем. Поэтому Сталин решил тянуть время. 9 марта в «Правде» появилось краткое, без всяких объяснений сообщение о том, что очередной съезд партии, намеченный на середину марта, переносится на 15 апреля186.
Эта уловка оправдала себя. Три дня спустя (10 марта) Ленин перенес сильнейший удар, в результате которого он лишился дара речи — до самой смерти, наступившей 10 месяцев спустя, он мог произносить только такие односложные слова, как «вот-вот» и «съезд-съезд»187. Врачи — а их насчитывалось 40, включая нескольких специалистов из Германии, — пришли к заключению, что он уже не оправится и не сможет играть активную роль в политике. В мае его переселили в Горки, где в погожие дни он мог сидеть в инвалидном кресле в парке. По сути он стал живым трупом, ведь если он был еще способен понимать смысл сказанного и даже читать, то изъясняться уже не мог. В августе Крупская попробовала научить его писать левой рукой, но результат был плачевный, и от этих попыток пришлось отказаться188.
В этот последний период своей жизни Ленин, похоже, испытал острейшее разочарование. Проявляя несвойственное ему тщеславие, он искал похвал, ждал, чтобы его убеждали что, каковы бы ни были результаты, он творец истории. Никогда не интересовавшийся мнением окружающих о себе Ленин в 1923 и в начале 1924 года возжаждал панегириков. С видимым удовольствием он ознакомился со статьей Троцкого, в которой тот сравнил его с Марксом, принимал уверения Горького, что без него русская революция не могла бы победить, и похвалы таких его зарубежных поклонников, как Анри Жильбо и Артур Рис Уильяме189.
* * *
Если Ленин вышел из игры, то Троцкого, который действовал, так сказать, по его мандату и мог дискредитировать Сталина за методы решения грузинского вопроса, еще предстояло нейтрализовать. Эта задача оказалась неожиданно легкой, ибо Троцкий уклонился от ответственности, которую Ленин возлагал на него. Вместо того чтобы выполнять поручение вождя, он оставил грузин на произвол судьбы: когда секретарь прочел ему по телефону записку Ленина от 5 марта, Троцкий прямо отказался выступать в защиту грузин на Пленуме под предлогом плохого самочувствия: он объявил, что почти парализован. Однако, добавил он, если раньше у него и были сомнения, теперь он полностью на стороне грузинской оппозиции190. Но при этом поддержал Сталина в вопросе о переносе сроков проведения XII съезда191. Накануне съезда он уверял Каменева, что будет выступать за новое назначение Сталина на пост Генерального секретаря и против исключения Дзержинского и Орджоникидзе192. Он отклонил предложение Сталина, сделанное тем в попытке приручить его, зачитать на съезде отчет Центрального Комитета, что традиционно делал Ленин. Он заявил, что Сталин, как Генеральный секретарь, сделает это лучше. Тот скромно отказался, и этой чести удостоился Зиновьев, напролом рвавшийся к пустующему трону, уверенный, что легко сможет его занять193.
Поведение Троцкого в этот критический момент для его и Сталина карьеры ввело в заблуждение и современников и историков. Сам он тоже никакого удовлетворительного объяснения не дал. Предлагались различные толкования: он недооценил Сталина или, напротив, считал его слишком прочно стоящим на ногах, чтобы вступать с ним в единоборство, либо не хотел затевать свару, дабы не вносить раскол в партию194. Некоторые из его приверженцев полагали, что он считал всякую такую интригу ниже своего достоинства, «не умея вести какую бы то ни было политическую игру»195. Его биограф Исаак Дойчер приписывает «пассивность» его «великодушному» и «героическому характеру», в чем ему «почти нет равных в истории»196.
Поведение Троцкого, по-видимому, было вызвано целым рядом разнородных факторов, которые трудно отделить друг от друга. Он несомненно считал себя самым подходящим преемником Ленина. Однако он хорошо понимал, какие труднопреодолимые препятствия стоят на его пути. У него не было сторонников в партийной верхушке, сконцентрированной вокруг Сталина, Зиновьева и Каменева. Он был непопулярен среди рядовых партийцев из-за своего небольшевистского прошлого и высокомерия. Другой неблагоприятный фактор — туманный по самой своей природе, но достаточно весомый — его еврейское происхождение. Это стало понятно после опубликования в 1990 году протоколов Пленума ЦК, состоявшегося в октябре 1923 года, где Троцкому пришлось защищаться от критики за отказ принять по предложению Ленина пост одного из заместителей председателя Совнаркома. Хотя для него самого происхождение не имеет никакого значения, утверждал он, но с политической точки зрения оно существенно. Он не желал принимать высокий пост, который ему предлагал Ленин, «чтобы не подать врагам повода утверждать, что страной правит еврей». Хотя Ленин отверг такой аргумент как «ерунду» и «пустяки», но «соглашается со мной в душе», — утверждал Троцкий197.
Такие соображения заставили Троцкого в 1922—1923 гг. поступать весьма противоречивым образом: с одной стороны, действовать независимо от большинства, а с другой — кооперироваться с ним, чтобы избежать обвинения во «фракционности». В конце концов он не только потерпел политическое поражение, но и утратил моральный авторитет, который более отважная позиция могла бы ему снискать.
При попустительстве Троцкого XII съезд, который мог бы стать ареной поражения Сталина, стал ареной его триумфа. 16 марта Сталин доверительно телеграфировал Орджоникидзе в Тифлис: «несмотря ни на что», съезд одобрит поведение Закавказского комитета198. Он оказался прав. На съезде он терпеливо разъяснял, почему введение более демократической процедуры в партию, насчитывающую 400 тыс. членов, превратит ее в «дискуссионный клуб», не способный к действию в то время, когда стране угрожают «волки империализма»199. Он признавал целесообразность укрепления состава ЦК свежими силами, не соглашаясь при этом с предложением Ленина об изменениях в структуре и персональном составе. Записки Ленина по национальному вопросу раздали делегатам, но не обнародовали. [16 апреля Фотиева по собственной инициативе послала Сталину копию статьи Ленина о национальном вопросе. Сталин отказался принять ее на том основании, что не хочет «вмешиваться» в это дело. Копии были переданы в ЦК. В тот же вечер Сталин получил от Фотиевой письмо, в котором она приводила слова сестры Ленина о том, что Ленин не давал распоряжения публиковать это, добавив от себя, что не считает их готовыми к публикации. Получив письмо Фотиевой, Сталин написал в ЦК жалобу на Троцкого за то, что он хранит в тайне столь важные заметки Ленина, заключая такими словами: «Я думаю, что статьи тов. Ленина [по национальному вопросу] следовало бы опубликовать в печати. Можно только пожалеть, что... их, оказывается, нельзя опубликовать, так как они еще не просмотрены тов. Лениным». Вместо того копии статьи были распространены «для информации» среди делегатов. Документы, касающиеся этого эпизода и хранившиеся в Центральном партийном архиве (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34), были воспроизведены в «Известиях ЦК» в 1990 году (№9. С. 153-161).]. В докладе на эту тему Сталин благоразумно придерживался среднего курса, нейтрализуя ленинские доводы в пользу грузинской оппозиции и ослабления Союза: он даже осмелился осудить «великорусский шовинизм», в котором его обвинил Ленин200. В протоколах съезда отмечено, что доклад, сделанный Сталиным от имени ЦК, был встречен делегатами «громкими, продолжительными аплодисментами». [Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 62. Реакцию, сравнимую по силе, вызвал на съезде только один докладчик — Зиновьев (там же. С. 47), что служит еще одним подтверждением того, что он воспринимался как преемник Ленина.]. (Выступления Ленина на партийных съездах обычно сопровождались просто «громкими аплодисментами».) Троцкий ограничился докладом о будущем советской промышленности — это был его единственный вклад в работу съезда, за который он заслужил лишь просто «аплодисменты». Сталин был без колебаний утвержден на посту Генерального секретаря.
Смирение Троцкого мало что дало ему. В своих воспоминаниях он рассказывает, что в период недееспособности Ленина Сталин с товарищами составили заговор, куда были вовлечены все члены Политбюро, за исключением только его, Троцкого, и все решения они обговаривали заранее, чтобы затем принимать их единогласно. Чтобы получить назначение на высокую должность, требовалось только одно качество: нелюбовь к Троцкому201. Среди сорока членов нового ЦК он мог насчитать лишь троих своих сторонников202.
Понимая, что обстоятельства против него и ему уже нечего терять, Троцкий перестал ждать милости от врагов и перешел в наступление. Чтобы наверстать упущенное, он принял позу выразителя мнений партийных масс: коль скоро элита — «старая гвардия» — упрямо не хочет признавать его своим, то он будет защитником рядовых партийцев. Последние составляли подавляющее большинство членов партии: согласно переписи 1922 года, только 2,7% из 376 тыс. человек вступили в партию до 1917 года, то есть могли считаться «старой гвардией»203. Но именно они монополизировали руководящие органы партии и через них весь государственный аппарат. [По мнению Леонарда Шапиро, подавляющее большинство ключевых постов в партии в начале 20-х годов занимали ленинцы с дореволюционным партийным стажем. «Организационная структура после революции, таким образом, в этом отношении почти не отличалась от дореволюционной подпольной структуры» (The Communist Party of the Soviet Union. London, 1960. P. 236-237).]. Друзья убеждали Троцкого в том, что он влиятельный коммунистический лидер и его имя неразрывно связано с именем Ленина204. Почему бы тогда не перетянуть на свою сторону рядовых коммунистов? Хотя и облаченное в ризы неподкупной морали, контрнаступление Троцкого, начатое им в октябре 1923 г., было не чем иным, как жалкой игрой. С октября 1917-го никто другой не выступал столь решительно за единство партии как высшую ценность и никто другой не отвергал с таким презрением требования большей партийной демократии, выдвинутые «Рабочей оппозицией» и демократическими централистами, как Троцкий. Его внезапное обращение к партийной демократии не было продиктовано некими фундаментальными переменами в партийной жизни, ибо таких перемен не произошло. Переменилось только его собственное положение в партии: его, еще вчера стоявшего у самого руля, вдруг решили оставить на берегу.
8 октября 1923 года Троцкий направил в ЦК Открытое письмо, обвинявшее руководство в забвении демократических процедур в партии205. (Речь шла только о партии — как он сам напомнил участникам Пленума, собравшегося для обсуждения его письма: «Вы, товарищи, прекрасно знаете, что я никогда не был «демократом» ».) [Васецкий Н. Ликвидация, М., 1989. С. 22. Еще в мае 1922 года он выступал против легализации партии меньшевиков и эсеров (Правда. 1922. № 102. 10 мая. С. 1).]. Событием, ускорившим этот шаг, послужило требование Дзержинского, чтобы коммунисты, имеющие сведения о какой-либо фракционной деятельности, сообщали об этом ГПУ и другим компетентным партийным органам206. Хорошо понимая, что это предложение направлено против него и его сторонников, Троцкий представил его как симптом бюрократизации партии. Что же случилось, вопрошал он, если понадобилась специальная инструкция, чтобы потребовать от коммунистов выполнять то, что они просто обязаны выполнять? Он нацелил огонь против концентрации власти на вершине партийной иерархии, особенно выделяя практику «назначенства», когда кандидатуры секретарей местных партийных организаций указывают из Москвы.
«Бюрократизация партийного аппарата достигла неслыханного развития применением методов секретарского отбора... Создался весьма широкий слой партийных работников, входящих в аппарат государства или партии, которые начисто отказываются от собственного партийного мнения, по крайней мере открыто высказываемого, как бы считая, что секретарская иерархия и есть тот аппарат, который создает партийное мнение и партийные решения. Под этим слоем воздерживающихся от собственного мнения пролегает широкий слой партийной массы, перед которой всякое решение предстоит уже в виде призыва или приказа»207.
Признавая право «старых большевиков» на особый статус, он напоминал им, что они составляют лишь ничтожное меньшинство. В заключение он писал: «Секретарскому бюрократизму должен быть положен конец. Партийная демократия — в тех, по крайней мере, пределах, без которых партии грозит окостенение и вырождение, — должна вступить в свои права»208.
Все это было вполне справедливо, если только забыть, что всего лишь три года назад Троцкий сам отклонил подобные жалобы как «формализм» и «фетишизм». Новая его позиция получила некоторую поддержку, особенно со стороны группы, подписавшей так называемую «Платформу 46-ти», о чем и объявили Центральному Комитету209. Однако у руководящих органов партии был на все это готовый ответ: письмо Троцкого и закладывает «платформу», которая может привести к образованию незаконной фракции210. В пространном послании Троцкому ЦК выносил суровый выговор:
«Два-три года тому назад не кто иной, как тов. Ленин, десятки раз разъяснял тов. Троцкому, что хозяйственные вопросы принадлежат к числу тех, где быстрые успехи невозможны, требуются годы и годы терпеливой и настойчивой работы, дабы достигнуть серьезных результатов.
С целью правильного руководства хозяйственной жизнью страны из одного центра и внесения максимальной планомерности в это руководство ЦК летом 1923 года реорганизовал СТО [Совет Труда и Обороны], введя в него персонально ряд крупнейших хозяйственных работников республики. В состав СТО Центральным Комитетом был введен также тов. Троцкий. Но тов. Троцкий и не думал являться на заседания СТО, как он ни разу, в течение ряда лет, не являлся на заседания Совнаркома и как он отказался принять предложение тов. Ленина о назначении тов. Троцкого одним из заместителей Председателя Совнаркома.
<...> в основе всего недовольства тов. Троцкого, всего его раздражения, всех его продолжающихся уже несколько лет выступлений против ЦК, его решимости потрясти партию, лежит то обстоятельство, что тов. Троцкий хочет, чтобы ЦК назначил его и тов. Колегаева для руководства нашей хозяйственной жизнью. Против этого назначения долгое время боролся тов. Ленин, и мы считаем, что он был совершенно прав.
Тов. Троцкий состоит членом Совнаркома, членом реорганизованного СТО. Ему был предложен тов. Лениным пост заместителя Председателя Совнаркома. На всех этих постах тов. Троцкий мог бы, если бы хотел, доказать на деле, работой перед лицом всей партии, что партия может вверить ему те фактические безграничные полномочия в области хозяйства и военного дела, которых он добивается. Но тов. Троцкий предпочел другой метод действия, который, по-нашему, несовместим с обычным пониманием обязанностей члена партии. Он ни разу не посетил заседаний Совнаркома ни при тов. Ленине, ни после отхода его от работ. Он ни разу не внес ни в Совнарком, ни в СТО, ни в Госплан какое бы то ни было предложение по хозяйственным, финансовым, бюджетным и т.п. вопросам. Он категорически отказался от поста заместителя тов. Ленина. Это он, по-видимому, считает ниже своего достоинства. Он ведет себя по формуле: «или все, или ничего». Тов. Троцкий фактически поставил себя перед партией в такое положение, что: или партия должна предоставить тов. Троцкому фактически диктатуру в области хозяйства и военного дела, или он фактически отказывается от работы в области хозяйства, оставляя за собой лишь право систематической дезорганизации ЦК в его трудной повседневной работе»211.
Эта отповедь, не дав ответа на поставленные Троцким политические вопросы, вместо того, по принципу, давно уже применявшемуся Лениным и Троцким в политическом споре, переводила проблему в плоскость личных оскорблений. Удар был мощный и еще сильнее подорвал доверие к Троцкому в глазах партийных кадров.
Не желая сдаваться, 23 октября в письме Пленуму ЦК Троцкий заостряет внимание на затронутых им вопросах и отвергает обвинения в том, что он сеет раздор в партийных рядах212. Отметив его нежелание идти в ногу с партией, Пленум в соотношении 102 против 2 (при 10 воздержавшихся) проголосовал за вынесение Троцкому выговора за «фракционность». Пленум также «полностью одобрил» действия партийного руководства213. Каменев и Зиновьев добивались исключения Троцкого из партии, но Сталин счел это неблагоразумным: по его настоянию, предложение отклонили. Политбюро поместило в «Правде» резолюцию, где говорилось, что, невзирая на непотребное поведение Троцкого, дальнейшее сотрудничество его в высших партийных органах «абсолютно необходимо». [Правда. 1923. № 287. 18 дек. С. 4. Бухарин впоследствии напомнил Зиновьеву, что в 1923 году он, Зиновьев, требовал ареста Троцкого (Правда. 1927. № 251/3783. 2 нояб. С. 3). О реакции Ленина см. выше.]. Увидев, что режим «тройки» подвергся жесткой критике, Сталин решил за благо изобразить, будто хочет сохранить Троцкого как ценного, хотя и заблуждающегося товарища. Вот как он объяснял позднее свою позицию:
«Мы не согласились с т.т. Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови, — а они требовали крови, — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего, что же у нас останется в партии»214.
Сталин, как всегда, взял на себя роль великого миротворца и воплощения здравого смысла.
В декабре 1923 г. Троцкий в конце концов нарушил субординацию и вынес вопрос на широкую публику, поместив в «Правде» статью «Новый курс». В ней он противопоставлял партийную молодежь, вдохновленную демократическими идеалами, старой, прочно окопавшейся на верхушке власти, гвардии и приходил к выводу: «Партия должна подчинить себе свой аппарат»215. На что Сталин ответил: «Большевизм не может принять противопоставления партии партийному аппарату»216.
Теперь, согласно правилам, принятым на X съезде с одобрения самого Троцкого, действия, им предпринятые, в особенности его совещания с «Группой 46-ти», без сомнения, квалифицировались как «фракционность». Вину его усугубляли два письма, ставшие известными — намеренно или нет, сказать трудно — широкой публике. Партийная конференция, состоявшаяся в январе 1924 г., таким образом, имела полное право заклеймить Троцкого и «троцкизм» как «мелкобуржуазный» уклон217.
Игра для Троцкого была окончена, дальше его ждало стремительное падение — у него не было оружия против партийного большинства, ибо, как ему самому пришлось признать в 1924 году, «никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права»218. В январе 1925 г. ему пришлось уйти с поста председателя Реввоенсовета. Затем последовало исключение из партии и изгнание сначала в Центральную Азию, а оттуда за границу и, наконец, смерть от руки убийцы. Все этапы вытеснения Троцкого, спланированные Сталиным при попустительстве Зиновьева, Каменева, Бухарина и других, проводились, опираясь на партийные кадры, которые верили, что стоят на страже партийного единства от зарвавшегося заговорщика.
В истории есть много примеров, когда побежденный заслуживает симпатии потомков, потому что оказывается нравственно выше победителя. Трудно испытывать такие чувства в отношении Троцкого. Безусловно, он был культурней и образованней Сталина и его ближайшего окружения, более значительной личностью и храбрым человеком, а в общении с партийными товарищами вел себя честнее. Но, как и Ленин, этими положительными сторонами он оборачивался только к партии. В общениях с беспартийными или теми партийцами, которые требовали большей демократии, Троцкий был заодно с Лениным и Сталиным. Он сам помог сковать оружие, которым был разбит. Его постигла такая же участь, что была уготована при его горячем одобрении всем оппонентам ленинского диктата: кадетам, эсерам, меньшевикам, бывшим царским офицерам, уклонявшимся от службы и служившим в Красной Армии, членам «Рабочей оппозиции», мятежным морякам Кронштадта, тамбовским крестьянам и священникам. Он разглядел угрозу тоталитаризма, только когда ощутил ее на себе самом: его внезапное обращение к партийной демократии было средством самообороны, а не борьбой во имя высокого принципа.
Троцкий любил представлять себя гордым львом, которого терзает стая шакалов; и чем более обнажались чудовищные черты сталинского режима, тем прочнее утверждался этот образ в глазах тех в России и за границей, кто не хотел расставаться с идеализированным представлением о ленинской гвардии. История, однако, помнит время, когда и сам Троцкий был в этой хищной стае. И его поражение не может облагородить его личность. Он потерпел поражение потому, что его противник в этой гнусной битве за власть оказался сильнее.
* * *
Ленин скончался в понедельник вечером, 21 января 1924 года. Кроме родных и врачей, единственным свидетелем его смерти был Бухарин. [Бухарин Н.И // Правда. 1925. № 17/2948. 21 янв. С. 2. В феврале 1937 г. в письме Сталину из тюрьмы, прося сохранить ему жизнь, он говорил о том, что Ленин «умер у него на руках» (New York Times. 1992. June 15. P. A 11).]. Получив печальное известие, Зиновьев, Сталин, Каменев и Калинин помчались на мотосанях в Горки; остальные члены руководства последовали за ними поездом. Сталин, возглавивший процессию к смертному одру вождя, приподнял его голову, прижал к своему сердцу и поцеловал219. На следующий день Дзержинский написал краткое распоряжение органам ГПУ по поводу кончины вождя, призывая не поддаваться «панике» и сохранять особую бдительность220.
В роковой день Троцкий, направлявшийся на отдых в сухумский санаторий, прибыл в Тифлис. Но о смерти Ленина он узнал только назавтра из шифрограммы, подписанной Сталиным221. В ответ на телеграфный запрос Троцкого Сталин сообщал, что похороны состоятся в субботу (26 января), и добавлял, что, поскольку Троцкому уже не успеть вернуться вовремя, Политбюро считает, что будет лучше, если он, как планировалось, поедет в Сухуми222. Хоронили Ленина только в воскресенье, и это дало Троцкому повод упрекать Сталина в том, что он намеренно ввел его в заблуждение, лишив возможности приехать на похороны. Однако, если разобраться, это было пустое обвинение. Ленин скончался в понедельник, и Троцкий узнал об этом во вторник. Чтобы доехать от Москвы до Тифлиса, ему потребовалось три дня, значит, если бы он немедленно поспешил обратно, то был бы в Москве в пятницу, накануне церемонии. [Решение перенести похороны Ленина на воскресенье было объявлено только в пятницу 25 января (Ленин В.И. Биографическая хроника. Т. 12. С. 673), поэтому нельзя утверждать, что, сообщая Троцкому о субботе, Сталин намеренно обманывал его, как заявлял первый (Моя жизнь. Т. 2. С. 249—250). Дойчер, со свойственной ему беспечностью, когда дело касалось чести его героя, утверждает, что Сталин сообщил Троцкому, будто похороны состоятся «на следующий день» (Prophet Unarmed. P. 133). В действительности во второй телеграмме Сталина говорилось, что это произойдет в субботу, то есть не «на следующий день», а через четыре дня.]. Но вместо того по причинам, удовлетворительных объяснений которым он так и не дал, Троцкий последовал совету Сталина и отправился в Сухуми. Там он наслаждался черноморским солнцем, а в морозной зимней Москве бездыханное тело Ленина принимало последние почести старой гвардии. Отсутствие Троцкого вызывало всеобщее удивление и недоумение.
Вставал вопрос, что делать с останками Ленина223? В своем личном завещании, не обнародованном до сих пор, Ленин выразил желание быть погребенным рядом с могилой матери в Петрограде. Этого же хотела и Крупская: в письме в газету «Правда» она решительно выступила против создания культа Ленина — никаких монументов, никаких почестей и, само собой, мавзолея224. Но партийные идеологи вынашивали иную великую мысль. В Политбюро идея бальзамирования тела вождя обсуждалась еще за несколько месяцев до его кончины, и за нее особенно горячо выступали Сталин и Калинин, который хотел, чтобы тело вождя похоронили «по-русски». Им потребовалось выставить физическую оболочку того, что было Лениным, на всеобщее обозрение, чтобы пробудить в народном сознании привитое православием представление о том, что тела святых остаются нетленными. Никто из них, кроме их общего врага Троцкого, не имел всенародного признания: даже Сталина, который путем аппаратных интриг присвоил диктаторские права, едва ли кто-нибудь знал за пределами Кремля. Покойный, то есть бессловесный, но физически воплощенный Ленин, сохраняющийся в пристойной форме, должен был придать дополнительную значимость вере, которую он заложил, и подчеркнуть преемственность режима наследников Ленина от Октября. Решение забальзамировать останки Ленина и выставить их напоказ в мавзолее на Красной площади было принято, вопреки возражениям Бухарина и Каменева.
Гроб с телом Ленина установили в Колонном зале Дома союзов, куда прощаться с ним пришли десятки тысяч человек. 26 января Сталин произнес надгробную речь, в которой, используя церковные каденции, усвоенные юношей в семинарии, от имени партии принес «клятву» преданно исполнять заветы Ленина225. В воскресенье 27 января тело перенесли во временный деревянный мавзолей. [Мозг Ленина был извлечен и хранился в Институте В.И.Ленина, научным сотрудникам которого предстояло разгадать секрет его «гения» и доказать, что он являет «высшую ступень развития человечества». Впоследствии мозги Сталина и некоторых других светочей коммунизма дополнили эту коллекцию. Сердце Ленина хранилось в Музее Ленина (Аргументы и факты. 1991. № 43/576. С. 1).] К несчастью, в марте, с наступлением весны, труп стал разлагаться226. Что было делать? Красин, отвечавший за организацию похорон, надеялся, что еще можно будет все исправить, и предложил заморозить труп. Из Германии доставили специальное оборудование, однако эта идея оказалась непрактичной. Тогда Дзержинский, которому по должности надлежало знать все, выяснил, что в Харькове анатом В.П.Воробьев разработал метод сохранения живых тканей. После долгих дебатов руководство решило доверить Воробьеву бальзамирование, а созданная с этой целью группа во главе с ним официально называлась Комиссия по обессмерчиванию.
Вдвоем с ассистентом Воробьев три месяца занимался вытеснением воды из клеток и тканей и заменой ее химическим раствором своего изобретения. Этому составу приписывались свойства не испаряться при нормальной температуре и влажности, уничтожать бактерии и грибки и нейтрализовать ферментацию. Бальзамирование завершили в конце июля, и на следующий месяц тело было выставлено в новом, тоже деревянном, мавзолее. В 1930 г. на его месте воздвигли каменный, торжественно открытый Сталиным и сделавшийся государственным объектом поклонения. В 1929 г. Сталин назначил 22 ученых в лабораторию по наблюдению за мумией, которая, несмотря на все предосторожности, продолжала портиться. Самые совершенные научные методы были применены, чтобы приостановить тление и дальнейшее искажение внешнего вида.
Итак, большевики, всего только пять лет назад злорадно глумившиеся над останками православных святых, теперь создали свою святыню. Но в отличие от мощей святых, которые, по их утверждениям, были не более как тряпки и кости, коммунистический святой, в ногу с научным прогрессом, состоял из спирта, глицерина и формалина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Русская революция 1917 года была не событием и даже не процессом, а последовательностью разрушительных и насильственных действий, совершавшихся более или менее одновременно, но вовлекавших исполнителей с различными и даже противоположными целями. Она началась как проявление открытого недовольства наиболее консервативных элементов русского общества, возмущенных близостью Распутина к царской фамилии и бестолковым ведением военных действий. От консерваторов возмущение передалось либералам, которые выступили против монархии из опасения, что существующий режим не справится с надвигающейся революцией. Поначалу вызов самодержавию был брошен вовсе не из-за усталости от войны, как принято считать, но, наоборот, из желания вести ее более эффективно, то есть не во имя революции, а в стремлении избежать ее. В феврале 1917 года, когда Петроградский гарнизон отказался стрелять в народ, генералы в согласии с думскими политиками, чтобы предотвратить распространение мятежа на фронт, убедили царя оставить престол. Отречение во имя победы в войне опрокинуло все здание Российского государства.
Хотя поначалу ни социальное недовольство, ни агитация радикальной интеллигенции не играли существенной роли в этих событиях, но, едва лишь пала самодержавная власть, эти факторы немедленно вышли на первое место. Весной и летом 1917 г. крестьяне стали захватывать и распределять между собой необщинные земли. Затем волнение перекинулось на фронтовые части, откуда потоком потянулись дезертиры, чтобы не упустить своей доли при дележе; на рабочих, заявлявших свои права на предприятия, на которых они трудились; на национальные меньшинства, добивавшиеся автономии. Каждая из этих групп преследовала свои цели, но совокупный эффект их выступления против социальной и экономической структуры государства привел Россию осенью 1917 года в состояние анархии.
События 1917 года показали, что, при всей необъятности территорий и звонких речах об имперской мощи, Российское государство было слабым, искусственным образованием, целостность которого обеспечивали не естественные связи правителя с его подданными, но механические скрепы, накладываемые чиновничеством, полицией и армией. Стопятидесятимиллионное население России не объединяли ни общие экономические интересы, ни сознание национального единства. Века авторитарного правления в стране с преимущественно натуральным хозяйством не дали возможности установиться прочным горизонтальным связям: императорская Россия напоминала ткань без основы. Это обстоятельство было отмечено одним из ведущих русских историков и политических деятелей Павлом Милюковым:
«Чтобы уяснить особый характер Русской революции, следует обратить внимание на особые черты, усвоенные всем ходом российской истории. Как мне кажется, все эти черты сводятся к одной. Фундаментальное отличие российской социальной структуры от структур других цивилизованных стран может быть охарактеризовано как слабость или отсутствие прочных связей или скреп между элементами, образующими социальный состав. Это отсутствие консолидации в русском социальном агрегате наблюдается во всех аспектах цивилизованной жизни: политическом, социальном, ментальном и национальном.
С политической точки зрения, российским государственным институтам не хватало связи и единения с массами, которыми они управляли... В результате их запоздалого появления государственные институты Западной Европы неизбежно принимали определенные формы, отличные от восточных. Государство на Востоке не имело времени для организации изнутри, в процессе органической эволюции. Оно было привнесено на Восток извне»1.
Если принять во внимание эти факторы, станет очевидным, что марксистский постулат, гласящий, будто революция есть всегда результат социальных («классовых») противоречий, в данном случае не срабатывает. Разумеется, такие противоречия имели место в императорской России, как и в любой другой стране, но решающие и непосредственные факторы падения режима и последовавшей наступившей анархии были в первую очередь политического свойства.
Была ли революция неизбежна? Можно, конечно, думать, что, если нечто произошло, тому и суждено было произойти. Есть историки, которые обосновывают такую примитивную веру в историческую неизбежность псевдонаучными аргументами. Если бы им удавалось столь же безошибочно предсказывать будущее, как они «предсказывают» прошлое, их доводы, не исключено, и звучали бы убедительно. Перефразируя известную юридическую максиму, можно сказать, что в психологическом смысле всякое событие на 9/10 исторически оправданно. Эдмунда Берка в свое время сочли чуть ли не сумасшедшим за критику Французской революции, и семьдесят лет спустя, по словам Мэттью Арнольда, его идеи все еще считались «устарелыми и испытывавшими влияние событий» — так укоренилась вера в рациональность и, следовательно, в неизбежность исторических событий. И чем крупнее они и чем тяжелее их последствия, тем более закономерным звеном они представляются в естественном порядке вещей, ставить который под сомнение — глупое донкихотство.
Мы вправе говорить лишь о том, что было множество причин, делавших степень вероятности революции в России очень высокой. Из них, по-видимому, самой существенной явилось падение престижа царской фамилии в глазах населения, привыкшего, чтобы им управляла неколебимая, безупречная во всех отношениях власть — видя в ее неколебимости залог правомочности. После полуторавекового периода военных побед и завоеваний с середины XIX столетия до 1917 года Россия претерпевала от иноземцев одно унижение за другим: поражение в Крымской войне на собственной территории, утрата плодов военной победы над турками на Берлинском конгрессе, разгром в Японии и неудачи в мировой войне2. Такая череда провалов могла бы подорвать репутацию любого правительства — для России же она оказалась роковой. Позор царизма сопровождался подъемом революционного движения, которое режим не смог усмирить, несмотря на суровые репрессивные меры. Вынужденная уступка доли власти обществу в 1905 году не прибавила царизму ни популярности в глазах оппозиции, ни уважения со стороны населения, которое не могло понять, как самодержавный правитель может позволить помыкать собой какому-то собранию государственного учреждения. Конфуцианский принцип «мандата небес», который в своем первоначальном смысле устанавливал зависимость власти правителя от праведности поведения, в России ассоциировался с силой: слабый, «терпящий поражение» правитель лишался «мандата». Крупнейшая ошибка — оценивать верховную власть в России с позиций морали или по ее популярности, важно было лишь то, чтобы государь внушал страх врагам и друзьям, чтобы он, как Иван IV, заслуживал прозвания «Грозный». Николай II лишился трона не потому, что его ненавидели, а потому, что его стали презирать.
Еще одним фактором революционности была ментальность русского крестьянства — класса, никогда не интегрировавшегося в политическую структуру. Крестьянство составляло около 80% населения России, и хотя оно не принимало никакого существенного участия в государственных делах, однако в силу его консерватизма, нежелания никаких перемен и одновременно готовности сокрушить существующий порядок с ним нельзя было не считаться. Принято думать, что при старом режиме русский крестьянин был «порабощен», но совершенно непонятно, в чем же, собственно, заключалась его порабощенность. Накануне революции он обладал всеми гражданскими и юридическими правами, в его владении — собственном или общинном — находилось 9/10 всех сельскохозяйственных угодий и скота. Не слишком преуспевающий по американским или европейским стандартам, он жил все же много лучше, чем его отец, и свободнее, чем его дед, который, всего вероятнее, был крепостным. На своем земельном участке, выделенном крестьянской общиной, он должен был чувствовать себя много уверенней фермеров-арендаторов где-нибудь в Ирландии, Испании или Италии.
Проблема русского крестьянства состояла не в его порабощении, а в отстраненности. Крестьяне были изолированы от политической, экономической и культурной жизни страны, и поэтому их почти не затронули перемены, которые происходили в России со времен, когда Петр Великий наставил ее на путь европеизации. Многие наблюдатели отмечали, что крестьянство словно задержалось в прошлом, в культурном пласте Московской Руси: в этом отношении они имели не больше общего с правящей элитой или интеллигенцией, чем коренные жители африканских колоний Великобритании с викторианской Англией. Большинство крестьян происходили из разряда частных или государственных крепостных, которых нельзя было даже считать полноценными подданными, поскольку правительство отдавало их на произвол владельцев и чиновников. В результате и после отмены крепостного права государство, с точки зрения сельского населения, оставалось чем-то чужим и враждебным, собирающим налоги и забривающим рекрутов и ничего не дающим взамен. Крестьянин соблюдал верность только своему двору и общине. Он не испытывал патриотических чувств или привязанности к правительству, разве что абстрактное преклонение перед недосягаемым царем, из рук которого надеялся получить вожделенную землю. Анархист по инстинктам, он никогда не участвовал в жизни нации и ощущал себя одинаково далеким как от консервативной верхушки, так и от радикальной оппозиции. Он презирал города и безбородых горожан: маркиз де Кюстин еще в 1839 году слышал высказывание, что когда-нибудь Россию ждет бунт бородатых против безбородых3. И эта чуждая и взрывоопасная масса крестьянства сковывала действия правительства, которое полагало, что управлять им можно только наводя страх, а всякая политическая уступка будет воспринята как послабление и сигнал к бунту.
Крепостные традиции и социальные институты русской деревни — совместное ведение хозяйства разветвленными семьями, объединявшими несколько поколений, почти повсеместное общинное землепользование — не позволили крестьянству выработать качества, необходимые современному гражданину. Хотя крепостничество не было рабством в полном смысле, но имело с ним общее свойство: лишало крепостных юридических прав, а значит, и самих представлений о праве. Михаил Ростовцев, ведущий русский историк классической античности и свидетель событий 1917 года, пришел к выводу, что, быть может, крепостничество еще хуже рабства, потому что крепостной никогда не знал свободы, и это мешает ему обрести качества настоящего гражданина — в этом заключается основная причина возникновения большевизма4. Для крепостных власть по самой своей природе была неоспорима, и, чтобы защитить себя от нее, они не взывали к нормам закона или морали, а прибегали к лукавым лакейским уловкам. Они не признавали правления, основанного на определенных принципах, — жизнь для них была «войной всех против всех», по определению Гоббса. Это мироощущение укрепляло деспотизм: ибо в отсутствие внутренней дисциплины и уважения к закону порядок должен устанавливаться извне. Когда деспотизм теряет жизнеспособность, его место занимает анархия, а вслед за анархией неизбежно приходит новый деспотизм.
Крестьянство было революционно только в одном отношении: оно не признавало частной собственности на землю. Хотя накануне революции оно владело, как уже сказано, 9/10 всей пахотной земли, оно мечтало об остальных 10%, принадлежащих помещикам, купцам и крестьянам-единоличникам. Никакие экономические или юридические аргументы не могли поколебать их взглядов — им казалось, что они имеют самим Богом данное право на эту землю и в один прекрасный день она будет их, то есть общинной, распределенной среди ее членов по справедливости. Превалирование общинного землевладения в Европейской части России вместе с наследием крепостничества явилось основополагающим фактором российской социальной истории. Это означало, что вместе со слабо развитым представлением о законе крестьянин не испытывал особого уважения и к частной собственности. Обе тенденции использовались и раздувались радикальной интеллигенцией в своих целях, настраивая крестьянство против существующего порядка. [Вера Засулич, революционная карьера которой началась в 70-х годах прошлого столетия и которой довелось быть свидетельницей ленинской диктатуры, в 1918 году признавала, что на социалистах лежит доля ответственности за большевизм, поскольку они подстрекали рабочих — и можно добавить, крестьян — захватывать имущество, но ничего не говорили им о гражданских обязанностях (Наш век. 1918. № 74/98. 16 апр. С. 3)].
Промышленные рабочие в России представляли собой легковоспламенимый, дестабилизирующий элемент не потому, что они усвоили революционную идеологию — таковых было очень немного, да и тех отстранили от ведущих позиций в революционных партиях. Дело, скорее, было в том, что в большинстве своем, лишь поверхностно урбанизировавшись, они сами, или от силы их отцы, были в прошлом крестьянами, они принесли с собой в город деревенскую психологию, лишь отчасти приспособленную к новым условиям. Они были не социалистами, а синдикалистами, верящими, что подобно тому, как их родственникам в деревнях принадлежит по праву вся земля, так и они имеют право на владение предприятиями, на которых работают. Политика интересовала их не больше, чем крестьян: в этом смысле они тоже пребывали во власти примитивного, неидеологизированного анархизма. Более того, промышленные рабочие в России составляли слишком малочисленную группу, чтобы играть заметную роль в революции — их насчитывалось самое большее 3 миллиона (из которых заметная часть была сезонных рабочих), то есть 2% населения. В Советском Союзе и на Западе, в особенности в Соединенных Штатах, полчища студентов-историков, с благословения своих профессоров, кропотливо прочесывали источники в надежде найти свидетельства рабочего радикализма в дореволюционной России. Результатом явились увесистые тома с описанием ничего не значащих событий и статистических данных, доказывавших только то, что если сама история никогда не бывает скучна, то книги по истории могут быть удивительно пустыми и унылыми.
Главным и, быть может, решающим революционным фактором была интеллигенция, которая в России пользовалось большим влиянием, чем где бы то ни было. Строго ранжированная система царской гражданской службы не допускала в администрацию посторонних, отстраняя наиболее образованных и отдавая их во власть самых фантастических схем социальных реформ, зародившихся в Западной Европе, но никогда там не воплощавшихся. Отсутствие, вплоть до 1906 года, института народного представительства и свободной прессы, вместе с широким распространением образования, дало возможность культурной элите говорить от имени немотствующего народа. Нет свидетельств, что интеллигенция действительно отражала мнение «масс», — напротив, все говорит о том, что и до, и после революции крестьяне и рабочие испытывали глубинное недоверие к людям образованным. В 1917 и в последующие годы это стало очевидно всем. Но поскольку истинная воля народа не имела путей и способов выражения — по крайней мере до установления в 1906 году недолго просуществовавшего конституционного порядка, — интеллигенция могла более или менее успешно играть роль ее выразителя.
Как и в других странах, где она не имела законных путей политического влияния, интеллигенция в России образовала из себя касту, и, поскольку суть ее и основу общности составляли идеи, в ней выработалась крайняя интеллектуальная нетерпимость. Восприняв просвещенческий взгляд, согласно которому человек не более чем материальная субстанция, формирующаяся под воздействием окружающих явлений, интеллигенция сделала естественный вывод: изменение окружения неизбежно должно изменить человеческую природу. Поэтому интеллигенция видела в «революции» не замену одного строя другим, но нечто несравненно более значительное: полную трансформацию человеческого окружения ради создания новой породы людей — в первую очередь, конечно, в России, но отнюдь на этом не останавливаясь. Упор на несправедливость существующего положения был не более чем способом приобретения широкой поддержки: никакое устранение этих несправедливостей не заставило бы радикальную интеллигенцию забыть о своих революционных притязаниях. Эти убеждения объединяли членов различных левых партий: анархистов, социалистов-революционеров, меньшевиков и большевиков. При всех их апелляциях к науке, они были невосприимчивы к аргументам противника и тем самым более походили на религиозных фанатиков.
Интеллигенция, которую мы определяли как интеллектуалов, жаждущих власти, находилась в крайней и бескомпромиссной вражде к существующему порядку: ничто в действиях царского режима, разве что его самоубийство, не могло бы удовлетворить их. Они были революционерами не ради улучшения условий жизни народа, но ради обретения господства над людьми и переделки их по собственному образу и подобию. Царскому режиму они бросали вызов, от которого тот, еще не зная методов, изобретенных впоследствии Лениным, уклониться не мог. Реформы — как 60-х годов прошлого века, так и 1905—1906 гг. — только разожгли аппетиты радикалов и подтолкнули на еще более дерзкие шаги.
Под напором крестьянских требований и наскоков радикальной интеллигенции монархии оставался только один путь предотвращения краха — расширить основу своей власти, разделив ее с консервативными элементами общества. Исторические прецеденты показывают, что ныне благополучные демократии на первых порах допускали к власти только высшие круги и лишь постепенно, под давлением других слоев населения, их привилегии превращались во всеобщие гражданские права. Привлечение консервативных кругов, которые были гораздо многочисленнее радикальных, в решающие и административные структуры должно было создать некое подобие органической связи правительства и общества, обеспечивая трону поддержку в случае бунта и в то же самое время изолируя радикалов. Такой курс подсказывали монархии некоторые дальновидные чиновники, да и просто здравомыслящие люди. Он должен был быть принят в 1860-е годы, в период Великих реформ, однако этого не произошло. Когда в конце концов под напором развернувшегося по всей стране восстания в 1905 году монархия пошла на учреждение выборного органа, у нее уже не оставалось этой возможности, ибо соединенная либеральная и радикальная оппозиция настаивала на проведении выборов на самых демократических основах. В результате в Думе голоса консерваторов заглушили воинствующая интеллигенция и крестьянские анархисты.
Первая мировая война потребовала от всех воюющих стран крайнего напряжения сил, которое можно было преодолеть только при тесном сотрудничестве правительства и граждан во имя патриотической идеи. В России такое сотрудничество не наладилось. Как только поражения на фронте пригасили первоначальный патриотический порыв и стало ясно, что стране предстоит вести войну на истощение, царский режим оказался неспособен мобилизовать силы общества. Даже горячие сторонники монархии признавали, что к моменту своего падения она не имела никаких опор.
В чем причина столь упорного нежелания царского режима делить политическую власть со своими сторонниками, что в конечном счете, принужденный к тому, он пошел на этот шаг крайне неохотно и не без лукавства? Объясняется это сложным комплексом причин. Придворные, чиновничество и профессиональные военные во глубине души считали Россию, как встарь, личной вотчиной царя. Пережиток вотчинного сознания, несмотря на то что весь уклад Московской Руси в XVIII и XIX веках был разрушен, сохранился не только в официальных кругах — крестьянство тоже сохраняло вотчинный дух, веря в сильную, неделимую власть царя и считая всю землю государевым владением. Николай II верил, что должен охранять самодержавие во имя своего наследника: неограниченная власть была для него эквивалентом имущественного права, которое было ему вверено и распылять которое не дозволено. Его никогда не покидало чувство вины за то, что ради спасения трона он в 1905 году согласился делить свое имущественное право с избранными народными представителями.
Царь и его советники боялись также, что разделение власти даже с ограниченной группой общества дезорганизует бюрократический механизм и даст повод требовать еще большего участия населения во властных структурах. В таком случае выиграет главным образом интеллигенция, в государственные способности которой верилось слабо. Кроме того, возникало опасение, что крестьянство может неверно истолковать такую уступку власти и взбунтоваться. И наконец, существовала оппозиция реформам со стороны чиновничества, которое, ответственное только перед самодержцем, управляло государством по своему разумению, извлекая из такого уклада разнообразные и многочисленные выгоды.
Указанные обстоятельства могут прояснить, но не оправдать нежелание монархии предоставить консерваторам право голоса в правительстве, тем более что разнообразные и путаные мероприятия, с этим сопряженные, все равно лишали чиновничество наиболее эффективных рычагов власти. С появлением во второй половине XIX века капиталистических институтов контроль над большей частью ресурсов страны перешел в частные руки, опрокидывая последнюю опору вотчинного уклада.
Словом, если падение режима было вовсе не неизбежным, оно стало весьма вероятным из-за глубоких культурных и политических разломов, помешавших царизму направить в нужное русло экономическое и культурное развитие страны и оказавшихся фатальными для режима в тяжких испытаниях, преподнесенных Первой мировой войной. И если у царизма еще оставалась возможность навести порядок в стране, то она была задушена стараниями воинствующей интеллигенции, которая стремилась свергнуть правительство и использовать Россию как трамплин для мировой революции. Именно обстоятельства культурного и политического свойства, а вовсе не «угнетенность» или «нищета» привели к падению царизма. Речь идет о национальной трагедии, причины которой уходят глубоко в прошлое страны. А экономические и социальные трудности не столь существенно приблизили угрозу революции, нависшую над Россией перед 1917 годом. Какие бы обиды — реальные или воображаемые — ни питали «народные массы», не о революции они мечтали и не революция им была нужна: единственная группа, которая была заинтересована в ней, — интеллигенция. А постановка во главу угла народного недовольства и классовых противоречий определялась не столько реальной обстановкой, сколько идеологическими предпосылками, а именно ложной идеей, что политические события всегда и везде вызываются социо-экономическими конфликтами, что они лишь «пена» на поверхности течений, в действительности определяющих судьбы человечества.
* * *
Пристальный разбор событий февраля 1917 года дает представление о том, какую сравнительно малую роль сыграли социальные и экономические факторы в русской революции. Февраль не был «рабочей» революцией: рабочие сыграли в нем роль хора, подхватывающего и усиливающего действия главных исполнителей — армии. Мятеж Петроградского гарнизона стимулировал беспорядки среди гражданского населения, недовольного инфляцией и дефицитом продуктов. С волнениями можно было справиться, если бы Николай II пошел на крутые меры, какие Ленин и Троцкий, не колеблясь, применили четырьмя годами позже для подавления непокорного Кронштадта и охвативших страну крестьянских бунтов. Но единственной заботой большевистских лидеров было удержать власть, тогда как Николай II думал о благе России. Когда генералы и думские политики убедили его в том, что ради спасения армии и во избежание позорной капитуляции в войне ему следует оставить трон, он согласился. Если бы сохранение власти было его основной целью, он мог был легко заключить мир с Германией и повернуть армию против мятежников. Исторические свидетельства не оставляют сомнения в том, что расхожее представление, будто царя к отречению вынудили восставшие рабочие и крестьяне, не более чем миф. Царь уступил не восставшему населению, но генералам и политикам, сознавая это как свой патриотический долг.
Социальная революция воспоследовала, а не предшествовала акту отречения. Солдаты Петроградского гарнизона, крестьяне, рабочие и национальные меньшинства, каждая группа, преследуя собственные интересы, превратила страну в нечто неуправляемое. Настойчивые заявления интеллигенции, возглавившей советы, что именно они, а не Временное правительство есть истинно законная власть, не оставляли ни единого шанса восстановить порядок. Беспомощные интриги Керенского и его убеждение, что демократия не имеет врагов слева, ускорили падение Временного правительства. Вся страна со всеми ее политическими органами и ресурсами стала предметом дележа банды грабителей, остановить которую на ее разбойничьем пути никто был не в состоянии.
Ленин пришел к власти на волне этой анархии, к созданию которой он приложил немало усилий. Он обещал каждой недовольной группе населения то, чего она более всего чаяла. Он присвоил эсеровскую программу «социализации земли», чтобы переманить на свою сторону крестьянство. Среди рабочих поощрял синдикалистские идеи «рабочего контроля» над предприятиями. Военным сулил мир. Нацменьшийствам предлагал самоопределение. В действительности все эти обещания шли вразрез с его программой и тотчас были забыты, едва была отыграна их роль в подрыве стараний Временного правительства стабилизировать ситуацию в стране.
Сходный обман был пущен в ход, чтобы лишить Временное правительство власти. Ленин и Троцкий прикрывали свое стремление к однопартийной диктатуре лозунгами о передаче власти советам и Учредительному собранию и формализовали их обманно созванным съездом Советов. Никто, кроме горстки ведущих фигур большевистской партии, не знал, что стоит за этими обещаниями и лозунгами, — и поэтому немногие могли понять, что же в действительности произошло в ночь на 25 октября 1917 года. Так называемая «Октябрьская революция» была классическим государственным переворотом. Подготовка к ней велась столь скрытно, что, когда Каменев за неделю до назначенного срока обмолвился в газетном интервью, что партия собирается взять власть в свои руки, Ленин объявил его предателем и требовал исключения из ее рядов5.
Легкость, с какой большевикам удалось свергнуть Временное правительство — по словам Ленина, словно «поднять пушинку», — убедила многих историков в том, что октябрьский переворот был неизбежен. Но таковым он может казаться только в ретроспекции. Ленин сам считал это предприятие весьма рискованным. В посланиях Центральному Комитету в сентябре и октябре 1917 года из своего укрытия он настаивал на том, что успех зависит исключительно от внезапности и решительности вооруженного восстания: «Промедление в восстании смерти подобно, — писал он 24 октября, — теперь все висит на волоске»6. Едва ли это чувства человека, полагающегося на неотвратимость действия движущих сил истории. Троцкий впоследствии признавал — и трудно найти человека более осведомленного, — что, «если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Окт[ябрьской] революции»7. О какой неизбежности исторического события может идти речь, если свершение его зависит от присутствия в каком бы то ни было месте двух людей?
И если этих свидетельств недостаточно, то можно пристальнее взглянуть на события октября 1917 года в Петрограде, когда «народные массы» оказались на положении зрителей, не откликнувшись на призывы большевиков штурмовать Зимний дворец, где заседали, кутаясь в пальто, растерянные министры Временного правительства, вручившие свою безопасность кадетам, женскому батальону и инвалидному взводу. Сам Троцкий уверял, что Октябрьскую «революцию» совершили «вряд ли более 25—30 тысяч» человек8 — и это в стране со стопятидесятимиллионным населением и в столице с 400 тысячами рабочих и гарнизоном в более 200 тысяч солдат.
Как только Ленин захватил власть, он стал выкорчевывать все существующие институты, чтобы очистить место режиму, позднее получившему определение «тоталитарного». Этот термин не пользовался успехом у западных социологов и политологов, старавшихся избегать языка холодной войны. Нелишне, однако, отметить, как скоро он стал популярен в самом Советском Союзе, едва лишь были сняты цензорские запреты. Режим такого рода, неизвестный ранее истории, устанавливал над государством власть одной всесильной «партии», заявляющей свои права на всякую без исключения форму организованной жизни в стране и утверждающей свою волю неограниченным террором.
Сегодня можно сказать, что выдающееся место в истории обеспечили Ленину не его весьма скромные достижения на поприще государственного деятеля, а его военные заслуги. Он оказался одним из самых великих завоевателей в истории, несмотря на то что страна, которую он захватил, была его собственной. [Клаузевиц еще в начале XIX столетия подметил, что стало «невозможно захватить великую страну с европейской цивилизацией иначе, как внутренним расколом» (von Clausevitz С. The Campaign of 1812 in Russia. London, 1943. P. 184).]. Истинным его изобретением, обеспечившим его успех, следует признать милитаризацию политики. Он был первым главой государства, который воспринимал политику, и внешнюю, и внутреннюю, как войну в самом буквальном смысле слова, целью которой было не подчинение себе противника, а уничтожение его. Такой подход давал Ленину большое преимущество перед его оппонентами, для которых война была противоположностью политики, а политические цели достигались иными средствами. Милитаризация политики и, как следствие, политизация войны дали ему возможность сначала захватить власть, а затем удержать ее. Это, однако, не помогло ему в создании жизнеспособного общества и политического порядка. Он так привык атаковать по всем «фронтам», что и после установления непререкаемой власти в Советской России и ее колониях стал выдумывать себе новых врагов, с которыми можно сразиться и уничтожить: будь то церковь, или эсеры, или интеллигенция вообще. Такая воинственность стала неотъемлемой чертой коммунистического режима, получившей высочайшее воплощение в известной «теории» Сталина о том, что чем ближе к победе коммунизма, тем острее классовая борьба, — теории, оправдывавшей невиданную по жестокости кровавую бойню. Это заставило Советский Союз через шестьдесят лет после смерти Ленина ввязываться в совершенно ненужные ему конфликты у себя и за рубежом, выпотрошившие страну физически и духовно.
* * *
Поражение коммунизма, которое с 1991 года стало уже бесспорным фактом, признаваемым даже лидерами бывшего Советского Союза, часто объясняют тем, что люди не оправдали его якобы высоких идеалов. Даже если опыт не удался, утверждают его защитники, цели были поставлены благородные и попытка стоила того: в подтверждение своих слов они могли бы процитировать слова древнеримского поэта Секста Пропорция: «In magnis et voluisse sat est», то есть «в великом начинании уже одного желания достаточно». Но сколь великим должно быть начинание, чтобы, ни во грош не ставя интересы людей, в достижении его прибегать к столь бесчеловечным средствам?
Коммунистический эксперимент часто называют утопическим. Так, недавно появившийся вполне критический труд по истории Советского Союза носит название «Утопия власти». Термин этот, однако, применим в том ограниченном смысле, в котором Энгельс использовал его для критики социалистов, которые не принимали его и Маркса «ученые» доктрины, закрывая глаза на исторические и социальные реалии. Ленин и сам в конце жизни вынужден был признать, что большевики тоже повинны в том, что не учитывали культурных особенностей России и ее неготовности к вводимому ими экономическому и социальному порядку. Большевики перестали быть утопистами, когда, поскольку стало очевидным, что идеалы недостижимы, они не отказались от своих попыток, прибегая к неограниченному насилию. Утопические общины всегда прокламировали соревнование членов в созидании «кооперативного содружества». Большевики, наоборот, не только никогда не заботились о таком соревновании, но и объявляли контрреволюционными любые групповые или личные инициативы. Они не знали иного способа отношения с мнениями, отличными от их собственных, кроме как запрет и подавление. Большевиков следует рассматривать вовсе не как утопистов, а как фанатиков: ибо они отказывались признать поражение даже тогда, когда оно било в глаза, они прекрасно удовлетворяют сантаяновскому определению фанатизма как удвоения усилий в забвении цели.
Марксизм и его отпрыск большевизм были продуктами одержимой насилием эпохи в европейской интеллектуальной жизни. Дарвинова теория естественного отбора была скоро распространена на социальную философию, в которой непримиримый конфликт занимал центральное место. «Не переварив массивный пласт литературы периода 1870—1914 гг., — писал Жак Барзун, — невозможно вообразить, что это был за слитный и протяжный кровожадный вопль и какое разнообразие партий, классов, наций и рас, чьей крови жаждали вместе и в отдельности, оспаривая друг у друга, просвещенные граждане древней европейской цивилизации»9. Никто не впитал эту философию с большим энтузиазмом, чем большевики: «беспощадное» насилие, жаждущее уничтожения всех действительных и возможных противников, было для Ленина не только самым эффективным, но и единственным путем решения проблем. И даже если некоторых из его товарищей коробило от такой бесчеловечности, они не могли избавиться от пагубного влияния вождя.
* * *
Русские националисты описывали коммунизм как нечто чуждое русской культуре и традициям — вроде чумы, занесенной с Запада. Представление о вирусе коммунизма не выдерживает ни малейшей критики, поскольку, хотя это явление было интернациональным, оно впервые проявилось в России и в русской среде. Партия большевиков и до, и после революции была преимущественно русской по составу, пустившей первые корни в Европейской части России и среди русского населения в пограничных областях. Теории, легшие в основу большевизма, а именно учение Карла Маркса, были, бесспорно, западного происхождения. Но столь же несомненно, что практика большевиков была вполне самобытной, ибо нигде на Западе марксизм не привел к тоталитарным проявлениям ленинизма-сталинизма. В России, и впоследствии в странах Третьего мира со сходными традициями, зерна марксизма попали на благодатную почву: отсутствие традиций самоуправления, уважения к закону и частной собственности. Причина, приводящая к различным последствиям при различных обстоятельствах, едва ли может служить достаточным объяснением. Марксизм имеет как либеральные, так и авторитарные черты, и какие из них возобладают, зависит от политической культуры общества. В России получили развитие те элементы марксистского учения, которые отвечали унаследованной из Московской Руси вотчинной психологии. Согласно русской политической традиции, сложившейся в Средние века, правительство — или, точнее говоря, правитель — субъект, а «земля» — объект. Это представление легко подменялось марксистской концепцией о «диктатуре пролетариата», при которой правящая партия заявляет свою безраздельную власть над населением страны и ее ресурсами. Марксистское определение «диктатуры пролетариата» было достаточно расплывчатым, чтобы наполнять его тем содержанием, которое было наиболее близко местным традициям, каковыми в России было историческое наследие вотчинного уклада. Именно прививка марксистской идеологии к неувядающему древу вотчинной ментальности принесла тоталитарные плоды. Тоталитаризм нельзя объяснить исключительно ссылками на марксистское учение или российскую историю — это было плодом их тесного союза.
Как бы значительна ни была роль идеологии в формировании коммунистической России, преувеличивать ее не следует. Говоря отвлеченно, если личность или группа исповедуют определенные убеждения и ссылаются на них для объяснения своих поступков, можно сказать, что они действуют под влиянием идей. Однако, когда идеи не служат руководством, а используются для оправдания господства одних над другими убеждением или принуждением, все значительно сложнее, ибо невозможно определить, служат ли эти убеждения или принуждение идеям или, наоборот, идеи служат сохранению или узаконению такого господства. В случае большевиков есть все основания подозревать справедливость последнего предположения, ибо большевики перекраивали марксизм вдоль и поперек по своему усмотрению, сначала для достижения политической власти, а затем для удержания ее. Если в марксизме и есть какой-либо смысл, то он сводится к следующим двум положениям: капиталистическое общество по мере своего роста обречено на смерть («революцию») от внутренних противоречий, и могильщиками капитализма выступят промышленные рабочие («пролетариат»). Режим, опирающийся на марксистскую теорию, должен придерживаться по крайней мере этих двух принципов. Что мы видим в Советской России? «Социалистическая революция» совершилась в экономически недоразвитой стране, где капитализм находился еще в младенческом возрасте, и власть захватила партия, придерживающаяся взгляда, что рабочий класс, предоставленный самому себе, нереволюционен. В дальнейшем на каждом этапе своего развития коммунистический режим в России не останавливался ни перед чем, чтобы одержать верх над своими противниками, нисколько не сообразуясь с марксистским учением, хотя и прикрывался марксистскими лозунгами. Ленин преуспел именно благодаря тому, что был свободен от марксистских предрассудков, присущих меньшевикам. Очевидно, что идеологию можно рассматривать лишь как вспомогательный фактор — быть может, источник вдохновения и образ мыслей нового правящего класса, — но никак не свод принципов, определяющих его поведение или объясняющих его потомкам. Как правило, стремление приписывать марксистским идеям главенствующую роль обратно пропорционально знаниям о реальном ходе русской революции. [Спор о роли идей в истории присущ вовсе не одной только русской историографии. И в Великобритании, и в Соединенных Штатах велись по этому поводу жаркие баталии. Приверженцы идеологической школы потерпели сокрушительное поражение, в особенности от Луи Намьера, который показал, что в Англии в XVIII веке идеи, как правило, служили для объяснения действий, инспирированных личными или групповыми интересами.].
* * *
При всех расхождениях современные русские националисты и многие либералы сходились в отрицании связей между Россией царской и Россией коммунистической. Первые потому, что признание такой связи возлагало бы на Россию ответственность за собственные несчастья, которые они предпочитали относить на счет инородцев, в первую голову евреев. В этом они весьма напоминают консервативные круги в Германии, которые представляют нацизм как феномен общеевропейский, тем самым отрицая его очевидные корни в немецкой истории и особую ответственность своей страны. Такой подход легко находит сторонников, ибо перекладывает вину за все последствия на других.
Либеральная и радикальная интеллигенция не столько в России, сколько за рубежом тоже отрицает родственные черты царизма и коммунизма, потому что это превратило бы всю русскую революцию в бессмысленное и слишком дорого оплаченное предприятие. Они предпочитают сосредоточивать внимание на заявленных коммунистами целях и сравнивают их с реальностями царизма. Такой метод дает разительный контраст. Картина естественным образом сглаживается, если сравнивать оба режима в их действительности.
Сходство нового, ленинского, и старого режимов отмечали многие современники, среди которых были историк Павел Милюков, философ Николай Бердяев, один из старейших социалистов Павел Аксельрод10 и писатель Борис Пильняк. По словам Милюкова, большевизм имеет два аспекта:
«Один интернациональный; другой исконно русский. Интернациональный аспект большевизма обязан своим происхождением весьма прогрессивной европейской теории. Чисто русский аспект связан главным образом с практикой, глубоко укоренившейся в русской действительности, и, вовсе не порывая со "старым режимом", утверждает прошлое России в настоящем. Как геологические сдвиги выносят на поверхность глубинные слои земли как свидетельства ранних эпох нашей планеты, так же и русский большевизм, разрушив тонкий верхний социальный слой, обнажил бескультурный и неорганизованный субстрат русской исторической жизни»".
Бердяев, смотревший на русскую революцию прежде всего в духовном аспекте, отрицал, что в России вообще произошла революция: «Все прошлое повторяется, только выступает под новой личиной»12.
Даже ничего не зная о России, трудно представить себе, что в один прекрасный день, 25 октября 1917 года, в результате военного переворота ход тысячелетней истории огромного государства претерпел полную трансформацию. Те же люди, живущие на той же территории, говорящие на том же языке, наследники общего прошлого, едва ли могли превратиться в других существ исключительно благодаря смене правительства. Нужно питать поистине фанатичную веру в сверхъестественную силу декретов, пусть даже насильно проводимых, чтобы допускать возможность столь радикальных и невиданных ранее перемен в человеческой природе. Подобную нелепость можно предположить, лишь видя в человеке не более чем безвольный материал, формируемый под воздействием внешних обстоятельств.
Чтобы проанализировать сущность обеих систем, нам придется обратиться к концепции вотчинного уклада, лежащего в основе образа правления Московской Руси и во многих отношениях сохранившегося в государственных институтах и политической культуре России накануне падения старого режима13. При царизме вотчинный уклад покоился на четырех столпах: во-первых, самодержавие, то есть единоличное правление, не ограниченное ни конституцией, ни представительными органами; во-вторых, самовластное владение всеми ресурсами страны, то есть, по сути, отсутствие частной собственности; в-третьих, абсолютное право требовать от своих подданных исполнения любой службы, лишающее их каких бы то ни было коллективных или личных прав; и в-четвертых, государственный контроль над информацией. Сравнение царского режима в его зените с коммунистическим режимом, в том виде, в каком он предстает к моменту смерти Ленина, обнажает их сходство.
Начнем с самодержавия. Традиционно русский монарх концентрировал в своих руках всю законодательную и исполнительную власть, реализуемую без участия каких-либо внешних органов. Он управлял страной с помощью служилого дворянства и чиновничества, преданного не столько интересам государства или нации, сколько ему лично. С первых же дней своего правления Ленин применил эту же модель. Правда, уступая принципам демократии, он дал стране конституцию и представительный орган, но они исполняли исключительно церемониальные функции, ибо конституция не была законом для Коммунистической партии, истинного правителя страны, а народные представители были не избраны народом, а подобраны той же партией. Исполняя свои обязанности, Ленин действовал на манер самодержавнейших из царей — Петра Великого и Николая I, — лично вникая в мельчайшие подробности государственных дел, словно страна была его вотчиной.
Как и его предшественники в Московской Руси, советский правитель заявлял свои права на все богатства и доходы страны. Начав с декретов о национализации земли и промышленности, правительство подчинило себе всю собственность, кроме предметов личного пользования. Поскольку же правительство находилось в руках одной партии, а партия, в свою очередь, подчинялась воле своего вождя, Ленин был де-факто владельцем всех материальных ресурсов страны. (Де-юре имущество принадлежало «народу», выступающему синонимом Коммунистической партии.) Предприятиями руководили назначенные государством начальники. Промышленной и, вплоть до марта 1921 года, сельскохозяйственной продукцией Кремль распоряжался словно своей собственной. Городская недвижимость была национализирована. Частная торговля запрещена (вплоть до 1921 года и снова после 1928-го), и советский режим контролировал всю законную розничную и оптовую торговлю. Конечно, эти меры не вписываются в практику Московской Руси, но вполне отвечают принципу, согласно которому русский правитель не только управляет страной, но и владеет ею.
Люди тоже были его имуществом. Большевики восстановили обязательную государственную службу, одну из отличительных черт московского абсолютизма. В Московской Руси подданные царя, за малым исключением, должны были служить ему не только непосредственно, на военной службе или по чиновной части, но и косвенно, обрабатывая землю, принадлежащую царю, или пожалованную им своим вельможам. Тем самым все население было подчинено трону. Процесс освобождения начался в 1762 году, когда дворянству было даровано право уйти с государевой службы, и завершился 99 лет спустя с отменой крепостного права. Большевистский режим тотчас внедрил присущую Московской Руси и неизвестную ни в одной другой стране обязательную для всех граждан практику казенных работ: так называемая «всеобщая трудовая повинность», объявленная в январе 1918 года и подкрепленная, по настоянию Ленина, угрозой наказания, была бы вполне уместна в России XVII века. А в отношении крестьянства большевики по сути возродили тягло, то есть практику принудительного безвозмездного труда, вроде заготовки дров и извоза. Как и в XVII веке, без особого разрешения крестьянам запрещалось покидать свою деревню.
Коммунистическое чиновничество на службе партии или государству совершенно естественно восприняло опыт своих предшественников. Служилый класс, имевший свои обязанности и привилегии, но не неотъемлемые права, создал из себя замкнутую и тщательно ранжированную прослойку, ответственную исключительно перед своим начальством. Как и царское чиновничество, они ставили себя над законом и вершили свои дела без огласки, втайне от общества, посредством секретных циркуляров. При царизме восхождение на высшие ступени бюрократической лестницы обеспечивало потомственное дворянское звание. Для служащих при коммунистическом режиме продвижение на высшие ступени вознаграждалось причислением к номенклатурным спискам — коммунистический эквивалент служилого дворянства, что давало преимущества, недоступные простым служащим, не говоря уже о рядовых гражданах. Советская бюрократия, как и царская, не желала мириться с существованием административных органов, находящихся вне ее контроля, и постаралась их как можно скорее «огосударствить», то есть интегрировать в командную цепочку. Это было проделано с советами, мнимыми законодательными органами новой власти, и с профсоюзами, представителями столь же мнимого «правящего класса».
Учитывая, что новый режим во многих отношениях повторял прежний, неудивительно, что и новая бюрократия так скоро восприняла старые приемы. Благоприятствовало такой преемственности то обстоятельство, что многие советские административные посты занимали бывшие царские чиновники, которые принесли с собой и передали новичкам привычки, усвоенные при царизме.
Служба безопасности была еще одним важным институтом, позаимствованным большевиками у царизма, ибо лучшего примера для создания органа, которому суждено было занять центральное место при тоталитаризме, они не имели. Одна из уникальных особенностей царской России состояла в том, что нигде больше не встречались целых два полицейских учреждения для обеспечения безопасности: одно для защиты государства от его граждан, другое для защиты граждан друг от друга. [Во многих европейских странах существовали департаменты политической полиции, но их функции заключались в выявлении и передаче подозреваемых органам правосудия. Только в царской России политическая полиция пользовалась судебными полномочиями, позволявшими ей без суда арестовывать и ссылать подозреваемых.]. Юридическое определение государственных преступлений было весьма размытым, не проводящим четкого разграничения между преступным намерением и деянием14. Царская полиция разработала изощренные методы надзора, пронизав общество сетью платных осведомителей и внедряя в оппозиционные партии профессиональных агентов. Царский департамент полиции пользовался уникальным правом приговаривать к административной высылке за преступления, которые ни в одной европейской стране за таковые не признавались, как, например, выражение желания о смене политической системы. Благодаря ряду прерогатив, полученных после убийства Александра II, полиция в период между 1881 и 1905 гг. практически стала истинным властителем России15. Русским революционерам пришлось на себе изучить ее методы, которые, придя к власти, они и применили теперь уже против своих противников. ВЧК и ее преемники так прилежно впитали уроки царской политической полиции, что еще в 80-х годах КГБ раздавал своим сотрудникам руководства, подготовленные «охранкой» почти столетие тому назад16.
Наконец, в отношении цензуры. В первой половине XIX столетия Россия была единственной европейской страной, где действовала предварительная цензура. В 60-е годы прошлого века цензура была ослаблена, а в 1906-м отменена. Большевики вернули к жизни самые жесткие царские методы, запрещая любые публикации, не поддерживающие их режима, и подвергая предварительной цензуре все формы интеллектуального и художественного выражения. Кроме того, они национализировали все издательства и типографии. Эти меры, не имея аналога в Европе, отбрасывали Россию назад, во времена Московского царства. [«В отличие от западноевропейских стран, где со времени возникновения книгопечатания типографии находились в частных руках и издание книг было делом частной инициативы, в России книгопечатание с самого начала являлось монополией государства, которое определяло направление издательской деятельности» (Луппол СП. Книга в России в XVII веке Л., 1970. С 28).]. Во всех этих случаях большевики находили модели для подражания не в трудах Маркса, Энгельса или западных социалистов, а в собственной истории — не столько истории, какой она предстает в книгах, сколько той, которую они познали в ходе борьбы с царизмом в режиме Усиленных и Чрезвычайных мер безопасности, установленных в 1880-е годы для усмирения революционной интеллигенции17. Эту практику они оправдывали аргументами, почерпнутыми из социалистической литературы, дававшей им мандат на суровые и беспощадные меры, немыслимые при царизме, который все же был скован в своих действиях, стараясь сохранить приличную мину перед Европой, тогда как большевикам, числившим Европу во врагах, стесняться было нечего.
Разумеется, большевики вовсе не намеревались прямо копировать царскую практику: напротив, они не хотели иметь ничего общего со старым режимом. Но они подражали ей невольно. Отвергнув демократический путь, что стало свершившимся фактом после роспуска Учредительного собрания в январе 1918 года, — им не оставалось ничего иного, как ввести авторитарное правление. А авторитарное правление автоматически вызвало к жизни уже опробованные методы. Прямым прототипом режима, установленного Лениным после прихода к власти, было самое реакционное в российской истории правление — царствование Александра III, пришедшееся на период становления личности вождя. Поразительно, как много мероприятий, проводимых Лениным, почти в точности копировали «контрреформы» 1880—1990-х годов, хотя и под другими ярлыками.
Очевидное вырождение русской революции не должно вызывать удивления. Революционеры могут вынашивать самые радикальные идеи о переделке человека и общества, но им приходится строить новый порядок, используя тот человеческий материал, который сформировался в прошлом. По этой причине, рано или поздно, они сами отдаются во власть минувшего. Словом «революция», происходящим от латинского revolvere «вращаться» и применявшимся первоначально для описания движения планет, средневековые астрологи воспользовались для объяснения внезапных и непредсказуемых поворотов событий в жизни людей. Но само вращение есть по сути неизбежное возвращение в исходную точку.
* * *
Одна из самых спорных проблем русской революции — отношение ленинизма к сталинизму, или, иными словами, ответственность Ленина за Сталина. Западные коммунисты и благосклонные наблюдатели отрицали всякую связь между вождями коммунизма, утверждая, что Сталин не только не был продолжателем дела Ленина, но и извратил его. Такой взгляд получил официальное благословение в 1956 году после секретного доклада Никиты Хрущева на XX съезде партии, целью которого было отмежеваться от недостойного предшественника. Как ни удивительно, но те же люди, которые считали приход Ленина к власти неизбежным историческим явлением, забывали свои философские принципы, когда речь заходила о Сталине, правление которого списывали на ошибку истории, однако не могли объяснить, почему вдруг история в течение 30 лет катилась вспять, свернув со своего строго предопределенного пути.
Анализ карьеры Сталина показывает, что никакого «захвата» власти после смерти Ленина не было — Сталин уже давно шаг за шагом неуклонно продвигался к вершине, причем на первых порах при поддержке самого Ленина. Это он доверил Сталину руководство партийным аппаратом, в особенности после 1920 года, когда партию раздирал демократический раскол. Документы говорят о том, что, вопреки последующим заявлениям Троцкого, Ленин в большинстве повседневных дел правительства полагался не на него, а на его соперника, и прислушивался к его советам по ряду важных вопросов внутренней и внешней политики. Благодаря покровительству Ленина к 1922 году, когда он из-за болезни стал все далее отходить от государственных дел, Сталин оказался единственным, кто входил в состав всех трех руководящих органов Центрального Комитета: Политбюро, Оргбюро и Секретариата. В этом качестве он контролировал назначения исполнительных кадров буквально всех ветвей партийного и государственного аппарата. Благодаря правилам, установленным Лениным во избежание фракционной деятельности, Сталин мог подавлять всякую критику своей деятельности на том основании, что она-де направлена фактически не против него, а против партии и тем самым, по определению, служит контрреволюции. И хотя известно, что в последние месяцы жизни у Ленина возникли сомнения насчет Сталина и он чуть было не порвал с ним всякие отношения, нельзя забывать, что до этой самой минуты он делал все, что было в его власти, для продвижения Сталина. Но и разочарование Ленина в своем протеже носило довольно поверхностный характер — он обнаружил в нем недостатки, касавшиеся главным образом черт личности, а не качеств руководителя, — грубость и вспыльчивость. И никак не скажешь, будто его волновало в Сталине предательство идеалов коммунизма.
Но даже то единственное различие двух вождей — Ленин не убивал своих ближайших соратников, а Сталин истреблял их списочным порядком — не имеет такого большого значения, как может показаться. По отношению к людям посторонним, не принадлежащим к касте избранных — а таковых было 99,7% его соотечественников, — Ленин не проявлял никаких человеческих чувств, десятками тысяч посылая их на смерть, часто просто в назидание другим. Высокий чин ВЧК, И.С.Уншлихт, в своих воспоминаниях о Ленине, написанных в 1934 году, с нескрываемой гордостью говорил о том, как вождь «беспощадно расправлялся с обывательски настроенными партийцами, жалующимися на беспощадность ВЧК, высмеивал и издевался над "гуманностью" капиталистического мира»18. По сути различие между двумя вождями заключается в их представлении о том, кого считать «посторонними». Те, кто для Ленина были своими, для Сталина были уже чужими. Ко всем, кто был предан не лично ему, а основателю партии, и кто оспаривал его право на власть, он проявлял такую же неумолимую жестокость, с какой Ленин обращался со своими врагами.
Не говоря о прочных личных связях двух вождей, Сталин был верным ленинцем и в политической философии и на практике. Всему, что составляло «сталинизм», за исключением одного — расправы со своими партийными товарищами, — он научился у Ленина, включая коллективизацию и массовый террор — политические акции, которые вызвали впоследствии самую острую критику. Гигантомания Сталина, его мстительность, болезненная мнительность и другие одиозные черты характера не должны заслонять тот факт, что его идеология и образ действий были всецело проникнуты ленинским духом. Человек плохо образованный, он не имел иного источника вдохновения и знаний.
Теоретически еще можно вообразить, как Троцкий, Бухарин или Зиновьев берут факел революции из рук умирающего Ленина и ведут страну по иному пути. [Впрочем, даже само это предположение вызывает сильные сомнения, см., например, пылкую аргументацию в пользу того, что соратники Ленина были бы не лучше Сталина, приведенную Александром Ципко (Насилие лжи. М., 1990).]. Однако совершенно невозможно представить себе, как именно им удалось бы это сделать, учитывая реальную структуру власти, сложившуюся к моменту болезни Ленина. Подавляя демократические веяния в партии ради сохранения своей диктатуры и установив в ней командную структуру с мощной верхушкой, Ленин обеспечил контроль над всей партией, а через нее и над всем государством человеку, контролирующему центральный аппарат. И этим человеком был не кто иной, как Сталин.
* * *
Революция повлекла невиданные человеческие жертвы. Статистика столь ошеломляющая, что невольно заставляет усомниться в достоверности. Но пока никто не оспорил существующих данных, историк вынужден принимать их тем более, что они признаются как коммунистическими, так и некоммунистическими демографами. В следующей таблице приводится численность населения Советской России в границах, существовавших до 1926 года (в миллионах человек):
Конец 1917 147,6 Начало 1920 140,6 Начало 1921 136,8 Начало 1922 134,919Падение численности — 12,7 миллиона — было вызвано военными потерями и эпидемиями (приблизительно по 2 млн), эмиграцией (около 2 млн) и голодом (более 5 млн).
Но это не вполне отражает реальную картину, ведь очевидно, что при нормальных условиях численность населения не просто не сократилась бы, но и возросла. Расчеты русских статистиков показывают, что к 1922 году население могло составить более 160 миллионов, а не указанные 135. Учитывая это и установленную численность эмиграции, жертвы русской революции — непосредственные и вызванные падением рождаемости — превышают 23 миллиона, [Согласно С.Г.Струмилину (Проблемы экономики и труда. М., 1957. С. 39), потери до конца 1920 года — то есть до голода 1921 года — составили 21 миллион. Если прибавить к этому жертв голода, то получим цифру 26 млн. Ю.А.Поляков (Советская страна после окончания гражданской войны. М., 1986. С. 128) говорит о 25 миллионах. Американский демограф Фрэнк Лоример исчисляет потери в период с 1914 по 1926 год в 26 миллионов (исключая эмиграцию). Лоример, однако, преувеличил потери в Первой мировой войне (2 млн вместо 1,1) (Lorimer F. In: The Population of the Soviet Union. Geneva, 1946. P. 41).] что в два с половиной раза больше потерь всех стран — участниц Первой мировой войны, вместе взятых, и почти достигает суммарного населения всех скандинавских стран с Финляндией, Бельгией и Голландией в придачу. Больнее всего потери отразились на возрастной группе от 16 до 49 лет, в особенности среди мужского населения, которое сократилось на 29 процентов к августу 1920-го — то есть еще до того, как голод сделал свое дело20.
Можно ли и следует ли взирать на это неслыханное бедствие равнодушно? Престиж науки в наши дни столь высок, что современный ученый усваивает вместе с научными методами исследования профессиональную привычку моральной и эмоциональной отрешенности, способность относиться ко всем явлениям как к «естественным» и, значит, этически нейтральным. Ему претит присутствие человеческого фактора в исторических событиях, поскольку свободная воля, будучи непредсказуемой, ускользает от научного анализа. Историческая «неизбежность» воспринимается им, как в естественных науках воспринимается закон природы. Но давно известно, что объект естественных наук и объект истории не одно и то же. От врача естественно ожидать, что он спокойно и хладнокровно установит диагноз и пропишет лечение. И экономист, анализирующий финансовое состояние компании, и инженер, высчитывающий прочность конструкции, и разведчик, оценивающий возможности врага, безусловно должны оставаться эмоционально безучастны. Это понятно, потому что от объективности их расчетов зависит правильность принимаемых решений и дальнейший ход событий. Но историку приходится иметь дело с уже свершившимися событиями, и беспристрастность не облегчает понимания. Более того, она только отдаляет от понимания, ибо как можно холодным умом осмыслить события, которые совершались в пылу страстей? «Historiam puto scribendam esse et cum ira et cum studio» — «Я полагаю, что историю следует писать с гневом и воодушевлением», — говорил немецкий историк XIX столетия. А учивший умеренности во всем Аристотель говорил, что есть ситуации, когда «невозмутимость» неприемлема. «Только глупца может не возмущать то, что должно возмущать»21. Разумеется, сбор существенных сведений должен проводиться хладнокровно, без гнева и пристрастия: и в этом историческая наука не отличается от естественных. Но это лишь начало работы историка, ибо отбор данных — то есть определение их «существенности» — требует оценки, а оценка покоится на системе ценностей. Факты сами по себе еще ничего не значат, ибо не несут в себе ни принципов отбора, ни шкалы оценки, и, чтобы уяснить, осмыслить прошлое, историк должен придерживаться тех или иных принципов. И такие принципы всегда присутствуют, даже самый «научный» подход, сознательно или бессознательно, содержит в себе заранее готовую концепцию. Как правило, она покоится на экономическом детерминизме, ибо экономические и социальные сведения наиболее пригодны для статистических выкладок, создающих иллюзию беспристрастности. Нежелание давать оценку историческим событиям имеет и моральную подоплеку, а именно — молчаливое признание естественности, а значит, справедливости всего происходящего, доходящее до апологии победителей.
* * *
Глядя с высоты его собственных великих целей, отчетливо видишь, что коммунистический режим потерпел крупнейшее фиаско: он преуспел только в одном — сумел удержать власть. Но поскольку для большевиков власть была не самоцелью, а лишь средством достижения цели, одно лишь сохранение власти нельзя счесть за успех эксперимента. Большевики не делали секретов из своих задач и намерений: свержение всех режимов, основанных на частной собственности, и создание на их месте всемирного союза социалистических обществ. Однако за пределы бывшей Российской империи их режим смог перешагнуть только после Второй мировой войны, когда Советская Армия вторглась в пустое политическое пространство, образовавшееся в Западной Европе после падения Германии, китайские коммунисты взяли в свои руки власть в стране после ухода Японии, в некоторых недавних колониях с помощью Москвы установились коммунистические диктатуры.
Едва выяснилось, что экспортировать коммунизм не удается, большевики в 20-е годы занялись построением социалистического общества у себя дома. Но и это предприятие потерпело крах. Ленин надеялся сочетанием экспроприации и террора в течение нескольких месяцев превратить страну в ведущую державу — вместо того он лишь разрушил экономику, доставшуюся ему в наследство от прежнего режима. Он надеялся, что Коммунистическая партия сплоченным авангардом поведет народ к победе, однако политические разногласия, которые он подавил в стране в целом, всплыли на поверхность в самой партии. Когда рабочие отвернулись от коммунистов, а крестьяне взбунтовались, большевикам, чтобы удержаться у власти, потребовалось применить полицейские меры. Свободу действий режима все более сковывала раздутая и коррумпированная бюрократия. Добровольный союз народов обернулся империей порабощения. Ленинские выступления и писания последних двух лет открывают, помимо удивительной скудости конструктивной мысли, едва сдерживаемый гнев по поводу своего политического и экономического бессилия — даже террором не удалось справиться с привычками, укоренившимися в народе с древности. Муссолини, начало карьеры которого весьма напоминало восхождение Ленина и который, уже будучи фашистским диктатором, с симпатией взирал на коммунистический режим, еще в июле 1920 года пришел к выводу, что большевизм, «огромный, ужасный эксперимент», потерпел поражение: «Ленин художник, который работает с людьми, как другие художники работают с мрамором или металлом. Но человек тверже гранита и менее податлив, чем сталь. Шедевра не получилось. Художник потерпел фиаско. Задача оказалась выше его сил»22.
Потребовалось семьдесят лет и десятки миллионов жертв, чтобы преемник Ленина и Сталина на посту главы государства Борис Ельцин в обращении к Конгрессу Соединенных Штатов мог наконец признать: «Мир может вздохнуть с облегчением. Идол коммунизма, повсюду распространявший социальную вражду и беспримерную жестокость, внушавший страх человечеству, рухнул. Он рухнул, чтобы никогда не восстать»23.
Поражение было неизбежно и коренилось в самих предпосылках коммунистического режима. Большевизм был самой дерзновенной в истории попыткой подчинить всю жизнь страны единому плану рационализации всех и вся. Накопленную человечеством за тысячелетия мудрость предполагалось вымести, как ненужный мусор. В этом смысле это был уникальный пример применения естественных наук к делам человеческим, и оно проводилось со рвением, присущим той породе интеллигенции, которая сопротивление своим идеям воспринимает как доказательство их верности. Коммунизм не достиг успеха, потому что исходил из ошибочного учения века Просвещения, быть может, самой вредоносной идеи в истории человеческой мысли, о том, что человек есть просто некий материальный состав, лишенный души и собственных мыслей, и как таковой есть пассивный продукт податливого к воздействию окружения. Это учение позволило спроецировать личные человеческие проблемы на общество и решать их на этой широкой арене, а не в себе самих. Но коммунистический эксперимент еще раз доказал, что человек не бездушный объект, а существо, наделенное собственными желаниями и волей, подчиняющееся не механическим, а скорее биологическим законам. И сколько ни вбивать в него те или иные умозрительные теории, он все равно не сможет передать их своим детям, которые являются на свет с незамутненным сознанием и задают вопросы, которые должны были быть решены раз и навсегда. Чтобы продемонстрировать справедливость этой общепризнанной истины, потребовалось принести в жертву десятки миллионов жизней, привести в упадок великую нацию и обречь на бесчисленные страдания тех, кому посчастливилось выжить.
Как же объяснить, что расползавшийся по всем швам режим смог продержаться столько лет? Можно было бы предположить, что, невзирая на нашу оценку, он пользовался поддержкой народа. Однако, объясняя долгожительство правительства, не опирающегося на гласный мандат своих граждан, его популярностью, следует применить тот же подход и ко всякому другому авторитарному режиму, включая царизм — существование которого измеряется не десятилетиями, а веками, — и попытаться ответить на естественный вопрос, почему же царизм, столь популярный, если следовать этой логике, пал в течение нескольких дней.
* * *
Русская революция не только продемонстрировала неприложимость естественно-научных методов к делам человеческим, но и поставила глубочайшие нравственные вопросы о природе политики, а именно: о праве правительства пытаться переделать людей и перекроить общество без их на то соизволения и даже вопреки их воле, о правомочности коммунистического лозунга: «Мы приведем человечество к счастью силой!». Горький, знавший Ленина достаточно близко, сходился во взглядах с Муссолини, считавшим, что большевистский вождь обращается с людьми словно металлург с рудой24. Но это было лишь крайним выражением общего для всей радикальной интеллигенции подхода, идущего вразрез с принципом приоритета морали, а также четким выводом Канта, что человека никогда нельзя использовать только как средство достижения чужих целей, но он должен рассматриваться и как цель сам по себе. Глядя с этой точки зрения, подвиги большевиков, их готовность пожертвовать бесчисленными жизнями во имя своих целей есть чудовищное нарушение этических норм и противоречие здравому смыслу. Они не хотели признавать, что средства — благополучие и даже жизни людей — вполне реальны, тогда как цели всегда туманны и часто недостижимы. Моральный принцип, применимый в данном случае, был сформулирован Карлом Поппером: «Всякий имеет право жертвовать собой ради дела, по его представлениям заслуживающего того. Но никто не имеет права жертвовать другими или побуждать других жертвовать собой ради идеала»25.
Ипполит Тэн из своего монументального исследования Французской революции извлек урок, который он сам назвал «детским», а именно, что «человеческое общество, в особенности общество современное, вещь необъятная и сложная»26. Большой соблазн дополнить это наблюдение естественным выводом: поскольку современное общество такое «необъятное и сложное» и поэтому не поддается пониманию, нелепо и невозможно навязывать ему схему поведения, не говоря уже о попытке переделать его. Чего нельзя понять, тем нельзя и управлять. Трагическая история русской революции — такой, какой она в действительности была, а не такой, какой представлялась в воображении той части интеллектуалов, которая видела в ней благородную попытку возвысить человечество, — учит тому, что политическая власть не должна использоваться в идеологических целях. Лучше всего оставить людей такими, какие они есть. Говоря словами, которые Оскар Уайльд вложил в уста китайского мудреца, нельзя управлять человеческим родом, можно лишь оставить его в покое.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава первая
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 49. С. 15.
2 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. М., 1920. С. 105.
3 Цит. по: Суханов Н.//Новая жизнь. 1918.№ 113(328). 11 июня.С. 1.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 233—234.
5 Какурин Н. Как сражалась революция. М., 1925. Т. 2. С. 135; The Trotsky Papers. 1917-1922/Ed. by J.M.Meijer. Vol. 1-2.The Hague, 1964-1971. Vol. 1. P. 241.
6 Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. Таллин, 1935. Т. 2. Кн. 5. С. 65.
7 Stone N. The Eastern Front, 1914-1917. New York, 1975. P. 21; Пайпс P. Русская революция. М., 1994. Ч. 1. С. 337—342.
8 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 133.
9 Там же. С. 132.
10 Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Белград, 1931. Т. 3. Ч. 1. С. 69-70.
11 Churchill W. The World Crisis: The Aftermath. London, 1929. P. 232-233.
12 Mawdsley E. The Russian Civil War. Boston, 1987. P. 181.
13 Chamberlin W.H. The Russian Revolution. New York, 1935. Vol. 2. P. 275.
14 Коваленко Д.А. Оборонная промышленность Советской России в 1918-1920 гг. М., 1970. С. 27-28.
15 Вольпе А. В кн.: Гражданская война. 1918—1921 / Под ред. А.С. Бубнова, С.С.Каменева, Р.П.Эйденмана. М., 1928. Т. 2. С. 390—392.
16 Там же. С. 373. См. также: Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 1. С. 147-148; Тухачевский М.Н. Избр. соч. М., 1964. Т. 2. С. 26-27.
17 Коваленко Д.А. Оборонная промышленность. С. 117. (Цитата из: Маниковский А.А. Военное снабжение русской армии в мировую войну. М., 1930. Т. 2. С. 332-333, 335.)
18 Тухачевский М.Н. Избр. соч. Т. 2. С. 27.
19 Ларин Ю. // Экономическая жизнь. 1920. № 14. 22 янв. С. 1; Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 12.
20 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 13.
21 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 1—5. Париж—Берлин, 1921— 1926. Т. 3. С. 129.
22 Русская мысль. София, 1921. Май—июль. С. 214.
23 Казанович Б. // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 7. С. 192.
24 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. С. 198—199; Воспоминания генерала А.С.Лукомского. Берлин, 1922. Т. 1. С. 286.
25 Воспоминания генерала А.С.Лукомского. Т. 1. С. 289.
26 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 112—141.
27 Воспоминания генерала А.С.Лукомского. Т. 1. С. 287.
28 БСЭ. 3-е изд. М., 1972. Т. 8. С. 451-452.
29 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. С. 61.
30 Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 187—188.
31 Соколов ЮН. Правление генерала Деникина. София, 1921. С. 33—39.
32 Grondijs L.-H. La Guerre en Russie et en Siberie. Paris, 1922. P. 227.
33 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 1. С. 117.
34 Казанович Б. // Архив русской революции. Т. 7. С. 196, 198.
35 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. С. 192.
36 Воспоминания генерала А.С.Лукомского. Т. 1. С. 289; Казанович Б. // Архив русской революции. Т. 7. С. 185.
37 Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Т. 5. Кн. 10. С. 32.
38 Какурин Н. Стратегический очерк гражданской войны. М.—Л., 1926. С. 31-32.
39 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. С. 229.
40 Stewart G. The White Armies of Russia. New York, 1933. P. 40.
41 Khadzhiev Kh. Velikii Boiar. Belgrade, 1929. P. 369, 396.
42 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. С. 300—301.
43 О нем см.: Lehovich D.V. White against Red: The Life of General Anton Denikin. New York, 1974.
44 Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. С. 81.
45 Кин Д. Деникинщина. Л., 1926. С. 52.
46 См. его кн.: Путь русского офицера. Нью-Йорк, 1953.
47 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 302—314.
48 Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири (1917-1918). М.-Л., 1926. С. 143-144.
49 Там же. С. 76.
50 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 212—231.
51 Лелевич Г. В дни самарской учредилки. М., 1921. С. 6.
52 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 306—314.
53 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 1. Ч. 1. С. 132.
54 Лелевич Г. В дни самарской учредилки. С. 9—10.
55 Вечерняя Заря. 1918. № 151. 25 июля. Цит. по: Пионтковский С. Гражданская война в России. М., 1925. С. 219—220.
56 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. М., 1923. С. 145; Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. Ч. 2. С. 170.
57 Аргунов А. Между двумя большевизмами. [Париж, 1919]. С. 11; Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 161—162.
58 Вацетис И.И. // Воля России. 1928. № 8-9. С. 161.
59 Гак А.М. и др. // История СССР. 1960. № 1. С. 137-143.
60 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1.4. 1. С. 143—144; Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 60—62.
61 Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1. С. 137; Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 175—187.
62 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 285—289.
63 Erickson J.In: Revolutionary Russia/ Ed.by R.Pipes.Cambridge, Mass., 1968. P. 224-256.
64 Гурко В.И. //Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. 15. С. 8—9.
65 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. Гл. 6.
66 Мякотин В. Из недалекого прошлого // На чужой стороне. Берлин, 1923. Кн. 2. С. 181.
67 Павлу Б. //Дневник. 1918. 18 сент. Цит. по: Аргунов А.А. Между двумя большевизмами. С. 11—12.
68 Полностью протоколы опубликованы в: Русский исторический архив. Прага, 1929. Т. 1. С. 57—280. См. также: Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 214—255; Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. Ч. 1. С. 207—255; Аргунов А.А. Между двумя большевизмами. С. 16—20.
69 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 218—219.
70 Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. С. 70.
71 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1.4. 1. С. 259.
72 Ward J. With the "Die-Hards" in Siberia. London, 1920. P. 114.
73 Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. 12. С. 189—193.
74 Churchill W. The World Crisis. P. 247.
75 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. New York, 1963. P. 99-103; Graves W.S. America's Siberian Adventure, 1918—1920. New York, 1931. P. 116.
76 Будберг А. Дневник белогвардейца. Л., 1929. С. 108.
77 Болдырев В. Г. Директория, Колчак, интервенты. Новониколаевск, 1925. С. 74.
78 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 308.
79 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. Ч. 1. С. 263.
80 Болдырев В. Г. Директория, Колчак, интервенты. С. 54.
81 Ward J. With the "Die-Hards" in Siberia. P. 112.
82 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 65.
83 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1.4. 1. С. 311.
84 Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1. С. 231—233; Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Кн. 9. С. 25, 57.
85 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. С. 154—156.
86 О нем в 1917 г. см.: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 341—343.
87 Милюков П.Н. // Последние новости. 1925. 4 нояб. С. 3; Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Кн. 6. С. 75.
88 Воспоминания генерала А.С.Лукомского. Т. 2. С. 116.
89 Какурин Н. Стратегический очерк гражданской войны. С. 23—24.
90 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. С. 149.
91 Там же. С. 179.
92 Там же. С. 210; Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Кн. 11. С. 41.
93 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 344—348.
94 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. С. 180.
95 Там же. Т. 3. С. 182.
96 Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. С. 30—31, 81—82.
97 Тамже.С.81.
98 Там же. С. 83.
99 Там же. С. 44, 85-86.
100 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. Берлин, 1932. С. 291.
101 Соколов К.Н. Правление генерала Деникина. С. 41, 43.
102 Там же. С. 65.
103 Там же. С. 66.
104 The Testimony of Kolchak and Other Siberian Materials / Ed. by E.Vameck, H.H.Fisher. Stanford, 1935. P. 157.
105 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 108.
106 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. С. 284. См. также: Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Кн. 9. С. 23.
107 Современные записки. 1931. № 45. С. 348—352.
108 Болдырев В.Г. Директория, Колчак, интервенты. С. 93—94.
109 Там же. С. 93.
110 Зензинов В. Государственный переворот адмирала Колчака. Париж, 1919. С. 192.
111 The Testimony of Kolchak. P. 168—169.
112 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1.4. 1. С. 307; The Testimony of Kolchak. P. 170.
113 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 112.
114 Janin M. // Le Monde Slave. 1924. December. P. 238; Rouquerol J. L'Aventure de l'Amiral Koltchak. Paris, 1929. P. 44. См. также: Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 113.
115 The Slavonic Review. Vol. 3. 1924—25. P. 724; Ullman R.H. Intervention and the War. Princeton, N.J., 1961. P. 280-281.
116 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 113.
117 Зензинов В. Государственный переворот адмирала Колчака. С. 9.
118 Болдырев ВТ. Директория, Колчак, интервенты. С. 111—113.
119 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. Кн. 1. С. 308.
120 Аргунов А.А. Между двумя большевизмами. С. 39.
121 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 335—337.
122 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. Ч. 1. С. 309.
123 Ward J. With the "Die-Hards" in Siberia. P. 132-138.
124 Линдгрен М. Неведомая страница. Чита, 1921.
125 Пионтковский С. Гражданская война в России. С. 300—301.
126 Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Т. 3. С. 36—41.
127 Brovkin V.N. The Mensheviks after October. Ithaca, 1987. P. 292—293.
128 Партия социалистов-революционеров. Девятый Совет партии и его резолюции. Париж, 1920. С. 15.
129 Известия. 1918. № 186. 30 авг. С. 2.
130 Вардин И. (Мгеладзе) О мелкобуржуазной контрреволюции и реставрации капитализма. М., 1922. С. 39—40. Цит. по: Zand H. Z dziejow wojny domowej w Rosji. Warszawa, 1973. S. 116.
131 Вечерние известия Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов. 1918. № 105. 22 нояб. Цит. по: Ленин В.И. Соч. 3-е изд. Т. 24. С. 760.
132 Цит. по: Ascher A. The Mensheviks and the Russian Revolution. Ithaca, 1976. P. 118.
133 Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917— 1918 гг.). М., 1968. С. 311-312.
134 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 237-238; Известия. 1918. № 263. 1 дек. С. 2.
135 Спирин Л.М. Классы и партии... С. 300. Об этих переговорах см.: Буревой К. Распад. 1918—1922. М., 1923; Вольский В. К прекращению войны внутри демократии. М., 1919.
136 Zand H. Z dziejow wojny domowej... S. 105. См. также: Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Кн. 9. С. 96.
137 Zand H. Z dziejow wojny domowej... S. 106.
138 Le Parti Socialiste Revolutronnaire et la situation actuelle en Russie / Ed. par E.Roubanovitch, V.Soukhomline, V.Zenzinov. Paris, 1919. P. 12— 13, 15.
139 Zand H. Z dziejow wojny domowej... S. 109.
140 Известия. 1919. № 45. 27 февр. С. 4.
141 Партия социалистов-революционеров. Девятый Совет партии. С. 15.
142 Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Т. 3. С. 219—220. Допрос Колчака / Под ред. К.А.Попова. Л., 1925. С. 222.
143 The Testimony of Kolchak.
144 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 122-123.
145 Rouquerol J. L'aventure de l'Amiral Koltchak. P. 53—54; Спирин A.M. Разгром армии Колчака. М., 1957. С. 23; Graved W.S. America's Siberian Adventure. P. 124.
146 Армия и народ. Уфа, 1918. 23 нояб. Цит. по: Chamberlin W.H. The Russian Revolution. Vol. 2. P. 182.
147 Graves W.S. America's Siberian Adventure. P. 108. См. также: Stewart G. The White Armies of Russia. P. 268—269.
148 Graves W.S. America's Siberian Adventure. P. 7—8.
149 Ibid. P. 55-56, 101.
150 Ibid. P. 175, 186.
151 Ibid. P. 165.
152 Пионтковский С. Гражданская война в России. С. 299.
153 The Testimony of Kolchak. P. 187.
154 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. С. 331—332.
155 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. Princeton, 1968. P. 169.
156 Documents on British Foreign Policy. 1919—1939/ Ed by E.L.Woodward, R.Butler. London, 1949. First Series. Vol. 3 P. 362-364.
157 Пионтковский С. Гражданская война в России. С. 299.
158 См. его автобиографические заметки в кн.: The Testimony of Kolchak. P. 1-37.
159 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 43.
160 The Testimony of Kolchak. P. 38, 162.
161 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 111.
162 Ward J. With the "Die-Hards" in Siberia. P. 111.
163 Будберг А. //Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. 15, С. 331—332.
164 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 367.
Глава вторая
1 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917-1920 гг. М., 1988. С. 69-70.
2 Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Париж, 1937. Кн. 6, 7.
3 Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 111—113.
4 Троцкий Л. Как вооружалась революция. М., 1923. Т. 1. С. 151.
5 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты. С. 110—111.
6 Benvenuti F. The Bolsheviks and the Red Army. 1918—1922. Cambridge, 1988. P. 65-87.
7 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты. С. 25—27.
8 Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Кн. 1. С. 84.
9 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты. С. 96, 98, 100—106.
10 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 326—334.
11 Кораблев Ю.И. В кн.: Реввоенсовет Республики. М., 1991. С. 36.
12 Правда. 1918. № 188.4 сент. С. 3.
13 Шатагин Н.И. Организация и строительство Советской Армии. М., 1954. С. 96-97.
14 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты... С. 199.
15 Erickson J.In: Revolutionary Russia./ Ed.by R.Pipes.Cambridge, Mass., 1968. P. 245.
16 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты. С. 175—178.
17 Там же. С. 210.
18 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 715.
19 Deutscher I. The Prophet Armed. New York—London, 1954. P. 446.
20 Волкогонов Д. Троцкий. М., 1992. Т. 1. С. 254.
21 Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 143—150.
22 Trotsky L. How the Revolution Armed. London, 1979. Vol. 2.
23 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 141.
24 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 33.
25 Там же. С. 33-34.
26 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 272-273.
27 Там же. С. 80-81.
28 Липицкий СВ. В кн.: Реввоенсовет Республики. С. 373.
29 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 184—185.
30 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. Л., 1926.
31 Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне. М.—Л., 1933. Т. 4. С. 133.
32 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии... С. 30—31. Ср.: Figes О. // Past and Present. 1990. November. № 129. P. 200, где приводятся несколько иные цифры.
33 Figes О. // Ibid. P. 204-205.
34 Директивы командования фронтов Красной Армии. М., 1971. Т. 2. С. 400.
35 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии. С. 33.
36 Селищев A.M. Язык революционной эпохи. 2-е изд. М., 1928, С. 211.
37 Сталин И.В. Соч. М., 1951. Т. 4. С. 197-224.
38 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 343.
39 Там же.Т. 1.С.359.
40 Там же. С. 651.
41 Приказ Троцкого от 28 декабря 1918 г. См.: Архив русской революции. Берлин, 1926. Т. 18. С. 270-271.
42 Троцкий Л. Соч. М.-Л., 1926. Т. 17. Ч. 1. С. 509-510.
43 Троцкий Л. Как вооружалась революция. Т. 1. С. 235.
44 Архив русской революции. Т. 18. С. 272.
45 Кораблев Ю.И. В кн.: Реввоенсовет Республики. С. 48—49.
46 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 116—117. Ср.: Еременко В. // Литературная Россия. 1990. № 50.14 дек. С. 17.
47 Архив русской революции. Т. 18. С. 212—211.
48 Волкогонов Д. Троцкий. Т. 1. С. 295.
49 Mawdsley E. The Russian Civil War. Boston, 1987. P. 181.
50 Исторический архив. 1958. № 1. С. 55.
51 Щербак В.М. Большевистская агитация и пропаганда. 1918—1919. М., 1969.
52 Lloyd George D. The Truth about the Peace Treaties. London, 1938. Vol. 1. P. 316.
53 Idid. P. 331.
54 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. Princeton, N.J., 1966. P. 4.
55 Речь 8 ноября 1919 г. См.: The Times. London, 1919. November 10. P. 9.
56 Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: 1919, Russia. Washington, D.C., 1937. P. 15—18.
57 Lloyd George D. The Truth about the Peace Treaties. Vol. 1. P. 353—354.
58 Официальный советский перевод см.: The Nation. 1920. January 17. P. 88-89.
59 История дипломатии / Под ред. В.П.Потемкина. М—Л., 1945. Т. 3. С. 61.
60 Churchill W. The World Crisis: The Aftermath. London, 1929. P. 173.
61 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 2. С. 88—90.
62 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 119.
63 Ibid.
64 Lloyd George D. The Truth about the Peace Treaties. Vol. 1. P. 331.
65 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 132; Churchill W. The World Crisis. P. 172.
66 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 152—153.
67 Ibid. P. 167-177.
68 Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations P. 77—80.
69 Цит. по: Farnsworth B. William C. Bullitt and the Soviet Union. Bloomington, Ind., 1967. P. 42.
70 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 236
71 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 312—314, 342—343.
72 Gilbert M. Winston S. Churchill. Boston, 1975. Vol. 4. P. 318.
73 Lloyd George D. The Truth about the Peace Treaties. Vol. 1. P. 327.
74 Gilbert M. Winston S. Churchill. Vol. 4. P. 305-306.
75 Churchill W. The World Crisis. P. 259.
76 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 11.
77 Gilbert M. Winston S. Churchill. Vol. 4. P. 426-427.
78 Ibid. P. 314.
79 Ibid. P. 277.
80 Ullman R. H. Britain and the Russian Civil War. P. 13— 15.
81 Lloyd George D. The Truth about the Peace Treaties. Vol. 1. P. 382—383.
82 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 200—203.
83 Ibid. P. 46.
84 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 165; Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 204.
85 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 46.
86 Documents on British Foreign Policy. 1919—1939 / Ed. By E.L.Woodward, R.Butler. London, 1949. First Series. Vol. 3. P. 369-370.
87 Hogenhuis-Seliverstoff A. Les Relations Franco-Sovietiques. 1917—1924. Paris, 1981. P. 109-110.
88 Какурин Н. Как сражалась революция. М.—Л., 1925. Т. 2. С. 135.
89 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 15.
90 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 88.
91 Гуковский А.И. Французская интервенция на юге России. 1918—1919. М.-Л., 1928. С. 122-123.
92 Brinkley G. The Volunteer Army and Allied Intervention in South Russia. 1917-1921. Notre Dame, 1966. P. 134.
93 Директивы главного командования Красной Армии. М., 1969. С. 307.
94 Stewart G. The White Armies of Russia. New York, 1933. P. 171-172.
95 Brinkley G. The Volunteer Army and Allied Intervention... P. 134.
96 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 124—125.
97 Pares В. My Russian Memoirs. London, 1931. P. 525.
98 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 145; Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 136.
99 Luckett R. The White Generals. London, 1971. P. 262-263.
100 Graves W.S. America's Siberian Adventure. New York, 1931. P. 200—201.
101 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 148—149.
102 Будберг А. Дневник белогвардейца. Л., 1929. С. 175.
103 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 346.
104 Исторический архив. 1958. № 1. С. 43.
105 Директивы главного командования... С. 561.
106 Спирин A.M. Разгром армии Колчака. М., 1957. С. 247.
107 Исторический архив. 1958. № 2. С. 37—38.
108 Спирин A.M. Разгром армии Колчака. С. 114, 118.
109 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 271.
110 Спирин A.M. Разгром армии Колчака. С. 114, 118.
111 Директивы главного командования... С. 577.
112 Stewart G. The White Armies of Russia. P. 273.
113 Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 389—390.
114 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии... С. 13.
115 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 317—319.
116 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 161.
117 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 143—144; Churchill W. The World Crisis. P. 246.
118 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 362—364; Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 169.
119 Luckett R. The White Generals. P. 273.
120 Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations... P. 337— 338; Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 291-292.
121 Department of State. Papers Relating to the Foreign Relations... P. 337.
122 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 72.
123 Там же. С. 72—73; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 326.
124 Волкогонов Д. Троцкий. Т. 1. С. 255.
125 Там же. С. 256.
126 Исторический архив. 1958. № 1. С. 43.
127 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 73.
128 Белое дело. 1928. Т. 5. С. 119.
129 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 79—80.
130 Егоров А.И. Разгром Деникина. 1919. М., 1931. С. 91.
131 Собрание узаконений и распоряжений, изданное Особым Совещанием при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России. 1919. № 18. 27 авг. Декрет № 96. С. 246-247.
132 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. С. 210—215; Chamberlin W.H. The Russian Revolution. Vol. 2. P. 254-255.
133 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. С. 201, 211.
134 Директивы командования фронтов... С. 241—243, 252—254, 257—258; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 306, 341.
135 The Memoirs of General Wrangel. London, 1929. P. 84—88; Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 107.
136 Директивы главного командования... С. 557.
137 Директивы командования фронтов... Т. 2. С. 710.
138 Там же. Т. 2. С. 712.
139 Churchill W. The World Crisis. P. 245.
140 Спирин А.М. Разгром армии Колчака. С. 221—239.
141 Там же. С. 239.
142 Там же. С. 252.
143 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 108.
144 Пионтковский С. Гражданская война в России. С. 515—516.
145 The Memoirs of General Wrangel. P. 89.
146 Там же.
147 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 117—118.
148 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 242—245, 306.
149 Директивы командования фронтов... Т. 2. С. 311.
150 Крицкий М. //Архив русской революции. Т. 18. С. 277.
151 The Trotsky Papers. Vol. I. P. 663; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 172.
152 Раковский Г.Н. В стане белых. Константинополь, 1920. С. 25.
153 Директивы командования фронтов... Т. 2. С. 337.
154 The Memoirs of General Wrangel. P. 87.
155 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 306.
156 Stewart G. The White Armies of Russia. P. 182.
157 Штиф Н.И. Погромы на Украине. Берлин, 1922. С. 8—9.
158 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 308.
159 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 4. С. 245.
160 Chamberlin W.H. Russian Revolution. Vol. 2. P. 301. См. также: Dziewanowski M.K. Joseph Pilsudski: A European Federalist. 1918—1922. Stanford, 1969. P. 193.
161 Wandycz P.S. Soviet—Polish Relations. 1917—1921. Cambridge, Mass., 1969. P. 133; Kutrzeba T. Wyprawa kijowska 1920 roku. Warszawa, 1937. P. 24; Brinkley G. The Volunteer Army and Allied Intervention. P. 205.
162 Kutrzeba T. Wyprawa kijowska 1920 roku. P. 24—25.
163 Dziewanowski M.K. Joseph Pilsudski... P. 184—857; Karnicki // Torpeda. 1936. October 4, цит. по: Komarnicki T. Rebirth of the Polish Republic. London, 1957. P. 468-469.
164 Polska Akademia Nauk. Dokumenty i materialy do historii stosunkow Polsko-Radzieckich. Warszawa, 1961. Vol. 2. P. 424—425.
165 Ibid. Vol. 2. P. 388.
166 Wandycz P.S. Soviet-Polish Relations. P. 133—134.
167 Marchlewski J. Pisma Wybrane. Warszawa, 1956. Vol. 2. P. 755. См. также: The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 355.
168 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 175.
169 Wandycz P.S. Soviet-Polish Relations... P. 128-129.
170 Ibid. P. 128.
171 Polska Akademia Nauk. Dokumenty i materialy. Vol. 2. P. 313; Wandycz P. / / Slavic Review. September 1965. Vol. 24. № 3. P. 425—429; Fischer L. The Soviets in World Affairs. London, 1930. Vol. I. P. 239.
172 Wandycz P.S. Soviet-Polish Relations... P. 138.
173 Polska Akademia Nauk. Dokumenty i materialy. Vol. 2. P. 408—413,439.
174 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 206.
175 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 178—179; Kutrzeba Т. Wyprawa kijowska 1920 roku. P. 27.
176 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 758—759; Polska Akademia Nauk. Dokumenty i materialy. Vol. 2. P. 477.
177 Kutrzeba T. Wyprawa kijowska 1920 roku. P. 32.
178 Ibid. P. 27.
179 Деникин А.И. Польша и Добровольческая Армия. Париж, 1926; фон-Валь Е.Г. Как Пилсудский погубил Деникина. Таллин, 1938. Польские контраргументы см.: Komarnicki T. Rebirth of the Polish Republic. P. 478.
180 Juzwenko A. In: Z badan na wplywem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich / Wyd. H.Zielinski. Wroclaw, 1968. P. 85.
181 Ibid. P. 84-85.
182 The Memoirs of Marshal Mannerheim. London, 1953. P. 221; Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 197.
183 Красный архив. 1929. № 2(33). С. 128.
184 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 429.
185 Cough H. Soldiering On. New York, n.d. P. 191.
186 Ibid. P. 190-191.
187 Smith C.J. Finland and the Russian Revolution. Atlanta, 1958. P. 168; Churchill W. The World Crisis. P. 266-267.
188 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. Vol. 2. P. 278.
189 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 198.
190 Красный архив. 1929. № 2(33). С. 129, 140-142; Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 430.
191 Ibid. P. 133.
192 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 394—395; Красный архив. 1929. № 2(33). С. 131; Smith C.J. Finland and the Russian Revolution. P. 151-152.
193 Красный архив. 1929. № 2(33). С. 138, 144.
194 Там же. С. 136—137; The Memoirs of Marshall Mannerheim. P. 221.
195 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 198.
196 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 266-267.
197 Ibid. P. 274.
198 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 553—554.
199 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 281.
200 Ibid. P. 279-280.
201 См. о нем в его мемуарах: Русская революция. Записки в трех книгах. Т. 1—3. Париж, 1929—1937; Аршинов П. История махновского движения. 1918—1921 гг. Берлин, 1923; Footman D. // Soviet Affairs. New York, 1959. №2. P. 77-127.
202 Махно Н.И. Русская революция. Т. 2. С. 119—135.
203 Luckett R. The White Generals. P. 326.
204 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 130—134, 234—235; Крицкий М. //Архив русской революции. Т. 18. С. 269.
205 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 287—288.
206 Там же. Т. 2. С. 281-282.
207 Luckett R. The White Generals. P. 298.
208 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 460—464.
209 Ibid. Vol. 3. P. 464.
210 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 209.
211 Ibid. P. 366.
212 Documents on British Foreign Policy. Vol. 3. P. 525.
213 Churchill W. The World Crisis. P. 275.
214 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 211-212.
215 Brinkley G. The Volunteer Army and Allied Intervention... P. 216—219.
216 Churchill W. The World Crisis. P. 240-241.
217 Ibid. P. 242.
218 Ibid. P. 244; Kennan G.F. Russia and the West under Lenin and Stalin. Boston—Toronto, 1960—1961. P. 90.
219 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 212.
220 Кораблев Ю.И. В кн.: Реввоенсовет Республики. М., 1991. С. 51.
221 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 27501.
222 Пайпс Р. Русская революция. 4.1. С. 199—201, 208.
223 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 145.
224 Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР. М.—Л., 1929. С. 58, 49—50.
225 Бикерман И.М. В кн.: Россия и евреи. Берлин, 1924. Сб. 1. С. 22—23.
226 Шехтман И. Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. Берлин, 1932. С. 81.
227 Бикерман И.М. В кн.: Россия и евреи. Сб. 1. С. 62—63.
228 Levin N. The Jews in the Soviet Union since 1917. New York—London, 1988. Vol. 1. P. 49.
229 Левин И.Ю. В кн.: Россия и евреи. Сб. L С. 131.
230 Зив Г.А. Троцкий: характеристика. Нью-Йорк, 1921. С. 46.
231 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 295.
232 NedavaJ. Trotsky and the Jews. Philadelphia, 1972. P. 110.
233 Knei-Paz B. The Social and Political Thought of Leon Trotsky. Oxford, 1978. P. 546, 547.
234 Figes O. // Past and Present. November 1990. № 129. P. 196.
235 The Trotsky Papers. Vol. 1; Trotsky L. How the Revolution Armed. Vol. 2.
236 РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 3. Д. 2.
237 См. ниже, с. 136.
238 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 54; Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 145.
239 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 54—55.
240 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т.5. С. 146.
241 Там же. С. 145.
242 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 65—67.
243 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 150.
244 Kenez P. // The Wiener Library Bulletin. New Series. 1977. Vol. 30. № 41/ 42. P. 7.
245 Бикерман И.М. В кн.: Россия и евреи. Сб. 1. С. 61.
246 Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине 1917—1918 гг. Берлин, 1923.
247 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 129.
248 Там же. С. 295.
249 Heifetz E. The Slaughter of the Jews in the Ukraine in 1919. New York, 1921. P. 185-200; Chamberlin W.H. The Russian Revolution. Vol. 2. P. 229.
250 Heifetz E. The Slaughter of the Jews. P. 202-227.
251 Марголин А. Украина и политика Антанты. Берлин, 1921. С. 334.
252 Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. М.—Л., 1933. Т. 4. С. 153.
253 Директивы главного командования... С. 234 (телеграмма Х.Раковского от 12 мая 1919 г.).
254 Heifetz E. The Slaughter of the Jews. P. 243-248.
255 Chamberlin W.H. The Russian Revolution. Vol. 2. P. 217.
256 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 427.
257 Chamberlin W.H. The Russian Revolution. Vol. 2. P. 234.
258 Gergel N. //YTVO Annual of Jewish Social Science. 1951. Vol. 6. P. 240-241.
259 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 101.
260 Киевлянин. 1919. № 37. 8(21) окт. Цит. по: Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 368.
261 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 343— 344.
262 Geigel N. // YTVO Annual of Jewish Social Science. 1951. Vol. 6. P. 238-239.
263 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 190.
264 Kenez Р. // The Wiener Library Bulletin. New Series. 1977. Vol. 30. № 41/ 42. P. 5.
265 Штиф Н.И. Погромы на Украине. С. 76—85.
266 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 187, 303—304. Другие примеры см.: там же. С. 187—188, 304—307; Штиф Н.И. Погромы на Украине. С. 87.
267 Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 216.
268 Штиф Н.И. Погромы на Украине. С. 88—89; Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 195, 203, 291.
269 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 364.
270 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 242-243.
271 Декреты Советской власти. М., 1971. Т. 5. С. 525.
272 Штиф Н.И. Погромы на Украине. С. 7.
273 Kenez P. //The Wiener Library Bulletin. New Series. 1977. Vol. 30. № 41/ 42. P. 3.
274 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 120. Л. 6-8.
275 Gergel N. // YFVO Annual of Jewish Social Science. 1951. Vol. 6. P. 249.
276 См. ниже, гл. 5.
277 Щехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине. С. 298— 299.
278 Левин И.Ю. В кн.: Россия и евреи. Сб. 1. С. 126.
279 Settembrini D. In: Eurocommunism / Ed. by G.R.Urban. London, 1978. P. 159; Rauschning H. Hitler Speaks. London, 1939. P. 234.
280 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 98.
281 Knei-Paz В. The Social and Political Thought of Leon Trotsky. P. 546.
282 Штиф Н.И. Погромы на Украине. С. 5—6,
283 Stewart G. The White Armies of Russia. P. 294—295.
284 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 154-155.
285 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 768-771.
286 McCullagh F. A Prisoner of the Reds. London, 1921. P. 28-29.
287 Ibid. P. 32-33.
288 Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. P. 175.
289 Пионтковский С. Гражданская война в России. С. 314—315.
290 Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Белград, 1930. Т. 3. Ч. 2. С. 137.
291 Допрос Колчака / Под ред. К.А.Попова. Л., 1925. На англ. яз. см.: The Testimony of Admiral Kolchak.
292 Правда. 1920. №51.6 марта. С. 2; [Чудновский С] // Последние новости. 1925. № 1477. 17 февр. С. 2.
293 Trotsky Archive. Harvard University. bMs Russ 13. T-416.
294 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 32-33.
295 Спирин A.M. Разгром армии Колчака. С. 279.
296 Последние новости. 1925. № 1477. 17 февр. С. 2.
297 Известия. 1920. № 51(898). 6 марта. С. 2.
298 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 40—41; Директивы главного командования... С. 600; Спирин А.М. Разгром армии Колчака. С. 281—282.
299 Правда. 1919. № 151. 12 июля. С. 1; Корнатовский Н.А. Разгром контрреволюционных заговоров в Петрограде в 1918—1919 гг. Л., 1972. С. 48-50.
300 Каменев Л. // Известия. 1919. № 225(777). 9 окт. С. 2.
301 Петроградская правда. 1919. № 218. 27 сент. С. 1; Известия. 1919. № 255(777). 9 окт. С. 2.
302 Известия. 1919. № 213(763). 25 сент. С. 2; Корнатовский Н.А. Разгром контрреволюционных заговоров в Петрограде... С. 54—58.
303 Известия. 1919. № 225(777). 9 окт. С. 2.
304 Bakhmeteff Archive. Rare Book and Manuscript Library. Columbia University. Panina Papers. Pack 3. Folder 16.
305 Мельгунова-Степанова П.Е. В кн.: Памяти погибших. Париж, 1919. С. 81.
306 Из беседы с П.Е.Мельгуновой (Степановой) 6 марта 1962 г.
307 Каменев Л. // Известия. 1919. № 228(780). 12 окт. С. 3. Цит. по: Памяти погибших. С. 80.
308 Сообщение от 22 августа 1919 г. // Известия. 1919. № 228(780). 12 окт. С. 2.
309 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 308.
310 Директивы главного командования... С. 473.
311 Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 36—37., Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 517—518.
312 Шатагин Н.И. Организация и строительство Советской Армии. М., 1954. С. 132-133.
313 Агуреев К.В. Разгром белогвардейских войск Деникина. М., 1961. С. 82.
314 Родзянко А.П. Воспоминания о Северо-Западной армии. Берлин, 1921. С. 95-97.
315 Stewart G. The White Armies of Russia. P. 229—230.
316 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 333.
317 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 694-697.
318 Троцкий Л. Как вооружалась революция. Т. 2. Ч. 1. С. 400—402.
319 Там же. С. 400—416; 411 (о танках).
320 The Trotsky Papers. Vol. 1. P. 718-719.
321 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 200—201; Родзянко А.П. Воспоминания... С. 115.
322 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 156-161.
323 Примаков В.М. В кн.: Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть. Рига, 1962. С. 338; Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 321.
324 Директивы командования фронтов... Т. 2. С. 349; Егоров А.И. Разгром Деникина. С. 147—148.
325 Латышские стрелки. С. 338; Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 312; Директивы главного командования... С. 472, 474, 478.
326 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 230.
327 Егоров А.И. Разгром Деникина. С. 144.
328 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24348.
329 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 311—312; Luckett R. The White Generals. P. 329; Директивы командования фронтов... Т. 2. С. 354.
330 Егоров А.И. Разгром Деникина. С. 146.
331 Латышские стрелки. С. 342.
332 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 235—236.
333 Luckett R. The White Generals. P. 333.
334 The Times. 1919. November 10. P. 9.
335 Ullman R.H. Britain and the Russian Civil War. P. 306.
336 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 172.
337 Bechhofer С.Е. In Denikin's Russia and the Caucasus. London, 1921. P. 121.
338 Stewart G. The White Armies of Russia. P. 338.
339 Bechhofer C.E. In Denikin's Russia and the Caucasus. P. 100—101.
340 Stewart G. The White Annies of Russia. P. 346—347.
341 Ермолин А.П. Революция и казачество. М., 1982. С. 170—172.
342 О его правлении см.: Росс Н. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982.
343 The Memoirs of General Wrangel. P. 131-132; Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. Princeton, 1972. P. 71.
344 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 363.
345 Stewart G. The White Armies of Russia. P. 358—359; Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. P. 73—75; The Memoirs of General Wrangel. P. 147— 148.
346 Оболенский В. Крым при Врангеле. М.—Л., 1927. С. 25.
347 Chamberlin W.H. The Russian Revolution. Vol. 2. P. 320.
348 Врангель П.Н. // Белое дело. Т. 6. С. 58—65.
349 Какурин Н. Как сражалась революция. Т. 2. С. 385.
350 Кораблев Ю.И. В кн.: Реввоенсовет Республики. С. 49.
351 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 463.
352 Там же.Ф.5.Оп. 1.Д.2103.Л.82;Д.368.
353 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. С. 10, 263; Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1. С. IX.
354 Ward J. With the «Die-Hards» in Siberia. P. XI.
355 Русская мысль. 1921. Май—июль. С. 211.
356 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 2. С. 237.
357 Оборона революции / Под ред. Ю.Мартова. М., 1919. Цит. по: Волин С. Деятельность меньшевиков в профсоюзах при советской власти. Нью-Йорк, 1962. С. 82.
358 Churchill W. The World Crisis. P. 233-234.
359 Цит. по: Figes О. Peasant Russia, Civil War. Oxford, 1989. P. 175.
360 Гриф секретности снят/ Под ред. Г.Кривошеева. М., 1993. С. 54.
361 Урланис В.Ц. Война и народонаселение Европы. М., 1960. С. 185, 188.
362 Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны. М., 1986. С. 113.
363 Figes О. // Past and Present. 1990. № 129. November. P. 172.
364 Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны. С. 119-122.
365 Von Rimscha H. Russlandjenseits der Grenzen. Jena, 1927. S. 10. Об этом см. также: Raeff M. Russia abroad. New York, 1990.
366 Greer D. The Incidence of the Emigration during the French Revolution. Cambridge, Mass., 1951. P. 112.
367 Струве П. Итоги и существо коммунистического хозяйства. Берлин, 1921.См.также: Pipes R.Struve: Liberal on the Right.Cambridge, Mass., 1980. P. 318-319.
368 Струве Г. Русская литература в изгнании. 2-е изд. Париж, 1984. С. 21.
369 Сирин |В.В. Набоков) // Руль. 1927. № 2120. 18 нояб. С. 2.
Глава третья
1 Olcott M.B. The Kazakhs. Stanford, 1987. P. 118-126.
2 Об этом см. также: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 37—39.
3 См. выше.
4 Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Rev.ed. Cambridge, Mass., 1964. P. 137.
5 Маймескулов Л.Н. и др. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия (1919-1922). Харьков, 1990.
6 Масальский В.И. Туркестанский край. СПб., 1913. С. 354.
7 Наша газета. Ташкент, 1917. 23 нояб. Цит. по: Сафаров Г. Колониальная революция (Опыт Туркестана). [М.], 1921. С. 70.
8 Сафаров Г. Колониальная революция. С. 86.
9 РЦХИДНИ.Ф.2.Оп.2.Д.395.
10 О нем см.: Pipes R.The Formation of the Soviet Union. P. 168—170, 260—263; Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay C. Sultan-Galiev, le pere de la revolution mondiste. Paris, 1986.
11 Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay C. Sultan-Galiev...
12 Роговин В. Была ли альтернатива? М., 1992. С. 92—93.
13 Baumgart W. Deutsche Ost-Politik 1918. Wien-Munchen, 1966. S. 185-190.
14 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 163—164.
15 РЦХИДНИ. Ф. 64. Оп. 2. Д. 21. Цит. по: Жвания Г. Большевики и победа Советской власти в Грузии. Тифлис, 1981. С. 254—260.
16 РЦХВДНИ. Ф. 85. Оп. 15. Д. 2.
17 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 191.
18 Pipes R. The Formation of the Soviet Union.P.227.
19 Якубовская СИ. Объединительное движение за образование СССР. [М.], 1947. С. 99.
20 Махарадзе Ф. Советы и борьба за советскую власть в Грузии. Тифлис, 1928. С. 223.
21 Georgian Archive, Houghton Library, Harvard University, bMS Georgian 2. Box 37.
22 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1.Д.2104.Л. 18.
23 Documents relatifsa la question de la Georgie devant la Societe des Nations. Paris, 1925. P. 67-68.
24 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 520.
25 Жвания Г. Большевики и победа Советской власти в Грузии. С. 311; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 367; Afanasyan S. L'Armenie, I'Azerbaidjan et la Georgie. Paris, 1981. P. 188—189.
26 Rose J.D. British Foreign Policy in Relation to Transcaucasia. 1918— 1921. Ph. D. Dissertation. University of Toronto, 1985. P. 246—247.
27 РЦХИДНИ. Ф. 76. On. 3. Д. 153.
28 Жвания Г. Большевики и победа Советской власти в Грузии. С. 319— 323.
29 Чичерин Г. // Заря Востока. Тифлис, 1925. 5 марта. Цит. по: Tsereteli I // Promethee. Warszawa, 1928. June. P. 11.
30 РЦХИДНИ. Ф. 17. On. 2. Д. 56. Л. 2. Цит. по: Жвания Г. Большевики и победа Советской власти в Грузии. С. 323.
31 Trotsky Archive, Houghton Library, Harvard University, T-632.
32 Ibid., T-637.
33 РЦХИДНИ. Ф. 85. On. 15.Д.80.Л. 1.
34 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 356—357.
35 Там же. С. 367.
Глава четвертая
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 341—342.
2 Flechtheim O.K. Die Kommunistische Partei Deutschlands in der Weimarer Republik. Offenbach a. M., 1948. S. 35; Rosenberg A. Geschichte der Deutschen Republik. Karlsbad, 1935. S. 22-23.
3 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 297—302, 349—350.
4 Воспоминания К.Б.Радека о его германской миссии см.: Красная новь. 1926. № 10. С. 139—175; существует также немецкий перевод, дополненный другими материалами: Archiv fur Sozialgeschichte. 1962. Vol. 2. S. 87—166.
5 Braunthal J. History of the International. New York—Washington, 1967. Vol. 2. P. 127-128; Freund G. Unholy Alliance. New York, 1957. P. 36.
6 Archiv fur Sozialgeschichte. 1962. Vol. 2. S. 95.
7 Bernstein E. Die deutsche Revolution. Berlin, 1921. Bd. 1. S. 188.
8 Flechtheim O.K. Die Kommunistische Partei Deutschlands... S. 54.
9 Ibid. S. 55
10 Радек К.Б. // Красная новь. 1926. № 10. С. 152.
11 Lazitch В., Drachkovich M.M. Lenin and the Comintern. Stanford, 1972. Vol. 1. P. 104-105.
12 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 321—322.
13 Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. М., 1971. Т. 2. С. 43, 44, 49, 68, 94.
14 Kovrig В. Communism in Hungary. Stanford, 1979. P. 21—31.
15 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 136.
16 Ibid. P. 137.
17 Dennis A. The Foreign Policies of Soviet Russia. New York, 1924. P. 348.
18 Borkenau F. World Communism: A History of the Communist International. Ann Arbor, Mich., 1962. P. 121.
19 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 148.
20 Mcinnes N. In: The Impact of the Russian Revolution. 1917—1967. London, 1967. P. 122.
21 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses der Kommunistischen Internationale. Hamburg, 1921. S. 601.
22 Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 71.
23 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 52—55.
24 Balabanoff A. My Life as a Rebel. New York—London, 1938. P. 210.
25 Lazitch В., Drachkovich M.M. Lenin and the Comintern. Vol. 1. P. 39.
26 Съезды Советов в постановлениях. М., 1935. С. 116.
27 Die Kommunistische Internationale. 1919. № 1. S. XII.
28 Петроградская правда. 1919. № 255. 7 нояб. С. 1.
29 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... S. 237; Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1963. С. 514.
30 Lazitch В., Drachkovich M.M. Lenin and the Comintern. Vol. 1. P. 132; Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 144.
31 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses. Vol. 1. S. 123.
32 Dennis A. The Foreign Policies of Soviet Russia. P. 352; The Communist International. 1919—1943: Documents / Ed. by J.Degras London, 1956. Vol. 1. P. 453.
33 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 348. См. также замечания В.И.Ленина в кн.: Frossard L.-O. De Jauies a Lenine. Paris, 1930. P. 137, а также К.Б.Радека в кн.: Lazitch В., Drachkovich M.M. Lenin and the Comintern. Vol. 1. P. 535.
34 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 20—21.
35 Какурин H.E., Медиков В.А. Война с белополяками. М., 1925. С. 67— 70; Директивы главного командования... С. 673—678. О планировавшемся советском нападении на Польшу в начале 1920 г. также см.: Гражданская война. 1918—1921 / Под ред. А.С.Бубнова, С.С.Каменева, Р.П.Эйдемана. М., 1928. Т. 3. С. 309-310, 317-318; Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 250-251.
36 Какурин Н.Е., Меликов В.А. Война с белополяками. С. 73.
37 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24364.
38 Polska Akademia Nauk. Dokumenty i materialy. Vol. 2. P. 749—753.
39 Davies N. White Eagle, Red Star. London, 1972. P. 84-85, 92.
40 Степанов И. С Красной Армией на панскую Польшу. М., 1920. С. 78.
41 Wandycz P. Soviet-Polich Relations, 1917—1921. Cambridge, Mass., 1969. P. 211-212.
42 Какурин Н.Е., Меликов В.А. Война с белополяками. С. 73.
43 Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 192—195; Директивы главного командования. С. 641—642.
44 Wandycz P. Soviet-Polish Relations. P. 215; Какурин Н.Е., Меликов В.А. Война с белополяками. С. 475—476.
45 Lorwin L.L. Labor and Internationalism. London, 1929. P. 207.
46 The Communist International. Vol. 1. P. 133—134.
47 Зиновьев Г.Е. В кн.: Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... Vol. 3; The Communist International. Vol. 1. P. 127.
48 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... S. 119, 124; Ленин В.И. Полн, собр. соч. Т. 41. С. 191.
49 The Communist International. Vol. 1. P. 131.
50 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 54—55.
51 The Communist International. Vol. 1. P. 150—155.
52 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... S. 470; см.: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 201—203.
53 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... S. 477—478.
54 Lazitch В., Drachkovich M.M. Lenin and the Comintern. P. 346—347, 349.
55 Ibid. P. 53-54.
56 Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... S. 583.
57 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 182.
58 Pilsudski J. Rok 1920. In: Pilsudski J. Pisma zbiorowe Warszawa, 1937. Vol. 7. S.20.
59 Davies N. White Eagle, Red Star. P. 34.
60 Ibid. P. 153.
61 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 264—266.
62 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 278-279.
63 Ibid. Vol. 2. P. 176-177.
64 Буденный С. Пройденный путь. М., 1965. Т. 2. С. 304.
65 Директивы главного командования... С. 709.
66 Волкогонов Д. Триумф и трагедия. М., 1989. Т. 1. Ч. 1. С. 103.
67 Trotsky L. Stalin. London, 1947. P. 328-332.
68 Ленинский сборник. XXXIV. С. 345.
69 Komarnicki T. Rebirth of the Polish Republic. London, 1957. P. 683.
70 Wandycz P. // Journal of Central European Affairs. 1960. Vol. 19. № 4. P. 357-365.
71 L'information. 1920. Aout 21. Цит. по: Wandycz P. //Journal of Central European Affairs. 1960. Vol. 19. № 4. P. 363.
72 Mawdsley E. The Russian Civil War. P. 254.
73 D'Abernon V. The Eighteenth Decisive Battle of the World: Warsaw, 1920. London, 1931. P. 49.
74 Pilsudski J. Pisma zbiorowe. Vol. 7. P. 119.
75 Davies N. White Eagle, Red Star. P. 197—198.
76 Arciszewski F.A. Cud nad Wista. London, [1958], P. 119; D'Abernon V. The Eighteenth Decisive Battle... P. 77, 107—108; Гриф секретности снят/ Под ред. Г.Ф.Кривошеева. М., 1993. С. 28—29.
77 Davies N. White Eagle, Red Star. P. 207.
78 РЦХИДНИ.Ф.2.Оп.2.Д.454,717.
79 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 193-194. и РЦХИДНИ.Ф.5.ОП.1.Д.2103.Л.42.
81 Chiang Chung-cheng. Soviet Russia in China. New York, 1957. P. 22.
82 Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 87—88; Idem. My Life as a Rebel. P. 276-277.
83 Scheele G. The Weimar Republic. London, 1946. P. 149.
84 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 224; Flechtheim O.K. Die Kommunistische Partei Deutschlands. S. 70—71.
85 Flechtheim O.K. Die Kommunistische Partei Deutschlands. S. 73—75; Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 226—228.
86 The Communist International. Vol. 1. P. 216.
87 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 189.
88 Graubard S. British Labour and the Russian Revolution. 1917—1924. Cambridge, Mass., 1956. P. 147-148, 151-152.
89 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 38.
90 Lorwin L.L. Labor and Internationalism. P. 202.
91 Lazitch В., Drachkovish M.M. Lenin and the Comintern. P. 216—223.
92 The Impact of the Russian Revolution. 1917—1967. London, 1967. P. 65.
93 Borkenau F. World Communism. P. 192. Ср.: The Impact of the Russian Revolution. P. 106.
94 Borkenau F. World Communism. P. 210.
95 Ibid. P. 205.
96 Balabanoff A. Impressions of Lenin. P. 29.
97 Kendall W. The Revolutionary Movement in Britain. 1900—1921. London, 1969. P. 245-246.
98 Frossard L.-O. De Jaures a Leon Blum. Paris, 1943. P. 140.
99 Shachtman M. Preface. In: Trotsky L. Terrorism and Communism. Ann Arbor, Mich., 1961 P. X.
100 Balabanoff A. Erinnerungen und Erlebnisse. Berlin, 1927. S. 257.
101 фирсов Ф.И. // Вопросы истории КПСС. 1987. № 10. С. 117.
102 Жизнь национальностей. 1918. № 3. 24 ноября. С. 2—103; Protokoll des Zweiten Welt-Kongresses... S. 137—232. См. также: Carr E.H. The Bolshevik Revolution. 1917-1923. New York, 1953. Vol. 3. P. 251-259.
104 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 167.
105 Communist International. Vol. l.P. 138—144.
106 Первый съезд народов Востока. Баку, 1—8 сентября 1920 г. Стеногр. отчет. Пг., 1920.
107 Carr E.H. The Bolshevik Revolution, Vol. 3. P. 248.
108 Soviet Treaty Series / Ed. by L.Shapiro. Washington, D.C., 1950. Vol. 1. P. 100-102.
109 Eudin X.J., North R.C. Soviet Russia and the East. 1920—1927. Stanford, 1957. P. 113-116.
110 The Impact of the Russian Revolution. P. 292.
111 Eudin X.J., North R.C. Soviet Russia and the East... P. 95-103; Carr E.H. The Bolshevik Revolution... Vol. 3. P. 242-244, 470.
112 РЦХИДНИ.Ф.2.ОП.2.Д.451.
113 Известия. 1920. № 251. 9 ноября. С. 1-2.
114 Известия. 1922. № 255. 11 ноября. С. 1.
115 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 144—145.
116 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 269.
117 Lyons E. Assignment in Utopia. New York, 1937. P. 70, 94—95.
118 РЦХИДНИ.Ф.2.Оп.2.Д.270.
119 Snowden P. Through Bolshevik Russia. London, 1920.
120 Ibid. P. 114.
121 Ibid. P. 188.
122 British Labour Delegation to Russia. Report. London, [1920]. P. 27.
123 Wells H.G. Russia in the Shadows. London, [1920-1921]. P. 11.
124 Ibid. P. 55, 63.
125 Ibid. P. 90.
126 The Bullitt Mission to Russia: Testimony before the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate by William С Bullitt, New York, 1919. О нем см.: Farnsworth В. William С. Bullitt and the Soviet Union. Bloomington, Ind., 1967.
127 The Bullitt Mission... P. 50.
128 Kautsky K. Die Diktatur des Proletariats. 4 Aufl. Wien, 1919. S. 3.
129 Bauer O. Bolshewismus oder Sozialdemokratie? Wien, 1921. S. 69.
130 Graubard S. British Labour and the Russian Revolution. P. 81.
131 Ibid. P. 242-243.
132 Filene P.O. Americans and the Soviet Experiment. 1917—1933. Cambridge,
Mass., 1967. P. 53-54.
133 Ibid. P. 36.
134 Wells H.G. Russia in the Shadows. P. 117.
135 Lansbury G. What I Saw in Russia. London, 1920. P. XIV.
136 Growl J. Angels in Stalin's Paradise. Lanham, Md., 1982. P. 41.
137 Lyons E. Assignment in Utopia. P. 101.
138 Balabanoff A. Impressions of Lenin. P. 105.
139 Lyons E. Assignment in Utopia. P. 67.
140 Sherman A. // Survey. 1962. № 41. April. P. 83.
141 Koestler A. The Invisible Writing. New York, 1954. P. 402.
142 Muggeridge M. Chronicles of Wasted Times: The Green Stick. New York, 1973. P. 272.
143 Koestler A. The Invisible Writing. P. 53.
144 Strong A. I Change Worlds. New York, 1937. P. 90.
145 Coute D. Fellow-travellers. Rev. ed. New Haven—London, 1988. P. 97.
146 Rosenstone R.A. Romantic Revolutionary: A Biography of John Reed. New York, 1981. P. 11-13.
147 Ibid. P. 4.
148 New Republic. 1920. November 17. P. 298.
149 См.: Старцев А. Русские блокноты Джона Рида. М, 1977. С. 25 и далее.
150 The Modern Monthly. 1937. Vol. X. № 3. P. 3.
151 Bryant L. Mirrors of Moscow. New York, 1937. P. 48—49.
152 Steffens L. Letters. Westport, Conn., 1974. Vol. 2. P. 759.
153 Liberman S.I. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 127.
154 Цит. по: Schwarz J.A. The Speculator: Bernard M. Baruch in Washington. 1917-1925. Chapel Hill, N.C., 1981. P. 485.
155 The Times. 1920. February 11. P. 9.
156 Цит. по: Filene P.G. Americans and the Soviet Experiment... P. 121, 123.
157 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 300—302.
158 Нота британскому, французскому и итальянскому правительствам от марта 1922 г. в кн.: Soviet Documents on Foreign Policy / Ed. by J.Degras. London, 1951. Vol. 1. P. 295.
159 Duranty W. // New York Times. 1921. October 7. P. 1.
160 Filene P.G. Americans and the Soviet Experiment... P. 106; Dennis A. The Foreign Policies of Soviet Russia. P. 379.
161 Pipes R.Struve: Liberal on the Right. Cambridge, Mass., 1980.P.273.
162 Швиттау Г.Г. Революция и народное хозяйство в России (1917—1921).
Лейпциг, 1922. С. 337.
163 Саrr Е.Н. The Bolshevik Revolution... Vol. 3. P. 163.
164 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 969.
165 Там же. Д. 1026.
166 Там же. Д. 1105.
167 Documents on British Foreign Policy. 1919—1939. Ed. by E.L.Woodward, R.Butler. London, 1948. First Series. Vol. 2. P. 874.
168 Ibid. P. 867-870.
169 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. Princeton,
1966. P. 346-347.
170 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 377.
171 Известия. 1920. № 149. 9 июля. С. 1.
172 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920. Washington, D.C., 1936. Vol. 3. P. 466-468.
173 House of Commons. Fifth Series. 1919. Vol. 114. April 16. P. 2943.
174 Gilbert M. Winston S. Churchill. Boston, 1975. Vol. 4. P. 331, 349.
175 Ibid. P. 379-380.
176 Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. P. 94.
177 Ibid. P. 92.
178 Gilbert M. Winston S. Churchill. Vol. 4. P. 416. Датировано 23 июля 1920 г.
179 Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. P. 96.
180 Ibid. P. 104. Ср.: Майский И. Внешняя политика РСФСР. 1917—1922. М., 1923. С. 96.
181 Gilbert M. Winston S. Churchill. Vol. 4. P. 416.
182 Kautsky К. Die Diktatur des Proletariats. S. 3.
183 Terrorismus und Kommunismus: Ein Beitrag zur naturgeschichte der Revolution. Berlin, 1919.
184 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 105,107.
185 Trotsky L. Terrorism and Communism. Michigan, 1961. P. 168—170.
186 Borkenau F. World Communism. P. 87.
187 Die Russische Revolution. Eine kritische Wurdigung: Aus dem Nachlass von Rosa Luxemburg / Hrsg. by P.Levi. [Berlin], 1922. S. 65—120. См. также: Archiv fur Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung / Hrsg. by F.Weil. 1928. Bd. 13. S. 285-298.
188 Die Russische Revolution... S. 107—108.
189 Ibid. S. 109.
190 Ibid. S.I 10-111.
191 Ibid. S. 113.
192 Ibid. S. 116.
193 Цит. по.: Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 127. См. также: Flechtheim O.K. Die Kommunistische Partei Deutschlands. S. 41.
194 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 131.
195 Trotsky L. Terrorism und Communism. S. 58.
196 Правда. 1923. № 266. 23 нояб. С. 1.
197 Luks L. Entstehung der Kommunistischen Faschismustheorie. Stuttgart, 1984. S. 84.
198 Об этом см.: Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. Boppard am Rhein, 1984.
199 Thompson J.M. Russia, Bolshevism and the Versailles Peace. P. 319; Dennis A. The Foreign Policies of Soviet Russia. P. 92.
200 Flechtheim O.K. Die kommunistische Partei Deutschlands. S. 55.
201 Об этом см.: Schuddekopf O.-E. Linke Leute von Rechts. Stuttgart, 1960.
202 Цит. по: Freund G. Unholy Alliance. P. 129. Также см.: Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 23—24.
203 Eltzbacher P. Der Bolschevismus und die deutsche Zukurift. Jena, 1919.
204 Радек К.Б. // Красная новь. 1926. № 10. С. 155-166.
205 Fischer R. Stalin and German Communism. Cambridge, Mass., 1948. P. 206-207.
206 Rathenau W. Briefe. Dresden, 1926. Bd. 2. S. 220, 229-230, 233.
207 Советско-германские отношения. Т. 2. С. 138—140. См. также: там же. С. 137-138.
208 Там же. С. 222-223.
209 HilgerG., Meyer A.G. The Incompatible Allies. New York, 1953. P. 17—26.
210 Von Seeckt H.Gedanken eines Soldaten.2 Aufl.Leipzig, 1935.S.92.
211 О нем см.: Hallgarten G.F.W. //Journal of Modern History. 1949. Vol. 21. № 1. P. 28—34; Kochan L. // Contemporary Review. 1950. № 1015. July. P. 37—40. Перу Г. фон Зеекта принадлежат многочисленные книги, в т.ч. The Future of the German Empire. London, 1930; Wege deutscher Aussenpolitik. Leipzig, 1931.
212 Von Seeckt H. Aus seinem Leben.l918-1936.Leipzig, 1940. S. 474-481.
213 Speidel H. //Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 1953. Bd. 1. № 1. S. 9; Gatzke H.W. //American Historical Review. 1958. Vol. 63. № 3. P. 566.
214 См.: Freund G. Unholy Alliance. P. 201-212; Carsten F.L. // Survey. 1962. № 44—45. October. P. 114—132; Gatzke H.W.//American Historical Review. 1958. Vol 63. № 3. P. 565—597; см. также: Laqueur W. Russia and Germany. London, 1965. P. 130—131. Очень важные архивные материалы о советско-германском военном сотрудничестве в 1919—1933 гг. воспроизведены в кн.: Дьяков Ю.Л., Бушева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР. М., 1992.
215 Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 34.
216 Цит. по: Carsten F.L. // Survey. 1962. № 44-45. October. P. 115-116. См. также: Komarnicki Т. Rebirth of the Polish Republic. P. 643.
217 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 1132; письмо, датированное 11 февраля 1922 г.
218 Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 31-32.
219 Freund G. Unholy Alliance. P. 70.
220 Gessler O. Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit. Stuttgart, 1958. S. 185-188.
221 Советско-германские отношения. Т. 2. С. 119—120. Письмо, датированное 4 июля 1919 г.
222 Там же. С. 153.
223 Там же. С. 122-123.
224 Там же. С. 163-164.
225 Там же. С. 248-250.
226 Цит. по: Freund G. Unholy Alliance. P. 84.
227 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 2137; Ф. 2. On. 2. Д. 781,1328.
228 Von Blucher W. Deutschlands Weg nach Rapallo. Wiesbaden, 1951. S. 151.
229 Russel B. Bolshevism. New York, 1920. P. 40.
230 См.гл.6.
231 Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М., 1975. Т. 22. С. 309.
232 Kupferman F. Аи pays des Soviets: Le voyage francais en Union sovietique. 1917-1939. Paris, 1979. P. 173-175.
233 Инструкция от 21 декабря 1917 г. (Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. № 12. 30 декабря). См. также: Фельштинский Ю. К истории нашей закрытости. Лондон, 1988.
234 Muggeridge M. Chronicles of Wasted Times. P. 223.
235 The History of the Times. London, 1952. Vol. 4. Pt. 1. P. 465-466; Pt. 2. P. 911-912.
236 Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. P. 272.
237 The Times. 1920. № 42493. August 19. P. 10.
238 Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. P. 270-273, 283-284; Kendall W. The Revolutionary Movement in Britain. P. 253—254; Andrew C. Her Majesty's Secret Service. New York, 1986. P. 262—264.
239 The New Republic. Suppl. 1920. August 4. P. 10.
240 Crowl J. Angels in Stalin's Paradise. P. 12—13.
241 Эта и последующая информация о Дюранте основана на кн.: Crowl J. Angels in Stalin's paradise. См. также: Taylor S.J. Stalin's Apologist. Oxford, 1990.
242 New York Times. 1921. August 13. P. 1.
243 Ibid. 1921. September 28. P. 21.
244 Crowl J. Angels in Stalin's Paradise. P. 35.
245 Ibid. P. 34-35; Finder J. Red Carpet. New York, 1983. P. 67.
246 Lyons E. Assignment in Utopia. P. 67.
247 Duranty W. I write as I please. New York, 1935. P. 200.
248 New York Times. 1932. May 3. P. 6.
249 Ibid. 1932. September 28. P. 5.
250 Crowl J. Angels in Stalin's Paradise. P. 24 and passim.
251 Miliukov P. Bolshevism: An International Danger. London, 1920.
252 Borkenau F. World Communism. P. 413.
253 См., напр.: Snowden P. Through Bolshevik Russia. P. 32.
254 Протоколы заседания ВЦИКа 4-го созыва. М., 1920. С. 231, 235.
255 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24694. Документ, датированный 8 сентября 1921 г.
256 Kendall W. The Revolutionary Movement in Britain. P. 229.
257 Clarke J.S.//The Communist. 1920. Vol. 1. № 8. September23. P. 2; Graubard S. British Labour and the Russian Revolution. P. 136—137.
258 Balabanoff A. My Life as a Rebel. P. 220.
259 Balabanoff A. Impressions of Lenin. P. 103, 28—30.
260 Соколов Б. Большевики о большевиках. Париж, 1919. С. 91—92.
Глава пятая
1 Touchard J. Histoire des idees politiques. Paris, 1959. Vol. 2. P. 696.
2 См., напр.: Friedrich C.J. Totalitarianism. Cambridge, Mass., 1954; Theorien uber den Faschismus. Hrsg. E.Nolte. Koln—Berlin, 1967; de Felice R. Le interpretazioni del Fascismo. Ban, 1972; Wege der Totalitarismus-Forschung. Hrsg B.Seidel, S.Jenkner. Darmstadt, 1968; Totalitarianism Reconsidered / Ed. By E.A.Menze. Port Washington, N.Y.— London, 1981.
3 Bracher K. Die deutsche Diktatur. 2 Aufl. Berlin, 1969.
4 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. Гл. 4.
5 Buchheim H. Totalitarian Rule. Middletown, Conn., 1968. P. 25.
6 Arendt H. The Origins of Totalitarianism. New York, 1958. P. 319.
7 Ludz P.K. In: Wege der Totalitarismus-Forschung. S. 536. См. первые работы на эту тему: Fraenkel E. The Dual State. New York, 1941; Neumann S. Permanent Revolution. New York—London, 1942; Naumann F. Begemoth. London, 1943. В первое послевоенное десятилетие основные работы по тоталитаризму также были написаны эмигрантами из Германии, см.: Arendt H. The Origins of Totalitarianism; Friedrich C.J. Totalitarianism.
8 Friedrich С J., Brzezinski Z.K.Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, Mass., 1956.
9 Luks L. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Stuttgart, 1984. S. 177.
10 Kuhn A. Das faschistische Herrschaftssystem und die moderne Gesellschaft. Hamburg, 1973. S. 22.
11 Wege der Totalitarismus-Forschung. S. 26. To же возражение приводится Куном в его кн.: Das faschistische Herrshaftssystem... S. 87.
12 Buchheim H. Totalitarian Rule. P. 38—39.
13 Friedrich C.J. Totalitarianism. P. 49.
14 Среди работ, в которых серьезно рассматривается ранний социализм Б.Муссолини и его родство с ленинским большевизмом, см.: de Felice R. Mussolini il rivoluzionario, 1883—1920. Torino, 1965; Megaro G. Mussolini in the Making. Boston—New York, 1938; Gregor A.J. Young Mussolini and the Intellectual Origins of Fascism. Berkeley, 1979; Idem. The Fascist Persuasion in Politics. Princeton, 1974; Settembrini D. Mussolini and Lenin. In: Euro-communism / Ed. by G.R.Urban. New York, 1978. P. 146—178; Idem. Mussolini and the Legacy of Revolutionary Socialism. In: International Fascism. Ed. by G.L.Mosse. London—Beverly Hills, 1979. P. 91-123.
15 Mussolini B. Opera Omnia. Firenze, 1952. Vol. 3. P. 137.
16 Balabanoff A. My Life as a Rebel. New York, 1938. P. 44—52. 17 Mussolini B. Opera Omnia. Firenze, 1951. Vol. 2. P. 31; Firenze, 1952. Vol. 4. P. 153.
18 Ibid. Vol. 4. P. 156.
19 Rossi A. The Rise of Italian Fascism. 1918-1922. London, 1938. P. 134.
20 Friedrich C.J. The New Image of the Common Man. Boston, 1950. P. 246.
21 de Felice R. Mussolini il rivoluzionario. P. 122—123.
22 Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. P. 145.
23 Передовая статья от 9 января 1910 г. См.: Mussolini В. Opera Omnia. Vol. 3. P. 5-7.
24 Gregor A.J. Young Mussolini... P. 135.
25 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 409.
26 La Lotta di Classe. 1911. August 5. Цит. по: de Felice R. Mussolini il rivoluzionario. P. 104.
27 Mussolini B. Opera Omnia. Firenze, 1953. Vol. 6. P. 311.
28 Nolte E. Three Faces of Fascism. London, 1965. P. 168.
29 Mussolini B. Opera omnia. Firenze, 1951. Vol. 7. P. 101. См. также: Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. P. 171.
30 Mussolini B. Loc. cit.; Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. P. 168-171.
31 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 155.
32 Rossi A. The Rise of Italian Fascism. P. 19.
33 De Felice R. Mussolini il rivoluzionario. P. 742—745.
34 Ibid. P. 730.
35 Rossi A. The Rise of Italian Fascism. P. 39.
36 Ibid. P. 163.
37 Theorien tiber den Faschismus. P. 231.
38 Rossi A. The Rise of Italian Fascism. P. 134— 135.
39 Ibid. P. 138.
40 Von Beckerath E. Wesen und Werden des faschistischen Staates. Berlin, 1927. S. 109-110.
41 de Begnac Y. Palazzo Venezia: Storia di un Regime. Roma, [1950]. P. 361.
42 Rauschning H. Hitler Speaks. London, 1939. P. 134.
43 Mussolini B. Opera Omnia. Firenze, 1959. Vol. 29. P. 63—64; ср.: Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. P. 184—185.
44 Conn N. Warrant for Genocide. London, 1967.
45 Ibid. P. 90-98.
46 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 260—261.
47 Ludendorff E. Kriegsfuhrung und Politik. Berlin, 1922. S. 51.
48 О нем см.: Laqueur W. Russia and Germany. London, 1965. P. 114—118.
49 Винберг Ф. Крестный путь. 2-е изд. Мюнхен, 1922. Т. 1. С. 359—372.
50 Conn N. Warrant for Genocide. P. 293.
51 Laqueur W. Russia and Germany. P. 55.
52 Rauschning H. Hitler Speaks. P. 235.
53 Ibid. P. 235-236.
54 Stein A. Adolf Hitler, Schuler der "Weisen von Zion". Karlsbad, 1936.
55 Cohn N. Warrant for Genocide. P. 194—195.
56 Jackel E. Hitlers Weltanschauung. Tubingen, 1969. Цит. по: Kuhn A. Das faschistische Herrschaftssystem... S. 80.
57 Laqueur W. Russia and Germany. P. 115.
58 Rauschning H. Hitler Speaks. P. 185.
59 Цит. по: Kele M.H. Nazis and Workers. Chapel Hill, N.C., 1972. P. 93.
60 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. New York—London, 1980. P. 25.
61 Ibid. P. 17.
62 Bracher K. Die deutsche Diktatur. S. 59.
63 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. 48.
64 Bullock A. Hitler: A Study in Tyranny. Rev. ed. New York, 1962. P. 157.
65 The Impact of the Russian Revolution. 1917—1967. London, 1967. P. 340.
66 Rauschning H. Hitler Speaks. P. 48—49.
67 Ibid. P. 242.
68 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. XIV.
69 Rauschning H. Hitler Speaks. P. 187.
70 Rauschning H. The Revolution of Nihilism. New York, 1939. P. 55, 74— 75, 105.
71 Ibid. P. 19. На революционную природу фашизма особое внимание обращено в кн.: Zitelman R. Hitler. Selbstverstandis eines Revolutionars. Hamburg, 1987.
72 Gaxotte P. The French Revolution. London—New York, 1932. Chapter 12.
73 Deroy-Beaulieu A. Les Doctrines de Haine. Paris, [1902J. См.: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 153—155.
74 Feder G. Der deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage. 11 Aufl. Munchen, 1933.
75 Schmitt С // Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1927. Bd. 58. Hft. l.S.4-5.
76 Rauschning H. Hitler Speaks. P. 134.
77 Balabanoff A. Erinnerungen und Erlebnisse. Berlin, 1927. S. 260.
78 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 182.
79 Panunzio S. Цит. по: Neumann S. Permanent Revolution. P. 130.
80 Unger A.L. The Totalitarian Party. Cambridge, 1974. P. 85.
81 Schmidt G. Falscher Propheten Wahn. Mainz, 1970. S. 111.
82 См. ниже, с 538.
83 Von Beckerath E. Wesen und Werden des faschistischen Staates. S. 112—114.
84 Коммунистические и нацистские партии сравниваются в кн.: Unger A.L. The Totalitarian Party. О контроле Гитлера над НСДАП до 1933 г. см.: Bracher К. Die deutsche Diktatur. S. 108, 143.
85 Manoilescu M. Die Einzige Partei. Berlin, [ 1941]. S. 93.
86 Buchheim H. Totalitarian Rule. P. 93. Этой теме посвящена кн.: Fraenkel Е. The Dual State. New York, 1941.
87 Von Beckerath E. Wesen und Werden des faschistischen Staates. S. 141.
88 Пайпс Р. Русская революция. Ч.2. Гл. 4.
89 Bracher К. Die deutsche Diktatur. S. 251, 232.
90 Friedrich C.J.Brzezinski Z.K.Totalitarian Dictatorship and Autocracy. P. 145.
91 De Felice. In: Eurocommunism. P. 107.
92 Rossi A. The Rise of Italian Fascism. P. 347—348.
93 Buchheim H. Totalitarian Rule. P. 96.
94 Mosse G. // Journal of Contemporary History. 1989. Vol. 14. № 1. P. 15. См. также: Mosse G. Masses and Man. New York, 1980. P. 87—103.
95 Internationaler Faschismus/ Hrsg. K.Landauer, H.Honegger. Karlsruhe, 1928. S. 112.
96 Ziegler И.О. Autoritater oder totaler Staat? Tubingen, 1932.
97 Unger A.L. The Totalitarian Party. P. 71—79.
98 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. 82—85.
99 Ibid. P. 79.
100 Unger A.L. The Totalitarian Party. P. 78.
101 Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 7.
102 Bracher K. Die deutsche Diktatur. S. 395.
103 Страны мира. Ежегодный справочник. М., 1946. С. 129.
104 GregorA.J. Ideology of Fascism. New York, 1969. P. 304-306.
105 Von Beckerath E. Wesen und Werden des faschistischen Staates S. 143—144.
106 Maunz T. In: Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. 146—147. См. также: Feder G. Der deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage. S.22.
107 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. 147.
108 Bracher K. Die deutsche Diktatur. S. 247.
109 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. 114, 116.
110 Neumann S. Permanent Revolution. P. 169—170.
111 Rauschning H. The Revolution of Nihilism. P. 56.
112 Turner H.A. German Big Business and the Rise of Hitler. New York, 1985. P. 340-341.
113 Neumann S. Permanent Revolution. P. 170.
114 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 218—219; Ч. 2. С. 38—41, 83—86.
115 Там же. 4.2. С. 358-362.
116 Mussolini В. Opera Omnia. Firenze, 1955. Vol. 17. P. 295.
117 Kele M.H. Nazis and Workers. P. 92.
118 Schoenbaum D. Hitler's Social Revolution. P. 3.
119 Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. P. 176—177.
120 Rauschning H. Hitler Speaks. P. 113, 229-230.
121 Siedler W.J. // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1995. № 24.
122 Hitlers Tischgesprache im Fuhrerhauptquartier. 1941—1942. Bonn, 1951. S. 133.
123 New York Times. 1990. August 31.
124 Gregor A.J. The Fascist Persuasion in Politics. P. 148—149.
Глава шестая
1 BrodskyJ. Less than One. New York, 1986. P. 270-271.
2 Этой теме посвящена кн.: Read С. Culture and Power in Revolutionary Russia. London, 1990.
3 Троцкий Л. Литература и революция. М., 1924. С. 140.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 101.
5 Там же. С. 100.
6 Kulturpolitik der Sowjetunion // Hrsg. O.Anweiler, K.-H.Ruffman. Stuttgart, 1973. S. 19.
7 Троцкий Л. Литература и революция. Т. 2. С. 141—142.
8 Чарнолусский В.И. Школьное законодательство в РСФСР. М., 1927. С. 13.
9 Fitzpatrick S. The Commissariat of Enlightenment. Cambridge, 1970. P. 19.
10 Пайпс, Р. Россия при старом режиме. М., 2004. С. 349—350.
11 Сирин В. [Набоков В.] // Руль. 1927. № 2(120). 18 нояб. С. 2.
12 Slonim M. Russian Theater. Cleveland—New York, 1961. P. 229; БлокА. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1960. Т. 1. С. L-LI.
13 Новая жизнь. 1917. № 183. 17 нояб. С. 4.
14 Троцкий Л. Литература и революция. С. 17, 19.
15 Alexandrova V. A History of Soviet Literature. New York, 1963. P. 19.
16 Бычкова Н., Лебедев А. Первый нарком просвещения. М., 1960. С. 23.
17 Луначарский о народном образовании. М., 1958. С. 117.
18 Печать и революция. 1921. № 1. Май—июль. С. 3—9.
19 Напр.: Богданов А. Из психологии общества. СПб., 1904; Его же. Культурные задачи нашего времени. М., 1911.
20 Пролетарская культура. 1920. № 15—16. Апрель—июль. С. 50.
21 Там же. С. 50—52.
22 Scherrer J. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1978. № 19. P. 259—284.
23 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 304—305.
24 Там же. Т. 12. С. 99-100.
25 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 61 (Декрет от 9 ноября 1917 г.).
26 Керженцев В. // Пролетарская культура. 1918. № 5. Нояб. С. 24.
27 Твори! 1921. №2. С. 17.
28 Первая Московская общегородская конференция пролетарских культурно-просветительных организаций. М., [1918]. С. 39; Berelowitch W. La Sovietisation de l'ecole russe. 1917—1931. Lausanne, 1990. P. 52.
29 Пролетарская культура. 1919. № 9/10. С. 44.
30 Stites R. Revolutionary Dreams. New York, 1989. P. 155.
31 Kulturpolitik der Sowjetunion. S. 196.
32 Первая Московская общегородская конференция... С. 61.
33 Лебедев-Полянский П.И. (Валериан Полянский) // Пролетарская культура. 1918. № 1. Июль. С. 6.
34 Горбунов В.В. // Вопросы истории КПСС. 1958. № 1. С. 24—39.
35 Kerensky A.F., Browder R.P. The Russian Provisional Government. 1917. Stanford, 1961. Vol. 1. P. 228; Vol. 2. P. 977-979.
36 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 192—195.
37 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 79.
38 Знамя труда. 1918. № 134. 17 февр. С. 1.
39 Серьезных исследований по истории советской цензуры нет. Законодательные материалы см. в кн.: Действующее законодательство о печати / Под ред. Л.Г.Фогелевича. 2-е изд. М., 1929.
40 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970. С. 168-170.
41 Газета Временного рабочего и крестьянского правительства. 1917. 24 дек. Цит. по: Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. С. 203.
42 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 432—434. См. также: Щелкунов М. / / Печать и революция. 1922. № 7. С. 180.
43 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. С. 203— 204, 343-376.
44 Печать и революция. 1922. № 7. С. 179— 180.
45 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 54—56.
46 Смирнов И.С. Ленин и русская культура. М., 1960. С. 110.
47 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 100.
48 Новая жизнь. 1918. № 90(305). 15 мая. С. 3.
49 Печать и революция. 1922. № 7. С. 180.
50 Новый вечерний час. 1918. № 108. 8 июля. С. 1.
51 Правда. 1918. № 140. 9 июля. С. 2.
52 Там же. 1918. № 155. 26 июля. С. 3.
53 Декреты Советской власти. Т. 2. С. 553.
54 Смирнов И.С. Ленин и русская культура. С. ПО.
55 Пайпс, Р. Россия при старом режиме. М., 2004. С. 181, 351—352.
56 Декреты Советской власти. Т. 5. С. 243—244.
57 Назаров А.И. Октябрь и книга. М., 1968. С. 137.
58 Книжный угол. Пг., 1922. № 8. С. 60.
59 РЦХИДНИ.Ф.2.Оп.2.Д.940.
60 Известия. 1922. №137. 23 июня. С. 5.
61 Федюкин С.А. Борьба Коммунистической партии с буржуазной идеологией в первые годы НЭПа. М., 1977. С. 171—172 (датировано 10 февраля 1922 г.).
62 Литературная энциклопедия. М., 1929. Т. 2. С. 543—546.
63 Романов П. Право на жизнь. Letchworth, England, 1970. P. 24—25.
64 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 296—298; Т. 4. С. 68—70; Т. 5. С. 412.
65 Назаров А.И. Октябрь и книга. С. 136.
66 Я боюсь. В кн.: Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1955. С. 190.
67 Цит. по: Троцкий Л. Литература и революция. С. 45. См. также: Блок А. О назначении поэта. В кн.: Собр. соч.: В 8 т. М.—Л., 1963. Т. 6. С. 160— 168.
68 Adamson W.L. //American Historical Review. 1990. № 2. P. 359—390; Markov V. Russian Futurism: A History. Berkeley—Los Angeles, 1968.
69 Taylor J.C. Futurism. New York, 1961. P. 124-125.
70 Alexandrova V. A History of Soviet Literature. P. 60.
71 Brown E.J. Russian Literature since the Revolution. Rev. ed. New York, 1969. P. 37.
72 Литературное наследство. М., 1958. Т. 65. С. 210.
73 Jangfeldt В. // Scando-Slavica. 1987. Vol. 33. P. 129-139.
74 Федюкин C.A. Борьба Коммунистической партии с буржуазной идеологией. С. 223-224.
75 Бедный Д. Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 3. С. 185.
76 Троцкий Л. Литература и революция. С. 162.
77 Шаляпин Ф.И. Маска и душа. Париж, 1932. С. 276.
78 Блок А. Собр. соч. Т. 7. С. 356-357.
79 Там же. С. 365.
80 Аксенов В. // Partisan Review. 1992. № 2. P. 182.
81 Декреты Советской власти. Т. 6. С. 69—73.
82 Le Theatre d'Agit-Prop de 1917 a 1932. Vol. 1—4. Lausanne, 1977— 1978; Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Zurich, 1926. S. 157-206.
83 Известия. 1920. № 240. 27 окт. С. 2.
84 Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1930. Т. 3. С. 59, 86.
85 Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 187—188.
86 Gorsen P., Knodler-Bunte E. Proletkult. Stuttgart, 1975. Bd. 2. S. 127-128.
87 Леф. 1924. № 4. Авг.-дек. С. 218.
88 Театр и драматургия / Под ред. А.Я.Альтшуллер и др. Л., 1967. С. 143-144.
89 Deak F. // The Drama Review. 1975. Vol. 19. № 2. P. 7-22.
90 Taylor R., Christie I. The Film Factory. Cambridge, Mass., 1988. P. 57. Об этом также см.: Leyda J. Kino. London, 1960. P. 111—169; Taylor R. The Politics of the Soviet Cinema. 1917—1929. Cambridge, 1979. P. 26— 86; Youngblood D.J. Soviet Cinema in the Silent Era. 1918—1935. Ann Arbor, Mich., 1985. P. 1-38.
91 Цит. по: Taylor R., Christie I. The Film Factory. P. 47.
92 Taylor R. The Politics of the Soviet Cinema... P. 56.
93 Декреты Советской власти. Т. 6. С. 75—76 (декрет от 27 августа 1919 г.).
94 Cinema and Revolution/Ed. by Land J.Schnitzer et al. London, 1973. P. 71.
95 Декреты Советской власти. Т. 2. С. 94—95.
96 Fulup-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 150.
97 Ган А. Конструктивизм. Тверь, 1922. С. 3, 18, 48.
98 Loder С. Russian Constructivism. New Haven—London, 1983. P. 2—3.
99 The Henry Art Gallery. Art into Life: Russian Constructivism. 1914—1932. Seattle, Wash., 1990. P. 47.
100 Bowlt J.E. In: Bolshevik Culture / Ed. by A.Gleason et al. Bloomington, Ind., 1985. P. 203.
101 Kulturpolitik der Sowjetunion. S. 260—262. Об отношениях М.Шагала с коммунистами см. в кн.: Read С. Culture and Power in Revolutionary Russia. P. 89—91.
102 Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 139.
103 Schwarz B. Music and Musical Life in Soviet Russia. Bloomington, Ind., 1972. P. 18-19.
104 Ibid. P. 19-20.
105 Ibid. P. 61,63.
106 Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 245.
107 Brooks J. In: Literature and Society in Imperial Russia / Ed. By W.M.Todd. Stanford, 1978. P. 97—150; Яковлев Я. Деревня как она есть. М., 1923. С. 86.
108 Луначарский А. В. //Литературная газета. 1933. № 4—5(232—233). 29 янв. С. 1; Декреты Советской власти. Т. 2. С. 95—96, 644; Т. 3. С. 47—48, 118—119; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 182; Смирнов И.С. Ленин и русская культура. С. 347—369.
109 Известия. 1918. № 155(419). 24 июля. С. 4-5.
110 Berelowitch W. La Sovietisation de l'ecole russe. P. 10.
111 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 140—145.
112 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 76—77.
113 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. 7-е изд. М., 1953. Т. 1. С. 419.
114 От дошкольного отдела Народного комиссариата по просвещению (дек. 1917 г.). В кн.: Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1. М., [1920]. С. 119. Цит. по: Anweiler О. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland vom Ende des Zarenreiches bis zum Beginn der Stalin Ara. Heidelberg, 1964. S. 150.
115 Преображенский Е.А. О морали и классовых нормах. М.—Л., 1923. С. 101.
116 Декреты Советской власти. Т. 2. С. 358—359.
117 Thaden E. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle, 1964. P. 190.
118 Декреты Советской власти. Т. 3. С. 374—380 (Декрет от 30 сентября 1918 г.); Народное образование в СССР: Сб. док-тов. 1917—1973 гг. М., 1974. С. 137-145.
119 Anweiler О. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland... S. 190.
120 Berelowitch W. La Sovietisation de l'ecole russe. P. 65—66.
121 Крупская Н.К. Педагогические сочинения: В 10 т. М., 1963. Т. 11 (доп.). С. 192.
122 Луначарский А.В. О народном образовании. М., 1958. С. 128, 237; См. также: Anweiler О. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland... S. 123-145.
123 Директивы и документы по вопросам пионерского движения. М., 1959. С. 72.
124 Fisher R.T. Pattern for Soviet Youth. New York, 1959.
125 Anweiler O. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland... S. 155.
126 Королев Ф.Ф. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1917-1920. М., 1959. С. 277.
127 Огнев Н. (Розанов М.Г.) Дневник Кости Рябцева. М., 1966. С. 19—20.
128 Культурное строительство СССР. М., 1956. С. 80.
129 Луначарский А.В. // Известия. 1921. № 214. 25 сент. С. 1.
130 Fitzpatrick S. The Commissariat of Enlightenment. P. 286—288.
131 Луначарский о народном образовании. С. 245. Цит. по: Anweiler О. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland. S. 193. См. также: Kulturpolitik der Sowjetunion. S. 28—29.
132 Anweiler O. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland... S. 241— 242. Результаты обследования взяты из кн.: Дети и Октябрьская революция: идеология советского школьника / Под ред. В.Н.Шульгина. М, 1928.
133 Народное просвещение. 1921. № 89/90. С. 1.
134 Лучшим исследованием на эту тему остается работа В.Зензинова «Беспризорные» (Париж, 1929).
135 Там же. С. 99.
136 Луначарский А.В. // Известия. 1928. № 49. 26 февр. С. 5; Крупская Н.К. // Правда. 1923. №51.7 марта. С. 1.
137 Богуславский М. // Красная новь. 1927. № 8. С. 140-141.
138 Muggeridge M. Chronicles of Wasted Times: Chronicle I: The Green Stick. New York, 1973. P. 219.
139 Ball A. //Janrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1991.Bd.39.№ 1. S. 40—41.
140 Зензинов В. Беспризорные. С. 96.
141 Правда. 1925. № 275.2 дек. С. 1.
142 См.: Чанбарисов Ш.Х. Формирование советской университетской системы. Уфа, 1973; McClelland J.C. Bolsheviks, Professors and the Reform of Higher Education in Soviet Russia. 1917—1921. Ph.D. dissertation. Princeton University, 1970; Народное образование в СССР: Сб. док-тов. 1917-1973. М, 1974.
143 McClelland J.C. Bolsheviks, Professors and the Reform of Higher Education... P. 105.
144 Цит. по: Ульяновская В.А. Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917-1937 гг. М., 1966. С. 54.
145 Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука. 1917— 1923 гг. М., 1968. С. 263-264.
146 Vucinich A. Empire of Knowledge. Berkeley, 1984. P. 91—122; Fitzpatrick S. The Commissariat of Enlightenment. P. 68—73; Смирнов И.С. Ленин и русская культура. С. 236—297.
147 Декреты Советской власти. Т. 3. С. 381—382.
148 Emmons Т. Introduction. In: Time of Troubles: The Diary of Yurii Vladimirovich Got'e. Princeton, 1988. P. 20; Новиков М. В кн.: Московский университет. 1755—1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 159.
149 Декреты Советской власти. Т. 4. С. 311—312.
150 Известия. 1918. № 145. 12 июля. С. 4; Read С. Culture and Power in Revolutionary Russia. P. 133—141.
151 McClelland J.C. Bolsheviks, Professors and the Reform of Higher Education... P. 219—220.
152 Anweiler O. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland... S. 240—241.
153 См.: Katz Z. // Soviet Studies. 1956. Vol. 7. № 3. P. 237-247.
154 Бутягин A.C., Салтанов Ю.А. Университетское образование в СССР. М., 1957. С. 52.
155 КПСС в резолюциях... М., 1953. Т. 1. С. 892.
156 Собрание узаконений и распоряжений. 1921. № 65. 9 нояб. С. 593—598 (Декрет № 486). См.: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 13—14.
157 Жаба С. Петроградское студенчество. Париж, 1922. С. 46; Стратонов B. В кн.: Московский университет. 1755—1930. Юбилейный сборник C. 219-226.
158 Read С. Culture and Power in Revolutionary Russia. P. 181.
159 Федюкин С.А. Борьба Коммунистической партии с буржуазной идеологией. С. 249.
160 Московский университет. 1755—1930. Юбилейный сборник. С. 239— 242. См. также: Руль. 1922. № 535. 2 сент. С. 4; № 536. 3 сент. С. 3; № 555. 26 сент. С. 3. Подробнее об этом см. В главе 8 наст. изд.
161 Декреты Советской власти. Т. 3. С. 138—141.
162 Московский университет. 1755—1930. Юбилейный сборник. С. 158, 201-202.
163 Народное просвещение. 1919. № 6—7. С. 142. Ср.: Fitzpatrick S. The Commissariat of Enlightenment. P. 77.
164 McClelland J.C. // Past and Present. 1978. № 80. August. P. 123.
165 Народное просвещение. 1921. № 82. 20 мая. С. 6.
166 Read С. Culture and Power in Revolutionary Russia. P. 228.
167 Matthews M. Class and Society in Soviet Russia. New York, 1972 P. 294.
168 Zetkin K. Erinnerungen an Lenin. Berlin, 1957. S. 19.
169 Декреты Советской власти. Т. 7. С. 50—51.
170 Sullivan H. In: Encyclopaedia of the Social Sciences. New York, 1933. Vol. 9. P. 521.
171 Богданов И.М. // Народное просвещение. 1928. № 5. С. 113—114.
172 Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 402.
173 Народное хозяйство Союза ССР в цифрах. М., 1925. С. 22—23.
174 Миронов Б.Н. // История СССР. 1985. № 4. С. 137-153.
175 Народное просвещение. 1928. № 5. С. 114.
176 Там же. С. 118.
177 Крупская Н.К. Педагогические сочинения. М., 1957. Т. 9. С. 404—408.
178 Там же. С. 289.
179 Примеры взяты из кн.: Mazon A. Lexique de la guerre et de la revolution en Russie. Paris, 1920; Селищев A.M. Язык революционной эпохи. 2-е изд. М., 1928.
180 Собрание узаконений и распоряжений. 1917. № 12. 30 дек. С. 185—186 (Декрет № 176).
181 Преображенский Е.А. О морали и классовых нормах. С. 101—102.
182 Бухарин Н. Теория исторического материализма. М., 1921. С. 278—279.
183 Engels F. The Origin of the Family, Private Property and the State. New York, 1972. P. 128, 137-138.
184 Ibid. P. 139. См. также: Bebel A. Woman and Socialism. New York, 1910.
185 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 237—239.
186 Semashko N.A. Health Protection in the USSR. London, 1934. P. 82—84.
187 Лилина 3. Социально-трудовое воспитание. М., 1921. С. 24, 29.
188 Anweiler О. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland. S. 151—152.
189 Зензинов В. Беспризорные. С. 107.
190 См.: Kollontai A. The Autobiography of a Sexually Emancipated Communist Woman. New York, 1971; также см.: Farnsworth В. Alexandra Kollontai. Stanford, 1980.
191 Коллонтай А. Новая мораль и рабочий класс. М., 1919.
192 Zetkin С. Reminiscenes of Lenin. London, 1929. P. 51—59.
193 Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. М.—Пг., 1923. С. 95.
194 Там же. С. 94-95.
195 Fitzpatrick S. //Journal of Modern History. 1978. № 2. P. 268.
196 Ibid. P. 269.
197 Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. С. 79; Fitzpatrick S. //Journal of Modern History. P. 265.
198 Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. С. 80.
199 Клячкин В.Е. // Социальная гигиена. 1925. № 6. С. 130; цит. по: Fitepatrick S. //Journal of Modern History. 1978. № 2. P. 269.
200 The Family in the USSR/ Ed. by R.Schlesinger. London, 1949. P. 271-272.
201 Ibid. P. 251-254.
202 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 23—33; Heller М. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1979. Vol. 20. № 2. P. 155.
203 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 198. Впервые опубликовано в 1959 г.
204 Там же. С. 265-266.
205 РЦХИДНИ. ф. 2. Оп. 1. Д. 1338.
206 Собрание узаконений и распоряжений. 1922. №51.5 сент. С. 813—814 (Декрет № 646). Ср.: История советского государства и права / Под ред. А.П.Косицына. М., 1968. Т. 2. С. 580.
207 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1245. См. также: Heller М. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1979. Vol. 20. № 2. P. 131—172, особенно: p. 163—164; а также: Федюкин С.А. Борьба Коммунистической партии с буржуазной идеологией. С. 177; Его же. Великий Октябрь и интеллигенция. М., 1972. С. 287.
Глава седьмая
1 Read С. Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia. 1900—1912. London, 1979. P. 13.
2 Цит. по: Почему нельзя верить в бога / Под ред. Ф.О.Олещука. М., 1965. С. 221-222.
3 Цит. по: Anweiler О. Geschichte der Schule und Pedagogik in Russland. Berlin, 1964. S. 236.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. И. С. 142-147; Т. 18. С. 230-233; Т. 48. С. 226.
5 Цит. по: Валентинов А.А. Черная книга. Париж, 1925. С. 19.
6 Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. Zurich, 1926. S. 356.
7 Известия. 1923. № 5(1742). 10 янв. С. 4.
8 Curtiss J.S. The Russian Church and the Soviet. State. Boston, 1953. P. 10.
9 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. Пг., 1924. С. 56—58.
10 The Russian Provisional Government: Documents / Ed by A.Kerensky, R.P.Browder. Stanford, Calif., 1961. Vol. 2. P. 813-814, 818-819; Spinka M. The Church and the Russian Revolution. New York, 1927. P. 115; Emhardt W.C. Religion in Soviet Russia. Milwaukee, Wis.—London, 1929. P. 4.
11 Curtiss J.S. The Russian Church and the Soviet State. P. 20—21; B.R.Bociurkiw. In: The Ukraine. 1917-1921 / Ed. by T.Hunchak. Cambridge, Mass., 1977. P. 221.
12 Архиеп. Иоанн (Шаховской). Вера и достоверность. Париж 1928. С. 27.
13 Стратонов И. Русская церковная смута. 1921—1931 гг. Берлин, 1932. С. 12-13.
14 Церковные ведомости. 1917. № 36—37.С. 311—313. Цит. по: Регельсон Л. Трагедия русской церкви. 1917—1945. Париж, 1977. С. 209—210.
15 McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. London, 1924. P. 14, 77.
16 Emhardt W.C. Religion in Soviet Russia. P. 7—8.
17 Валентинов А.А. Черная книга. С. 160—161; Руль. 1923. №791. 8 июля; а также Трубецкой Г. // Руль. 1923. № 798. 17 июля. С. 2.
18 Анфимов А.Н., Макаров И.Ф. // История СССР. 1974. № 1. С. 85.
19 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 247—249.
20 Emhardt W.C. Religion in Soviet Russia. P. 19.
21 Декреты Советской власти. Т. 1. С. 374; Новая жизнь. 1918. № 3. 5 янв. С. 2; № 18. 25 янв. С. 4; Известия. 1918. № 8(272). 12 янв. С. 1; Титлинов Б. В. Церковь во время революции. С. 106.
22 См., напр.: Holmes J.H. // The Nation. 1923. № 3018. May 9. P. 542.
23 Декреты Советской власти. Т. 2. С. 561; Гидулянов П. В. Церковь и государство по законодательству РСФСР. М., 1923. С. 53—60.
24 Циркуляр от 3 марта 1919 г. Цит. по: Гидулянов П.В. Церковь и государство по законодательству РСФСР. С. 27.
25 Собрание кодексов РСФСР. 3-е изд. М., 1925. С. 549.
26 Титлинов Б.В. Церковь во время революции. С. 119—120.
27 Curtiss J.C. The Russian Church and the Soviet State. P. 57.
28 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 413—414.
29 Революция и церковь. 1920. № 9—12. С. 83.
30 Церковные ведомости. 1918. № 9—10. Цит. по: Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 234—235.
31 Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 251—255.
32 Curtiss J.C. The Russian Church and the Soviet State. P. 90—91.
33 Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 259—262.
34 Там же. С. 262-264.
35 Трубецкой Г. // Руль. 1923. № 798. 17 июля. С. 2.
36 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 120. Л. 8.
37 Pospielovsky D.M. Soviet Antireligious Campaigns and Persecutions. Houndmills—London, 1988. Vol. 2. P. 19; Гидулянов П.В. Церковь и государство по законодательству РСФСР. С. 9.
38 Fedotoff G.P. The Russian Church since the Revolution. London, 1928. P. 42—44; Pospielovsky D.M. Soviet Antireligious Campaigns and Persecutions. Vol. 2. P. 19—23.
39 Harrison M.E. Marooned in Moscow. New York, 1921. P. 134.
40 Известия. 1922. № 99(1538). 6 мая. С. 1.
41 Стратонов И. Русская церковная смута. С. 13—14.
42 Fedotoff G.P. The Russian Church since the Revolution. P. 53.
43 The Russian Revolution and Religion / Ed. by B.Szczesniak. Notre Dame, Ind., 1959. P. 67.
44 См. ниже, с. 493.
45 Пайпс Р. Русская революция. Ч.2.С.17—19.
46 См., напр.: Известия. 1922. № 32(1471). 10 февр. С. 1; Spinka M. The Church and the Russian Revolution. P. 172; McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 5; Fedotoff G.P. The Russian Church since the Revolution. P. 55.
47 Напр.: Известия. 1922. № 31(1470). 9 февр. С. 2; № 32(1471). 10 февр. С. 1.
48 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 48. Л. 76.
49 The Russian Revolution and Religion. P. 69.
50 Стратонов И. Русская церковная смута. С. 45; Известия. 1922. №32(1471). 10 февр. С. 1.
51 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 2. Д. 48. Л. 1 (датировано 2 марта 1922 г.).
52 Известия. 1922. № 46(1485). 26 февр. С. 3.
53 Трифонов И. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа (1921-1927). М., 1960. С. 21-35.
54 Emhardt W.C. Religion in Soviet Russia. P. 241—260.
55 Валентинов А.А. Черная книга. С. 253—254.
56 Известия. 1922. № 70(1509). 28 марта. С. 2.
57 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2.Д. 48. Л. 34.
58 Трифонов И. Очерки истории классовой борьбы в СССР... С. 34.
59 Известия. 1923. №82(1819). 15апр. С. 6.
60 Революция и церковь. 1923. № 1—3. С. 65; РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 48. Л. 35—36 (доклад ГПУ В.И.Ленину и другим членам Политбюро, датированный 20—21 марта 1922 г.).
61 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 48. Л. 15, 81-82.
62 Известия ЦК КПСС. 1990. № 4(303). С. 190-193.
63 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 409—410.
64 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 48. Л. 44.
65 Известия ЦК КПСС. 1990. № 4(303). С. 194-195.
66 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 48. Л. 21.
67 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1166.
68 Известия. 1922. № 89(1528). 23 апр. С. 3; Curtiss J.C. The Russian Church and the Soviet State. P. 118.
69 См., напр.: Известия. 1922. № 102(1541). 10 мая. С. 3; Правда. 1922. №101. 9 мая. С. 101.
70 Литератор. Л., 1990. № 32/37. 31 авг. С. 4.
71 Известия. 1922. № 101(1540). 9 мая. С. 3; Правда. 1922. № 101.9 мая. С. 1.
72 Волкогонов Д.А. Троцкий. М., 1992. Т. 1. С. 367; McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 26.
73 Официальный отчет об этом деле: Революция и церковь. 1923. № 1—3. С. 65-102.
74 McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 52.
75 Ibid. P. 353-358.
76 Ibid. P. XVII-XVIII, 368-369.
77 Об Андронике см.: Валентинов А.А. Черная книга. С. 36. О Гермогене: Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 242; Революция и церковь. 1919. № 3-5. С. 48.
78 Harrison M.E. Marooned in Moscow. P. 132.
79 Введенский А.И. Церковь и государство. М., 1923. С. 230; The Russian Revolution and Religion. P. 156—157; McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. IX.
80 Bychkov S. // Moscow News. 1990. № 32. P. 8—9; Еременко В. //Литературная Россия. 1990. № 50(1454). 14 дек. С. 16—18.
81 Известия. 1922. № 208(1647). 16 сент. С. 1.
82 McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 27; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 4. С. 236.
83 Вакурова А. В кн.: Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет / Под ред. М.Енишерлова и др. М., 1932. С. 305.
84 Криницкий М. // Известия. 1923. № 5(1742). 10 янв. С. 4.
85 Pospielovsky D.M. Soviet Antireligious Campaigns and Persecutions. Vol. 2. P. 44 (цитирует: Безбожник. 1923. № 8. С. 2).
86 New York Times. 1922. December 15. P. 4.
87 Ibid.
88 Fedotoff G.P. The Russian Church since the Revolution. P. 47—48.
89 КПСС в резолюциях... М, 1953. Т. 1. С. 744.
90 Гидулянов П. В. Церковь и государство по законодательству РСФСР. С. 11-13.
91 Трифонов И. Очерки истории классовой борьбы в СССР... С. 33—34.
92 РЦХИДНИ.Ф.5.Оп. 1.Д. 120.Л. 12-13.
93 Там же. Оп. 2. Д. 48. Л. 10,13.
94 См. «Воззвание группы священников», опубликованное в «Красной газете» 25 марта и перепечатанное в «Известиях» (1922. № 71(1510). 29 марта. С. 2).
95 Pascal P. The Religion of the Russian People. London—Oxford, 1976. P. 94; Bychkov S. // Moscow News. 1990. № 32. P. 8-9.
96 Fedotoff G.P. The Russian Church since the Revolution. P. 67.
97 Живая церковь. 1922. № 2. 23 мая. С. 1; Emhardt W.C. Religion in Soviet Russia. P. 61.
98 Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 286; Известия. 1922. № 108 (1547). 17 мая. С. 1.
99 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 740-743.
100 Curtiss J.C. The Russian Church and the Soviet State. P. 139.
101 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 124—130. См. его статью в поддержку конфискации церковных ценностей (Известия. 1922. № 102 (1541). 10 мая. С. 3).
102 Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 313.
103 Emhardt W.C. Religion in Soviet Russia. P. 59—123.
104 McCullagh F. The Bolshevik Persecution of Christianity. P. 68—78; Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 327—329.
105 РЦХИДНИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 118. Л. 5.
106 Известия. 1923. № 141(1878). 27 июня. С. 1; см. также: Известия. 1923. № 149(1886). 6 июля. С. 6; № 153(1890). 11 июля. С. 5.
107 Известия. 1925. № 86(2419). 15 апр. С. 1; Куроедов В.А. Религия и церковь в советском государстве. М., 1981. С. 75—76.
108 Fedotoff G.P. The Russian Church since the Revolution. P. 68.
109 КПСС в резолюциях... Т. 1. С. 858.
110 Levin N. The Jews in the Soviet Union since 1917. New York—London, 1988. Vol. 1. P. 70-71.
111 Yodfat A.Y. // Soviet Jewish Affairs. 1973. Vol. 3. № 1. P. 49.
112 Цит. по: Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet Politics. Princeton, 1972. P. 304.
113 Levin N. The Jews in the Soviet Union since 1917. Vol. 1. P. 57.
114 Ibid. P. 64—65; Десятый съезд РКП(б): стеногр. отчет. М., 1963. С. 446— 447.
115 Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet Politics. P. 298—299.
116 Gitelman Z. A Century of Ambivalence. New York, 1988. P. 118.
117 Регельсон Л. Трагедия русской церкви. С. 310.
118 Yodfat A.Y. // Soviet Jewish Affairs. 1973. Vol. 3. № 1. P. 49.
119 New York Times. 1923. April 10. P. 3.
120 Yodfat A.Y.//Soviet Jewish Affairs. 1973. Vol. 3. № 1.P.51.
121 Gitelman Z. Jewish Nationality and Soviet Politics. P. 306.
122 Ibid. P. 477.
123 Levin N. The Jews in the Soviet Union since 1917. Vol. 1. P. 325—328.
124 Революция и церковь. 1923. № 1—3. С. 102-116.
125 Методы антирелигиозной пропаганды среди мусульман М., 1922. С. 4-5.
126 Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay С. Islam in the Soviet Union. New York-Washington, 1967. P. 141.
127 Ibid. P. 144-149.
128 Новая жизнь. 1918. № 83(298). 4 мая. С. 3.
129 Fischer L. // Current History. 1923. July. P. 597.
130 Stora-Sandor J. Alexandra Kollontai: Marxisme et la revolution sexuelle. Paris, 1973. P. 32-33.
131 Стратрнов И. Русская церковная смута. С. 14. См. также: d'Herbigny M. L'aspect religieux de Moscou en octobre 1925 // Orientalia Christiana. 1926. № 20. P. 189, 192; Harrison M.E. Marooned in Moscow. P. 130, 133-134.
132 Harrison M.E. Marooned in Moscow. P. 132—133.
133 Fulop-Miller R. Geist und Gesicht des Bolschewismus. S. 356—357.
Глава восьмая
1 Kondratieva Т. Bolsheviks and Jacobins. Paris, 1989.
2 Dennis ALP. The Foreign Policies of Soviet Russia. New York, 1924. P. 418 (цитата из: Ost-Information. 1922. № 191. January 11).
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 61; Т. 44. С. 310—311.
4 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1961. С. 137.
5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 86
6 Там же. С. 18, 24; Т. 44. С. 159.
7 Pipes R.Struve: Liberal on the Left.Cambridge, Mass., 1970.
8 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 205—245.
9 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 352—354
10 Там же. С. 354-355.
11 Там же. С. 381—382. Об этом см. также: Сарабьянов В. Экономика и экономическая политика СССР. 2-е изд. М., 1926. С. 204—247.
12 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1963. С. 290. См. также: Avrich P. Kronstadt 1921. New York, 1970 (цитата из: Красная газета. 1921. 9 февр.); League of Nations. Report on Economic Conditions in Russia, n.p., 11922]. P. 16.
13 Крицман Л.Н. Героический период великой русской революции. 2-е изд. М., 1926. С. 166.
14 Berkman A. The Kronstadt Rebellion. Berlin, 1922. P. 5.
15 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. Stanford, 1976. P. 32-33.
16 См.: Brovkin V. Behind the Front Lines of the Civil War: Political parties and social movements in Russia. 1918—1922. Princeton, N.J., 1994.
17 Singleton S. // Slavic Review. 1966. № 3. September. P. 498—499.
18 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 3055, 2475, 2476 за май 1919 г., вторую половину 1920 г. и 1921 г., соответственно; там же. Ф. 2. Оп. 2. Д. 303 (первая половина мая 1920 г.).
19 Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа. Л., 1964. Т. 1.С. 4.
20 Гриф секретности снят / Под ред. Г.Ф.Кривошеева. М., 1993. С. 54.
21 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 231—239.
22 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 347.
23 Там же. С. 350.
24 См. выше, с. 140.
25 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. P. 69.
26 См.: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 128—129, 133—134.
27 Выступление Н.И.Бухарина на III конгрессе Коминтерна 8 июля 1921 г. (The New Economic Policies of Soviet Russia. Chicago, [1921]. P. 58).
28 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. С. 161.
29 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. Гл. 8.
30 Balabanoff A. Impressions of Lenin. Ann Arbor, Mich., 1964. P. 54—55.
31 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 494-497.
32 Яковлев Я. Деревня как она есть. М., 1923. С. 86, 96—98.
33 Окнинский А. Два года среди крестьян. Рига, 1936. С. 290—292.
34 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia; Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России. 1918—1921 гг. [Иерусалим, 1988]. Гл. 5; Figes О. Peasant Russia Civil War. Oxford, 1989. Chapter 7. Коммунистическую точку зрения см.: Трифонов Й.Я. Классы и классовая борьба в СССР. Т. 1. С. 245—259. Новые материалы из военных архивов были недавно опубликованы П.А.Аптекарем в «Военно-историческом журнале» (1993. № 1. С. 50—55; № 2. С. 66—70).
35 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 492-495.
36 Подбельский Ю. // Революционная Россия. 1921. № 6. С. 23—24.
37 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. P. 48—58.
38 Ibid. P. 75.
39 Исторический архив. 1962. № 4. С. 203.
40 О Саратове см.: Figes О. Peasant Russia Civil War. Chapter 7.
41 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 424-425.
42 Родина. 1990. № 10. С. 25.
43 Jansen M. Show Trial under Lenin. The Hague, 1982. P. 15; Исторический архив. 1962. № 4. С. 207-208; The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 498, 554; Френкин М. Трагедия крестьянских восстаний в России. С. 128—129, 132-133; Singleton S. // Slavic Review. 1966. № 3. P. 501.
44 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 510-513.
45 Правда. 1921. №14.22 янв. С. 3
46 Экономическая жизнь. 1921. № 14. 22 янв. С. 2.
47 Ленин В.И. Соч. 3-е изд. Т. 26. С. 640; Правда. 1921. № 27. 8 февр. С. 1; Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 861-862; РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп.З.Д.166.
48 Правда. 1921. № 32. 13 февр. С. 4.
49 РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 167.
50 Там же.
51 Berkman A. The Kronstadt Rebellion. P. 6; The Bolshevik Myth. London, 1925. P. 292.
52 Avrich P. Kronstadt 1921. P. 62-71.
53 Ibid. P. 69.
54 Правда о Кронштадте. Прага, 1921. С. 8—10.
55 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 23—24.
56 Berkman A. The Kronstadt Rebellion. P. 31—32; Троцкий Л. Как вооружалась революция. Т. 3. Ч. 1. М., 1924. С. 202.
57 Петроградская правда. 1921. № 48. 4 марта. Цит. по: Кронштадтский мятеж / Под ред. Н.Корнатовского. Л., 1931. С. 188—189.
58 Berkman A. The Kronstadt Rebellion. P. 14-15, 18, 29.
59 РЦХИДНИ. Ф. 76. On. 3. Д. 167.
60 Правда о Кронштадте. С. 68.
61 РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 167 (Доклад ЧК).
62 Правда о Кронштадте. С. 82—84.
63 РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 167.
64 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2477 (за период с 31 января по 21 июня 1921 г.).
65 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24558.
66 Есиков С.А., Протасов Л.Г. // Вопросы истории. 1992. № 6—7. С. 52.
67 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 480-481.
68 Исторический архив. 1962. № 4. С. 204.
69 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 480-481.
70 Ibid. P. 532-534.
71 Sorokin PA. Leaves from a Russian Diary. Boston, 1950. P. 254—256.
72 «Москвич» // Воля России. 1921. № 264. 27 июля. С. 2.
73 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. P. 324.
74 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 536-537, 544-545.
75 Ibid. P. 562-563.
76 Военно-исторический журнал. 1993. № 1. С. 53.
77 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. P. 372—376.
78 Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР. Т. 1. С. 6.
79 Там же. С. 265-270.
80 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 430.
81 Правда. 1921. №51.8 марта. С. 1; Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. P. 229.
82 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 415,418.
83 Radkey O.H. The Unknown Civil War in Soviet Russia. P. 31.
84 Цюрупа АД. В кн.: Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 422.
85 Move A. An Economic History of the USSR. Harmondsworth, England, 1982. P. 94.
86 Известия. 1921. № 62(1205). 23 марта. С. 2.
87 РЦХИДНИ. Ф. 5. Oп. 2. Д. 9.
88 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 57—58.
89 Там же. С. 69—70; Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 224,468.
90 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. С. 60—61.
91 Собрание узаконений и распоряжений. 1921. № 38.11 мая. С. 205—208 (Декрет от 21 апреля 1921 г.); Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике (1921—1922). М., 1954. С. 123-124.
92 Собрание узаконений и распоряжений. 1921. № 26. 11 апреля. С. 153 (ст. 147).
93 Carr Е.Н. The Bolshevik Revolution. New York, 1952. Vol. 2. P. 283-284.
94 Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике. С. 302.
95 Поляков Ю.А. В кн.: Новая экономическая политика. М., 1974. С. 5.
96 Dobb M. Soviet Economic Development since 1917. London, 1948. P. 131.
97 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 407. См.: Поляков Ю.А. Переход к НЭПу и советское крестьянство. М., 1967.
98 Arnold A.Z. Banks, Credit and Money in Soviet Russia. New York, 1937. P. 126.
99 Carr E.H. The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 350-352.
100 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 225.
101 Мец Н.Д. Наш рубль. М., 1960. С. 68.
102 Советское народное хозяйство в 1921—1925 гг. М., 1960. С. 495—496, 498.
103 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 289-290.
104 РЦХИДНИ.Ф.5.ОП.2.Д.27.Л.34.
105 Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике. С. 232—233.
106 Carr E.H. The Bolshevik Revolution. Vol. 2. P. 302-303.
107 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 385—386.
108 Ball A.M. Russia's Last Capitalists. Berkeley, 1987. P. 21-22.
109 Ball A.M. Russia's Last Capitalists.
110 Советское народное хозяйство в 1921—1925 гг. С. 73, 343.
110 Киселев А.А. В кн.: Новая экономическая политика. С. 113.
112 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 159.
113 Liberman S. Building Lenin's Russia. Chicago, 1945. P. 60.
114 Симонов H.C. // История СССР. 1992. № 1. С. 52.
115 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 151.
116 Там же.С.412.
117 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1154 (Документ составлен И.С.Уншлихтом, датирован 27 февраля 1922 г.).
118 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 327-329.
119 Gerson L.G. The Secret Police in Lenin's Russia. Philadelphia, 1976. P. 222.
120 Известия. 1922. № 30(1469). 8 февр. С. 3.
121 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 196.
122 См. выше.
123 Собрание узаконений и распоряжений. 1922. № 65. 6 нояб. С. 1053 (Декрет № 844).
124 Там же. 1923. № 8. 10 марта. С. 185 (Постановление № 108 от 3 января 1923 г.); Gerson L.G. The Secret Police in Lenin's Russia. P. 249—250.
125 Известия. 1922. № 236(1675). 19 окт. С. 3.
126 Gerson L.G. The Secret Police in Lenin's Russia. P. 228.
127 См. ниже.
128 Kaminski A. Konzentrationslager 1896 bis heute: eine Analyse. Stuttgart, 1982. S. 87. Ср.: Gerson L.G. The Secret PoDce in Lenin's Russia. P. 256—257.
129 Масаев С. // Руль. 1931. № 3283. 13 сент. С. 5. Ср.: Gerson L.G. The Secret Police in Lenin's Russia. P. 314.
130 Dallin D.J., Nicolaevsky B.I. Forced Labour in Soviet Russia. New Haven, 1947. P. 173; Социалистический вестник. 1924. № 9(79). 17 апр. С. 14.
131 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190.
132 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. С. 406.
133 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190.
134 Сорок лет советского права. Л., 1957. Т. 1. С. 74—75.
135 Гражданский кодекс РСФСР. М., 1923. С. 5; Berman H. Justice in Russia. Cambridge, Mass., 1950. P. 27.
136 Уголовный кодекс РСФСР. 2-е изд. М., 1922. С. 3 (ст. 6).
137 Собрание узаконений и распоряжений. 1923. № 48. 25 июля. С. 877 (Декрет № 479).
138 Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР. Часть особенная. Л., 1925. С. 30.
139 Трайнин А.Н. Уголовное право. Общая часть. М., 1929. С. 260—261.
140 Лацис М.И. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921. С. 16-17.
141 Социалистический вестник. 1921. № 5. С. 12—14.
142 Двенадцатый съезд РКП(б). М., 1968. С. 52.
143 Следующий рассказ большей частью основан на: Jansen M. Show Trial under Lenin.
144 В.ИЛенин и ВЧК. М, 1987. С. 518.
145 Семенов Г. Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917—1918 гг. Берлин, 1922.
146 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 396—397.
147 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 708-709.
148 Ленин В.И. Соч. 3-е изд. Т. 27. С. 537-538.
149 Jansen M. Show Trial under Lenin. P. 29.
150 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 516—517.
151 РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 252.
152 Jansen M. Show Trial under Lenin. P. 66.
153 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. Oxford, 1990. P. 206.
154 Процесс контрреволюционной организации меньшевиков. М., 1931.
155 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 90.
156 New York Times. 1922. July 27. P. 19.
157 Ibid. August 10. P. 4.
158 Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 211—212. Ср.: Фотиева Л.А. Из жизни В.ИЛенина. М., 1967. С. 183-184.
159 New York Times. 1922. August 10. P. 4,
160 Jansen M. Show Trial under Lenin. P. 178.
161 Троцкий Л. Литература и революция. 2-е изд. М., 1924. С. 165.
162 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 223.
163 Carr E.H. Socialism in One Country. 1924-1926. New York, 1960. Vol. 2. P. 78.
164 Об этих противоречиях см.: там же. С. 76—87.
165 Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. М., 1925. С. 120.
166 Правда. 1924. № 40.19 февр. С. 6.
167 Read С. Culture and Power in Revolutionary Russia. London, 1990. P. 203.
168 Тринадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1963. С. 653—654.
169 Carr E.H. Socialism in One Country. Vol. 2. P. 82—83.
170 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 213.
171 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 667; Т. 53. С. 391.
172 Там же. Т. 43. С. 13-14.
173 Революционная Россия. 1921. № 14/15. С. 14—15.
174 Hutchinson L. In: Colder F.A., Hutchinson L. On the Trail of the Russian Famine. Stanford, 1927. P. 14.
175 Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. New York, 1927. P. 50.
176 Ingersoll J.M. Historical Examples of Ecological Disasters. Harmon-on-Hudson, N.Y., 1965. P. 20.
177 Покровский В.И. В кн.: Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства / Под ред. А.И.Чупрова, А.С.Посникова. СПб., 1897. Т. 2. С. 202.
178 Ден В.Э. Курс экономической географии. Л., 1924. С. 209; Figes О. Peasant Russia Civil War. P. 272.
179 Цит. по: Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. P. 90.
180 Революционная Россия. 1921. № 14/15. С. 15.
181 Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. P. 300.
182 Ibid. P. 436.
183 Robbins R.G. Famine in Russia. New York—London, 1975.
184 Ibid. P. 171.
185 Heller M. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1979. Vol. 20. № 2. P. 137.
186 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 184-185, 290,441-442; Т. 53. С. 105.
187 Там же. Т. 43. С. 350.
188 Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии / Под ред. Г.А.Белова и др. М, 1958. С. 443—444.
189 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 117.
190 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 75.
191 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 119.
192 Известия. 1922. № 159(1302). 22 июля. С. 2; Heller M. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1979. Vol. 20. № 2. P. 131-172; Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. P. 51.
193 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 110-111,115.
194 Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. P. 52—53.
195 Впервые опубликовано в 1965 г.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 141-142.
196 Weismann B.M. Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia. Stanford, 1974. P. 76.
197 Геллер М. Введение. В кн.: Помощь. Лондон, 1991. С. 2.
198 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1023 (Доклад И.С.Уншлихта В.И.Ленину. 21 ноября 1921 г.).
199 Heller М. // Cahiers du monde russe et sovietique. 1979. Vol. 20. № 2. P. 152-153; Известия. 1922. № 206(1645). 14 сент. С. 4.
200 Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. P. 298.
201 Hutchinson L. In: Colder F.A., Hutchinson L. On the Trail of the Russian Famine. P. 18.
202 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 830 (23 августа 1921 г.).
203 См., напр.: Ленин В.И. Соч. 3-е изд. Т. 27. С. 514.
204 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 837.
205 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 596-599; РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 914.
206 Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. Chapter 14.
207 Ibid. P. 315, 321; New York Times. 1922. October 16. P. 4.
208 Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. P. 321.
209 Ibid. P. 321-322.
210 Ден В.Э. Курс экономической географии. С. 209.
211 Экономическая жизнь. 1922. № 292, 24 дек. С. 5; Figes О. Peasant Russia Civil War. P. 271.
212 Ingersoll J.M. Historical Examples of Ecological Disasters. P. 36; Scheibert P. Lenin an der Macht. Weinheim, 1984. S. 166.
213 Ден В.Э. Курс экономической географии. С. 210.
214 Ingersoll J M. Historical Examples of Ecological Disasters. P. 27.
215 Цит. по: Джонсон X. // Страна и мир. Munchen, 1992. № 2(68). С. 21.
216 Braunthal J. History of the International. New York—Washington, 1967. Vol. 2. P. 258.
217 Бухарин Н.И.// Известия. 1923. № 6(1743). Пянв.С.З.
218 Protokoll des vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale. Hamburg, 1923. S. 994-997.
219 Ibid. S. 807.
220 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 263.
221 Dennis A.L.P. The Foreign Policies of Soviet Russia. P. 366.
222 Ibid. P. 369.
223 Deutscher I. The Prophet Unarmed. Widner, 1959. P. 61—65.
224 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 131.
225 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 245—250; The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 704-705.
226 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 264.
227 Ibid. P. 269 (цитируется: Protokoll des Internationalen Sozialistischen Arbeiter-kongressen in Hamburg. Berlin, 1923. S. 80).
228 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 270 (цитируется: Protokoll des Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongressen. S. 105, 107).
229 Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. Boppard am Rhein, 1984. S. 50—65.
230 Ibid. S. 46-47.
231 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 55—83 (впервые опубликовано в 1963 г.).
232 Himmer R.G. // Central European History. 1976. Vol. 9. № 2. P. 155.
233 Correspondence with Mr. Krassin Respecting Russia's Foreign Indebtedness. Parliamentary Papers. Russia. London, 1921. Cmd. 1546. № 3. P. 4-5.
234 Documents on German Foreign Policy. Washington, D.C., 1959. Series С Vol. 2. P. 81.
235 Freund G. Unholy Alliance. New York, 1957. P. 92. См. Также: Carr E.H. The Bolshevik Revolution. New York, 1953. Vol. 3. P. 361—364; Deutscher I. Prophet Unarmed. P. 57—58.
236 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 440-443.
237 Freund G. Unholy Alliance. P. 149.
238 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 2103. Л. 84; Ф. 2. On. 2. Д. 1124
239 Там же. Ф. 2. On. 2. Д. 897, 933,939.
240 Freund G. Unholy Alliance. P. 99; Carsten F.L. // Survey. 1962. № 44—45. P. 119.
241 Helbig H. Die Tragerder Rapallo-Politik. Gottingen, 1958. P. 79-81.
242 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 407—408.
243 Впервые опубликовано: Литературная газета. 1972. № 45. 5 нояб. С. 11.
244 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 656-659; РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 27069.
245 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 2. Д. 27. Л. 74.
246 Kessler H. In the Twenties. New York, [1971]. P. 176.
247 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 70.
248 Экономическая жизнь. 1922. № 71. 29 марта. С. 1.
249 Dennis A.L.P. The Foreign Policies of Soviet Russia. P. 427.
250 Ibid. P. 431-432.
251 Freund G. Unholy Alliance. P. 116-117.
252 Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапялльского договора. М., 1971. Т. 2. С. 485—486.
253 New York Times. 1922. April 18. P. 1.
254 Советско-германские отношения. Т. 2. С. 486—487.
255 Dennis A.L.P. Foreign Policies of Soviet Russia. P. 430.
256 Freund G. Unholy Alliance. P. 148.
257 Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 84; Laqueur W. Russia and Germany. London, 1965. P. 132.
258 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 104—105. Ср.: Ost-Information. Berlin, 1920. № 81. December 4 (цит. по: Dennis A.L.P. Foreign Policies of Soviet Russia. P. 155).
259 Freund G. Unholy Alliance. P. 153; Fischer L. The Soviets in World Affaires. London, 1930. Vol. 1. P. 451; Hilger G. The Incompatible Allies. New York, 1953. P. 120.
260 Spencer A. // Survey. 1962. № 44-45. P. 139.
261 Luks L. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Stuttgart, 1984. S. 62.
262 Fischer R. Stalin and German Communism. London, 1948. P. 265.
263 Mielcke K. Dokumente zur Geschichte der Weimarer Republik. Braunschweig, 1951. S. 46, 48.
264 Protokoll: Funfter Kongress der Kommunistischen Internationale. Hamburg, [1925]. Vol. 2. S. 713; Die Lehren derdeutschen Ereignisse: Das Presidium des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale zur deutschen Frage. Hamburg, 1924. S. 18; Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 277.
265 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 277.
266 Flechtheim O.K. Die Kommunistische Partei Deutschlands in der Weimarer Republik. Offenbach a.M., 1948. S. 89.
267 Braunthal J. History of the International. Vol. 2. P. 278—279; Freund G. Unholy Alliance. P. 172.
268 Carr E.H. The Interregnum. 1923-1924. New York, 1954. P. 209-212.
269 Ibid. P. 218; Беседовский Г.З. На путях к термидору. Париж, 1930. Т. 1. С. 123.
270 Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 105-106.
271 Kochan L. Russia and the Weimar Republic. [Cambridge], Bowes, 1954. P. 60—61; Fischer R. Stalin and German Communism. P. 515—536; Abramovitch R.R. The Soviet Revolution. New York, 1962. P. 247—258.
272 Freund G. Unholy Alliance. P. 125.
273 Gatzke H.W. //American Historical Review. 1958. Vol. 63. № 3. P. 573-576.
274 Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 113-114.
275 Gatzke H.W. // American Historical Review. 1958. Vol. 63. № 3. P. 578; Muller R.-D. Das Tor zur Weltmacht. S. 144—145.
276 Freund G. Unholy Alliance. P. 207-208.
277 Ibid. P. 209.
278 Speidel H. //Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 1953. Vol. 1. № 1. S. 28.
279 Freund G. Unholy Alliance. P. 209.
280 Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР. М, 1992. С. 20-23.
281 Freund G. Unholy Alliance. P. 210; Speidel H. // Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 1953. Vol. 1. № 1. S. 35.
Глава девятая
1 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М, 1963. С. 84.
2 de Tocqueville A. The Ancient Regime and the French Revolution. Chapter 12.
3 Одиннадцатый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. М., 1961. С. 545.
4 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 352.
5 РЦХИДНИ. Ф. 76. Д. 265.
6 Orlovsky D. In: Party, State and Society in the Russian Civil War / Ed. by D.P.Koenker et als. Bloomington, Ind., 1989. P. 180—209.
7 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 2. Д. 27. Л. 9.
8 Социалистический вестник. 1921. № 2. 16 февр. С. 1.
9 О централизации и бюрократизации коммунистической партии см.: Fainsod M. How Russia is Ruled. Rev. ed. Cambridge, Mass., 1963. Chapter 6; Schapiro L. The Origin of the Communist Autocracy. Cambridge, Mass., 1977. Part 3.
10 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 499 (Выступление Н.Н.Крестинского).
11 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 112.
12 Правда. 1923. № 17. 26 янв. С. 3; Панцов А.В. // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 80.
13 Fainsod М. How Russia is Ruled. P. 181.
14 Ibid. P. 181.
15 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 97 (Выступление Рафаила (Р.Б.Фарбмана)).
16 Зайцев И. // Новый день. 1918. № 16. 12 апр. С. 1; Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 72—73.
17 Shteppa К. In: Wolin S., Slusser R.M. The Soviet Secret Police. New York, 1957. P. 86-87.
18 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 398; Т. 45. С. 53.
19 См., напр.: Восьмой съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959. С. 27-28, 164—167 (Выступление Н.Осинского); Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 57—58 (Выступление А.А.Сольца).
20 Коммунист. Астрахань, 1919. № 6. 11 янв. Цит. по: Известия. 1919. №12(564). 18 янв. С. 4.
21 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 122—124.
22 Александров. Кто управляет Россией? Берлин, [1933J. С. 28.
23 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 60 (Выступление А.А. Сольца).
24 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 71—87.
25 Подщеколдин А. // Аргументы и факты. 1990. № 27(508). 7—13 июля. С. 2.
26 Berkman A. The Bolshevik Myth. London, 1925. P. 43.
27 РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 2. Д. 1005.
28 Десятый съезд РКП (б). Стеногр. отчет. С. 92 (Выступление С.К.Минина).
29 Allilueva S. Twenty Letters to a Friend. New York, 1967. P. 26—27; Волко-гонов Д. Триумф и трагедия. М., 1989. Т. 1. Ч.1.С. 190; Его же. Троцкий. М., 1992. Т. 1. С. 345.
30 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 649,266.
31 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 444-447.
32 Волкогонов Д. Троцкий. Т. 1. С. 379—380.
33 Carr Е.Н. Tne Interregnum. 1923-1924. New York, 1954. P. 277-278; Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 555.
34 Carr Е.Н. The Interregnum... P. 278.
35 Правда. 1921. № 64. 25 марта. С. 1.
36 Fainsod M. How Russia is Ruled. P. 182.
37 КПСС в резолюциях... М., 1953. Т. 1. С. 576.
38 Одиннадцатый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 156—157.
39 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. Oxford, 1990. P. 154.
40 Александров. Кто управляет Россией? С. 22—23.
41 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 137.
42 Dewar M. Labour Policy in the USSR. 1917—1928. New York, 1956. S. 162-163.
43 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 88.
44 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 158.
45 Антонов-Саратовский В.П. Советы в эпоху военного коммунизма. М, 1929. Ч. 2. С. 57, 68, 97-100.
46 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 161—168; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 383—388.
47 Fitzpatrick S. The Commissariat of Enlightenment. Cambridge, Mass., 1970. P. 24.
48 Крицман Л.Н. Героический период Великой Русской Революции. М.-Л., 1926. С. 197.
49 Гимпельсон Е.Г. Советский рабочий класс. 1918—1920 гг. М., 1974. С. 122.
50 Там же. С. 81; Крицман Л.Н. Героический период Великой Русской Революции. С. 198.
51 Яковлев Я. Деревня как она есть. М., 1923. С. 121,
52 Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978. С. 87.
53 Социалистический вестник. 1921. № 1. 1 февр. С. 1. Ср.: Goldschmidt А. Die Wirtschaftsorganisation Sowjet-Russlands. Berlin, 1920. S. 141; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 65.
54 Изменения социальной структуры советского общества. Октябрь 1917—1920. М., 1976. С. 268; Крицман Л.Н. Героический период Великой Русской Революции. С. 198; Экономическая жизнь. 1922. № 101. 9 мая. С. 2.
55 Ирошников М.П. В кн.: Проблемы государственного строительства в первые годы Советской власти: Сб. ст. Л., 1973. С. 54.
56 Rigby Т.Н. Lenin's Government: Sovnarkom, 1917—1922. Cambridge, 1979. P. 62.
57 Ирошников М.П. В кн.: Проблемы государственного строительства... С. 55.
58 Rigby Т.Н. Lenin's Government... P. 51.
59 Berkman A. The Bolshevik Myth. London, 1925. P. 219-220.
60 Dewar M. Labour Policy in the USSR. P. 179—180.
61 Goldschmidt A. Moskau 1920. Berlin, 1920. S. 62, 88.
62 Собрание узаконений и распоряжений. 1918. № 35. 18 мая. С. 436—437 (Декрет № 467).
63 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 383.
64 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24625 (А.Г.Шляпников - В.И.Ленину, 21 августа 1921 г.).
65 Rigby Т.Н. Lenin's Government. P. 149—156.
66 Девятый съезд РКП(б). Протоколы. М., 1960. С. 411.
67 Там же. С. 177.
68 Там же. С. 417.
69 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 813—815.
70 Там же. С. 240.
71 Об этом см.: Pipes R.Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement. 1885—1897. Cambridge, Mass., 1963.
72 Коллонтай A.M. Рабочая оппозиция. На правах рукописи. М., 1921. Англ, изд.: The Worker's Opposition in Russia. London, n.d.
73 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 651—656.
74 Там же. С. 685-691.
75 Там же. С. 359-360, 362, 530.
76 Там же. С. 27-29.
77 Там же. С. 223—224; Дан Ф. Два года скитаний. Берлин, 1922. С. 122.
78 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 37—38.
79 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 530.
80 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 147—149.
81 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 351—352.
82 Там же. С. 350.
83 См. выше.
84 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 71—76.
85 Там же. С. 361.
86 Там же. С. 571-576, 769.
87 Schapiro L. The Origin of the Communist Autocracy. P. 319—320.
88 Trotsky L. The Revolution Betrayed. New York, 1937. P. 96.
89 Deutscher I. The Prophet Unarmed: Trotsky, 1921—1929. London, 1959. P. 115-116.
90 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 583—602, 46.
91 Десятый съезд РКП(б). Стеногр. отчет. С. 778; Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 583—597; Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1968. С. 729-759.
92 Роговин В. Была ли альтернатива? М., 1992. С. 89.
93 Волин С. Деятельность меньшевиков в профсоюзах при Советской власти. Нью-Йорк, 1982. С. 87.
94 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 127 (выступление В.В.Косиора); С. 54—55 (выступление В.М.Молотова).
95 Carr E.H. The Interregnum. P. 292—293; Deutscher I. Stalin. New York, 1967. P. 258.
96 РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 4376.
97 Каменев Г.А. В кн.: Реввоенсовет Республики. М., 1991. С. 115. Ср.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 4(291). С. 161-168.
98 Петренко Н. // Минувшее. Париж. 1986. № 2. С. 198.
99 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24760.
100 Правда. 1923. № 56.14 марта. С. 4.
101 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 402.
102 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 430.
103 Троцкий Л. Моя жизнь. Берлин, 1930. Т. 2. С. 246.
104 Deutscher I. The Prophet Unarmed. P. 34.
105 Революционная Россия. 1921. № 3. С. 7.
106 Кораблев Ю.И. В кн.: Реввоенсовет Республики. М., 1991. С. 51.
107 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 393—395.
108 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1164; Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 817.
109 Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1.4. 1. С. 116.
110 Штейнбергер Н. // Вопросы истории. 1989. № 9. С. 175-176.
111 Там же.
112 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 53, 59.
113 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 100-103,114.
114 Ленинский сборник. XXIII. С. 228.
115 Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1. Ч.1. С. 136.
116 Deutscher I. Stalin. P. 234.
117 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 49, 56.
118 Pethybridge R. One Step Backwards, Two Steps Forward. P. 155.
119 РЦХИДНИ. Ф. 76. On. З.Д. 253.
120 Там же. Д. 270.
121 Одиннадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 84—85 (выступление Е.Преображенского); Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 122.
122 Известия ЦК КПСС. 1991. № 4(315). С. 198; Carr E.H. The Interregnum. P. 290—291; Fainsod M. How Russia is Ruled. P. 186; Васецкий Н. Ликвидация. M., 1989. С 33.
123 РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1.Д. 1315. Л. 1-4.
124 Deutscher I. The Prophet Unarmed. P. 73.
125 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 113-114.
126 Trotsky Archive. Houghton Library. Harvard University. T-746, T-747 (документы датированы соответственно 18 и 19 апреля 1922 г.), см. также прим. 108.
127 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 180-182.
128 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 207-208.
129 Известия ЦК КПСС. 1989. № 12(299). С. 198.
130 Там же. №4(291). С. 185.
131 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 24699.
132 Carr E.H. The Interregnum. P. 270.
133 Allilueva S. Twenty Letters to a Friend. P. 29—31; Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1. Ч.1. С. 191.
134 Eastman M. Since Lenin Died. London, 1925. P. 18.
135 Известия ЦК КПСС. 1989. № 12(299). С. 198.
136 The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 831.
137 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 212.
138 Наумов В. // Коммунист. 1991. № 5. С. 36.
139 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 327.
140 Souvarine В. Stalin. Paris, 1977. P. 269—270; Красин Л.Б. В кн.: Воспоминания о В.ИЛенине. М., 1957. Т. 2. С. 570—575.
141 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 324, 325-326.
142 РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 27. Л. 88.
143 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 485.
144 Trotsky L. The Real Situation in Russia. New York, 1928. P. 304—305; Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 215—217.
145 В.И.Ленин. Биографическая хроника. М., 1982. Т. XII. С. 542—543.
146 Ульянова М. // Известия ЦК КПСС. 1991. № 6(317). С. 190.
147 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 327-328.
148 Ульянова М. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12(299). С. 198.
149 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 674—675.
150 Там же. Т. 45. С. 710.
151 Троцкий Л.//Бюллетень оппозиции. 1935. № 46. С. 4.
152 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 383-388.
153 Правда. 1923. № 16.25 янв. С. 1. Ср.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 387.
154 Впервые опубликовано в «Известиях ЦК КПСС» (1989. № 11(298). С. 179-180).
155 Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 198—199.
156 Pipes R. Formation of the Soviet Union. Rev.ed.Cambridge, Mass., 1964. P. 278.
157 Десятый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 203 (выступление В.П.Затонского).
158 Pipes R. Formation of the Soviet Union. P. 266—269.
159 Ibid. P. 270; Известия ЦК КПСС. 1989. № 9(296). С. 191.
160 Сталинский проект впервые был опубликован в 1964 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 557—558). Архивные материалы о дискуссии по поводу его проекта «автономизации» см.: Известия ЦК КПСС. 1989. №9(296). С. 191-218.
161 Ленин В.И. Соч. 3-е изд. Т. 25. С. 624.
162 Известия ЦК КПСС. 1989. № 9(296). С. 196.
163 Там же. С. 199.
164 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 211—213. Впервые опубликовано в 1959 г.
165 Там же. Т. 45. С. 558. Ответ И.В.Сталина: The Trotsky Papers. Vol. 2. P. 752-755.
166 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 559.
167 Правда. 1988. № 225.12авг. С. 3.
168 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 299—300.
169 Pipes R. Formation of the Soviet Union. P. 274—275.
170 РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 2446.
171 Вопросы истории КПСС. 1963. № 2. С. 74.
172 Правда. 1988. № 225. 12авг. С. 3.
173 Осипов В.П. // Красная летопись. 1927. № 2(23). С. 243; Петренко Н. / / Минувшее. М., 1986. Т. 2. С. 259-260.
174 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 376.
175 Струве П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России.СПб., 1894.Т.1.С.288; Pipes R. Strove: Liberal on the Left. Cambridge. Mass., 1970. Chapter 6.
176 Яковлев E. // Московские новости. 1989. № 4(446). 22 янв. С. 8; Волков Г. // Советская культура. 1989. № 9(6577). 21 янв. С. 3.
177 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 344—346.
178 Там же. С. 346.
179 Яковлев Е. // Московские новости. 1989. № 4(446). 22 янв. С. 8—9.
180 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 477.
181 Фотиева Л.А. // Вопросы истории КПСС. 1957. № 4. С. 162-163.
182 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 329.
183 Роговин В. Была ли альтернатива? С. 75.
184 Известия ЦК КПСС. 1990. № 9(308). С. 151.
185 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 330.
186 Правда. 1923. № 53. 9 марта. С. 1; Наумов В. // Коммунист. 1991. № 5. С. 39; Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 152.
187 Осипов В.П. // Красная летопись. 1927. № 2(23). С. 236—247; Петренко Н. // Минувшее. Т. 2. С. 146; Наумов В. // Коммунист. 1991. № 5. С. 39.
188 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 1289,1290.
189 Петренко Н. // Минувшее. Т. 2. С. 279—284; Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 251-252.
190 Известия ЦК КПСС. 1990. № 9. С. 149; Правда. 1988. № 225.12 авг. С. 3.
191 Наумов В. // Коммунист. 1991. № 5. С. 39.
192 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 224-225.
193 Там же. С. 228-229.
194 Напр., там же. С. 217—218; Deutscher I. The Prophet Unarmed. P. 93.
195 Eastman M. Since Lenin Died. P. 17.
196 Deutscher I. The Prophet Unarmed. P. IX. См. также: там же. Р. 91.
197 Данилов В.П. // Экономика и организация промышленного производства (ЭКО). Новосибирск, 1990. № 1(187). С. 60.
198 РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1.Д.2518.
199 Двенадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. С. 181—182.
200 Там же.С.479—495; Pipes R.Formation of the Soviet Union.P.289—293.
201 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 241.
202 Deutscher I. The Prophet Unarmed. P. 106.
203 Трайнин И.П. СССР и национальная проблема. М., 1924. С. 27.
204 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 230.
205 Известия ЦК КПСС. 1990. № 5(304). С. 165-173.
206 Там же. С. 165.
207 Там же. С. 170.
208 Там же. С. 173.
209 Там же. 1990. № 6(305). С. 189-191.
210 Там же. № 5(304). С. 178-179; № 7(306). С. 176-189.
211 Там же. № 7(306). С. 177-179.
212 Там же. № 10(309). С. 167-181.
213 Там же. С. 188-189.
214 Цит. по: Васецкий Н. Ликвидация. С. 37.
215 Правда. 1923. № 281.11 дек. С. 4.
216 Сталин И.В. Соч. М., 1947. Т. 6. С. 16.
217 КПСС в резолюциях... 7-е изд. М., 1953. Т. 1. С. 778—785.
218 Тринадцатый съезд РКП(б): Стеногр. отчет. М., 1963. С. 158.
219 Бонч-Бруевич В. // Красная новь. 1925. № 1. С. 186-191.
220 РЦХИДНИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 287.
221 См.: Волкогонов Д. Троцкий. Т. 2. С. 42.
222 Trotsky L. Stalin. P. 381-382.
223 Об этом см.: Tumarkin N. Lenin Lives! Cambridge, Mass., 1983. Chapter 6.
224 Правда. 1924. № 23. 30 янв. С. 1.
225 Сталин И.В. Соч. Т. 6. С. 46—51. Первая публикация: Правда. 1924. № 23. 30 янв. С. 6.
226 Следующий рассказ основан на: Лопухин Ю. // Гласность. 1990. 18 окт. С. 6; Tumarkin N. Lenin Lives! P. 182—189.
Размышления о русской революции
1 Miliukov P. Russia To-day and To-morrow. New York, 1922. P. 8—9.
2 Об этом см.: Fuller W.C. Strategy and Power in Russia. 1600—1914. New York, 1992.
3 Custine Marquis [A. de] Russia. London, 1854. P. 455.
4 Ростовцев M. // Наш век. 1918. № 109(133). 5 июля. С. 2.
5 Пайпс Р. Русская революция. Ч. 2. С. 158—159.
6 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 435—436.
7 Троцкий Л. Дневники и письма. Тенефлай, 1986. С. 84.
8 Троцкий Л. История русской революции. Берлин, 1933. Т. 2. Ч. 2. С. 319.
9 Barzun J. Darwin, Marx, Wagner: Critique of a Heritage. Boston, 1941. P. 100-101.
10 Социалистический вестник. 1921. № 6. 20 апр. С. 6.
11 Miliukov P. Bolshevism: An International Danger. London, 1920. P. 5.
12 Цит. по: Burbank J. Intelligentsia and Revolution. New York—Oxford, 1986. P. 194.
13 Об этом см.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004.
14 Ibid. С. 154-155.
15 Ibid. Глава II.
16 Калугин О. Вид с Лубянки. М., 1990. С. 35.
17 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. С. 422—431.
18 РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1.Д.25609.Л.9.
19 Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны. М., 1986. С. 94.
20 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957.
21 Aristotle. Nicomachaean Ethics. IV, 5.
22 Mussolini В. Opera Omnia. Firenze, 1954 Vol. 15. P. 93.
23 New York Times. 1992. June 18. P. A 18.
24 Новая жизнь. 1917. № 177. 10 нояб. Цит. по: Gorky M. Untimely Thoughts / Ed. by H.Ermolaev. New York, 1968. P. 89.
25 Цит по: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1976. № 291. December 24. Section 6. P. 1.
26 Taine H. The French Revolution. New York, 1881. Vol. 2. Preface. P. V.
Именной указатель
Абрамович Р.А. — 302
Айзенштадт — 134, 135
Айронсайд Э. — 101
Аксельрод П. Б. — 627
Авксентьев Н.Д. — 42, 45, 53, 54
Алексеев М.В. — 12, 14, 21, 23, 24, 25, 28, 42, 46, 49
Аллилуева Н.И. — 583
Амендола Д. — 312
Андреев Л. Н. — 384
д'Аннунцио Г. — 348
Антонов А. — 476—478, 488
Антонов-Авсеенко В.А. — 28, 140, 474, 475, 478, 486
Аргунов А.А. — 54, 55
Арендт Х. — 309, 310
Аристотель — 636
Арнольд М. — 612
Ататюрк М. — 204,205,253, 254, 304
Ахматова А.А. — 387
Бабель И.Э. — 390
Балабанова А.И. — 248—250, 266, 272, 305, 355, 474
Бальмонт К.Д. — 384
Бальфур А. — 90
Барзун Ж. — 624
Баркенхайм А. — 280
Барух Б. — 274
Бауэр О. — 192, 262
Бевин Э. — 232
Бедный Демьян — 386
Бек Ю. — 118, 119
Бердяев Н.А. — 627
Берк Э. — 612
Беркман А. — 480, 557, 558
Бернер И. — 120
Беттельхейм Э. — 219
Бжезинский 3. — 310
Блок А.А. — 369, 384, 388
Бломберг В. — 542, 543
Богданов А.А. — 370—373
Богуславский А. — 488
Болдырев В.Д. — 42, 43, 53, 55
Боркенау Ф. — 303
Брайант Л. — 272
Брахер К. — 309, 335
Брокдорф-Ранцау У. — 295
Брусилов А.А. — 228
Брюсов В.Я. — 384
Буденный С.М. — 114
Будкевич К. — 465
Буллит В. — 86—88
Буллит У. - 261,272
Бунин И.А. — 384
Бухарин Н.И. — 11, 214, 234, 325, 419, 420, 474, 491, 510, 511, 514, 526, 566, 567, 606
Бухгейм Г. — 313, 347
Вайцман X. — 147
Валидов А.-3. — 198
Вандервельде Э. — 208, 510
Вацетис И.И. — 18, 19, 75, 80, 129
Веденский А. — 450
Вейган М. — 239
Вениамин, митрополит — 436, 450
Вертов Д. — 511
Верховский А.И. — 72
Вильгельм II — 329
Вильсон В. — 82—86, 96, 387
Вильтон Р. — 298
Винавер М.М. — 136
Винберг Ф.Ф. — 331, 332
Виноградов В.А. — 42
Вирт И. — 289
Витте С.Ю. — 494
Владимир, митрополит — 436
Войцеховский С.Н. — 154
Волкогонов Д. А. — 73
Вологодский П.В. — 42, 53,
Володарский В. — 379
Володичева М.А. — 593
Вольский В.К. — 34
Воробьев В.П. — 608, 609
Врангель П.Н. — 12, 106, 107, 110, 111, 167-171, 178
Гай Г.Д. — 238
Гайда Р. — 100, 109
Гастев А. — 370, 374, 375
Геббельс И. — 334, 359
Геккер А. — 207
Гимлер Г. — 346
Гиппиус З.Н. — 384
Гитлер А. — 133, 314, 325-346, 350-358, 360-363, 543
Глазунов А. К. — 401
Гобсон Д.А. —251
Голланц В. — 266
Головин Н.Н. — 14
Гольц Р. — 122
Гомперс С. — 276
Горбачев М.С. — 311,397
Горький М. — 369, 372, 384, 385, 389, 520, 522, 639
Гоф Г. — 122
Гоц А. — 509
Грамши А. — 319
Грейвс У. — 62, 63
Григорьев Н. — 98, 140, 141, 196
Грин У. — 276
Гриффит Д.У. — 397
Гришин А.Н. — 36
Гропиус В. — 267
Гувер Г. — 520-524
Гумилев Н.С. — 385, 387
Гурович Я.С. — 450
Дан Ф. — 58
Декарт Р. — 381
Деникин А.И. — 12, 14, 17, 21, 27, 30, 31, 42, 4651, 56, 60, 105-115, 118, 125-129, 137, 143-145, 158, 162, 166, 167, 174, 178, 196, 203, 204
Джеймс У. — 381
Дзержинский Ф.Э. — 78, 159, 232, 272, 427, 485, 500, 501, 507, 508, 510, 519, 545, 595, 596,602, 606, 607
Дизраэли Б. — 164
Диманштейн С. — 464
Дитерихс М.К. — 151
Донской Д. — 509
Достоевский Ф.М. — 402
Драгомиров A.M. — 50, 145
Дроздовский М.Г. — 31, 114
Дутов А.И. — 43, 101, 107
Духонин Н.Н. — 418
Дьюи Д. — 405
Дюранте У. — 265, 300-302, 512
Дюркгейм Э. — 371, 372
Егоров А.И. — 107, 163, 238, 241
Екатерина II — 184, 365
Ельцин Б.Н. — 638
Есенин С. А. — 387
Жанен М. — 61, 153
Жордания Н. — 204, 208
Жильбо А. — 598
Зайцев Б. К. — 384
Замятин Е.И. — 375, 389, 390
Зект X. — 291-294, 532, 533
Зензинов В.М. — 42, 45, 53, 54
Зиновьев Г.Е. — 78, 79, 161, 223, 224, 285, 288, 289, 303, 306, 473, 480, 482, 507, 549, 580, 606
Зомбарт В. — 148
Зощенко М.М. — 389
Иван IV — 613
Иванов В.И. — 384, 390
Иоффе А. — 214, 275, 537, 553
Истмен М. —581
Йогихес Л. — 214, 215
Какурин Н.Е. — 112
Каледин A.M. — 26, 28, 29
Калинин М.И. — 443, 448, 481, 520, 546
Калмыков И.М. — 61, 100
Каменев Л.Б. — 203, 299, 448, 520, 578, 580-585, 606
Каменев С.С. — 73, 75, 102, 113, 130, 207, 208, 210, 226, 231, 232, 238
Кампанелла Т. — 402
Кант И. — 381
Каплан Ф.Е. — 508, 511
Каппель В.О. — 154
Карахан Л.М. — 552
Карницкий — 117
Кароли М. — 217
Каутский К. — 208, 221, 262, 285, 286, 288
Керенский А.Ф. — 8, 21, 25, 39
Керзон Д. — 105, 122, 228, 229, 231, 283
Кесслер Г. — 537
Кестлер А. — 266, 268
Киркпатрик Д. — 350, 351
Киров С.М. — 206, 207
Клипер А.В. — 153, 154
Козырь-Зирка — 140
Колби Б. — 281
Коллонтай A.M. — 422—425, 559, 563
Колчак А.В. — 12, 17, 23, 32, 42, 52-57, 60-67, 99-105, 109, 115, 122, 137, 151-155, 165
Кон Н. — 328, 331
Копп В. — 291,523
Корнилов Л.Г. — 8, 12,14, 24-30, 61, 114
Красильников И.Н. — 54
Красин Л.Б. — 209, 275, 280, 283, 284, 296, 299, 449, 583
Красницкий В. — 450
Краснов П.Н. — 46, 47, 51, 52
Крашенников Н.П. — 157
Крестинский Н.Н. — 548
Кривошеий А.В. — 168
Кропоткин П.А. — 381
Кроу А. — 147
Крупская Н. К. — 376, 381, 405, 406, 410, 418, 584, 585
Крыленко Н.В. — 465, 505, 510
Куйбышев В.В. — 586
Кулешов Л.В. — 397
Кун Б. — 217-219
Куприн А.И. — 384
Курский Д.И. — 503
Кускова Е.Д. — 349, 520
Кутлер Н.Н. — 494
Кюстин А. — 614
Ладовский Н.А. — 398
Ласки X. — 264
Лацис М.И. — 147
Лебедев Д.А. — 53, 54, 99, 100
Лебедев-Полянский П.И. — 382
Лебон Г. — 348
Лёвенштейн К. — 351
Леви П. — 245, 305
Левин Э. — 216
Ленин В.И. — 8—11, 23, 28, 68, 69, 75, 78-80, 84, 85, 87, 95, 125, 126, 130, 145-148, 154, 155, 171, 175, 192, 194, 195, 196, 208-225, 229-234, 237-252, 258, 262, 272, 276, 280, 286, 288, 296, 303-306, 309, 310, 322, 326, 338, 342-346, 349, 355, 358, 359, 361, 363, 364, 366, 367, 369-371, 373, 376-380, 386, 396, 397, 402, 403, 410, 416, 424, 426, 427, 431, 441-451, 461, 464, 468, 469-473, 480-509, 512-514, 519-522, 527, 528, 531-536, 539, 543, 545-547, 550-553, 558, 559-561, 564-609, 617, 620-623, 626, 628, 629, 632, 634, 637, 638
Леруа-Болье А. — 338
Либерман С. — 498
Либкнехт К. — 214, 215, 286
Ливен М. —216
Лилина З.И. — 422
Липман У. — 270, 299
Литвинов М.М. — 299
Ллойд Джордж Д. — 81—83, 88—94, 105, 127, 164, 165, 174, 238, 274, 279, 282-284, 531, 532, 537
Ловстоун Д. — 301
Лукомский А.С. — 25
Луначарский А.В. — 364—370, 430, 455, 456, 510
Львов В.Н. — 458
Льонс X. — 257, 266
Лэнсбери Д. — 298, 299
Лэсинг Р. — 83, 84
Людендорф Э. — 203, 329
Люксембург Р. — 214, 215, 286—288
Люндеквист В.А. — 160
Магтеридж М. — 299, 409
Мазех Я. — 149
Майзель-Гесс Г. — 423
Май-Маевский В.З. — 111, 114, 115, 164
Макдональд Р. — 208, 262
Малапарте К. — 384
Малиновский А.А. — см. Богданов А.А.
Мамонтов К.К. — 113, 164
Мандельштам О.Э. — 385, 387
Маннергейм К. — 121—124
Мао Цзэдун М. — 350, 363
Маринетти Ф. — 385
Марков С.Л. — 114
Маркс К. — 133, 134, 192, 260, 286, 317, 624-626
Мартов Л. — 58,135, 174, 302
Мартусевич А.А. — 162
Мархлевский Ю. — 118-120, 232
Марц Ч. — 299
Маттеотта Д. — 344
Мах Э. — 381
Махарадзе Ф. — 207, 588
Махно Н.И. — 125, 141, 196
Маяковский В.В. — 369, 385, 386, 391, 392
Мдивани Б. — 588
Мейерхольд В.Э. — 369, 391
Мейнелл Ф. — 299
Мельгунов С.П. — 17
Мережковский Д.С. — 384
Мещеряков Н.Л. — 382
Микоян А. — 572
Милюков П.Н. — 24, 178, 302, 303, 611, 627
Модсли И. — 123
Молотов В.М. — 448, 554, 572
Моска Г. — 317, 318
Муссолини Б. — 148, 304, 312, 314-326, 338, 339, 342-345, 350-356, 359, 360, 363, 384, 638, 639
Набоков В.В. — 178, 179, 368, 369
Надежный Д.Н. — 161
Нансен Ф. — 518
Наполеон I — 365
Нейманн З. — 310
Николай II — 14, 330, 369, 480,613, 618, 620,
Николай Николаевич, великий князь — 99
Нилус С.А. — 329
Ницше Ф. — 315, 381
Нокс А.У. — 42, 61, 65, 100
Нольте Э. — 320
Олеша Ю.К. — 390
Орджоникидзе ПК. — 205, 206, 209, 588, 591, 596
Оруэлл Д. — 267
Панина С. — 520
Папини Д. — 384
Парето В. — 317, 318
Пастернак Б.Л. — 387
Пепеляев В.Н. — 154
Петерс Я.Х. — 147, 501, 507
Петлюра С.В. — 125, 126, 140, 143, 196, 227
Петр I — 433
Петровский Г.И. — 196
Петтит У.У. — 86
Пилсудский Ю. — 90, 116-120, 225-227, 241
Пильняк Б.А. — 389, 390, 627
Пилявский С. — 278, 279
Пиранделло Л. — 384
Платон — 381
Покровский М.Н. — 376, 510
Поливанов А.А. — 72
Попова Л.С —365
Поппер К. — 640
Прайс М. — 298
Преображенский Е.А. — 11, 403, 404, 419, 420
Придворов Е. — см. Бедный Демьян
Прокопович С.Н. — 520
Пятаков Г.Л. — 196, 510
Радек К.Б. — 120, 135, 136, 214, 215, 221, 285, 290, 291, 509, 511, 512, 534, 535, 539, 540
Раскольников Ф.Ф. — 254
Рассел Б. — 296
Ратенау В. — 290, 291, 295, 535
Раттель Н.И. — 37
Раушнинг Г. — 332
Рейнхардт М. — 391
Ремизов А.М. — 384
Реннер К. — 192
Рид Д. — 235, 270-272, 300
РодзянкоА.П. — 121
Родзянко Д.Б. — 491, 492
Родченко А.М. — 365, 399
Рожков Н.А. — 576
Розанов С.Н. — 60
Розенберг А. — 331, 332, 350
Розенгольц А. П. — 541
Рой М.Н. — 252
Роллан Р. — 264, 266
Романов П.С. — 382
Росси А. — 346, 347
Ростовцев М.И. — 614
Ротштейн Ф.А. — 249
Рыков А.И. — 520, 578
Рэнсом А. — 298
Савинков Б.В. — 25, 174
Сазонов С.Д. — 123
Сапронов Т.В. — 560
Свердлов Я.М. — 125, 547
Семенов Г. М. — 61, 62
Семенов-Васильев Г. — 494
Серрати Г.М. — 243
Сеттембрини Д. — 322
Сидорин В.И. — 111
Синклер Э. — 266
Склянский Е.М. — 71, 541
Скобелевский А. — 540
Сноуден Э. — 258, 259
Соколов К.Н. — 30
Сокольников Г.Я. — 494
Соловьев B.C. — 381
Сорель Ж. — 315
Спенсер Г. — 381
Сталин И.В. — 75, 78, 209, 211, 229, 238, 240, 250, 254, 309, 342, 346, 352, 362, 363, 386, 401, 402, 448, 504, 527, 547-549, 552, 573-608, 633-635
Стеффенс Л. — 86, 87, 266, 272, 273
Стреземан Г. — 540
Стронг А.Л. — 268
Струве П.Б. — 22, 24, 168, 173, 174, 178, 277, 593
Субхи М. — 253
Султан-Галиев М. — 202, 203, 465
Татлин В.Е. — 400
Тейлор Ф. — 374
Тихон, митрополит — 146, 434—444, 458, 459, 467
Толстой А.Н. — 384
Толстой Л.Н. — 381
Томский М.П. — 510
ТрайнинА.Н. — 505
Третьяков С.М. — 393
Троцкий Л.Д. — 8, 9, 11, 27, 68, 69-71, 73-80, 106, 113, 129, 130, 134, 135, 160-162, 170, 210, 231, 239, 241, 288, 303, 366, 367, 387, 417, 442, 443, 448, 457, 473, 481-488, 508, 509, 512, 513, 522, 523, 540, 545, 547, 549, 552, 561, 562, 564-567, 571 —573, 578-586, 598-607, 620, 621, 633
Трубецкой Г. — 435
Турати Ф. — 243
Тухачевский М.Н. — 102, 109, 120, 228, 229, 238, 241, 483, 484, 532, 543
Тэн И. — 640
УардУ. — 173
Уншлихт И.С. — 634
Устрялов Н.В. — 177
Уэбб С. и Б. — 264
Уэллс Г. — 260, 261, 264
Фарбман М. — 298
Фаст Г. — 266
Федотов Г.П. — 454
Фейхтвангер Л. — 264, 266, 272
Фигнер В. — 520
Фитцпатрик Ш. — 429
Фишер Л. — 302
Фишер Р. — 290, 291, 540
Форд Г. — 274
Фотиева Л.А. — 595, 596
Фош Ф. — 239
Франс А. — 264
Фридрих К. — 310
Фрунзе М.В. — 201, 202, 488
Хаммеры — 266
Хамнер А. — 301
Ханжин М.В. — 101
Харви Э.М. — 126
Харламов С.Д. — 161
Хауз Э. — 84, 85
Хильгер Г. — 291
Ходасевич В.Ф. — 384, 385
Хольман Г.К. — 51,147
Хорти М. — 219
Храповицкий А. — 434, 443
Хрущев Н.С — 415, 632
Цвейг А. — 264
Цветаева М.И. — 384
Цепляк Я. — 464, 465
Церетели И. Г.— 190
Цеткин К. — 416
Цюрюпа А.Д. — 578
Чапек К. — 375
Чемберлен О. — 128
Чемберлин У.Г. — 429
Чернов В.М. - 34, 45, 57
Черчиль У. — 82-85, 88, 90-93, 105, 174, 221, 282
Чичерин Г.В. — 87, 278, 531, 535—537
Чхеидзе Н.С. — 190
Шаляпин Ф.И. — 372
Шапиро Л. — 429, 568
Шахт Я. — 494
Шейдеман Ф. — 288, 542, 543
Шкуро А. Г. — 164
Шлагатер А. — 540
Шляпников А. Г. — 559, 565
Шмитт К. — 339
Шопенгауэр А. — 381
Шорин В.И. — 102
Шпайдель Г. — 542
Штейнингер В. — 156, 157
Штеренберг Д. — 397
Штиннес X. — 273, 274
Штрассер О. — 334
Шуваев Д.С — 72
Шульгин В.В. — 141, 142
Щепкин Н.Н. — 157, 158
Эберляйн-Альбрехт Г. — 222, 527
Эберт Ф. — 288
Эйзенштейн С.М. — 393
Эйнштейн А. — 515
Энгельс Ф. — 420, 421
Эренбург И.Г. — 384
д'Эспере Ф. — 98
Юденич Н.Н. — 12, 121-124, 129, 159-161
Ягода Г.Г. — 427
Якир И.Э. — 543
Ярославский Е.М. — 431, 455
Ричард Пайпс
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Книга 3. РОССИЯ ПОД БОЛЬШЕВИКАМИ
Переводчики
Михаил Тименчик
Наталья Кигай
Редактор Игорь Захаров
Художник Григорий Златогоров
Верстка Кирилл Лачугин
Корректор Лия Кройтман
ISBN 5-8159-0529-1
Директор издательства Ирина Евг. Богат
Издатель Захаров
Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими Воротами, отдельный вход в арке)
Тел.: 291-12-17, 258-69-10
Факс: 258-69-09
Наш сайт:
E-mail: zakharov@dataforce.net
Подписано в печать 16.06.2005. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 36,96. Тираж 2000 экз. Изд. № 529. Заказ № 469.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
e-mail: book@uralprint.ru


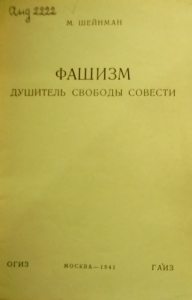

Комментарии к книге «Русская революция. Россия под большевиками, 1918-1924», Ричард Пайпс
Всего 0 комментариев