Владимир Абаринов КАТЫНСКИЙ ЛАБИРИНТ
ОТ АВТОРА
Это «белое пятно» принадлежит к числу самых заскорузлых и болезненных. По остроте и значимости оно сравнимо разве что с проблемой секретных советско-германских протоколов 1939 года. Почти полвека катынский синдром отравлял нормальные добрососедские связи между двумя странами. Был момент — уже в эпоху гласности, — когда казалось, что от нашего признания зависит очень многое, чуть ли не наши отношения со всей Восточной Европой. Кризис доверия разрешился односторонним заявлением польского правительства, возложившего ответственность за гибель военнопленных польских офицеров на советские репрессивные органы. Но и после этого советская сторона еще более года продолжала хранить молчание.
Претензия к историкам не вполне корректна: все мы прекрасно понимали, что без политического решения полноценная исследовательская работа невозможна. Можно было лишь пытаться сдвинуть ситуацию с мертвой точки посредством все новой и новой информации — этот по-своему драматический сюжет, надеюсь, еще найдет своего автора.
Приступая к изучению катынской проблемы, я вовсе не предполагал писать книгу. То было время, когда чуть ли не само слово «Катынь» пребывало под цензурным запретом и вызывало стойкую идиосинкразию партийных идеологов. Публично отстаивать сталинскую версию уже почти никто не решался; с высоких трибун звучали лишь призывы потерпеть: идет, мол, активный поиск новых материалов, но пока ничего не обнаружено. Я не имел оснований не верить этим заявлениям. Прости считал, что ждать некогда: свидетели, если они еще есть. уходят из жизни, умирает правда. Никакие архивные источники не возместят того, что знают эти люди.
Любая деталь, запомнившаяся очевидцу, уникальна. Подробностей этих не может быть слишком много, если мы действительно хотим знать всю правду. А вся правда — это не только кто, но и как.
Прошел не один месяц. прежде чем я приступил к систематизации груды разрозненных фактов. Они сопротивлялись. противоречили друг другу, поиски то и дело закодили в тупик или заставляли возвращаться к началу и отсюда «лабиринт»). Было несколько удач, которые я склонен объяснять простым везеньем, в целом же моя работа состояли из систематического изучения архивов, сочинения несчетного числа писем, официальных и приватных, проверки и перепроверки каждого нового свидетельства. Лишь изредка эти занятия приносили ощутимый результат.
Прекрасно сознаю, что местами рукопись трудна для чтения. перегружена цифрами, именами, датами. Сделать из Катыни бестселлер возможно, но пусть уж эту нравственную грань перешагнет кто-нибудь другой. Мило кто сегодня не умеет сказать красиво, но Катынь — не тема для изящной словесности и, может быть, вообще не тема. Миазмы Катыни растворены в воздухе, которым мы дышим, в земле, по которой мы ходим, в крови, которая течет в наших жилах. Да. книга трудна для чтения в трамвае, на не для такого чтения она nucaлась.
Почта, полученная мною от читателей, наглядно иллюстрирует перелом. совершившийся в cоветскoм общественном мнении за последние три года. Поначалу ведь многие просто не представляли себе, о чем, собственно, идет речь. Нередки бы. ш письма оголтелых сталинистов вроде С. В. Аганезова из Ашхабада, написавшего мне. что я не «белыe пятна» стираю, а возрождаю целое движение». Попадались и тексты более спокойные. увещевающие. «неужелu наши noльскиe друзья не в состоянии с четких к. тесовых позиций оценить случившееся? — рассуждал в своем письме Д. И. Овчинников из Южно-Сахалинска. — Ведь речь идет о командных кадрах старой польской армии, стоявшей на службе у буржуазии. Так почему же польские товарищи начинают терять классовое чутье, впадают в националистические амбиции? Считаю, что нужно тактично и. по возможности, в доходчивой форме вести с ними разъяснительную работу в этом направлении». Как объяснить Овчинникову, что бессмысленно и аморально апеллировать к «классовому чутью» тех. чьи отцы погребены в Катынском лесу? Характерно, что Овчинников ничуть не колеблется в определении виновников их гибели. Вот это-то и есть главное: в том. что расстрел мог быть совершен органами НКВД, почти никто из читателей не сомневается. Даже те, кто оправдывает это преступление.
Библиография Катыни насчитывает сотни названий — а проблема все еще не исчерпана. Не претендует на «последнее слово» и эта книга. Многое не поместилось на ее страницах, но гораздо большее еще только предстоит открыть и сделать достоянием гласности. Я был счастлив, получив две сотни писем в ответ ни свои публикации в «Литературной газете» — для материалов международного отдела, где я тогда работал, это едва ли не рекорд. Но потом с журналистом Анджеем Минко мы сделали две передачи для польского телевидения; когда я npuexaл в Варшаву. Анджей открыл шкаф в своем кабинете, и я увидел полторы тысячи адресованных нам писем поляков. И почти в каждом конверте — копии документов, фотографии, просьбы помочь выяснить судьбу отца, мужа, брата… Веем им надо что-то отвечать, все это — ненаписанные главы ''Лабиринта''.
Катынская трагедия — не изолированный эпизод прошлого. Мое досье непрестанно пополняется, обрастает смежными сюжетами, эти отростки переплетаются, образуя мощную корневую систему, насквозь пронизывающую всю советскую историю последних 50-ти лет. Никто за нас этот гниющий пень не выкорчует. Сказать всю правду о Катыни больно. трудно, тошно. Но не сказать ее невозможно. Пришло время не просто говорить, но и договаривать до конца.
В мои намерения не входило последовательное изложение всех событий, имеющих касательство к «катынскому делу», — эта задача уже выполнена другими авторами, книги которых нужно просто перевести и издать. Я писал лишь о том, о чем мог сообщить нечто новое, а общеизвестные факты старался пересказать как можно короче. По этой же причине в книге почти отсутствуют первоисточники: исключение составляют лишь труднодоступные или недавно опубликованные тексты, а также свидетельства, достоверность которых мои собеседники оспаривают. Во всяком случае, на русском языке эти документы не публиковались. Архивные материалы, не имеющие ссылок ни печатный орган, публикуются впервые. То же, разумеется, относится к сведениям, сообщаемым участниками или очевидцами описываемых событии. Отдельные фрагменты книги опубликованы мною в периодической печати.
Собирая материалы о Катыни. я постоянно встречал людей, готовых помочь мне, причем это относится не только к частным, но и к должностным лицам. Выражаю искреннюю признательность всем им, а именно: Борису Петровичу Беспалову, Владимиру Яковлевичу Бирштейну, Аркадию Владимировичу Бродскому, Елене Николаевне Бутовой, Людмиле Васильевне Васильевой, Анджею Вернеру (Польша). Сурену Габриеляну, Тамаре Аркадьевне Гусаровой, Мареку Дражевскому (Польша), Эугениушу Дурачиньскому (Польша), Юрию Николаевичу Зоре, Алле Калласс, Борису Федоровичу Карпову, Леониду Васильевичу Котову, Сергею Павловичу Крыжицкому (США), Владимиру Петровичу Кузнецову, Божене Лоск (Польша), Чеславу Мадайчику (Польша), Инне Мартоя, Анджею Минко (Польша), Альбине Федоровне Носковой, Сергею Ростиславовичу Олтнину, Леониду Михайловичу Охлопкову, Алексею Алексеевичу Памятных, Елене Валерьевне Перелевской, Револьту Ивановичу Пименову, Анатолию Захаровичу Рубинову, Николаю Порфирьевичу Рыжикову, Маше Слоним (Великобритания), Эдмунду Стивенсу (Великобритания), Габлиэлю Гавриловичу Суперфину (ФРГ), Ольге Григорьевне Табачниковой, Марэну Михайловичу Фрейденбергу, Уитни Харрису (США), Зинаиде Ефимовне Шатиловой, Екатерине Васильевне Шукшиной, Елизавете Ефимовне Щемелевой, Клавдии Васильевне Ярошенко. Сердечно благодарю всех, кто счел нужным отозваться на мои публикации: их письма и телефонные звонки не только вывели меня на новую информацию, но и оказали неоценимую моральную поддержку. Исключительно важную роль сыграл в этой моей работе покойный Натан Яковлевич Эйдельман — мир праху его. Спасибо всем, кто работал над этой книгой.
ВВЕДЕНИЕ
Судьба огромного числа польских военнослужащих, интернированных на территории СССР в сентябре 1939 года, долгое время оставалась неизвестной, несмотря на настойчивые запросы польского эмигрантского правительства. Наконец 13 апреля 1943 года германское радио сообщило о том, что в Катынском лесу близ Смоленска оккупационными властями обнаружены массовые могилы 10 тысяч польских офицеров, расстрелянных «еврейскими комиссарами» весной 1940 года. Обеспокоенное этим известием польское правительство в изгнании обратилось к Международному Красному Кресту с просьбой об экспертизе захоронений. Реакция Москвы была беспрецедентно резкой: 26 апреля 1943 года Советский Союз прервал дипломатические отношения с Польшей.
Об обстоятельствах, при которых германскими оккупационными властями были обнаружены массовые захоронения в Катынском лесу, равно как и о ходе дальнейших событий, мы еще поговорим в этой книге. Сейчас же напомню читателю основные вехи «катынского дела».
Сентябрь 1939 года. Начало второй мировой войны. Независимое польское государство прекращает свое существование. На территориях, отошедших к СССР по советско-германскому договору о дружбе и границе, захвачено в плен около 250 тысяч военнослужащих польской армии.
Март — апрель 1940 года. Переписка военнопленных офицеров с родственниками в Польше внезапно прервана. Почтовые отправления возвращаются назад с пометкой «Адресат выбыл».
Июль — декабрь 1941 года. Между Советским Союзом и польским эмигрантским правительством в Лондоне установлены дипломатические отношения, подписан договор о взаимопомощи, достигнута договоренность о формировании в СССР польской армии. Среди освобожденных по «амнистии» поляков узники офицерских лагерей отсутствуют.
Лето 1942 года. Работающие в окрестностях Смоленска в составе рабочей команды «Тодт» поляки узнают от местных жителей, что в Катынском лесу погребены польские военнопленные, расстрелянные НКВД.
Февраль 1943 года. Могилами заинтересовалась немецкая тайная полевая полиция. Опрошены местные жители. Рапорт попадает в руки Альфреда Иодля, его копия — профессору Вроцлавскою университета Герхарду Бутцу, который впоследствии руководил эксгумацией.
29 марта. Начало раскопок.
13 апреля. Власти третьего рейха официально сообщают об обнаружении могил.
17 апреля. Би-би-си передает коммюнике польского правительства в изгнании с призывом к Международному Красному Кресту направить в Катынь экспертов.
26 апреля. 0 час. 15 мин. Польскому послу в Куйбышеве вручена нота о разрыве дипломатических отношений между СССР и правительством Сикорского.
8 мая. Опубликовано сообщение о согласии советского руководства на формирование под эгидой Союза польских патриотов дивизии им. Костюшко. не подчиняющейся лондонскому кабинету.
30 мая. Международная комиссия экспертов датирует расстрел весной 1940 года.
24 января 1944 года. Опубликовано «Сообщение» Советской Специальной комиссии во главе с академиком Н. Н. Бурденко, установившей факт расстрела поляков немцами. Дата казни — осень 1941 года.
1–2 июня 1946 года. Международный военный трибунал в Нюрнберге допрашивает свидетелей по делу о Катыни. Из окончательного текста приговора катынское убийство исключено за недостатком доказательств.
Май 1987 года. В соответствии с советско-польской Декларацией об идеологическом, научном и культурном сотрудничестве образована двусторонняя комиссия историков для выяснения «белых пятен» в истории взаимоотношений двух стран.
Апрель 1990 года. Президент СССР М. С. Горбачев признал вину НКВД в убийстве польских военнопленных. Катынская проблема вступила в новую фазу…
Глава 1. ПРОЗА СМЕРТИ
Эшелонные, особые, сквозные
В числе откликов на мою публикацию «Белые пятна»: от эмоций к фактам» («Литературная газета» от 11.5.1988) оказалось и письмо, пересланное мне из секретариата Главного управления внутренних войск МВД СССР. Адресовано оно А. В. Власову, в то время — министру внутренних дел СССР. Его автор житель Калинина (ныне Тверь) Алексей Алексеевич Лукин обращался к министру с призывом помочь историкам в прояснении катынской проблемы.
Алексей Алексеевич был начальником связи 136-го отдельного батальона внутренней охраны НКВД БССР, 22 июня 1941 года переформированного по штатам военного времени в 252-й полк конвойных войск НКВД СССР. Батальон, штаб которого располагался в Смоленске, осуществлял конвоирование и охрану польских военнопленных, содержащихся в Козельском и Юхновском лагерях. По словам А. А. Лукина, Козельский лагерь существовал вплоть до начала войны, а в первых числах июля был эвакуирован. «Ни при конвоировании, ни при содержании в лагерях, — пишет А. А. Лукин, — не допускалось, как теперь говорят, нарушений «прав человека». За нарушения строго наказывали. Я участвовал во многих конвоях — как плановых, так и неплановых. На меня и моих подчиненных жалоб не было». В телефонном разгово-ре Алексей Алексеевич дополнительно сообщил ряд новых ценных подробностей, в частности, тот факт, что для руководства эвакуацией Козельского лагеря из Москвы в Смоленск прибыл небезызвестный И. А. Серов, будущий министр госбезопасности, а в описываемый период нарком внутренних дел Украины, комиссар госбезопасности 3-го ранга.
Чрезвычайная ценность письма Лукина состояла в точном наименовании воинской части — ведь это ключ к архивам. Желая помочь советским историкам, я передал копию письма сотруднику Института всеобщей истории АН СССР Н. С. Лебедевой, о которой имел недурные рекомендации, с тем, однако, условием, что результаты ее изысканий будут опубликованы в «Литературной газете». Не дождавшись вестей от Лебедевой, я сам отправился в ЦГАСА[1] и удивительно быстро нашел все документы, имеющие касательство к «катынскому делу».
Кстати, вскоре после того как Наталья Сергеевна получила ксерокопию, мне позвонил ее непосредственный начальник — член двусторонней комиссии О. А. Ржешевский. Был он весьма любезен, спрашивал, что у меня нового по Катыни. предложил сотрудничество. Позиция Ржешевского в «катынском деле» была мне хорошо известна,[2] поэтому от прямого ответа я уклонился, взяв неделю на размышление. Было совершенно очевидно, что Олег Александрович попытается использовать письмо в качестве аргумента в пользу советской версии. Условленную неделю он ждать не стал, а обратился к руководству газеты. До сих пор не понимаю, с какой целью: неужели он хотел блокировать таким образом мою работу? Как бы то ни было, он получил отказ, и я продолжал беспрепятственно заниматься катынской проблемой, правда, в свободное от основных служебных обязанностей время.
Между тем Олег Александрович все-таки ввел в оборот текст Лукина. В апреле 1989 года член советско-польской комиссии профессор Мариан Войцеховский дал интервью газете «Штандар млодых», в котором, в частности, заявил: «Один советский историк сказал, что генерал Серов в начале 1941 года находился в Козельске для подготовки эвакуации польских офицеров. С этим можно согласиться. Однако это не были польские офицеры, взятые в плен в июле 1940-го в Литве. Их было всего около 1000».[3][4]
Несостоятельность попыток тенденциозного использования информации Лукина видна невооруженным глазом. Тем не менее я понял, что в дальнейшем я должен с чрезвычайной осторожностью относиться к контактам с представителями официальной советской исторической науки.
Завершился этот сюжет в марте 1990 года, когда Н. С. Лебедева опубликовала в «Московских новостях» свой сенсационный материал, а в номере «МН» от 6 мая исправила некоторые из ошибок первой публикации. Странно, конечно, что Наталья Сергеевна не только не предложила статью «Литгазете», но и не сочла нужным сослаться на редакцию, оказавшую ей столь важную услугу, но не это главное. (В заметке от 6.5.1990, впрочем, имеется ссылка на меня, однако по-прежнему никаких извинений.) Разумеется, борьба за приоритет в такой теме, как Катынь, по меньшей мере неуместна, и я бы, пожалуй, промолчал, если бы конъюнктурные соображения не помешали Лебедевой проявить должную беспристрастность.
Однако займемся документами.
КОНВОЙНЫЕ ВОЙСКА НКВД СССР
Историческая справка
История конвойных войск началась 20 апреля 1918 года. В этот день приказом Наркомвоендела № 284 на основе добровольного найма была образована конвойная стража республики, состоящая из губернских и уездных конвойных команд. Одновременно при Главном управлении мест заключения Народного Комиссариата юстиции (ГУМЗ НКЮ) была учреждена Главная инспекция конвойной стражи.[5] Структура эта просуществовала недолго: уже 23 июля того же года ГУМЗ было преобразовано в Карательный отдел НКЮ. а Главная инспекция — в VIII отделение Карательного отдела (циркуляр НКЮ от 24.5.1918[6] и приказ Наркомвоендела № 466 от 18.6.1918[7]). 9 сентября 1919 года постановлением НКЮ № 168 Карательный отдел переименован в Центральный карательный,[8] а VIII отделение — в Отдел управления конвойной стражи. «Лишь в июне 1924-го, — пишет А. И. Солженицын (мною эти сведения не перепроверялись), — декретом ВЦИК — СНК в корпусе конвойной стражи введена военная дисциплина и укомплектование через Наркомвоенмор». Во всяком случае, с 19 июля 1924 года существовало Управление конвойной стражи СССР при начальнике Управления мест заключения РСФСР, 30 октября 1925 года оно стало называться Центральное управление конвойной стражи СССР, в марте 1930-го — Центральное управление конвойных войск СССР при СНК СССР.[9]
Постановлением же ЦИК — СНК от 17.9.1934 Центральное управление конвойных войск было расформировано, а управление конвойными войсками возложено на Главное управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР. Наконец, 16 марта 1939 года образовано Главное управление конвойных войск НКВД СССР.
Возглавлял ГУКВ НКВД СССР с момента его образования комбриг, впоследствии генерал-лейтенант Владимир Максимович Шарапов, в апреле 1940 года в числе других ответственных работников НКВД награжденный орденом «Красная Звезда». Судя по всему, Владимир Максимович был дельным командиром, прекрасно справлялся с поставленными задачами, потому и занимал свой пост вплоть до июля 1941 года. На состоявшемся в Москве в ноябре 1940 года совещании начальников оперативных отделений штабов соединений войск с участием представителей союзных наркоматов о конвоировании и перевозке заключенных один из подчиненных Шарапова Шелгунов говорил: «Наша задача заключается в том, чтобы находить коренные вопросы в перестройке нашей работы. У нас консерватизм тоже заедает, мол, установился такой порядок, традиция, и ломать нельзя. Это неверно. И генерал-майор Шарапов часто ругает, что мы не дерзаем, не мыслим».[10]
К этому времени конвойные войска представляли собою сложный, высокоорганизованный и отлаженный механизм со своей собственной инфраструктурой, субординацией, отчетностью — механизм, который никогда не останавливался и функционировал с величайшей точностью. В январе 1941 года части конвойных войск располагались в 130 пунктах дислокации. Они несли охрану 113 тюрем НКВД и 23 лагерей военнопленных; ежедневно отправлялись 60 эшелонных конвоев и 176 плановых, а также в среднем по 30 особых (по доставке особо опасных государственных преступников). Конвоирование осуществлялось на судебные заседания 154 судебных органов, на 113 вокзалов и пристаней для обмена с проходящими конвоями (данные 2-го квартала 1940 г.), на строительные и промышленные работы. Кроме того, под охраной конвойных войск находились склады ГУВС[11] НКВД — в середине 1940 года их было 27.
На 1 сентября 1939 года штатная численность конвойных войск составляла 28 800 человек.
Из приказа конвойным войскам № 31 от 10 декабря 1939 г.:
«Высокую организованность и мобильность проявили части 13 дивизии и 15 бригады, сумевшие в короткие сроки переключиться на конвоирование и охрану военнопленных. Выполнили на «отлично» задачу Наркома Внутренних Дел СССР, не допустив ни одного побега, части 13, 14, 15, 17 и 19 бригад».[12]
Из обзора состояния службы конвойных войск НКВД СССР за 1-й квартал 1940 г.:
«1-й квартал 1940 г. характеризовался высокой нагрузкой для частей войск 11, 12, 14, 15, 16 бригад и для 13-й дивизии.
Рост служебной нагрузки войск указанных соединений объясняется выполнением особых заданий Наркома Внутренних Дел СССР по охране приемных пунктов, лагерей военнопленных и конвоированию спецпереселенцев из западных областей УССР и БССР».[13]
Из формуляра 15-й отдельной стрелковой бригады конвойных войск НКВД СССР:
«В 1939 г. в связи с образованием Белорусского фронта (17 сентября) на бригаду была возложена задача по охране и конвоированию военнопленных белополяков. За период существования этого фронта отконвоировано 58 796 военнопленных. Перед началом войны частями бригады осуществлялось конвоирование заключенных и спецпереселенцев эшелонными и сквозными конвоями из БССР и Литовской ССР».[14]
136-й батальон входил как раз в 15-ю бригаду, подчинявшуюся непосредственно ГУ KB НКВД СССР.
Какова общая численность польских военнопленных на территории СССР? 31 октября 1939 года на сессии Верховного Совета В. М. Молотов сообщил, что в ходе сентябрьской кампании частями Красной Армии захвачено в плен около 250 тысяч польских военнослужащих. Заводный и Лоек уточняют: 230 670, а до 250 тысяч эта цифра была доведена в результате массовых арестов на территориях, отошедших к Советскому Союзу по советско-германскому договору о дружбе и границе. (См. также работу Стефана Зволиньского, где приведены следующие данные о потерях Войска Польского в оборонительной войне 1939 года: свыше 70 тысяч убитыми и умершими от ран, около 130 тысяч ранеными, свыше 400 тысяч взятыми в немецкий плен и свыше 230 тысяч — в советский.[15]) Лебедева же сообщает, что в советском плену оказалось 130 242 человека.
Но в том-то и дело, что в тех же отчетах ГУКВ, на которые она ссылается, имеется и другая цифра, а именно — 226 391.[16] Цифра эта, как видим, практически совпадает и с оценкой польских специалистов, и с официальной советской информацией. Разница же с лебедевской составляет 96 149 человек. А ведь мы пользовались, повторяю, одними и теми же архивными документами.
Помимо текста Молотова существует еще один советский источник — газета «Красная Звезда» от 17.9.1940. В редакционной статье, посвященной годовщине «освободительного похода», сказано: «В течение 12–15 дней враг был полностью разбит и уничтожен. За этот период одной только Н-ской группой войск Украинского фронта в боях и при окружении было захвачено в плен 10 генералов, 52 полковника, 72 подполковника, 5131 офицер, 4096 унтер-офицеров, 181 223 рядовых польской армии», что в сумме дает 190 584 человека. Приводя эти данные, Юзеф Мацкевич отмечает, что сюда не вошли чины полиции, жандармерии и корпуса пограничной охраны, а также лица, арестованные в индивидуальном порядке. Добавлю, что вместе с распущенными по домам (42,4 тыс.) общая сумма составила бы около 233 тысяч, а вместе с расстрелянными — 248 тысяч человек. От дальнейших манипуляций с цифрами воздержусь (понятно, что их можно складывать и вычитать как угодно, всякий раз получая нужный результат), хотя нельзя не обратить внимание на разительное совпадение: 5131 офицер, захваченный в плен («Красная Звезда»), и 15 131 расстрелянный (ЦГОА СССР). Такое впечатление, что «Красная Звезда» просто-напросто забыла единицу, что это обыкновенная опечатка! Замечу также, что при подсчетах может образоваться разница в несколько сотен или даже 1–2 тысячи человек — ее составляют лица, осужденные или привлекавшиеся к следствию по делам о шпионаже и другим пунктам статьи 58 УК РСФСР. Эти люди выпадали из категории военнопленных и в дальнейшем фигурировали в документах как особо опасные государственные преступники.
Командование Красной Армии впервые столкнулось с необходимостью перевозки и размещения такой массы пленных. Даже профессионалы, в чьи руки они были вскоре переданы, поначалу, надо полагать, растерялись. Однако недаром же комбриг Шарапов призывал подчиненных дерзать и мыслить. К 22 сентября 1939 года в Европейской России было организовано уже 8 лагерей, а также 138 пересылок специально для военнопленных. Каждый лагерь был рассчитан на 10 тысяч человек, однако, судя по тесноте, скажем, в Путивльском лагере,[17] при необходимости узников «уплотняли». В июле 1940 года число лагерей военнопленных достигло 17-ти, а к концу 1940-го, как уже сказано, 23-х. Штатная численность конвойных войск к этому времени составляла уже 38 280 человек.
Все военнопленные поступили в ведение специально организованного Управления по делам о военнопленных НКВД СССР. Возглавил его капитан госбезопасности Петр Карпович Сопруненко. В число прочего в его компетенцию входил обмен пленными с Германией. Начало обмену было положено постановлением СНК от 14.10.1939, постановлением же от 14.11.1939 была образована смешанная советско-германская комиссия по обмену. Обмен осуществлялся через Брестский контрольно-пропускной пункт вплоть до июня 1941 года.
В ожидании решения своей участи военнопленные работали — в частности, на строительстве автотрассы Новоград-Волынский — Львов, на Криворожском и Запорожском металлургических комбинатах, в угольных шахтах Донбасса. Довольно много было совершено побегов, причем в документах ГУКВ отмечается, что их число растет. Так, например, со строительства автотрассы, где охрану нес 229-й конвойный полк, за первый квартал 1940 года бежало 112 пленных, из них задержано 18, ранено 5 и убито двое, а за период с 1 по 26 апреля оттуда же — 23 человека (задержано 5. ранен при задержании один). Чаще всего побег удавался на этапе. Вот описание одного из типичных инцидентов в оперативно-информационной сводке ГУКВ от 7/14.10.1940:
«10.6.40 в 1.00 в 6 км от г. Вильно от конвоя 226 полка 15 бригады — начальник конвоя батальонный комиссар т. Пейсаченко. на ходу поезда через люк товарного вагона выпрыгнули 2 интернированных капрала бывш. польской армии.
Для преследования бежавших сразу была выделена оперативная группа во главе с отд. командиром Смирновым В. И. и с розыскной собакой по кличке «Люкс». Розыскная собака взяла след и, проработав его на протяжении 2 км, вышла на шоссейную дорогу и дальше работать отказалась. Бежавшие задержаны не были».[18]
Зафиксированы случаи укрывательства бежавших населением Восточной Польши. Оперативно-информационная сводка от 10.11.1940 обязывает личный состав конвоя «критически относиться к сообщениям местных жителей, особенно в западных областях УССР и БССР». Приведу и описание неудавшегося побега — приказ конвойным войскам № 2 от 10.1.1940:
«21.12.1939 на строительстве № I[19] четыре военнопленных пытались совершить побег от конвоя 229 полка.
Выстрелами конвоя один из бежавших был убит, а другой ранен, остальные продолжали бежать, пытаясь скрыться.
Красноармеец Жуков бросился преследовать бежавших. несмотря на мороз, сбросил с себя для облегчения шинель и сапоги и на 7-м километре от места работ первого из бежавших убил выстрелом из винтовки, а второго задержал и возвратил в лагерь.
За образцовое выполнение служебного долга красноармейцу 229 полка Жукову объявляю благодарность и награждаю его денежной премией в размере 200 рублей.
Приказ объявить всему личному составу частей конвойных войск НКВД.
Врид начальника ГУКВ
начальник штаба KB НКВД
полковник Кривенко
Начальник политотдела
бригадный комиссар Шнитков»[20]
Можно себе представить, что ожидало красноармейца Жукова, окажись он менее выносливым и метким. Повернется ли у кого язык утверждать, что свой семикилометровый марш-бросок без сапог и шинели он совершил из высоких идейных соображений? Бежал за премией, хотел отличиться, ненавидел врага? Все возможно, но всему же есть предел. Всему, кроме страха. Страх наказания гнал его — иного объяснения не нахожу.
Именно этот документ поколебал мое отношение к конвойным частям тех лет. Осознав его смысл, я заново просмотрел чуть ли не весь фонд ГУКВ и теперь могу с полным основанием утверждать: условия службы в конвойных войсках НКВД были невыносимо тяжелыми. Говорю сейчас не о командирах (эти профессионалы), а о рядовых красноармейцах, призванных в армию и волею начальства оказавшихся в роли конвоиров. Любой из них мог оказаться по ту сторону колючей проволоки, прояви он недостаточное рвение или элементарное сочувствие к подконвойным. Так и сказано в регулярной «Сводке нарушений, допущенных при выполнении службы» — кроме обычных в армии проступков, таких, как сон на посту, самовольная отлучка или утеря оружия, есть там и специальная графа (а это типографский бланк) «общение с заключенными и выражение им сочувствия». Не таким уж, значит, редким явленим был факт «выражения сочувствия». И вот что бывало с теми, кто не мог заглушить в себе голос милосердия:
«Красноармеец 152-го отдельного батальона 17-й бригады Школьников 27 июня с.г. (1940-го. — Авт.) во время нахождения на посту по охране тюрьмы установил связь со следственной заключенной, обвиняемой в контрреволюционном преступлении, и имел с ней продолжительные разговоры.
Не ограничившись этим. Школьников 30 июня и 3 июля с.г. во время нахождения часовым на посту снова установил связь с заключенной, рассказал ей сведения, не подлежащие оглашению, и принял от нее задание передать сведения ее знакомым.
Выполняя задание заключенной. Школьников сам лично от имени заключенной писал письмо для передачи знакомым. каковое у него при обыске было обнаружено и изъято».
Вон как: «установил связь», «принял задание передать сведения»… Какую государственную тайну мог разгласить простой красноармеец, приставленный к подследственной «контрреволюционерке»? Разве что дату своего следующего караула — через двое суток на третьи. И ведь нашелся же добровольный осведомитель, донес, не погнушался. Не выговор объявили Школьникову, не наряд вне очереди, не гауптвахту.
«…Военный Трибунал Войск НКВД Челябинской области осудил Школьникова на 3 года лишения свободы».[21]
Не смей сочувствовать!
А вот история, финал которой менее суров — возможно, потому, что главным действующим лицом здесь является командир (сводка от 13.6.1940):
«При конвоировании эшелонным конвоем 148 отдельного батальона (начальник конвоя капитан Асирян) часовой, желая напугать заключенную-женщину, не прекращающую попыток вести разговоры с проходящими гражданами, штыком поцарапал ей бровь.
Командованием бригады предложено на виновного наложить взыскание».
Подозрительна мне эта ювелирная точность. Уж не в глаз ли метил часовой? Однако это еще не все.
«Необходимо при этом отметить и неправильные действия начальника караула капитана Асиряна. Последний, узнав о случившемся, послал красноармейца извиниться перед потерпевшей заключенной.
Командиром бригады за неправильные действия на капитана наложено взыскание».[22]
Не джентльменничай перед «проходящими гражданами»! Но что характерно — и тут доложили кому следует, кто-то из подчиненных капитана. Выходит, не только старшие по званию воспитывали младших, но и наоборот.
Документы, подобные этим, можно цитировать бесконечно. Однако не замечает ли читатель, что восприятие его несколько притупилось, а взамен появился некий холодный академический интерес? Ведь все-таки речь идет о вещах трагических.
Естественно, случались эксцессы и совсем иного рода. На них сейчас нет смысла останавливаться, поскольку они многократно описаны в мемуарной литературе, сводками же ГУКВ фиксировались лишь ЧП, не отражающие общей картины. Как правило, заключенные к конвою претензий не имели, о чем и делалась соответствующая запись в акте приема-сдачи.
Справедливости ради следует отметить, что к военнопленным конвой относился несколько мягче, нежели к собственным согражданам. Надо полагать, на эту тему существовали соответствующие инструкции, хотя в архиве я их и не обнаружил. Хорошо обращались с лицами, выдворяемыми за пределы СССР. Среди документов этой категории попался мне текст даже забавный — цитирую сводку от 7/14.10.1940:
«31.8.40 из Москвы в Одессу в купе пассажирского вагона следовал особый конвой 236 полка 14 дивизии в составе 3-х человек (начальник конвоя младший политрук Якушев). В пути следования начальник конвоя предупредил пассажиров, чтобы они не вели разговоров между собой, т. к. конвоируемая женщина направляется за границу. Отдельным пассажирам рассказал, что она по национальности француженка, сидела в Москве 2 года, а сейчас высылается за границу. Обращался к пассажирам с вопросом, есть ли в Одессе конвойные части.
Таким образом, была разглашена военная тайна при выполнении ответственного задания».[23]
Ну просто так и видишь младшего политрука Якушева, едва вырвавшегося из мрачного мира вагонзаков и карцеров и распираемого гордостью за порученное ему задание! В этом случае, возможно, бдительность проявил кто-то из пассажиров. И ведь опять все из-за женщины вышло. Отметим, кстати, что конвоировали ее в обычном купейном вагоне. В другом документе (это протокол уже цитированного выше совещания) встречаем описание того же происшествия:
«Тов. Воробьев (1-й спецотдел). У нас был такой случай: в августе месяце конвоировали из Москвы некую Вертковскую, конвоировали ее в Одессу. Это просто безобразный случай. Или недостаточно был проинструктирован конвой, он стал всем разъяснять, чтобы не разговаривали с этой женщиной, что она опасная преступница, что она выпроваживается за пределы Советского Союза. Создается мнение, что НКВД арестовывает и выпроваживает за пределы Союза. И конвоир как будто опытный, и почему он начал такие разговоры. Странно».[24]
Вот, оказывается, в чем провинился политрук Якушев: у пассажиров создалось мнение, что НКВД не карает, а всего-навсего выпроваживает за границу. Пострадала репутация грозного наркомата, по существу, Якушев оклеветал органы! Беспрецедентный случай доведен до сведения руководства НКВД, его излагают на инструктажах, им стращают новобранцев. Какое наказание понес Якушев — неизвестно.
И уж само собой разумеется, самыми привилегированными пленниками были лица немецкой национальности, препровождаемые в Брест для передачи германским властям. Они, надо сказать, прекрасно чувствовали это. Вот бумага, положившая начало изнурительной служебной переписке:
«Совершенно секретно
Заместителю начальника
ГУКВ НКВД
комбригу тов. Кривенко
гор. Москва
7 марта
№ 9/10/0109
Германское посольство в Москве обратилось в НКВД с ходатайством о возврате отобранного при аресте белья выдворенному из пределов СССР германскому подданному Киндер Конраду.
Чемодан с бельем (опись прилагаем) 20-го декабря 1939 года при этапировании Киндер из Москвы в гор. Брест был вручен под расписку начальнику конвоя 236 конвойного полка младшему лейтенанту т. Гурскому. Проверкой по тюрьме и контрольно-пропускному пункту в Бресте чемодан с бельем, принадлежавший Киндер, не обнаружен.
Для доклада Народному Комиссару Государственной Безопасности СССР тов. Меркулову немедленно установите, когда и куда было сдано белье, принадлежащее германскому подданному Киндер Конраду, начальником конвоя тов. Гурским.
Результат сообщите.
Начальник 2 отдела НКГБ СССР
майор государственной
безопасности
Баштаков
начальник 5 отделения
младший лейтенант
государственной безопасности
Круглов»[25]
Подумать только: сам нарком Меркулов занимается чемоданом безвестного немца, и с чем чемодан — с бельем! Да неужто же пропажей белья боялись прогневать германского посла графа фон дер Шуленбурга? Вот что такое Большая Политика, в которой нет мелочей. И летят строгие депеши командованию 11-й бригады, от него — в полк. пишет объяснительные записки младший лейтенант Гурский, вспоминает злосчастный чемодан, который держал он в руках год с лишним назад, — однако не удовлетворилась Москва, велят Гурскому прибыть лично, опросить, кроме того, красноармейцев из того конвоя, а они, конечно, все уже демобилизованы… И занимает вся эта морока на бумаге чуть не столько же места, сколько все советско-германские договоры с протоколами, вместе взятые.
Вернемся, впрочем, к полякам. Я сказал, что отношение к ним было в известной степени корректным (что подтверждает и А. А. Лукин в своем письме). Со временем, однако, оно ужесгочилось. Одно из доказательств содержится в оперативно-информационной сводке от 10.11.1940:
«12 августа с.г. при доставке одного военнопленного в тюрьму г. Москвы при обыске у него было обнаружено 2 клгр. 322 грамма золота. Золото находилось зашитым в двух полотняных поясах. До этого военнопленный конвоировался войсками несколько раз. Первоначально со станции Шепетовка в Старобельский лагерь, затем из Старобельска в Юхновский лагерь, из Юхновского лагеря в Грязовец, а из Грязовца в Москву.
Указанный факт свидетельствует о том. что производимый обыск составом конвоя является низкого качества, вследствие чего запрятанное золото не было обнаружено».
Случай и в самом деле небывалый: что за золото, в каком виде. откуда? Гадать бесполезно, а дополнительной информации никакой нет. Обращает на себя внимание и факт многократных перемещений военнопленного из лагеря в лагерь. Действительно, пленных довольно часто переводили с места на место: в каждом лагере, а также в областных управлениях НКВД, в Москве, Киеве и Минске с поляками работали следователи, заводили уголовные дела, разыскивали подельников; интересовались пленными и разведка с контрразведкой (об этом позже). С другой стороны, пленных сортировали — скажем, по профессиональному признаку.
«Начальствующему составу войск необходимо обратить внимание на проведение более тщательного обыска военнопленных, принимаемых из лагерей.
В дальнейшем обыск военнопленных производить на одинаковых основаниях с заключенными».[26]
Из чего следует, что до середины ноября 1940 года пленные обыскивались на неких особых основаниях.
Сосредоточимся теперь на судьбе тех узников, чья трагическая участь составляет предмет этой книги. Речь пойдет о Козельском, Осташковском и Старобельском лагерях НКВД.
Офицеров от солдат отделяли уже в пересылках, содержали строже. Цитирую письмо Михаила Андреевича Добрынина из Бреста:
«В 1937–1941 годах я жил в Смоленске. Дом находился рядом с железнодорожным переездом, и я хорошо помню, как в 1939 году шли составы с польскими военнопленными. Часто у нашего переезда поезда останавливались и простаивали довольно долго. Мы, мальчишки, как и некоторые взрослые, подходили к составам и общались с поляками. Наши люди выносили им еду. Нам они раздавали польские монетки, шутили. Это был рядовой состав. На противоположной стороне путей были выстроены временные бараки, куда в сопровождении охраны выводили «панов». В основном это были офицеры, а также гражданское население, включая женщин и детей. Общение с ними не допускалось, но издали можно было смотреть».
Сначала опять цифры. Пытаться установить точное число пленных в каждом из лагерей бесполезно: цифры эти постоянно колеблются. Сошлюсь на профессора Мадайчика. изучившего все известные к моменту написания его кнш и источники. Его данные в принципе совпадают с архивными документами с допуском в пределах сотни, а по Старобельску с точностью до человека. По Мадайчику, в Козельском лагере содержалось приблизительно 4,5 тысячи офицеров, в том числе генералов — 4, конградмирал — 1, старших офицеров — 400. младших — 3500, курсантов — 500.[27]
В Старобельском лагере было около 3900 офицеров (8 генералов, 380 старших офицеров, 3450 младших, 30 курсантов) и от 50 до 100 гражданских лиц. Осташковский лагерь насчитывал около 6570 полицейских. Таков итог бериевского пасьянса: Козельск и Старобельск стали офицерскими лагерями, Осташков специализировался на полицейских.
Как я уже писал, лагеря входили в компетенцию Управления по делам о военнопленных НКВД СССР. Начальником Козельского лагеря был старший лейтенант госбезопасности В. Н. Королев, комиссаром — старший политрук Алексеев, начальником особого отдела — старший лейтенант ГБ Эльман. Важную роль в лагере играл начальник 2-го отделения[28] А. Я. Демидович. Из польских источников известен также В. К. Урбанович, занимавший должность, как явствует из документов, помощника начальника лагеря по хозяйственной части. Мемуаристы называют его полковником, ориентируясь на армейские знаки отличия, но дело в том, что три «шпалы» полковника РККА соответствовали званию капитана госбезопасности. Должность начальника Старобельского лагеря занимал капитан ГБ Бережков (то же недоразумение, что и с Урбановичем: в литературе он значится полковником), комиссаром был Киршин. Начальником Осташковского лагеря был старший лейтенант ГБ Борисовец.
Раз уж зашла речь о персоналиях, назову, сверившись с документами, и другие действующие лица, фигурирующие в литературе, с тем чтобы уточнить звания и должности и исправить ошибки в транслитерации фамилий по спискам, составленным исследователями катынской трагедии Янушем Заводным, Луисом Фитцгиббоном и Леопольдом Ежевским.
Начальник Грязовецкого лагеря — старший батальонный комиссар Н. И. Ходас. начальник Юхновского лагеря — майор ГБ Кадышев, начальник Смоленского областного УНКВД — капитан ГБ Е. И. Куприянов. Упоминаемый всеми без исключения авторами майор ГБ (в польских источниках — комбриг) В. М. Зарубин являлся оперуполномоченным 2-го спецотдела НКВД. Существовал и человек по фамилии Лейбкинд: звали его Рафаил Самуилович, звание он имел старший лейтенант ГБ, однако какова его роль в судьбе военнопленных, пока неясно. Попадается в бумагах и Филиппович — лейтенант ГБ, помощник начальника 1-го спецотдела Смоленского УНКВД. Трудно идентифицировать полковника Л. Рыбака — возможно, имеется в виду бывший командир 15-й бригады полковник Рыбаков, в июле 1940 года работавший начальником штаба конвойных войск НКВД СССР; кроме того, в Указе ПВС «О награждении орденами и медалями СССР работников НКВД» от 26.4.1940 («Правда». 27.4.1940) среди награжденных медалью «За трудовую доблесть» значится старший лейтенант ГБ Рыбак Иосиф Моисеевич, функции которого опять-таки неизвестны. К польским спискам мы еще вернемся, а сейчас — несколько пока незнакомых специалистам имен. Честно признаюсь, структура «органов» для меня во многом остается загадкой, но делать нечего — воспроизвожу номерные наименования подразделений так, как написано в документах, субординацию определяю по собственному разумению.
УНКВД по Смоленской области:
Зам. начальника управления — капитан ГБ Ильин
Начальник 1-го спецотдела — лейтенант ГБ Караваев
Начальник 3-го спецотдела — сержант ГБ Бобчен-ко
Сотрудники 3-го спецотдела — Лелянов, Айбиндеров
Начальник оперативного отделения — лейтенант ГБ Красинец
Оперуполномоченный УНКВД — сержант ГБ Разгильдеев
Начальник тюремного отдела — лейтенант ГБ Жамойдо[29]
Зам. начальника тюремного отдела — лейтенант ГБ Малов
Начальник следственной тюрьмы — сержант ГБ Люсый
Комендант внутренней тюрьмы — лейтенант ГБ Стельмах
Осташковский лагерь:
Инспектор 2-го отдела — Галкин
Юхновский лагерь:
Комиссар — Лаврентьев
Начальник 2-го отделения — младший лейтенант ГБ Шульженков
Грязовецкий лагерь:
Начальник 2-ю отделения — лейтенант Шахов
Впоследствии я дополню этот список именами сотрудников центрального аппарата НКВД-НКГБ. Перечисленные лица занимали указанные должности в 1939–1941 годах и не могли не знать об участи военнопленных.
Хроника Козельска
Архивный фонд 136-го батальона не мал, однако же и не полон: часть документов за интересующий нас период уничтожена в начале июля 1941 года образованной специально для этой цели комиссией. Здесь, кстати, странная неувязка в датах. 9.7.1941 генерал-майор Шарапов пишет заместителю наркома внутренних дел генерал-лейтенанту Масленникову:
«'В соответствии с приказанием Народного Комиссара Внутренних Дел СССР от 6 июля 1941 г. за № 53 о разгрузке архивов и текущего делопроизводства при этом представляю на Ваше рассмотрение акт комиссии Управления конвойных войск по определению материалов архива и текущего делопроизводства, утерявших оперативное и научно-историческое значение».[30] («Научно-историческое»! Как в воду глядел Владимир Максимович.)
А приказ № 157 по 136-му батальону, которым образована комиссия по отбору документов, издан 5.7.1941, причем комиссии приказано начать работу пятого же, а закончить шестого июля.[31]
Стало быть, батальон начал уничтожать архив раньше. чем поступила команда из Москвы. Или для батальона было особое указание? Во всяком случае, архивы конвойных частей, охранявших Старобельский и Осташковский лагеря, за 1939–1941 гг. вообще не сохранились.
Командовал батальоном полковник Межов Терентий Игнатович: в январе 1941 года его сменил майор Порфирей Антонович Рспринпев. комиссаром батальона был старшин политрук Мамах Федорович Снитко (Снытко), начальником штаба капитан Яворский Николай Викторович, а в начале войны — капитан Оловянов Владимир Феофанович.
Штаб батальона располагался в Смоленске (ул. Смирнова. 19). Здесь под ею охраной находились две тюрьмы НКВД, следственная и внутренняя, и склад. Батальон, кроме того, был занят эшелонным, плановым, городским (в суды и на вокзал) и особым конвоированием, а также нес внутренний наряд. Численность боесостава в первом квартале 1940 года составляла 404 человека и к концу года существенно не изменилась. На вторую половину года приходится значительное увеличение числа эшелонных конвоев (53 в четвертом квартале против 10 в первом), число же плановых конвоев на протяжении года колеблется от 32 до 46. Эта максимальная цифра соответствует, что немаловажно, второму кварталу.[32]
В 1939 году батальон отконвоировал 9956 военнопленных, из чего видно, что это не являлось основной его задачей. Но с 25 сентября одна рота выделена для охраны лагеря в Козельске. Кроме того. батальон, как я уже писал, нес охрану Юхновского лагеря, который в польских источниках чаще всего фигурирует как «Павлищев Бор».[33] В первом квартале 1940 года на охране лагерей было занято 60 человек, во втором — 100 (14 постов, видимо, в три смены).
136-й батальон был на отличном счету у командования. В описываемый период его конвои не допустили ни одного побега, не зафиксировано и других сколько-нибудь серьезных нарушений. Один негативный факт, впрочем, упоминается. «На инспекторской проверке, — поведал в своем отчетном докладе от 24.6.1940 секретарь комитета ВЛКСМ Скоробогатов, — комсомольцы не показали ведущей роли по стрельбе из ручного пулемета п револьвера «наган».[34] Зато куда больше было поощрений. Так, в честь 22-й годовщины конвойных войск приказом по бригаде от 19.4.1940 ценными подарками награждены диспетчер батальона М. Ф. Горячко и помкомвзвода А. И. Плахотный, а политруку Д. Г. Зубу объявлена благодарность,[35] в том же месяце (обратим внимание на даты) приказом по бригаде объявлена благодарность вожатому служебной собаки В. И. Ульянову — «за умелое использование служебной собаки «Орка» в эшелонном конвое по маршруту Смоленск — Кандалакша».[36]
Монастырь Свято-Введенская Оптина Пустынь занимает совершенно исключительное место в истории русской культуры, богословия, философии. О нем существует обширная литература, в том числе и появившаяся в самое последнее время (назову, в частности, обстоятельную статью Вадима Борисова в «Нашем наследии», 1988, IV), так что читатель вполне может составить себе представление о феномене Оптиной и без моей помощи. Нет смысла повторять здесь общеизвестные вещи — достаточно исправить явные недоразумения и ошибки современных публикаций, немаловажные для нашей темы.
Одна из ошибок касается первоначального назначения скита и принадлежит перу опять-таки Н. С. Лебедевой, которая указывает, что в скиту «останавливались паломники». Это утверждение противоречит самой этимологии слова «скит». В Иоанно-Предгеченском скиту, основанном в 20-е годы прошлого века, располагались кельи знаменитых оптинских старцев. Существовало в Оптиной и восемь гостиничных корпусов, после революции разобранных на кирпич, но, разумеется, не на территории скита или монастыря, а вне их. Иначе и быть не могло, ибо на территорию скита не допускались женщины. Открыв соответствующую главу «Братьев Карамазовых» («Приехали в монастырь»), мы найдем топографически точное описание дороги в скит: герои направляются туда для встречи со старцем Зосимой, прототипом которого послужил, как известно, старец Амвросий. Келья Амвросия до сих пор цела, как и другая постройка того же типа. В 1939–1941 годах там размещалось лагерное начальство, в 1943–1956 — спецдетдом для детей репрессированных. Казарма же конвойных располагалась в том здании, где теперь братская трапезная. В документах НКВД скит именуется «территория № 2». По воспоминаниям бывших узников Козельска, в нем содержали уроженцев Западной Украины и Западной Белоруссии.
Случаются дефекты и посерьезнее. До сих пор не могу понять, что заставило Нину Чугунову, автора прекрасного очерка об Оптиной («Огонек», 1989, № 34), написать, что до войны в бывшем монастыре был пионерский лагерь. Был там лагерь до войны, верно, да только не пионерский. Не поручусь, что пионерского вообще не было, но ведь нельзя же, в самом деле, ни словом не обмолвиться о другом лагере. В контексте катынской проблемы это выглядит, мягко говоря, некорректно.
А до лагеря НКВД в монастырских постройках помещался санаторий имени Горького. По словам Свяневича, получив возможность переписки с родственниками, пленные должны были именно санаторий указывать в качестве обратного адреса — профессор усматривает в этом некий черный юмор энкаведистов. Возможно, поначалу такое указание действительно было дано, однако вскоре адрес узников Козельска изменился: на конвертах и открытках, извлеченных из катынских могил, стоит «СССР, Козельск, почтовый ящих 12»; одна из таких открыток факсимильно воспроизведена в книге Я. Заводного.
Обстановка и условия жизни в Козельском лагере описаны достаточно подробно, известно даже расписание киносеансов (Pamietniki znalezione w Katyniu. Editions Spotkania, Paris, 1989), поэтому не буду повторяться, а расскажу лучше о собственных поездках в Оптину.
В поселке Оптино, расположенном в непосредственной близости от монастыря, поляков помнят многие, но смутно, а за более подробными сведениями направили меня к Клавдии Васильевне Ярошенко, урожденной Левашовой.
Выслушав мои вопросы, Клавдия Васильевна первым делом показала мне трудовую книжку своей матери. Левашова Ольга Демьяновна, 1901 года рождения, работала прачкой сначала в санатории, а затем в лагере НКВД, о чем гласят соответствующие записи: «1936. VII.4. Принята на работу в прачечную», «1939, сент. 20. Уволена за ликвидацией д/о им. М. Горького». После этого О. Д. Левашова «работала в органах НКВД в должности прачки», об увольнении же записано так: «1941, июль 27. Уволена в соответствии с пунк. «А» ст. 47 КЗоТ приказ № 97. Нач. лагеря НКВД стар. лейтенант г/б подпись/». Это и есть дата окончательной ликвидации Козельского лагеря.
Работал в лагере и старший брат Клавдии Васильевны Валентин, впоследствии погибший на фронте. Он был киномехаником и зимой 1939/40 г. дома почти не ночевал, жил в скиту. Значит, по соседству с особняками энкаведистов находились и жилые помещения для вольнонаемных.
По словам К. В. Ярошенко, условия пленным были созданы хорошие. Например, хлебная пайка была 800 г в день (слово в слово со Свяневичем) — по тем полуголодным временам норма немалая, во всяком случае, никто из окрестного населения такого изобилия не видывал.[37] Были среди поляков и расконвоированные. Факт этот никем из польских авторов не отмечен, а между тем близ монастыря до сих пор стоит и действует водонапорная башня, спроектированная и построенная польским инженером из лагеря. Про башню Клавдия Васильевна знает не понаслышке: с этим самым поляком работал на механическом заводе другой ее брат, ныне здравствующий, Евгений. На мой вопрос, где происходили киносеансы, Клавдия Васильевна показала мне групповую фотографию, на которой изображено все семейство Левашовых у гроба отца. Гроб установлен в церкви Марии Египетской — естественно, в бывшей церкви: в санаторные времена, к которым относится снимок (1937), там помещался клуб, о чем свидетельствует и кумачовая цитата из комсомольского вожака Косарева, осеняющая родственников усопшего («Самокритика есть большевистское средство укрепления наших отношений»).[38]
Назову уж, кстати, и репертуар, почерпнутый мною из дневника Юзефа Зентины, который был обнаружен в катынском захоронении при трупе владельца: «Александр Невский», «Поэт и царь», «Волга, Волга», «Мы из Кронштадта», «Великий гражданин», «1919 год». «Мать», «Чайка», «Человек с ружьем», «Детство», «Чудо святого Йоргена», «В людях», «Возвращение Максима», «Ленин в 1918 году», «Чапаев», «Выборгская сторона», «Девушка с характером», «Цирк» и т. д. Фильмы демонстрировались через день, а иногда и два дня подряд. Имеется, кроме того, запись о концерте, состоявшемся 23.11.1939, — участвовали в нем местные школьники.[39] В подборе фильмов никакой тенденции не заметно за единственным исключением: «Александр Невский», законченный Эйзенштейном в 1938 году, был изъят из проката сразу после заключения советско-германского пакта о ненападении и вновь появился на экранах лишь в начале войны, так что в данном случае перед нами вариант «закрытого просмотра», возможно, имеющего целью активизировать антигерманские настроения поляков; если это так, администрации лагеря нельзя отказать в дальновидности, ведь позиция официальной советской пропаганды была в то время определенно прогерманской.
Покойный Валентин Левашов был в хороших отношениях с обитателями лагеря: кто-то из пленных смастерил в подарок ему мандолину, которую он взял с собой на фронт, где она и пропала в 1943 году вместе с самим Валентином. Была у Клавдии Васильевны еще деревянная крашеная-перекрашенная скамеечка, изготовленная тоже пленными, но за полгода до нашей встречи подарила она ее приезжим полякам.[40]
Решительно ничего о событиях весны 1940 года никто из коренных оптинцев припомнить не мог, расстрел же военнопленных находили вполне возможным и даже в то жестокое время естественным.
Работали пленные и в лесу на заготовке дров. а весной 1940-го спиливали вымерзший яблоневый сад. Помнит еще Клавдия Васильевна, как летом 1941-го строем уводили поляков из лагеря — было их, по ее подсчетам, человек 50.
Итак. санаторий в Оптиной Пустыни существовал до 20.9.1939, лагерь военнопленных — с 25.9.1939 (дата откомандирования конвойной роты) по 27.7.1941. Ну а во время войны в монастыре размещался госпиталь: и Ольга Демьяновна. и Валентин по-прежнему работали там — она прачкой, он, пока не призвали в армию, киномехаником.
К рассказу К. В. Ярошенко осталось добавить немногое.
Большинство польских военнопленных в СССР составляли офицеры запаса, мобилизованные в начале войны. В частности. среди узников Козельска были 21 профессор высших учебных заведений, более трехсот врачей, военных и гражданских. более ста литераторов и журналистов, много юристов. инженеров и учителей, а также около десяти капелланов и один штатский священник. Режим в лагере отличался сравнительной либеральностью, хотя. например, как пишет Свяневич. «любые публичные моления в лагере были строго запрещены, поэтому службы наши принимали характер псрвохристианских катакомбных молений». Именно это обстоятельство впоследствии почти на четыре месяца продлило жизнь ксендзу Яну Зюлковскому, который в момент вывоза из лагеря священников как раз отбывал в карцере наказание за отправление требы, и о нем попросту забыли. Узники регулярно слушали советское радио, читали советские газеты, в частности областную смоленскую «Рабочий путь», и, судя по дневникам, внимательно следили за развитием событий в Европе. Сганислав Свяневич упоминает организованный узниками ежедневный устный журнал, который редактировали студент Виленскою университета подпоручик Леонард Коровайчик и доцент Познаньского университета поручик Януш Либицкий (оба идентифицированы среди катынских трупов). 19 марта 1940 года, в день Св. Йозефа, журнал был целиком посвящен памяти маршала Пилсудского.
«В лагерях. — отмечает Леопольд Ежевский, — в особенности в Козельске и Старобельске, атмосфера была спокойная, даже оптимистическая». Наиболее вероятным вариантом считалась передача пленных союзникам одной из нейтральных стран. В худшем случае, полагали поляки, их выдадут немцам. Между тем прибывшие из Москвы энкаведисты приступили к работе.
Основным содержанием деятельности чинов НКВД в лагере была фильтрация пленных для дальнейшего так называемого «оперативно-чекистского обслуживания». На каждого было заведено досье. Узников допрашивали, иногда по нескольку раз, причем следователи поражали собеседников своей осведомленностью.
Старшим в этой команде был «комбриг» Зарубин. Он отличался от прочих своих коллег редкой образованностью. изъяснялся на нескольких языках, был приятен в общении. «Отношение этих офицеров (следователей НКВД. -Авт.) к пленным в Коэельске было более или менее корректным. — пишет Свяневич, — но комбриг был в этом смысле не только безупречен, но и обладал манерами и лоском светского человека».[41] Зарубин привез с собой небольшую. но хорошо подобранную библиотеку в 500 томов на русском, французском, английском и немецком языках и охотно позволял пленным пользоваться ею; была там, к примеру, книга Черчилля «Мировой кризис», имевшая огромную популярность в Козельском лагере. Интересно, гго майор ГБ Зарубин был единственным энкаведистом, которому пленные по приказу генерала дивизии Минкевича (старшего по званию в лагере) отдавали честь. Лагерное начальсгво беспрекословно выполняло распоряжения «комбрига», в частности, о переводе из одного барака в другой: Зарубин раскладывал свой, малый, пасьянс. «Мне он напоминал образованных жандармских офицеров царской России», — замечает Свяневич, и эго, пожалуй, самая выразительная характеристика Зарубина.
Зарубин не просто тщательно изучал «контингент», но в ряде случаев и принимал решения. Возможно, именно ему обязан жизнью профессор Свяневич. Спасся и другой козельский узник, которому симпатизировал «комбриг», профессор права Вацлав Комарницкий, впоследствии занявший пост министра юстиции в кабинете Сикорского.
В начале марта (по данным Лебедевой — в феврале) Зарубин исчез из лагеря, надо полагать, завершив свою миссию. Ежевский предполагает, что он мог стать «жертвой очередной сталинской чистки» как опасный очевидец «окончательного решения» катынского вопроса или что он «успешно пережил войну и Сталина и продолжает жить под другой фамилией». Ни та ни другая гипотезы не соответствуют действительности. В. М. Зарубин умер в Москве в середине 70-х годов под своей собственной фамилией — об этом сообщил мне один из бывших высокопоставленных сотрудников НКВД-НКГБ генерал-лейтенант П. А. Судоплатов. Он дал самые лестные рекомендации Василию Михайловичу, подтвердив и прекрасное знание языков, и высокую образованность; при этом он, правда, отрицал какую бы то ни было его, равно как и свою, причастность к судьбе польских военнопленных.
С отъездом Зарубина судьба узников Козельска вступила в завершающую фазу. Никто из администрации не скрывал от них, что решение принято, однако смысл его продолжал оставаться загадкой.
Еще в декабре из Козельского лагеря — как и из двух других — вывезли священников. Никто из них, исключая ксендзов Зюлковского и Кантака, не обнаружен ни среди живых, ни среди мертвых. Труп Зюлковского. как уже сказано, эксгумирован в Катыни. Кантак спасся: он был гражданином вольного города Гданьска, к тому времени ставшего германским Данцигом. 8 марта были вывезены еще 14 офицеров, в том числе прокурор Верховного суда полковник Станислав Либкинд-Любодзецкий, бывший военный атташе в Бельгии полковник кавалерии Старженский, референт призывной комиссии капитан Радзишевский, поручик военного флота Граничный. Их доставили в тюрьму Смоленского УНКВД, и на этом след оборвался. Уцелел из этой группы один человек, которого из Смоленска отправили в Харьков, 3 апреля начались регулярные этапы, продолжавшиеся вплоть до 12 мая, причем два этапа общей численностью 245 человек имели конечным пунктом Юхновский лагерь (Павлищев Бор) — эти люди остались в живых. Остальные погребены в Катынском лесу. Во всяком случае, из эксгумированных в 1943 году 4143 трупов идентифицировано 2730 — все это узники Козельска.
Несколько немаловажных деталей. Перед отправкой всем пленным сделали прививки против брюшного тифа и холеры — по-видимому, чтобы успокоить их, внушить мысль о предстоящей передаче на Запад («что, учитывая географическое положение Козельска, было даже правдой», замечает по этому поводу Ежевский). Каждый этап получил сухой паек: по 800 г хлеба, сахар и три селедки: судя по хлебной пайке. выдана была суточная норма — дорога в Катынь, с многочисленными остановками и задержками, занимала как раз около суток. Подпоручик Владислав Фуртек вспоминает загадочную фразу, сказанную ему и его товарищам по этапу Демидовичем: «Ну. значит, вы хорошо попали». Фуртека увезли из Козельска 26 апреля — это был один из двух этапов в Юхнов.
Такова польская версия событий, совершавшихся в Козельском лагере весной 1940 года.
Откроем теперь книгу приказов по 136-му батальону за 1940 год.
14 марта командир батальона полковник Межов убывает в служебную командировку в штаб 15-й бригады, дислоцированный в Минске, по вызову. 18 марта возвращается в Смоленск и в тот же день уезжает в Козельск. 18 же марта в Козельск отправляются диспетчер батальона Горячко, помкомвзвода Плахотный, политрук Зуб[42] и команда из 48 человек во главе с командиром 2-й роты лейтенантом Хотченко: днем позже команда из 45 человек (старший младший комвзвода Ниделько), а еще через 10 дней команда из 12 человек (старший — старшина Афанасенко). За время пребывания в Козельске полковника Межова (в Смоленск он вернулся 14 мая) организовано девять конвоев. Из них 3 — в Юхновский лагерь, 2 — в Смоленск, 1 — из Смоленска в Козельск и 3 — по маршруту Козельск — Гнездово. отправившиеся 8, 16 и 17 апреля (начальники конвоев соответственно младший лейтенант Безмозгий, командир отделения Кораблев и старшина Гридневский). В окрестностях Гнездова, как известно, никакого лагеря не было, зато был и есть Катынский лес, вернее, та его часть, которая называется Козьи Горы, где и были впоследствии обнаружены массовые захоронения польских военнопленных.
Начнем с конвоев Козельск — Юхнов. Все три отправились из лагеря 12 мая. Да га совпадает с польскими источниками: именно в этот день из Козельска были вывезены последние узники, оказавшиеся сначала в Юхновском, а затем в Грязовецком лагере. Их было 95 человек или около того. Конвоиров, судя по документам, 30 плюс три начальника. Этого более чем достаточно: по другим бумагам я установил, что при перевозке вагонзаком, то есть «Столыпиным», обычно на одного конвоира приходилось примерно 15 подконвойных. С гнездовскими конвоями сложнее. Даты опять же совпадают, однако конвои эти слишком малочисленны. Сюда, впрочем, нужно включить конвои по маршруту Козельск — Смоленск, но и в этом случае число подконвойных и конвоиров несопоставимо. Вот таблица, в которой я совместил польские и советские архивные источники:
Если два конвоя 8 апреля, в сумме составлявшие 16 человек, еще могли справиться с 277 пленными, то этого никак не могли сделать конвои 9, 16 и 17 апреля.
Остается еще конвой младшего лейтенанта Тихонова в обратном направлении — из Смоленска в Коэельск, убывший 9 и вернувшийся в Смоленск 21 апреля. Можно предположить, что он вез пленных не в лагерь, а из лагеря: 19 и 20 апреля из Козельска отправились этапы, численность которых составляла соответственно 304 и 344 человека, красноармейцев же в тихоновском конвое было 20. И все-таки остается еще 14 этапов Козельск Гнездово, зафиксированных польскими источниками и никак не подтвержденных архивом 136-го батальона, не говоря уже о малочисленности трех из девяти выявленных мною конвоев. Никакие изъятия из книги приказов невозможны, вымарок я также не обнаружил — остается предположить, что батальону помогала другая конвойная часть. Есть сведения, что это был 226-й полк той же 15-й бригады. дислоцированный в Минске (командир полка — майор Суховеи Никифор Яковлевич). Проверить невозможно: архив полка сохранился начиная с 1941 года.
Среди дел о конвоировании особо опасных государственных преступников обнаружился полковник Любодзецкий. Это отдельный сюжет, отдельная загадка. В ночь на 3 марта со станции Козельск отправился конвой младшего лейтенанта Коптева в составе 15 человек. Ему было предписано доставить в распоряжение начальника смоленской тюрьмы 202 военнопленных. Однако доставлено было, судя по расписке дежурного по тюрьме от 11 марта, лишь четверо военнопленных и два пакета. Где остальные и почему конвой так долго добирался до Смоленска — неизвестно.
Кто же они, эти четверо? Полковник Любодзецкий Станислав Владиславович, 1879 года рождения, дело № 1153 (в ведомости указан даже домашний адрес: Варшава, ул. Мицкевича, 20, кв. 3), капитан Лихновский Леопольд Карлович, 1894 года рождения, дело № 3806,[43] Вансовский (или Вонсовский) Юлиан Эваристович и Говяк (или Гавяк) Мариан Янович. Таким образом, дата отправки из Козельска Любодзецкого — не 8-е, как указывают мемуаристы, а 3 марта. Из смоленской тюрьмы полковник Любодзецкий и капитан Лихновский отправились 14 марта через Харьков в Киев в распоряжение 3-го отдела УГБ НКВД Украины (начальник конвоя воентехник 1 ранга Шифрин), а Вансовский и Говяк — 15 марта в Осташковский лагерь (начальник конвоя младший лейтенант Пикалев).
Наконец, в нашем распоряжении имеется еще один документ — приказ по батальону № 119а от 21.5.1940. Вот его полный текст:
«В период с 23 марта по 13 мая 1940 г. 2-я рота и 1-й взвод 1-й роты выполнили одну из ответственных задач, поставленных Главным управлением конвойных войск и командованием бригады по разгрузке Козельского лагеря НКВД военнопленных. Несмотря на всю напряженность и сложность проводимой работы как в конвоировании, а также охране самого лагеря, поставленная задача разгрузить лагерь, не допустив ни одного побега военнопленных и правонарушений по службе, была выполнена, оценка проведенной работы представителем Главного управления конвойных войск НКВД СССР полковником тов. СТЕПАНОВЫМ дана хорошая. Особенно высокие образцы по выполнению задачи как по охране, а также конвоированию за этот период показали следующие т. т.: командир отделения 2-й роты ТАТАРЕНКО исключительно четко, аккуратно и умело выполнил возложенную на него серьезную и ответственную роль в данной операции начальника оперативной группы. Командир отделения 2-й роты гов. КОРАБЛЕВ, отлично выполнявший обязанности начальника конвоя. Командир взвода 1-й роты младший лейтенант тов. БЕЗМОЗГИИ, несмотря на то что впервые выполнял обязанности начальника конвоя, с задачей справился отлично, кроме того, в выполнении данной задачи принимал участие весь личный состав взвода, которым командует младший лейтенант тов. БЕЗМОЗГИЙ, и задачу выполнил отлично без единого правонарушения. Командир взвода 2-й роты младший лейтенант т. КОПТЕВ, будучи начальником конвоя, отлично справился с поставленной перед ним задачей. За что всем вышеуказанным товарищам объявляю благодарность и поощряю: т. ТАТАРЕНКО 70 руб., т. КОРАБЛЕВА 50 руб., БЕЗМОЗГОГО 70 руб., КОПТЕВА 70 руб.
Отлично выполнили свои обязанности красноармейцы 2-й роты тов. ПАВЛЕНКО, ГАВРИЛОВ, ДУБРОВ, ПРОКОФЬЕВ, ПАНОВ, ЗАХАРОВ, ШАРИН, красноармейцы 1-й роты т. АНТРОПОВ, ХРАМЦОВ, ПОНОМАРЕВ, ЩУКИН, КУЧУМОВ, за что объявляю благодарность и поощряю ПАВЛЕНКО 50 руб., тов. ЗАХАРОВА, ШАРИНА, АНТРОПОВА, ХРАМЦОВА, ПОНОМАРЕВА, КУЧУМОВА и ЩУКИНА отпуском на родину каждого на 10 суток. Тов. ГАВРИЛОВУ, ДУБРОВУ, ПРОКОФЬЕВУ объявляю благодарность и поощряю каждого по 25 руб.
Исключительно четко, по-серьезному и умело провел работу диспетчер батальона тов. ГОРЯЧКО, за что объявляю благодарность.
Командир батальона
полковник МЕЖОВ
Военком батальона
старший политрук СНЫТКО
зам. начальника штаба батальона
лейтенант УГЛОВ»[44]
Итак, разгрузка лагеря. (В уже упоминавшемся отчетном докладе комсомольского секретаря Скоробогатова читаем: «Хорошо выполнена задача по частичной разгрузке лагеря», что, впрочем, можно понять как частичное участие в разгрузке.)
Обратим внимание на уже знакомые нам фамилии: Татаренко,[45] Кораблев, Безмозгий, Коптев, Горячко. Что касается красноармейцев Павленко, Гаврилова, Прокофьева, Захарова и Дуброва, то это люди из состава групп, убывших в Козельск вслед за комбатом 18 и 19 марта. Упоминаемый в приказе полковник Степанов — начальник 1-го отделения 1-го отдела штаба конвойных войск НКВД СССР. По мнению Лебедевой, это тот самый описанный Свяневичем «высокий, черноволосый полковник НКВД с большим мясистым лицом», руководивший разгрузкой лагеря по отъезде Зарубина. С этим можно было бы согласиться, имей мы на руках портрет Степанова. Замечу лишь следующее. Поляки, как я уже писал, слабо ориентировались в специальных званиях ГБ; звания «полковник НКВД» не существовало, а полковничьи петлицы соответствовали званию «капитан ГБ». Так что это мог быть, например, Куприянов — начальник Смоленского УНКВД или же полковник, но не Степанов, а Межов.
О том, что происходило на станции Гнездово близ Смоленска, рассказывает в своих воспоминаниях профессор Свяневич, вывезенный из лагеря с этапом 29 апреля. На рассвете 30 апреля состав из шести столыпинских вагонов достиг Смоленска и после краткой остановки тронулся дальше. «Проехав несколько десятков километров, поезд остановился. Снаружи стали доноситься звуки команд, шум движения многих людей, звуки автомобильных моторов». Примерно через полчаса в вагоне появился «полковник НКВД» и приказал Свяневичу следовать за ним.
«Выйдя из вагона, я почувствовал острые запахи весны с полей и перелесков, где местами лежал снег. Было чудное утро, высоко в небе заливался жаворонок. Чуть в стороне от нашей стоянки была станция, но я не увидел на ней ни души. Локомотив наш уже отцепили, и он уехал. С другой стороны состава доносились какие-то звуки, но что там происходит, я не видел. Полковник спросил меня, не хочу ли я попить чайку…»
Заперев Свяневича в купе одного из уже освободившихся вагонов, «полковник» приказал красноармейцу приглядеть за пленным и принести ему кипятку, сам же удалился. Свяневич забрался на верхнюю полку и стал наблюдать за происходящим через вентиляционную щель. (Вагонзак, или «Столыпин», детально описан Солженицыным в «Архипелаге». К этой книге я и отсылаю читателя.) Он увидел, что площадка рядом с поездом оцеплена красноармейцами в форме НКВД.[46] С интервалом в полчаса к составу подъезжал автобус с замазанными белой краской окнами. Он подавался к вагону таким образом, что пленные переходили в него, не ступая на землю. В центре площадки стоял «полковник НКВД», чуть в стороне, рядом с «черным вороном», — «капитан НКВД», оказавшийся впоследствии начальником внутренней тюрьмы Смоленского УНКВД. Вскоре за Свяневичем пришли, и он в сопровождении «капитана» отправился в тюрьму, а оттуда 5 мая на Лубянку. (Здесь все та же путаница в званиях: начальником, вернее, командиром внутренней тюрьмы был лейтенант ГБ Стельмах, носивший в петлицах одну шпалу — столько же, сколько армейский капитан.)
Некоторые мемуаристы упоминают надписи на стенах тюремных вагонов, оставленные узниками Козельска. Одну из них, нацарапанную карандашом или спичкой, видел уже знакомый нам Владислав Фуртек, покинувший лагерь 26 апреля. Она гласила: «На второй станции за Смоленском выходим грузимся в машины» — и число, вторую цифру которого он не разобрал: не то 12, не то 17 апреля. Другую обнаружил в своем вагонзаке виленский адвокат Р-ч, этапируемый 27 июня 1940 года из Молодечно в Полоцк. На сей раз текст был написан химическим карандашом: «Нас выгружают под Смоленском в машины». Естественно, обе надписи были сделаны по-польски.
Признаюсь, рассказы эти казались мне не слишком надежными — как говорится, к делу не пришьешь, — и я колебался, стоит ли приводить их в книге. Но тут вдруг обнаружился архивный документ, не только подтвердивший наличие надписей, но и объяснивший их происхождение. В политдонесении Меркулову читаем:
«Установлено, что высшие чины бывшей польской армии, находившиеся в лаюре, давали указания офицерам, отправляющимся в первых партиях, делать в вагонах надписи с указанием конечных станций, чтобы последующие могли знать, куда их везут.
7 апреля при возврате первых вагонов была обнаружена надпись на польском языке «Вторая партия — Смоленск, 6/IV 1940 года».
(…) Отдано распоряжение все смыть и в будущем вагоны осматривать».
Существует еще одно свидетельство дневник майора Адама Сольского (этап 7 апреля). Запись от 8 апреля гласит:
«С 12 часов стоим в Смоленске на запасном пути. 9 апреля подъем в тюремных вагонах и подготовка на выход. Нас куда-то перевозят в машинах. Что дальше? С рассвета день начинается как-то странно. Перевозка в боксах «ворона» (страшно). Нас привезли куда-то в лес, похоже на дачное место. Тщательный обыск. Интересовались моим обручальным кольцом, забрали рубли, ремень, перочинный ножик, часы, которые показывали 6.30…»
На этом запись обрывается. Майор Сольский покоится в Катынском лесу. Дневник обнаружен при трупе профессором судебной медицины Герхардом Бутцем, впервые вскрывшим катынские захоронения.
Вот. собственно, и все.
Попробуем проанализировать и. если получится, дополнить эти тексты.
Прежде всего о Свяневиче. Профессор до сих пор тсряегся в догадках, почему он остался в живых и почему, если уж на то пошло, его не вывезли из лагеря с одним из двух этапов. направлявшихся в Юхнов. По этому поводу имеются кое-какие документы.
27 апреля начальник Управления по делам о военнопленных Сопрупенко получил распоряжение от имени заместителя наркома Меркулова — немедленно задержать этапирование Свяневича в Смоленск. 3 мая ему же поступило распоряжение начальника Смоленского УНКВД Куприянова:
«Первым отходящим вагонзаком этапируйте в распоряжение начальника 2–1 о отделения ГУГБ НКВД СССР старшего майора государственной безопасности тов. Федотова находящегося во внутренней тюрьме УНКВД арестованного Свяневича Станислава Станиславовича».
4 мая получена дополнительная бумага на ту же тему: Свяневича предписывалось этапировать под усиленным конвоем во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. На Лубянку профессора повез конвой из трех человек во главе с лейтенантом Волошенко. 6 мая начальник конвоя телеграфировал в Смоленск: «Материал сдал Москве. Волошенко».[47]
Зачем профессор-экономист понадобился советской контрразведке (а Федотов возглавлял именно контрразведку)?
Желая сохранить статус иностранного подданного, Свяневич в свое время умолчал о том, что он является профессором Виленского университета. Факт этот стал известен Зарубину незадолго до его окончательного отъезда из лагеря, да и то по чистой случайности. «Комбриг», пишет Свяневич, чрезвычайно заинтересовался этим обстоятельством и тотчас пригласил профессора на беседу; в разговоре же особенно подробно расспрашивал его о недавней поездке в Германию.
Всего вероятнее, именно эта беседа и спасла жизнь профессору. К тому времени Свяневич уже имел репутацию крупного специалиста по экономике тоталитаризма. На Лубянке Свяневич написал целый трактат о методике финансирования германской политики вооружения. Смею предположить, что для контрразведки представляли интерес также и личные контакты Свяневича в университетских кругах Германии. Он, в частности, находился в хороших отношениях с профессором Кёнигсбергского университета Теодором Оберлендером. Последний был другом Эриха Коха, будущего гауляйтера Украины, и страстным поборником советско-германской дружбы. В 1934 году Оберлендер побывал в СССР. встречался с Бухариным и Радеком. выразившими полную поддержку его взглядов.[48]
Картину происходившего на станции Гнездово полностью подтвердил мне Аркадий Андреевич Костюченко из Витебска. В 1940 году ему было 9 лет и жил он в поселке Софиевка — это в километре от станции.
«В 1940 году. — пишет он, — на станцию Гнездово прибывали время от времени один-два вагона пассажирских с решетками на окнах. К вагонам подъезжала автомашина, так называемый «черный ворон». Из вагона переходили под охраной в автомашину польские офицеры (они были в военной форме), и их увозили в Катынский лес. Лес был огорожен, и что там происходило, никто не видел. Но слухи были о том. что там раздаются выстрелы. В то время, как мне помнится, никто не сомневался в том, что их там расстреливают. Но говорили об этом мало. Дело серьезное, опасное. Поэтому и старались как бы не замечать этого».
На мои дополнительные вопросы А. А. Костюченко ответил новым письмом:
«Обдумывая ответы на Ваши вопросы, мне начинает казаться, что воспоминания мои тех лет как-то тускнеют и растворяются в последующих представлениях. Тем более мы, тогдашние пацаны, как и всегда, жили сами по себе, увлекались своими интересами, а дела взрослых воспринимали постольку, поскольку они происходили на наших глазах.
Месяц я, конечно, не помню, но дело было летом. Погода теплая, солнечная, бегали мы босиком. Поляки были в мундирах, у некоторых были шинели или плащи на руке, у некоторых — саквояжи.
Почему поляки? Потому что их так все называли, и уж очень красивые мундиры с какими-то значками, нашивками. Выглядели нормально и держались, как нам казалось, гордо и с достоинством.
Менялись ли конвоиры — не знаю. В лес их отвозили в «воронке». Конвоиры стояли с двух сторон при переходе поляков из вагона в машину. По всей видимости, конвоиры были из вагона, в машине они просто не поместились бы. Мне лично пришлось всего лишь раз видеть эту пересадку, и то издали, а вагоны, зеленые с решетками на окнах, стоявшие на станционных путях, видел часто. Очевидно, вагоны прибывали с каким-то составом, их отцепляли, а затем после разгрузки прицепляли к очередному составу.
Помнится мне такой случай. Ребята принесли в поселок диковинную штуку, которая нас всех очень удивила. Это башмаки, выдолбленные из дерева. Попали они к ребятам от поляков. Каким образом это могло произойти, сейчас и представить не могу. Но эти деревянные башмаки и что они от поляков, помню хорошо. Это точно. Позднее я видел такие в Западной Белоруссии в Гродно в 1944 году. Там это обычная штука.
Враждебности к полякам никто не проявлял. Мне помнится, что не считали их пленными и тем более врагами. Ведь войны с Польшей официально не было.
В это время было опасно говорить не только о поляках. Люди всего боялись. Ночью нередко арестовывали соседей. Я не согласен, что все это воспринималось как проявление какой-то необходимой справедливости. Многие чувствовали, что происходит, творится что-то ужасное, несправедливое, но… молчали.
Я, например, хорошо помню свои мальчишеские думы тех времен по этому поводу, но ведь я еще не мог сам так понимать — это понимание передавалось мне от взрослых. Конечно, кто-то корысти ради «ура» кричал, но подонки всегда были и, к сожалению, будут…»
Свидетельство Костюченко внушает мне доверие по следующим причинам. Во-первых, он не говорит лишнего, во-вторых, оговаривает возможные ошибки памяти и, в-третьих, в его письме есть непридуманная деталь — деревянные башмаки. Замечу также, что наша переписка относится к тому времени, когда в советской прессе публикаций о Катыни практически не было, во всяком случае, подробных описаний событий в Гнездове нет и сейчас. Это, впрочем, относится и к другим письмам: все они датированы второй половиной 1989 года, максимум январем 1990-го.
Начинается второе письмо с вопиющего несоответствия польским источникам: Аркадий Андреевич утверждает, что дело было летом, хотя тут же отмечает, что пленные имели при себе зимнюю одежду. (Далее мы увидим, что наличие в могилах шинелей и шарфов несколько подпортило стройную версию Бурденко.) Конечно, моего корреспондента сбила с толку теплая погода, и это еще одно психологическое подтверждение достоверности свидетельства: фальсификатор никогда не допустил бы столь грубой ошибки.
Прочие подробности совпадают, за исключением, пожалуй, башмаков. Башмаки и впрямь совершенно не вяжутся с атмосферой разгрузки в Гнездове — не было у поляков возможности обмениваться сувенирами. Иное дело пересылка в Смоленске, описанная М. А. Добрыниным. Такая аберрация представляется мне вполне вероятной. Не исключено также. что башмаки именно в качестве никчемной диковины отдал ребятам кто-то из энкаведистов, проводивших обыски на месте казни.
Поразительная вещь: впечатление Адама Сольского, что место, куда привез его «черный ворон», напоминает дачное, полностью соответствует действительности — в Козьих Горах и в самом деле располагалась дача Смоленского УНКВД, а участок леса был огорожен начиная по крайней мере с 1934 года.
Бывший шофер начальника УНКВД И. И. Титков припоминает, что весной 1940 года возил Куприянова в Гнездово, сам оставался в машине, а Куприянов выходил, наблюдал за разгрузкой эшелона, разговаривал с конвойными.
Наконец, тот факт. что среди местного населения весной 1940 года циркулировали слухи о расстрелах поляков, подтверждают авторы нескольких полученных мною писем.
В окрестностях Козьих Гор можно встретить немало лжесвидетелей. Мне, например, приходилось слышать красочное описание прибывших в Гнездово пленных, среди которых были два ксендза с собачками на поводках. Не говоря уже о том. что из всех ксендзов, содержавшихся в Козельском лагере, в Катынь попал лишь один, совершенно нереальным представляется существование собачек; да и отличить капеллана от офицера человеку несведущему, причем издалека, сложно.
Вопрос о смене конвоя имеет принципиальное значение, и вот почему. Экзекуция такого масштаба не могла быть произведена конвойными хотя бы уже ввиду отсутствия необходимого количества револьверов (а мы знаем, что в Катыни применялись именно револьверы): наганами были вооружены только начальники конвоев и проводники служебных собак. Вообще катынская акция требовала от исполнителей исключительного профессионализма. Этапы насчитывали от 92 до 420 человек, в автобусе, по словам Свяневича, помещалось не более 30, интервал между ездками составлял примерно полчаса — да ведь это впритык, только-только управиться с очередной группой, причем сделать это надо так, чтобы следующая группа до последних минут не догадалась, зачем ее сюда доставили. Еще и обыск был! Нет, конвойные на такое явно неспособны, здесь работали специалисты. Вспомним Свяневича: он утверждает, что площадка рядом с составом была оцеплена «солдатами НКВД». Стало быть, конвой поменялся? Когда? Во время той самой короткой остановки?
Были такие специальные подразделения в «органах»: комендантская рота, комендантский взвод. Профессионалы. В одном из жаворонковских материалов мелькнуло, что особым мастерством отличался, дескать, Стельмах — горе в том, что читать-то Жаворонкова следует с поправкой на беспардонную конъюнктурщину. Кроме того, Стельмах, если я его верно идентифицировал, в расстрелах как раз не участвовал, а прибыл в Гнездово специально за Свяневичем. Словом, на этом факты кончаются, и начинаются не догадки даже, а гадания.
Есть еще, правда, слабая зацепка: конвой командира отделения Кораблева, отправившийся из Козельска 16 апреля, в Смоленск прибыл аж 30-го. Где был, что делал Кораблев со своим отделением между 17 и 30 апреля — непонятно…
* * *
Начальник 1-го отдела штаба KB НКВД полковник Рыбаков, побывавший в июле 1940 года в Козельском и Юхновском лагерях с проверкой, остался недоволен. «Наряду с отдельными недочетами, влияющими на качество службы, — гласит приказ конвойным войскам от 22.7.1940, — установлено отсутствие среди личного состава рот 136 батальона 15 бригады должной дисциплинированности. Отсутствуют такие важнейшие элементы дисциплины, как выправка, подтянутость и умение точно в соответствии с новой редакцией ст. 27 УВС-37[49] и ст. 42 Строевого Устава Пехоты приветствовать своих начальников и старших по званию» .[50] Что и говорить, подкачал 136-й батальон…
Итак, Козельский лагерь продолжал существовать, но это был уже Козельск-2: в нем разместили поляков, интернированных в Литве и Латвии.
К этому периоду истории лагеря относится документ, обнаруженный немцами в архиве Белорусского НКВД и опубликованный в июне 1943 года в оккупационной газете «Новый курьер варшавский». Поскольку подлинник этого текста недавно найден в фондах ЦГОА, все сомнения в его аутентичности отпадают. Это совсекретный рапорт сотрудника Смоленского УНКВД лейтенанта ГБ Стариковича на имя начальника управления Куприянова от 20.8.1940. Старикович сообщает из Козельска:
«Всем интернированным известно, что они находятся в лагере Козельска Смоленской области и что в этом лагере ранее также находились польские военнопленные.
Для подтверждения сказанного заявляю:
1. Прибывшие на станцию в транспортах люди при выходе из вагонов могут увидеть надписи с названием железнодорожной станции.
2. Во время перехода от вокзала в Козельск дорога идет через город, где интернированные имеют возможность читать названия учреждений и организаций, а также улиц и местностей.
3. Руководство лагеря не устранило надписей на стенах, сделанных военнопленными, которые покинули лагерь. Поэтому новая группа интернированных может уяснить, что в лагере уже находились военнопленные.
Пользуясь случаем, должен обратить ваше внимание, что среди персонала лагеря были случаи нарушения режима секретности. В июле часовой в беседе с одним военнопленным сказал, что в лагере уже находились люди.
Интернированные особенно интересовались башней около барака номер 15, где раньше находилась местная тюрьма, на стенах которой были оставлены различные надписи. По ним можно было понять, что здесь находились военнопленные, которые ждали суда. На стенах бараков они также видели следы от выстрелов, из чего можно сделать вывод, что именно здесь приводились в исполнение приговоры.
Следует заменить в стенах бараков доски с надписями, поскольку именно по ним заключенные узнают о пребывании здесь польских военнопленных офицеров. Об этом доложил мне осведомитель».
В феврале 1941 года из Бутырской тюрьмы в Козелъск отправили несколькими группами около двухсот интернированных военнослужащих французской, английской и бельгийской армий.
Теперь об окончательной эвакуации лагеря.
22 мая из Козельска в Мурманск прибыл конвой во главе с майором Репринцевым. Он доставил на Строительство НКВД № 106[51]1000 военнопленных. Другой крупный конвой отправился из Козельска в Грязовецкий лагерь (начальник конвоя лейтенант Кателян). 2 июля он сдал по назначению 1224 «интернированных военнослужащих и гражданских лиц бывшей Польши», а также 181 француза, англичанина и бельгийца (первоначально в акте стояло 195, затем исправлено). В последних числах июля из Козельска в Потьму убыл конвой младшего лейтенанта Мурашова в составе 10 человек. Наконец, еще один конвой военнопленных отправился в июле по маршруту Смоленск — Ангара (80 человек под командой Ка-теляиа) — сильно сомневаюсь, что это были немцы. Так что А. А. Лукин абсолютно прав, сообщая мне об эвакуации Козельского лагеря в июле 1941 года.
Далее события развивались следующим образом. 5 июля из Юхновского лагеря в Грязовецкий отконвоировано 1300 военнопленных. 6 или 7 августа («полагать налицо с сего дня» — приказ от 7.8.1941) из Козельска в свою часть, которая к тому времени стала именоваться 252-м полком и дислоцировалась в Вязьме, прибыл младший лейтенант Пикалев и с ним 3-я рота в количестве 122 человек.
Так прекратили свое существование Козельский и Юхновский лагеря НКВД.
Работая в архиве, трудно определить сразу ценность выявленных документов. Иных исследователей, возможно, ведет интуиция, а я, например, попросту переписываю, пока не занемеет рука, все тексты подряд. Так оказались в моем досье списки поляков, попавших в категорию особо опасных государственных преступников и отконвоированных 136-м батальоном по запросам следователей во второй половине 1940-го — начале 1941 года. Не знаю, что побудило меня сверить их со списком катынских жертв, составленным Адамом Мощиньским (Lista Katynska. GRYF, London, 1989), да это уже и неважно — факт тот, что в результате обнаружилось ошеломляющее обстоятельство: люди числятся расстрелянными весной 1940 года, а между тем спустя месяцы после катынских расстрелов их перевозят из лагеря в лагерь, в Москву, Минск, Смоленск… Впрочем — в хронологическом порядке.
Сентябрь 1940-го. Конвой по маршруту Юхнов — Козельск (начальник конвоя — техник-интендант I ранга Архипов). Подконвойных 12 человек, из них один — Антоний Михалек — в списке Мощиньского.
Октябрь 1940-го. Маршрут тот же. Подконвойных шестеро. Среди них — сержант Александр Розмысл, которого уже не должно быть в живых.
Дальше — больше.
Октябрь 1940-го. Смоленск — Минск (начальник конвоя — политрук Пермяков). Все семеро подконвойных числятся расстрелянными. Это майор полиции Гуго Землер, капитан Леон Ящуковский, сержант полиции Петр Маевский, комендант полиции Витольд Скретовский, майор Юзеф Оледзкий, майор полиции Константин Вороно, капитан пехоты Эугениуш Войцеховский.
Октябрь 1940-го. Козельск — Минск (начальник конвоя — политрук Зуб). Подконвойных семеро, из них четверо — капитан Владислав Пико, капитан Леон Лютостанский, капитан Эугениуш Плоцинский и капитан Стефан Маньковский — числятся среди жертв Катыни.
Ноябрь 1940-го. Козельск — Москва, Бутырская тюрьма (начальник конвоя — политрук Зуб). Из шести трое: подпоручик Юзеф Ковнацкий, капитан Юзеф Пилярский, поручик Влодзимеж Прокопович.
Декабрь 1940-го. Содержащегося в Козельском лагере полицейского Сгефанца Эмиля Стефановича предписано доставить в распоряжение начальника райотдела НКВД города Свенцяны. Старший сержант полиции Эмиль Стефанец фигурирует в мартирологе Мощиньского.
Декабрь 1940-го. Козельск — Смоленская тюрьма (начальник конвоя — командир отделения Васильев). Доставлены Урбанович Хилярий Рафаилович и Витковский Антон Станиславович. Сержант полиции Хилярий Урбанович числится убитым в Катыни. Витковских в польском списке двое — оба без инициалов.
23 декабря 1940-го. Козельск — в распоряжение начальника УНКВД по Вилейской области, изолированно друг от друга. 16 человек, из них капитан санитарной службы Мариан Зембинский, сержант полиции Август Мильчевский, старший постовой полиции Станислав Саваля, старший сержант полиции Станислав Кленовский и старший постовой Юзеф Огоновский — в списке Мощиньского и еще двое под вопросом (предполагаю ошибки в транслитерации).
30 декабря 1940-го. Юхнов — Смоленск, внутренняя тюрьма УНКВД (сквозной конвой Смоленск — Козельск — Юхнов — Козельск — Вилейка — Козельск — Вилейка — Смоленск, начальник конвоя лейтенант Столяров). Из пяти подконвойных двое внесены в число расстрелянных — это подпоручик Вацлав Новак и вахмистр Влодзимеж Луковский.
Наконец, 5 февраля 1941 года из Козельска в распоряжение начальника 2-го отдела УГБ НКВД БССР, то есть в Минск (начальник конвоя — младший лейтенант Таньков), отконвоирован сержант полиции Юлиан Хмелевский — он тоже внесен Мощиньским в список катынских жертв.
Итого 26 человек, и это только Козельск.
Совпадают не только имена и фамилии, но и воинские звания в тех случаях, когда они указаны. Отдельные ошибки или совпадения в этом перечне, разумеется, возможны, но не в таком же количестве. Возможны и неувязки: скажем, пришел запрос на человека, которого уже нет или никогда не было в лагере, — в такой ситуации, естественно, никого никуда и не конвоировали, а на предписании делали соответствующую пометку. Но перечисленные конвои имеют полный комплект документации, вплоть до расписки адресата и телеграммы о выполнении задания. Факт, что эти люди были живы в означенные сроки, не подлежит сомнению.
Однако среди живых их не оказалось. Единственная гипотеза: они погибли позже. После Катыни. Выяснение их судьбы должно составить предмет специального исследования. Во всяком случае, эти имена необходимо выделить в особый список и заниматься ими отдельно.
* * *
И еще один эпизод начала войны.
10 июля, то есть за считанные дни до вступления в город немцев, по маршруту Смоленск — Катынь отправляется конвой младшего лейтенанта Сергеева в составе 43 человек. Тут уж никаких сомнений: дело идет о ликвидации тюрьмы. Подобная разгрузка тюрем производилась в первые месяцы войны во многих прифронтовых городах. Подконвойных было. судя по числу конвоиров, не менее 600 человек. Кто они? Где они? Ничего не известно…[52]
На тот случай, если у кого-то повернется язык возразить мне — дескать, не факт, что они расстреляны, — имеется у меня еше один документ.
Докладная записка начальника 3-го отделения НКВД 42-й бригады[53] KB младшего лейтенанта ГБ Компанийца начальнику 3-го отделения НКВД СССР старшему майору ГБ Белянову от 11.7.1941:
«26 июня силами снайперской роты из Минской тюрьмы было эвакуировано около 2000 заключенных, но ввиду систематических нападений на колонну с заключенными под местечком Червень при согласовании с руководством тюрьмы 209 политических заключенных были расстреляны, а заключенные, содержащиеся под стражей за бытовые преступления, освобождены».[54]
Кто поручится, что среди расстрелянных не было поляков, а если и не было, разве наш нравственный долг не велит нам выяснить обстоятельства и этих преступлений?
Осташков
Об Осташковском лагере известно значительно меньше, чем о Козельском. По данным Мадайчика, в нем содержалось около 6570 человек.[55] Это были главным образом полицейские, чины жандармерии, пограничники, а также члены военных судов, священники, группа гражданских лиц и около 400 армейских офицеров. Лебедева дает значительно меньшую цифру, а в справке за подписью Сопруненко читаем, что на 1.3.1940 в лагерях НКВД содержится 6168 полицейских и жандармов.[56]
В любом варианте, однако, из трех лагерей Осташковский был самым крупным.
Размещался лагерь в бывшем монастыре Нилова Пустынь.
НИЛОВА СТОЛБЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ
Историческая справка
Монастырь расположен в 10 километрах к северу от Осташкова на острове Столбный. Основан в 1590 году в честь отшельника Нила (в миру Григория), поселившегося на Столбном в 1528-м и скончавшегося в 1555 году в возрасте 65 лет. Первоначальные деревянные постройки уничтожены пожаром в августе 1665 года. Ансамбль, сохранившийся до наших дней, создавался с 1669 по 1863 год. В его сооружении принимали участие архитекторы И. Ф. Львов, И. И. Шарлемань, мастер каменных дел из Швейцарии Анжело Боттани. Расписаны храмы осташковским мастером Борисом Уткиным, лепные работы выполнены Сергеем Васильевым. В июле 1820 года на поклонение святым мощам Нила Столбенского приезжал император Александр I, а в мае 1889-го — великий князь Константин Константинович. Монастырь получал крупные пожертвования от Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, императрицы Анны Иоанновны. князей Трубецких и Пожарских и многих др. В среднем за год Нилову Пустынь посещало около 100 тысяч человек. К 27 мая, дню Обретения мощей Преподобного, собиралось до 15 тысяч, а в Великий пост — до 30 тысяч человек.
20 декабря 1917 года в монастыре была проведена опись и конфискация драгоценностей. Было изъято серебра 539 кг 480 i и драгоценных камней в золотой оправе 824 г. Впоследствии было конфисковано, кроме того, 1392 кг медных монет старинной чеканки. Изымались также белье, утварь, мебель. В 1920 году в Ниловой была разобрана железная oi рада, установленная затем на кладбище жертв революции на полуострове Житенном. Последняя служба в монасnыре состоялась 9 июня 1928 года. 12 монахов во главе с настоятелем Пустыни Гавриилом и наместником архимандритом Ионникием предстали перед пролетарским судом. Приговор по этому процессу неизвестен.
В 1929–1935 гг. в Ниловой Пустыни размещалась богадельня, в 1935–1939 гг. — детская трудовая колония, воспитанники которой жили и работали по методу А. С. Макаренко. В колонии был построен цех по производству паяльных ламп, был свой духовой оркестр, театр, кинозал в Богоявленском соборе, в парке — колесо обозрения, качели, спортплощадка. Именно в этот период началось строительство дамбы, соединяющей теперь остров Столбный с полуостровом Светлица. Для этой цели колонисты разрушили на территории Пустыни церковь Св. Иоанна Предтечи (1771–1781), а на берегу, в деревне Светлица, — более позднюю церковь Михаила Архангела. Добытых таким образом кирпича и щебня, однако, не хватило, осталась узкая протока, через которую был сооружен всего лишь пешеходный мост. Единственным же грузовым средством сообщения в летний период вплоть до 1973 года оставался катер «Чапаев». Как выразился по поводу разрушения храмов Б. Ф. Карпов (см. ниже), «эта глупость происходила от нашей бедности, а бедность от глупости». Он, впрочем, заметил, что протока обеспечивает необходимый экологический баланс двух соседних заливов. В 1939 году трудколония была расформирована.
Охрана Осташковского лагеря была возложена на 135-й батальон 11-й бригады KB НКВД (командир — майор Ищенко Михаил Наумович), дислоцированный в подмосковном селе Богородском, а начиная с мая 1940 — в Барановичах. Кстати, этот же батальон нес охрану Лефортовской, Бутырской и Таганской тюрем. В карточке учета служебной деятельности батальона за 1939 год записано: «В 4 квартале выделена рота для охраны Осташковского лагеря военнопленных».[57] Известно, кроме того, что 28.6.1940 из лагеря отправился конвой 236-го полка той же бригады по маршруту Осташков — Североникель; подконвойных в нем было 323 человека. Имеется в архивных документах еще и такое упоминание:
«19.12.39 на блок-посту по охране Осташковского лагеря военнопленных (135 батальон 11 бригады) пала служебная собака «Мурка». В представленном командованием 135 батальона материале о падеже собаки установить причину не представляется возможным».[58]
Вот, собственно, и все, что удалось мне почерпнуть из фонда ГУКВ, архив же самого 135-го батальона за 1939–1940 гг. в ЦГАСА отсутствует.
Есть у меня зато два небезынтересных свидетельства. Одно из них принадлежит осташковскому старожилу, в прошлом учителю географии, а ныне пенсионеру Борису Федоровичу Карпову. Вот текст, написанный им по моей просьбе:
«В сентябре — октябре 1939 года в Осташков стали прибывать эшелоны с польскими военнопленными. При стечении огромного количества народа их направляли по улице Володарского к пристани, которая раньше принадлежала монастырю. Там их грузили в деревянные баржи и пароходом «Максим Горький» буксировали в Нилову Пустынь.
О том, что жизнь их в лагере была несладка, говорят такие факты: золотые часы многие из них отдавали за буханку хлеба. Умерших хоронили на погосте Троеручица Зальцовского сельсовета.
В конце марта — начале апреля я видел, как пленных пешком конвоируют по льду озера Селигер. Они двигались небольшими группами, чтобы не продавить лед. Прибывали они в Осташков в местечко Тупик, теперь — Сплавучасток. Там их грузили в теплушки».
На мой вопрос, какого цвета мундиры были на поляках, Борис Федорович уверенно ответил: на офицерах — синие, на солдатах — серовато-зеленоватые. И добавил, что такой красивой формы он в жизни своей не видывал, кроме как на картинках, изображающих офицеров царской армии. По словам Карпова, поляки держались гордо и пленными себя, как он полагает, не считали.
Цвет мундиров — важная деталь: синей была форма именно полицейских.
Вместе с Борисом Федоровичем мы побывали на погосте Троеручица. Кладбище расположено на холме, могильные ограды стоят впритык друг к другу, однако в самой середине имеется довольно просторный заросший бурьяном участок, свободный от захоронений. Здесь, свидетельствует Карпов, и покоятся останки узников, умерших «естественной» смертью. Борис Федорович, кроме того, рассказал, что хоронили их не в гробах, а в деревянных ящиках — по его мнению, в каждом таком ящике помещалось два тела.[59]
Второе свидетельство принадлежит Марии Петровне Сидоровой — она в свое время тоже, как и Левашовы, была «обеспечена агентурным обслуживанием». Нашел ее опять-таки Карпов, и не просто нашел, а записал ее слова на бумаге, которой затем придал официальный вид — заверил подпись Сидоровой у председателя сельсовета. С самой Сидоровой мне увидеться не удалось — она больна, — поэтому воспроизвожу документ, составленный Карповым:
«В 1939 году я, Сидорова Мария Петровна, 1909 года рождения, уроженка деревни Твердякино Зальцовского сельсовета, работала в пищеблоке на кухне в детской трудовой колонии, расположенной в бывшем монастыре Нилова Пустынь. Осенью этого года колонию расформировали и срочно стали готовить к приему польских военнопленных. Сколько их прибудет, никто не знал. В октябре через город Осташков стали поступать эшелоны с поляками. Вначале их кормили, как положено, обедами, но потом, из-за того что Нилова Пустынь была не готова принять такое количество людей, приходилось их кормить «болтушкой» из ржаной муки.
Всего их было 14 тысяч. Силами пленных были построены срочно 2 хлебопекарни. В корпусах были поставлены спальные настилы в 3–4 яруса. У поляков был свой медперсонал. Старшие офицеры были даже с семьями. Поляки были вежливыми, культурными людьми, очень чистоплотные, тщательно следили за своей одеждой и внешним видом. На работу их не отправляли. Их трудовая деятельность состояла в самообслуживании.
В марте — апреле 1940 года поляков большими партиями стали отправлять по льду озера Селигер в г. Осташков. Последними вывозили больных на телегах в мае месяце. Об их дальнейшей судьбе мне неизвестно.
8.10.89 г.»
Первое, что бросается в глаза — это, конечно, разительное несоответствие в цифрах. Сидорова утверждает, что пленных было 14 тысяч — это более чем вдвое превышает и польские и советские архивные данные. Существует, однако, и еще одна цифра. Член польской секции московского «Мемориала» историк Игорь Сергеевич Клочков, много сил отдавший изучению проблемы Осташкова, говорит, что численность военнопленных в Ниловой Пустыни, по крайней мере одно время, составляла 16 тысяч; сведения эти получены им от человека, ведавшего поставками хлеба в Нилову. У меня нет оснований не верить Сидоровой и Клочкову. Думаю, они просто заблуждаются: их информация относится, по-видимому, к более позднему периоду, когда в монастыре размещался госпиталь. Маловероятным представляется мне и присутствие в лагере семей, хотя некоторое число гражданских лиц там, как уже сказано, содержалось.
Что касается обстоятельств разгрузки лагеря, описанных Карповым и Сидоровой, то они вполне правдоподобны. Зима 1939/40 г. была суровой, морозной, и в апреле Селигер еще наверняка не вскрылся, передвижение же грузовиками по зимнику могло быть опасным. А вот дальше начинаются загадки.
Согласно польским источникам, разгрузка лагеря началась 4 апреля и закончилась 16 мая. Три этапа — 29 апреля, 13 и 16 мая — имели конечным пунктом Юхновский лагерь. Их численность составляет соответственно 60, 45 и 19 человек — итого 124; позднее их, как и уцелевших узников двух других лагерей, перевели в Грязовец. Куда вывезли остальных? По этому поводу существует две гипотезы.
Старший постовой полиции А. Воронецкий, содержавшийся в Осташковском лагере и попавший в один из грязовецких этапов, рассказал о своем разговоре с охранником. «Ваших товарищей вы уже не увидите, — сказал тот и на расспросы Воронецкого нехотя ответил: — Их потопили».
Вахмистр жандармерии Юзеф Борковский был в приятельских отношениях с заведующим лагерной пекарней Никитиным. «Куда нас повезут, не знаешь?» — спросил его вахмистр. «Куда-то на север», — был ответ. Вахмистра вывезли с этапом 29 апреля, причем действительно на север. На станции Бологое вагон, в котором находился Борковский, отцепили и направили на Ржев. Состав с остальными пленными остался в Бологом.
Наконец, зафиксированы показания Катаржины Гонщецкой, которую в июне 1941 года в числе других депортированных везли на барже по Белому морю из Архангельска к устью Печоры.
«Глядя на отдаляющийся берег, — рассказывает Гонщец-кая, — я почувствовала вдруг непреодолимую тоску по свободе, родине, мужу, вообще по жизни, — и заплакала. Неожиданно передо мной появился молодой русский из экипажа баржи и спросил:
— Ты чего ревешь?
— Я плачу над своей судьбой. Разве и этого у вас нельзя, в вашем «свободном» государстве? Я плачу над судьбой своего мужа…
— А кем он был?
— Капитаном, — ответила я. Большевик язвительно засмеялся.
— Ему уже слезы не помогут. Здесь потоплены все ваши офицеры. Здесь, в Белом море.
Он стукнул каблуком по палубе. Затем он, ничуть не смущаясь, рассказал, что он лично участвовал в конвое, транспортировавшем около 7 тысяч человек, и что среди них было много бывших служащих польской полиции и офицеров. Тянули две баржи. Когда вышли в открытое море, баржи отцепили и затопили. «Все пошли ко дну», — закончил он и ушел».
Случившийся рядом старик из экипажа баржи, дождавшись ухода энкаведиста, полностью подтвердил его слова.
Этими тремя свидетельствами исчерпываются польские источники. Анализируя их, Юзеф Мацкевич признает, что для окончательных выводов информации явно не хватает. Если допустить, что узников Осташкова вывозили в Архангельск, их путь должен был пролегать через Бологое. Мацкевич напоминает, однако, о распространившихся в конце 1941 года слухах не то об аварии на Белом море, не то о вывозе польских офицеров на северные острова; источником этих слухов были, как мы узнаем позже из отчета ротмистра Чапского, сотрудники НКВД. Оговорка уместная, и все же, сдается мне, полностью исключить вариант утечки информации нельзя.
Приведу еще два свидетельства на эту тему.
Первое письмо пришло на польское телевидение после нашей с Анджеем Минко передачи о Катыни. Его автор И. Выховский из Гданьска пишет:
«В 1954 году я работал на судоверфи «Петрозавод» в Ленинграде в отделе главного технолога, где начальником был инженер Цытрин, а технологом по силовым установкам инженер Басов. Вместе с ними работал технолог по слесарному судовому оборудованию, фамилию которого я забыл. Этот друг рассказал мне следующую историю — пишу его словами:
«Мальчиком я поступил юнгой на буксир, который плавал в северных акваториях страны — Белое море. Онежское озеро, Беломорканал. Ранней весной 1940 года буксир получил задание взять у причала шаланды и вывести в море. На буксир погрузились вместе с нами офицеры НКВД. Я увидел, что в открытых шаландах было несколько тысяч польских военнопленных, в том числе я видел людей, одетых в форму черного цвета. Мой старший друг матрос сказал, что это польские полицейские. Наверху шаланд стояли со штыками солдаты НКВД. Буксир потянул шаланды в открытое море. Когда мы были в нескольких десятках миль от берега, нам сказали остановиться. Офицеры НКВД переправились с буксира на шаланды. Шаланды мы оставили и пошли обратно в сторону причала. Через день буксир вернулся. Офицеры опять погрузились на буксир. Я заметил, что в шаландах была только охрана НКВД, а военнопленных не было и следа. Я спросил своего товарища матроса, куда делись пленные. Он показал пальцем руки в сторону дна моря и говорит: «Не спрашивай и не говори никому, что мы знаем, иначе наша судьба будет такой же». На лицах офицеров НКВД было видно большое волнение. Когда мы вернулись к берегу, всему экипажу было сказано, чтобы мы никому не говорили об этом под страхом суровой кары».
Второе письмо любезно предоставил в мое распоряжение профессор Мадайчик. Оно получено факультетом истории Ягеллонского университета, его автор — Тадеуш Чиж из Сопота.
Начинается письмо словами: «В 1954 году я был в СССР и работал на верфи «Петрозавод» в Ленинграде…» И далее следует тот же рассказ безымянного технолога. Автор письма уточняет: шаланда — баржа с открывающимся дном.
Способ перевозки заключенных в открытых баржах, или шаландах, широко практиковавшийся ГУЛАГом, описан Солженицыным. Напомню читателю эти строки: «В корытную емкость баржи сбрасывались люди и там лежали навалом, и шевелились, как раки в корзине. А высоко на бортах, как на скалах, стояли часовые». И далее: «Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 году, а даже очень оживились: текли ими освобожденные западные украинцы и западные белорусы». Уточню: не столько украинцы и белорусы, сколько поляки — депортированные, они же спецпереселенцы, о которых речь пойдет в следующей главе.
Что ж, история вполне правдоподобна (в сумраке или издали темносиние мундиры вполне могли показаться черными), а вот версию о специальных баржах с открывающимся дном следует признать в высшей степени сомнительной: если и топили пленных, то уж вместе с баржами, запертыми в трюмах, чтобы не всплыли трупы.
Своя гипотеза у И. С. Клочкова. Он определенно утверждает, что пленных из монастыря вывозили на баржах и по крайней мере одна из них затонула — или затоплена — в одном из селигерских проливов. Этот вариант представляется мне совершенно нереальным прежде всего потому, что озеро не могло вскрыться к началу апреля. Возможно, сведения Клочкова относятся к одному из последних, майских этапов? К этому сроку Селигер, как правило, очищается ото льда, и навигация идет полным ходом. (Точную справку о весне 1940 года можно было бы извлечь из архива местной метеослужбы, однако обнаружить соответствующие документы мне пока не удалось.) Но и в этом случае сомнения остаются: максимальная глубина Селигера 50 метров, озеро активно посещается туристами, рыбаками, яхтсменами — трудно представить себе, что за все эти годы не обнаружилось ни малейших следов затонувшей баржи. Во всяком случае, Карпов, опытный рыбак, однозначно отрицает такую возможность. Клочков, правда, рассказывает о горсти польских монет, подобранных на берегу кем-то из местных жителей; факт этот, по моему мнению, решительно ни о чем не говорит и серьезным доказательством служить не может.
Наконец, в самое последнее время, когда я уже заканчивал работу над книгой, возникла еще одна версия — на мой взгляд, самая убедительная.
После нашей майской поездки в Калинин и Осташков сопредседатель калининского (теперь уже тверского) «Мемориала» доктор исторических наук Марэн Михайлович Фрейденберг поместил в издаваемом им бюллетене заметку, где содержался призыв к читателям сообщить все, что им известно об участи осташковских пленников. В результате он получил информацию со ссылкой на покойного полковника А. П. Леонова, сотрудника Особой инспекции НКВД, скончавшегося в Калинине в 1965 году. По словам Леонова, поляки из Осташкова были перевезены в тюрьму Калининского УНКВД. а оттуда небольшими партиями на дачу УНКВД близ села Медное, где и расстреляны; на месте захоронения тогда же, в 1940-м, был поставлен дом для коменданта.
Надо сказать, сообщения о расстрелах в Медном появлялись и раньше, однако подтвердить их ничем не удавалось. Называл этот адрес в беседе с Фрейденбергом и я. Дача, а точнее спортивная база УКГБ, существует в Медном по сей день.
Едва успев дочитать письмо, Фрейденберг обнаружил в «Калининской правде» (номер от 30.5.1990) интервью начальника Калининскою УКГБ полковника В. А. Лаконцева (интересно, что интервьюером был собкор «Советской России» Ю. Буров, почему-то не поместивший материал на страницах своей газеты; впрочем, «Советская Россия» как раз в эти дни была чуть не целиком занята стенограммой съезда народных депутатов РСФСР), где среди прочего имеется упоминание и о захоронении в Медном.[60] По словам Лаконцева, там погребены не только поляки, но и «активные немецкие пособники» (их. как известно, судили и вешали принародно), а также советские воины, умершие от ран. Оказывается, этими поисками УКГБ занимается «уже много месяцев»! Никаких документов, правда, не обнаружено. И вот теперь Лаконцев обращается ко всем, кто может сообщить что-либо о захоронении в Медном. Странно, что не обратился раньше: ведь документы, цитируемые в этой книге, обнаружены не вчера — глядишь, и сократили бы многомесячный срок. Дико звучит и информация, что в одну яму с трупами казненных пособников свалены останки советских воинов: почему не отданы семьям, не похоронены по-людски? От бериевцев, понятно, можно ждать любой мерзости, но уж военные-то госпитали их компетенции, слава Богу, не подлежали. Наконец, откуда, если нет документов, известно, что в Медном захоронены пособники?
Из собсгвенного опыта М. М. Фрейденберг заключает, что это испытанный метод блокировать раскопки — во всяком случае, по отношению к деятельности тверского «Мемориала» он применяется не впервые.[61]
Через день после публикации Ю. Буров позвонил Фрейденбергу и предложил ему вместе отправиться в Медное. Разумеется. Марэн Михайлович немедля согласился.
На территории «дачи» Фрейденберг без груда нашел интересующий его дом. Это гипичная деревенская шитая тесом изба, и живет в ней, как и прежде, комендант. Рядом с домом приехавшие увидели песчаный холм явно искусственного происхождения. На вопрос, как образовался холм, комендант, нисколько не колеблясь, огветил, что это грунт, вынутый при закладке фундамента. Здесь, по словам Фрейденберга. приехавшие многозначигельно переглянулись: всякому сельскому жителю известно, что классическая русская изба строится без фундамента.
Версия Фрейденберга поразительно совпадает с обстоятельствами катынских расстрелов: и там и здесь фигурирует «дача УНКВД», пленных доставляют к месту казни небольшими группами… И на этом воздержусь от дальнейших комментариев: нужны дополнительные материалы, а если их нет — раскопки.
* * *
Как я уже писал, в конце июня 1940 года из Ниловой Пустыни в Североникель были вывезены последние 323 узника. Сводка о наличии военнопленных от 23.7.1940 гласит:
«Осташковский лагерь — свободен».[62]
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
(Окончание)
С 1940 по 1942 год в Ниловой Пустыни размещались воинские части, а в 1942–1944 гг. — в общей сложности шесть военных госпиталей. В 1944 году на территории монастыря была вновь организована детская трудовая колония, однако на сей раз — для несовершеннолетних преступников. В конце 50-х гг. в колонии произошло восстание, жестоко подавленное властями; некоторые представители администрации были преданы суду за превышение власти и рукоприкладство, а колония расформирована.
С 1961 по 1971 год в монастыре размещался дом для престарелых, с 1973 по 1988 г. — турбаза «Рассвет».
С 1974 года в монастыре ведутся реставрационные работы, однако крайне медленно: из 13 млн. рублей сметной стоимости на сегодняшний день освоено 1 млн. 157 тыс. В марте 1989 года архитектурный комплекс был передан Крюковскому литейно-производственному управлению магистрального газопровода «Мострансгаза». на острове Столбныи начала функционировать турбаза «Нилова Пустынь». Наконец, в 1990 году по настоянию местных жителей и по просьбе главы областного епархиального управления епископа Калининского и Кашинского Виктора монасгырский ансамбль передан Русской православной церкви.
В Ниловой Пустыни я был дважды — в январе и мае 1990 года. Архитектурный ансамбль монастыря изумительно красив и гармоничен, хотя, быть может, и не отличается своеобразием. Впрочем, было здесь строение, отмеченное вниманием исследователей, — деревянная ярусная церковь, родоначальница целого стиля. До наших дней церковь эта не сохранилась.
До окончания реставрации еще далеко. Все монастырские здания забраны лесами, во дворе груды строительного мусора. Вместо медного листа купола соборов крыты теперь жестью. Чугунные фигурные решетки в окнах келий выламываются, взамен устанавливаются обычные деревянные рамы. Посреди двора стоит насквозь проржавевшая вошебойка — железный шкаф, в котором посредством горячего пара изничтожались из одежды насекомые — когда-то совсем обыкновенная вещь, а в наше время реликвия, почти антиквариат.
Внутри одного из зданий явственно видны следы интерьера некогда размещавшейся здесь столовой: полуразвалившаяся печь, плита, окно раздачи.[63]
Озирая окрестности, пожалел, что приехал сюда не туристом, а по делу, да еще такому безотрадному.
Старобельск
Третьим офицерским лагерем был Старобельский, располагавшийся в Харьковской, а ныне Луганской области, и тоже на территории бывшего монастыря. В нем содержалось, по данным польских специалистов, 3920 человек, в том числе. уточняет Ежевский, почти все офицеры из района обороны Львова, около 20 профессоров высших учебных заведений, около 400 врачей, около 600 летчиков, а также юристы, инженеры, учителя, общественные деятели, литераторы и журналисты: в этом лагере оказались все без исключения сотрудники НИИ по борьбе с газами, почти все — Института по вооружению Войска Польского, раввин Войска Польского Барух Штейнберг.
Из документов ГУВД следует, что охрану Старобельского лагеря нес 230-й полк 16-й конвойной бригады (командир полка — майор Шевцов Илья Яковлевич), дислоцированный в Ростове-на-Дону. Приказом конвойным войскам от 31.12.1940 отмечена бдительность, проявленная конвойными:
«При охране Старобельского лагеря красноармейцы 4-й роты 230 полка — т.т. Щегольков. Жилин. Ельников и Калиничецко, выполняя отлично устав караульной службы, предупредили и ликвидировали ряд попыток к побегу содержавшихся в лагере заключенных».[64]
Еще одна попытка к побегу («Сводка-обзор оперативного использования служебных собак в частях KB НКВД за 4-й квартал 1939 г.»):
«10.10.39 в 19.00 из Старобельского лагеря, охраняемого 230 полком 16 бригады, бежал один военнопленный. Часовой заметил бежавшего на расстоянии 300–350 метров от лагеря, который успел приблизиться к населенному пункту и скрыться в канаве между деревьями.
Находившийся в лагере вожатый служебной собаки тов. Величко своевременно и умело применил караульную собаку «Эльза», не допустив военнопленного скрыться в населенном пункте.
Бежавший был задержан и возвращен в лагерь».[65]
Кроме того, имеется записка опергруппы НКВД (Трофимов, Ефимов, Егоров) от 25.11.1939 на имя Берии, из которой явствует, что в лагере вскрыта подпольная антисоветская организация. Нелестно отзываются авторы записки о комиссаре лагеря Киршине, который «вместо того, чтобы организовать через политаппарат культурно-просветительные мероприятия, позволяющие вести и политическую обработку младших и запасных офицеров, (…) бездеятельностью дал возможность антисоветскому активу военнопленных офицеров взять инициативу в свои руки». Мало того: «Не успели мы начать изъятие намеченных к аресту участников организации, как комиссар Киршин, действуя по своему усмотрению, направился в бараки военнопленных и в разговорах с отдельными активистами подполья начал «разоблачать» их деятельность, доказывать нелегальный, антисоветский характер работы и т. п., выболтав тем самым нашу осведомленность о наличии организации и дав возможность участникам организации приготовиться». Наконец, «т. Киршин не пользуется авторитетом среди сотрудников лагеря и с первых дней скомпрометировал себя фактом сожительства с одной из медицинских сотрудниц лагеря».[66]
Вскоре, однако, всей этой бурной деятельности был положен конец.
По сравнению с Осташковским о событиях весны 1940 года в Старобельском лагере известно больше благодаря тому, что в числе его узников находился известный художник и литератор ротмистр граф Юзеф Чапский, впоследствии издавший свои «Старобельские воспоминания», а затем еще одну книгу об СССР «На бесчеловечной земле». Фрагменты воспоминаний Чапского были в свое время представлены Нюрнбергскому трибуналу в качестве документа защиты по делу о Катыни.
Начало разгрузки лагеря Чапский описывает так:
«Уже с февраля 1940 года начали ходить слухи, что нас разошлют из этого лагеря. Наши лагерные власти распространяли слухи, что Советский Союз отдает нас союзникам, что нас высылают во Францию, чтобы мы могли там воевать. Нам даже подбросили официальную советскую бумажонку с нашим маршрутом через Бендеры. Однажды нас разбудили ночью, спрашивая, кто из нас владеет румынским и греческим языками. Все это создало такое настроение надежды, что, когда в апреле нас начали вывозить то меньшими, то большими группами, многие из нас свято верили, что мы едем на свободу.
Никак нельзя было понять, по каким критериям формировались группы отправляемых из лагеря. Перемешивали возраст, призывные контингенты, звания, профессии, социальное происхождение, политические убеждения. Каждый новый этап обнаруживал ложность тех или иных домыслов. В о дном мы все были согласны: каждый из нас лихорадочно ждал часа, когда объявят новый список выезжающих».
25 апреля из лагеря отправился этап в количестве 63 человек. На остановке один из пленных, выглянув в щель, увидел железнодорожника, простукивавшего молотком колеса вагона. «Товарищ! — спросил пленный. — Это Харьков?» Рабочий ответил утвердительно и добавил: «Готовьтесь на выход. Здесь всех ваших выгружают и везут куда-то на машинах».
В свою очередь приведу свидетельство своего читателя — Анатолия Александровича Заики из Сумгаита.
«Помню этот лагерь в 1940–1941 годах, — пишет он. — В эти годы мой отчим Федоренко Николай Николаевич, родной брат маршала бронетанковых войск Федоренко Якова Николаевича был по партийной линии направлен в этот лагерь заместителем начальника по хозчасти. Он часто выезжал на грузовой машине по районам Донбасса и иногда брал меня с собой. Раза два-три я по этой причине бывал в лагере и всегда удивлялся порядку и спокойной культуре в лагере. Народу там было доста точно, но без толкучки, и люди выглядели вполне прилично. Я не помню разговоров о каких-нибудь ЧП. Так было до августа 1941 года. В это время в спокойном и малолюдном городе стали накапливаться беженцы из западных областей, и обстановка на фронтах резко ухудшилась. По-видимому, в это время повысилась нервозность и обеспокоенность занятостью замначальника, вызванной отправкой куда-то лагерных поляков. В конце сентября я был призван в армию, и мне поляки из лагеря сшили отличную шинель. Я бывал раза два на примерке. Лагерь выглядел почти безлюдным. В конце сентября я уехал служить на Черноморский флот и потерял всякую связь с родными, а вскоре узнал, что их эвакуировали. Федоренко Н. Н. был переведен в аналогичный лагерь под Москвой. Умер в 1943 году».
Первый этап из Старобельска отправился 5 апреля, последний — 12 мая. Два из них, 25 апреля и 12 мая общей численностью 79 человек, оказались в Грязовце.
Для тех, кто избежал казни, события развивались следующим образом (цитирую Чапского):
«Я покинул Старобельск одним из последних. Уже на станции начались неожиданности: нашу партию распихивали человек по 10 15 в узенькие отделения вагонзака. почти без окон, с тяжелыми решетками вместо дверей. Охрана вела себя крайне грубо. В уборную нас принципиально пускали два раза в сутки. Кормили селедками и водой. В вагонах стояла жара. Люди теряли сознание, и особенно характерным было равнодушие явно привыкших к этому конвоиров. Наш этап привезли в лагерь Павлищев Бор. Там мы встретили несколько сот наших товарищей из Козельска и Осташкова. Всего нас было около 400 человек. Через несколько недель всех нас вывезли дальше, в Грязовец под Вологдой, где мы оставались до августа 1941 года.
Мы получили право раз в месяц писать нашим семьям. Условия нашей жизни были лучше, чем в Старобельске, и вначале мы были убеждены, что то же самое произошло с нашими остальными товарищами, что их разослали по другим, похожим на наш, лагерям, разбросанным по всей России. Мы жили в старом здании бывшего монастыря, а старинная монастырская церковь была уже взорвана динамитом».
И в Грязовце, стало быть, монастырь (там и по сей день пересыльная тюрьма). Сколько же тюрем, политизоляторов, колоний, спецдомов для детей «врагов народа» помещалось в бывших монастырских зданиях и храмах, начиная со знаменитых Соловков! А. И. Солженицын замечает по этому поводу: «Как повелось еще с Гражданской войны, усиленно мобилизовывались для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции». В самом деле: располагаются монастыри, как правило, на отшибе, обнесены стеной, кельи — готовые камеры, есть коммуникации и хозяйственные постройки. Даже караульных вышек строить не надо: колокольни и надвратные церкви с успехом заменяют их. И все-таки, сдается мне, не одними только практическими выгодами объясняется пристрастие НКВД к церковным зданиям. Уверен — была у репрессивных органов и идеологическая цель: осквернить национальные святыни.
Состоялся у меня в свое время странный диалог с наместником Оптиной Пустыни архимандритом Евлогием. Я обратился к нему с просьбой благословить киносъемку. В ответ услышал: «А вы в горисполком обращались?» «Это не наш уровень», — как можно внушительнее сказал я и, надо полагать, произвел должное впечатление. Разрешение снимать было дано, а от интервью польскому телевидению наместник уклонился. Что же это за пастырь, который за собственным благословением велит обращаться к светской власти? Коль уж зашла речь, скажу еще два слова не по теме: та же Оптина ведь строилась она руками самих монахов, наемный труд в Пустыни не допускался, а восстанавливают теперь подрядчики, поденщики… А иерархи неустанно твердят о возрождении духовных традиций русского старчества.
До недавнего времени никакой новой информации по Старобельскому лагерю добыть не удавалось, дело это казалось почти безнадежным. Но вот в июне 1990 года пресс-группа харьковского УКГБ УССР сообщила: «В ходе поиска к настоящему времени выявлено еще одно место массового захоронения жертв сталинских репрессий, которое, по предварительным документальным и свидетельским данным, находится в квартале № 6 Лесопарковой зоны. Там захоронено более 1760 советских граждан, расстрелянных по приговорам судов и решениям внесудебных органов, а также незаконно казненные в 1940 г. военнослужащие — поляки, количество которых выясняется». (Харьковская газета «Красная знамя» от 3.6.1990.)
Насторожила меня сразу дата: будто сговорились харьковское и калининское УКГБ, будто выполняют одну команду.
На девятый день после первой публикации — вторая, интервью заместителя председателя КГБ Украины генерала Г. К. Ковтуна «Известиям» (номер от 12.6.1990). Оказывается, уголовное дело в связи с обнаружением могильника возбуждено еще осенью 1988 года. И вот, наконец, результат: «В 6-м квартале расстреляно более 1760 невинных соотечественников, там же свыше трехсот перебежчиков из довоенной Польши, немецкие военнопленные, умершие в 1943 году в инфекционном лагере, а также казненные по приговору трибунала полицаи и предатели». Не кажется ли вам, читатель, что похожий текст мы уже читали? Что будто под копирку написаны сообщения о захоронениях в Медном и 6-м харьковском квартале? Впрочем, некоторые отличия все же имеются: вместо советских воинов, умерших от ран, фигурируют немецкие: умершие от инфекционных болезней, а также перебежчики. Невнятно, кстати, сказано о судьбе последних: они, надо полагать, тоже расстреляны? А вот наличие в могильнике трупов изменников Родины в данном случае возражений не вызывает: в декабре 1943 в Харькове, в отличие от Калинина, как раз проходил крупный открытый процесс карателей, после которого они были принародно повешены и, по свидетельству американского журналиста Ричарда Лаутербаха, висели трое суток. Георгий Кириллович Ковтун, кроме того, поведал, что «в архивах КГБ страны не оказалось сведений о Старобельском лагере», зато имеются акты об уничтожении соответствующих документов, в связи с чем «опытные харьковские следователи» были направлены в Центральный архив Советской Армии и Центральный государственный архив СССР. Здесь их ждала удача: «сотрудникам КГБ удалось по крупицам собрать в архивах материалы, косвенно свидетельствующие…» И далее генерал Ковтун приводит данные, опубликованные Лебедевой еще в марте. В заключение начальник УКГБ по Харьковской области Николай Григорьевич Гибадулов заверяет читателей, что правда о трагедии в 6-м квартале будет раскрыта до конца и обязательно обнародована.
Ох, не нравится мне этот текст, и в особенности сообщение об отсутствии нужных документов в архивах КГБ…
И уже само собой разумелось, что днями в Харькове объявится корреспондент «Московских новостей» Геннадий Жаворонков, полагающий официальное советское признание своей личной заслугой. Впрочем, в материале («Московские новости» от 17.6.1990) сказано, что сообщение пресс-группы УКГБ появилось после поездки Жаворонкова, что еще интереснее. Какие же новые подробности о захоронениях в 6-м квартале он опубликовал?
«Шли сюда крытые грузовики, обитые изнутри цинковым железом. Туда шли, тяжело переваливаясь и рыча, перегруженные, а оттуда налегке, с ветерком летели в Харьков. И выли по ночам за забором собаки, словно пытаясь рассказать людям о чем-то страшном…»
Завидую я Геннадию Николаевичу, ей-богу. Умеет он красиво излагать сюжеты: тут тебе и собачий вой, и «с ветерком летели» — художник слова! Однако оставим в покое беллетристические экзерсисы Жаворонкова. Обратим внимание на явти противоречие: он пишет, что расстрелянных грузовиками возили в 6-й квартал. Позвольте, но разве не рассказал нам генерал Ковтун, что расстреливали там же? Нет, именно так: свидетель Иван Дворниченко[67] показывает: «Людей убивали в здании НКВД на улице Чернышевского». Среди прочих леденящих кровь деталей Жаворонков сообщает, что в 70-е годы, когда после ливневых дождей обнажились в 6-м квартале человеческие кости и черепа. УКГБ построило там (правильно, читатель!) дом отдыха и дачи, ныне переданные на баланс города.[68] Что касается заместителя начальника УКГБ Александра Нессена, с которым беседовал корреспондент «Московских новостей», то он лишь пожал плечами: дескать, ни документов, ни свидетелей. Это как же: у Ковтуна и Гибадулова есть и то и другое, а у Нессена нет? Несмотря на нехватку материалов. Нессен, однако, заявляет, что дело о массовых захоронениях передано в прокуратуру. В каком виде. что именно передано? Документы ЦГАСА и ЦГОА? Как вилами по воде писано — не за что уцепиться. А Жаворонков продолжает, заливается замогильным соловьем: «Бугрится в лесу почва, дыбится по весне и осени в иступленных судорогах. И немо кричат из глубины люди, взывая к нам о помощи». К Геннадию Николаевичу, надо полагать, взывая.
Как раз об эту пору случилось мне быть в Польше, и вот читаю в газете «Трибуна», что председатель КГБ УССР генерал Голушко и его заместитель Ковтун побывали в польском генконсульстве в Киеве и передали депутатам Сейма Циможевичу и Козачко список узников Старобельска из 4031 имени («Trybuna», 24.6.1990). В Варшаве же услышал я интригующую историю о том, как в архиве Харьковского УКГБ были обнаружены эти буквально чудом уцелевшие бумаги. Между тем мне доподлинно известно, что списки эти без малейших усилий получены харьковскими гебистами от сотрудников ЦГОА.
Прихожу, впрочем, к выводу (вернее, к ощущению), что при всех логических неувязках и недомолвках место захоронения поляков указано верно. Одно беспокоит: как-то не верится мне в отсутствие документов в архивах КГБ.
Но делать нечего, ограничимся уже известными нам архивными фондами.
Как явствует из карточки учета служебной деятельности 230-го конвойного полка, во второй половине мая 1940 года рота, охранявшая Старобельский лагерь, была снята, 20.5.1940 она вернулась в пункт постоянной дислокации — Ростов-на-Дону.
Далее. 3.7.1940 политконтролер (как я понимаю, цензор) особого отделения лагеря Клок, начальник 2-го отделения Сысоев и секретарь управления лагеря Курячий «произвели уничтожение входящей корреспонденции, адресованной в лагерь военнопленным, убывшим из лагеря», о чем и составили соответствующий акт. В акте имеется ссылка на указание Управления по делам о военнопленных № 25/5699. Всего Клок, Сысоев и Курячий сожгли 4308 почтовых отправлений — писем, открыток, телеграмм.[69]
Далее. В сентябре 1940 года особым отделением лагеря получено распоряжение уничтожить путем сожжения учетные дела на военнопленных, убывших из лагеря, за исключением убывших в Юхнов — их дела надлежало срочно отослать в Управление. Той же бумагой предписывалось: «Литерные дела с материалами на военнопленный состав, а также на население, окружающее лагерь, являются действующими и подлежат оставлению в особом отделении лагеря». Подписали документ П. К. Сопруненко и начальник 2-го отдела Управления старший лейтенант ГБ Маклярский.[70] Что и было исполнено: актом от 5.10.1940 помощник инспектора 2-го отдела Управления Письменный и врид начальника особого отделения Старобельского лагеря сержант ГБ Гайдидей оформили уничтожение 4031 учетного дела (вот она, цифра Голушко-Ковтуна, и здесь же приложен список), такого же количества личных карточек и других документов, утративших, по их мнению, оперативное значение.
* * *
О том, как проходила разгрузка трех лагерей, подробно повествует уже упомянутое политдонесение на имя Меркулова. Подписали его комиссар Управления по делам о военнопленных полковой комиссар Нехорошев и заместитель начальника политотдела старший политрук Воробьев.
Вот краткая информация по каждому из лагерей.
Старобельск:
«Побегов и попыток к побегам нет. Отрицательных настроений, кроме уже освещенных в донесении от 14 апреля с.г. за № 25/3301, не установлено».
Козельск:
«Большинство офицеров чувствует себя спокойно и довольно тем, что дождалось освобождения из «рабского плена».
Осташков:
«Настроение у большинства военнопленных приподнятое, и особенно у рядовых полицейских, которые уверены, что едут домой».
Нехорошев и Воробьев докладывают, кроме того, о большом числе заявлений от военнослужащих запаса (кадровые офицеры никаких челобитных не писали). Для примера воспроизводятся следующие тексты:
«Прошу не передавать меня каким-либо германским или нейтральным властям, а предоставить мне возможность остаться и работать в Советском Союзе. К этой просьбе у меня имеются следующие основания:
1. Я до сих пор был аполитичен, но в последнее время ближе познакомился и сильно притянут идеологией страны социализма. Я не сомневаюсь, что лично сумею с честью выполнить долг советского гражданина.
2. Я по специальности и образованию инженер текстильной промышленности и не сомневаюсь, что мои знания и опыт могут оказаться весьма полезными Стране Советов.
3. Я еврей и до сих пор был подвергнут национальному гнету, что позволяет мне вполне оценить политику национальной свободы Советского Союза.
Альтман Георгий Соломонович»
«При разгрузке лагеря прошу оставить меня в СССР. Не посылайте меня в какие-нибудь другие страны. Я врач, медицинский работник, живя в капиталистической стране, видел всю несправедливость строя, видел страшную жизнь бедных людей и поэтому всегда с симпатией относился к коммунистическому движению. Я мечтал жить в условиях свободного социалистического государства, в котором не существует национального гнета, который я, как еврей, всегда чувствовал.
Таненбаум Яков Вольфович»[71]
Характерно, что пленные-евреи не пишут прямо, почему они не хотят в Германию (святая простота! они боялись «оклеветать» союзника СССР!), однако находят-таки повод как бы ненароком указать свою национальность. Что и говорить, Советское правительство уважило просьбы этих людей: они навсегда остались в Стране Советов…
Но сколько евреев было в числе 42 492 человек, переданных нацистам за два предвоенных года?
Глава 2. КОНЕЦ «ПОЛЬСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА»
Окончательный итог операции по разгрузке офицерских лагерей сегодня хорошо известен: 15 131 человек передан областным УНКВД, 395 переведено в Грязовецкий лагерь.
15 131 и 395. Баланс мертвых и живых, смерти и жизни. Людоедская бухгалтерия НКВД.
Что стало с остальными солдатами польской армии, превратившимися в рабов ГУЛАГа?
В январе 1940 года в Криворожском лагере выходило на работу лишь около трети общею числа узников, в Запорожском — около половины: в конце января пленные Запорожского лагеря объявили голодовку. Описывая эти события, Н. С. Лебедева, видимо, не подозревает, что это были не просто отказы от работы, а забастовки: пленные знали, что добытый ими уголь экспортируется в Германию. На забастовки администрация лагерей отвечала репрессиями, однако добиться желаемого эффекта так и не смогла. Сразу по окончании акции в Козельске, Осташкове и Сгаробельске пленных-солдат стали переводить в сибирские и заполярные лагеря.
Одним из конечных пунктов был Севжслдорлаг (река Чибья). «Обзор о состоянии службы KB НКВД СССР за 2-й квартал 1940 г.» в разделе «Особые задачи 2-го квартала» содержит следующий пункт: «Конвоирование 33 585 заключенных и 7910 военнопленных на строительство Северо-Печорской ж.д. магистрали (приказ НКВД № 0192)».[72]
О 1000 военнопленных, вывезенных в мае 1941 года в Мурманскую область на строительство аэродрома, я уже упоминал. Чтобы завершить этот сюжет, приведу в хронологической последовательности три документа, из которых без особых пояснений будет ясно, что произошло с ними впоследствии.
«28 мая 1941 г.
Совершенно секретно
тов. Орловскому
копия тов. Френкелю[73]
копия тов. Сопруненко
копия тов. Шарапову
В соответствии с приказом Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР № 00358 от 8/IV 1941 года в период с 15/V по 15/VI с.г. Вам направляется 4.000 человек интернированных для работы на строительство аэродрома в Поной.
В связи с этим предлагаю принять к руководству следующее:
1. Все интернированные должны быть размещены в одном лагере отдельно от заключенных.
2. Охрана внутри лагеря возлагается на вахтерский состав.
3. Наружная охрана лагеря и охрана на производстве осуществляется конвойными войсками.
4. Внутрилагерный режим среди интернированных устанавливает начальник лагеря согласно имеющихся инструкций Управления НКВД по делам о военнопленных и интернированных.
5. Использование интернированных на производстве производится по указанию начальника строительства.
6. Начальник лагеря наравне с начальником строительства отвечает за выполнение интернированными установленных производственных норм.
7. Оборудование лагеря для размещения конвойных войск, сотрудников лагеря и интернированных возлагается на начальника строительства.
8. Обеспечение всеми видами довольствия интернированных и сотрудников лагеря как от Мурманска, так и на месте работы возлагается на Строительство № 106 НКВД.
Примечание. Обеспечение конвойных войск всеми видами довольствия производится УКВ.
9. Рабочий день сотрудников лагеря, внутренней и наружной охраны и интернированных установлен приказом Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР № 00368 от 8/IV 1941 г.
10. Питание интернированных производится в зависимости от выполнения производственных норм согласно прилагаемой инструкции.
11. Денежное вознаграждение интернированным выплачивается согласно приказа Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР № 298 от 2 апреля 1941 i.
12. Учитывая короткие сроки навигации. Строительству № 106 НКВД предусмотреть необходимый завоз продовольствия на случай оставления интернированных на зиму.
Заместитель Народного Комиссара
Внутренних Дел Союза ССР
Чернышев
Верно. Старший оперуполномоченный
Секретариата Заместителя
Народного Комиссара Внутренних Дел
Союза ССР
Лебедев»[74]
Обращаю внимание читателей на пункты 6 и 10. Вспомним, что писали «Известия» об условиях труда в суровых районах Севера, рекордно коротких сроках и о том. как строители «со свойственным большевикам упорством и энергией преодолели встретившиеся трудности».
Из оперативной сводки штаба 41-й бригады KB НКВД от 6.7.1941:
«По сообщению начальника УНКВД Мурманской области, 4000 военнопленных, находящихся на работах в Поной, эвакуированы водой в Архангельск. Донесений же от начальника конвоя об этом нет. Сведения перепроверяются». Подпись: «Врио командира бригады майор Гусев».[75]
Из оперативной сводки штаба 41-й бригады от 14.7.1941:
«2 рота 225 полка под командой капитана Патракеева с полуострова Кольский местечко Поной с военнопленными поляками прибыли в Архангельск. Дальнейшее назначение военнопленных уточняю».
Подпись та же.[76]
Еще один адрес называет мой читатель А. В. Сидоров (Запорожье):
«В зиму 1940/41 г. мой отец был командирован в г. 06дорск (ныне Салехард) для инспекции построенной (или почти построенной) там электростанции. Возвратясь оттуда, он под большим секретом рассказывал домашним об ужасной участи поляков, заключенных в лагере. Помню, он описывал польских солдат и офицеров, занимавшихся стройкой на 50-градусном морозе, без перчаток, в конфедератках, падающих от голода, непосильного труда и коченеющих, умирая, на снегу. Тогда же отец говорил, что ему описывали тамошние жители еще большие зверства, творимые в других лагерях, расположенных в устье Оби и по всему побережью». Судьбы оставшихся в живых польских военнопленных тесно переплетаются с участью гражданского населения, депортированного с территорий, включенных в состав СССР в сентябре 1939 года. Это отдельная большая тема. здесь мы коснемся ее лишь ради полноты картины и с тем. чтобы попытаться внести коррективы в катынский сюжет. Но сначала перескажу свой разговор с Лукиным. С бывшим начальником связи 136-го батальона я встретился у него дома в Твери (тогда еще Калинине) 2 мая 1990 года. Со мной была съемочная группа Анджея Минко — редактора польского телевидения, с которым до этого мы уже сделали две передачи. Не скажу, что Алексей Алексеевич с большим энтузиазмом согласился на съемку, но, надо отдать ему должное, и не искал предлогов для отказа. Человек, видимо, от природы мягкий, он волновался (впрочем, мало кто не волнуется, впервые оказавшись перед камерой, да ведь и камера-то польская), старательно припоминал подробности, подбирал слова, однако же держался достойно и позицию свою нисколько не переменил, хотя говорили мы уже после официального советского признания. Что ж, тем с большим вниманием следует отнестись к его свидетельствам.
Далее следует точная запись нашей беседы без каких бы то ни было изъятий или перестановок. Долго я примеривался к этому тексту, выбирал для него место в книге, перекраивал так и этак. В конце концов решил ничего не трогать, дабы избежать невольной тенденциозности. Надеюсь, мои примечания отчасти компенсируют некоторую сумбурность разговора. Пробелы в тексте объясняются техническими причинами.
В. Абаринов. Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста. какие у батальона были плановые маршруты?
А. Лукин. Перевозили до Урсатьевской. в Урсатьевской передавали другому конвою, или до Сухобезводной Кировской области, или вот я возил один конвой: за Куйбышевом, в 12 километрах, строился большой авиационный завод. И в Карелии севернее Кандалакши тоже строился авиационный комбинат — вот туда возили.
В.А. Но ведь вы начальник связи. Почему вы конвоированием занимались? У вас же свои обязанности были.
A.Л. Было столько много работы, выходит дело, у батальона. Мы все выезжали, чуть не до последнего офицера. Я меньше ездил. Я провел что-то 4 или 5 конвоев. Это маршрутных, где я был или начальником, или помощником начальника конвоя.
В.А. Это всего пять или пять польских?
А.Л. Нет, всего пять.
В.А. А с поляками?
А.Л. Так все с поляками были.
В.А. Это, значит, за какое время — конец 39-го и?…
А.Л. И до самой войны. Кстати, я же был кандидатом и партию, мне дали рекомендацию, как только я пришел в батальон, а принять нельзя: то я в командировке, то все бюро в командировке. Так до войны дотянули, и эту рекомендацию отправили в Главное управление конвойных войск, и она меня встретила уже на фронте около Орла.
В.А. Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о Козельском лагере. Что он из себя представлял?
А.Л. О Козельском лагере… Я всего там один раз был. Мне доложили, как обеспечена связь с постами, я проверил.
В.А. Это как раз входило в ваши обязанности.
А.Л. Да, я как начальник связи там и был. Вот… Проверил… Ну что я мог там заметить? Нары нормальные, двухъярусные, нельзя сказать, что там плохо было или тесно. Питание нормальное было. Собственно говоря, солдаты одинаково питались с заключенными. Так солдаты-связисты мне говорили.
В.А. А как поляки выглядели, как держались?
А.Л. Я с ними немного… Встречался с теми, кто говорит по-русски. Они меня спрашивали и вот Шарапова…[77] Нет, Шарапов у нас был в Юхнове, а в Козельске…
В.А. Начальник лагеря? Королев.
А.Л. Нет, почему Королев…
В.А. А Демидович был комиссар.[78]
А.Л. Демидович… Да. Демидович комиссар. Правильно. Ну вот я с ними же ходил. Вопросы задавали в основном такие: как нам связаться с родственниками? Потому что ведь, когда мы стали вывозить из Польши, нам сказали: вы вывозите осадников,[79] офицерский корпус, представителей министерства иностранных дел, служащих правительства. То есть тех людей, которые могут быть потенциальными противниками и потенциальными сотрудниками с немцами. Нам так объяснил генерал Серов, слышали про него?
В.А. Да. конечно. Который потом стал министром госбезопасности.
А.Л. КГБ,[80] да. Я про него ничего отрицательного не могу сказать и не согласен… вот тут было высказывание, что он пособник Берии. Я до сих пор не могу понять: мог ли он быть пособником Берии? Он в подчинении был… Но как он нас инструктировал и как он с нас снимал, как говорится, стружку за то, что если мы допустим нарушение при конвоировании!.. Нет, неверно, это ложь про него.
В.А. Это он в 41-м приезжал?
А.Л. Нет, он с самого начала, по-моему, там был. С самого начала операции по вывозу польского населения. Он там руководил. Он нас инструктировал первый раз. по-моему, в Минске в конце 39-го года. Зимой это было или в декабре. или в январе. Нового года мы тогда не праздновали, нам некогда было праздновать, нагрузка была сильная… Ну и потом он собирал нас в Барановичах, инструктировал. Это уже было, наверно, в начале 40-го года. По-моему, он все время руководил этой операцией… этими операциями, которые касались вывоза польского населения.
В.А. Скажите, пожалуйста, а вот полковник Степанов из Москвы, из Главного управления — помните такого?
А.Л. Нет. Я помню, в начале войны к нам приехал генерал Любый.[81] Он, по-моему, заменил генерала Серова и он уже тут руководил. Он с командиром полка уехал в Катынь, нас оставил тут, я забрал всех своих людей и вклинился в пехотный полк. Вернее, как вклинился? Забрали меня, да и все. Я в пехотном полку был, значит, до самого ранения, до 21 июля.
В.А. Это за Смоленск бои были?
А.Л. Это уже в Смоленске и за Смоленском. Мы же в Смоленске были до самого 24 числа, а сейчас пишут, что сдали Смоленск 16-го. Это неправильно.
В.А. Так зачем все-таки командир полка уехал в Катынь?
А.Л. Он уехал потому, что немцы уже находятся в Минске, уже к Минску подходят — значит, надо ускорить эвакуацию. Вопрос был очень сложный: надо эвакуировать, а немецкие самолеты над шоссейной дорогой летают на высоте 10–15 метров, все дороги загромождены беженцами, и не только шоссе, а и проселки. Очень трудно было, а машин было очень мало. Мы пользовались теми машинами, которые останавливали, высаживали беженцев, отнимали машины и в эти машины грузили польское население из лагеря Катынь.[82] Я одного человека встретил — это было, дай Бог памяти, в самом конце июля, 25-го примерно, — а фамилию я его забыл, этого лейтенанта.
В.А. Вы говорили, что это вроде бы политрук.
А.Л. Вот-вот, а фамилию никак не могу вспомнить. Но он из тех товарищей, которые… Ведь мы как формировали полк? Он был сформирован из тех, кого призвали для переподготовки еще до, войны, весной. Это председатели колхозов, начальники цехов — они у нас переподготовку проходили. Когда началась война, из них сделали сержантов, офицеров, и они стали в основном кадрами командного состава. Они все пожилые, в возрасте…[83]
В.А. Алексей Алексеевич, вернемся к началу. Какие объекты батальон охранял? Значит, два лагеря…
А.Л. Три лагеря.
В.А. Три?
А.Л. Юхнов, Коэельск и Катынь. Это я знаю.
В.А. Так…
А.Л. А других я не знаю.
В.А. А в городе?
А.Л. А в городе у нас тюрьма была, но тюрьму охраняло подразделение, которое, когда сделали КГБ. стало подчиняться непосредственно КГБ, а мы оставались в подчинении Главного управления конвойных войск, которое было в МВД, то есть в НКВД.[84]
В.А. Понятно. Вот вы говорили, что проверяли связь постов в Козельском лагере. Сколько постов было?
А.Л. Наверно, постов около 10-ти.
В.А. А колючая проволока была вокруг лагеря?
А.Л Была.
В.А. А гражданские лица содержались в лагере?
А.Л. Так они, очень многие бывшие военные, переоделись как могли. Очень мало с польскими знаками различия было, очень мало.
В.А. Вы были начальником конвоев от 10 и, по-моему, от 17 апреля в западные районы Украины и Белоруссии. Это из лагеря конвои или в лагерь?
А.Л. Это из лагеря. А один не из лагеря, а из Лиды я вез. Я его отвез до Куйбышева.
В.А. Кто в нем был?
А.Л. Тут были в основном дамы. Из публичных домов. Из-под красного фонаря.
В.А. На то самое строительство вы их и отвезли.
А.Л. Не знаю. Я сдал их другому конвою. Меня там встретил уполномоченный, всю мою команду из вагона выгнал, опросил всех, чем недовольны. Кстати, нас проверяли, как правило, два-три раза, не нарушаем ли мы правила конвоирования.
В.А. Да, очень строгие были порядки.
А.Л. Очень строгие. Вот я про то и говорю, что коль такое строгое отношение было к нам, я не понимаю, зачем это было нужно. Можно так поставить вопрос? Зачем это было нужно? А, по-моему, нужно было затем, чтобы сохранить этих людей, потому что они нам нужны будут — думали об этом, очевидно.
В.А. Служба тяжелая была?
А.Л. Да уж не легкая.
В.А. Все время в дороге…
А.Л. Все время в дороге, без нормального сна…
В.А. Сухой паек…
А.Л. Нет, кухня-то у нас была. И с плановым конвоем у нас кухня была, и с маршрутным. У нас кухня была, а конвоируемых мы питали на определенных станциях: останавливались в тупике, подъезжала к нам кухня, кормили и ехали дальше.
В.А. А вы не помните Татаренко — командира отделения, кажется?
А.Л. Был такой.
В.А. Почему он застрелился?
А.Л. По-моему, это не Татаренко был. Татаренко? Нет…
В.А. В августе 1940-го.
А.Л. Почему Татаренко…
В.А. Татаренко, Татаренко, я по документам знаю.
А.Л. Да я помню этот случай. Но почему — я так и не вдавался. Я этого до сих пор не понимаю.
В.А. Скажите, а какое оружие было у конвоя? Ведь там и пистолеты были, да?
А.Л. Да, уже были пистолеты.
В.А. Даже у солдат?
А.Л. У солдат карабины.
В.А. А пистолет кому полагался?
А.Л. Начальнику конвоя и его помощнику.[85]
В.А. Я почему про оружие спрашиваю — нашел протокол комсомольского собрания, и там говорится, что при проверке батальон показал плохую стрелковую подготовку в стрельбе именно из пистолетов.
А.Л. Не помню такого. Вполне возможно. Я стрелял неплохо. Мое подразделение тоже. Ну а какое это имеет значение, собственно?
В.А. Да просто к тому, какое оружие было. Значит, пистолеты только у начальников и помощников?
А.Л. Пистолеты и наганы. Пистолетов мало было, в основном наганы. Пистолеты ТТ еще только входили в моду.
В.А. Вообще, судя по документам, батальон на хорошем счету был.
А.Л. У нас Межов был командиром батальона — мужик с революционным прошлым, в партии что-то с 17-го года, такой дядька очень уважительный, дисциплинированный, сам дисциплинированный, и от нас требовал дисциплины. Он был почти до самой войны.
В.А. А почему, кстати, его заменили?
А.Л. Он говорил то, что думал, а не то, что нужно. Поменяли и замполита тоже — он был очень недоволен.
А. Минко. Алексей Алексеевич, сколько времени занимала дорога из Козельска в Смоленск?
А.Л. Из Козельска в Смоленск…
А.М. Ночь? Меньше? Больше?
А.Л. Утром садимся, а вечером уже на месте. Ужинали там.
А.М. Это вы сами ехали. А когда конвоировали?
А.Л. А когда конвоировали, тут от железной дороги зависело. Но конвои в основном пропускали на уровне пассажирского поезда, потому что хоть раз надо нам горячую пищу принять где-то в середине дня. Ночь ехали, а днем останавливались.
А.Л. Я никак не могу поверить, что наши специально решили этих поляков уничтожать.
В.А. То есть даже не верите, что…
А.Л. У нас разговоров не было. Меня в батальоне не считали таким… обывателем, что ли, меня приглашали на партийное бюро как участника конвоя, спрашивали с меня, требовали, как сейчас говорят, лучшего отношения к личности. И чтобы наши люди принимали участие — я в это совершенно не могу поверить. Репринцев как только пришел, это его главная была задача, главный вопрос на всех совещаниях: если вы будете нарушать дисциплину и правила конвоирования, будем строго наказывать. И действительно наказывали. Увольняли из армии — вот перед самой войной одного лейтенанта уволили за то, что он посадил пассажиров, и еще там какое-то нарушение — его сразу из партии исключили и из армии уволили.
В.А. Он деньги взял за это?
А.Л. Очевидно. А что ж без денег-то. С билетами было плохо, вот он и воспользовался. Строю наказывали. Меня никогда не наказывали. И вот сейчас… нас мало осталось… я, выходит, как на исповеди? А, Владимир Константинович?
В.А. Ну не совсем так, Алексей Алексеевич…
А.Л. Ну как же!
А.М. Скажите, а вот я получил письмо от человека, который рассказывает историю, как будто из Козельского лагеря люди бежали. Возможны ли, по вашему мнению, были побеги из этого лагеря?
А.Л. Вполне возможно. Я уже после войны в Узбекистане встретил поляков, великолепно там устроившихся. Это в 46-м или 47-м году было. я прибыл туда для продолжения службы. И один старик мне, значит, коротко рассказал свою судьбу, вернее, судьбу своего зятя. Он, конечно, был в лагере и из лагеря ушел каким-то образом. Как иначе? Никак. А потом он вступил в армию Андерса и с Андерсом ушел в Иран.
А.М. Но была амнистия.
А.Л. Да, была. знаю. У нас было несколько человек, специально работавших с письмами. Когда письма приходили к нам в батальон, разыскивали этих людей по лагерям, кто где, и потом давали возможность списаться с семьями. Семьи-то мы увезли на юг, в Азию — в Южный Казахстан, в Узбекисган. Мы их передавали в Урсатьевской. Представляете Урсатьевскую? Это узловая станция, где развилка на Алма-Ату и Ташкент. Их увозили туда. и там. значит, они располагались уже, обосновывались на жительство. Не совсем это человечно, но такое было указание: всех осадников, эту полосу, которую создал Пилсудский около нашей границы… Он же им дал по 10 тысяч злотых, дал землю, лес на строительство, так ведь? Помните? Эта полоса была, так сказать… потом ее называли железным занавесом. Так что всех этих людей было необходимо вывезти по приказанию нашего правительства.
В.A. Скажите, а в Брест — это был плановый конвой?
А.Л. Из Бреста?
В.А. В Брест, из Бреста.
А.Л. В Брест не было. Из Бреста вывозили.
В.А. А из лагерей в Брест?
А.Л. Нет.
В.А На обмен.
А.Л. На обмен — это было. Было на обмен. Но они, по-моему, где-то располагались ближе к Минску. Эти вот, которых на обмен везли с немцами. Я гут не участвовал совершенно в этих операциях. Там участвовало в основном КГБ, кагэбисты этим делом занимались. А мы туда не касались. Мы занимались только конвоированием уже приготовленных кагэбистами людей. У нас с каждым конвоем шел вот этот самый уполномоченный КГБ. Нам страшно надоедал.
В.А. Чем?
А.Л. Придирался уж очень. Некультурно себя вел Зазнайства уж очень у них много было.
В.А. В каком примерно звании были эти уполномоченные?
А.Л. У них звания свои — такие треугольнички, вернее, не треугольнички, a уголки. Два уголка, три уголка — меньше не было.[86]
В.А. А почему вы в полк не вернулись после госпиталя?
А.Л. А тяжелораненых увезли далеко в тыл. Я попал в Уфу. И когда я пролежал 3 месяца в госпитале, меня направили на формирование в Свердловск. А в Свердловске, по сути дела, и не спрашивали.
В.А Но у вас особого не было стремления вернуться в свою часть?
А.В. Вообще-то меня направили в Свердловске помощником начальника связи дивизии. Но когда я дежурил по штабу дивизии, связался с одним знакомым, который служил в Москве, в Главном управлении наших внутренних войск. А. нет, он в пограничных войсках был. Я связался с ним по ВЧ, разговариваю — и входит командир дивизии. Ты что ж, говорит. на фронт хочешь? И сразу отправил на фронт.
В.А. И где войну закончили?
А.Л. В Бресте. До Кракова дошли — и нас вернули. Бандформирования в Прибалтике организовывали соединения с украинскими националистами. И задача была охранять дорогу Москва — Минск — Брест, по которой шло очень много техники. Мы гут и закончили войну.
В.А. А у батальона была прямая связь с Москвой?
А.Л. ВЧ была. Я первый 22 июня принял приказ вскрыть пакет и начать формирование полка. В 5 часов утра.
В.А. То есть можно было связаться с Москвой, минуя штаб бригады?
А.Л. Конечно.
В.А. Алексей Алексеевич, но ведь НКВД такие жуткие преступления совершил против собственного народа. Почему вы думаете, что они поляков не могли ликвидировать?
А.Л. Я не слышал этого. Не слышал.
В.А. Но ведь могло быть так: конвой сопровождает до определенного пункта, а дальше передает госбезопасности.
А.Л. Именно так и было. Я, например, всех своих передавал другому конвою. Сдаю я их — их допрашивают, не нарушал ли я порядок, не оскорблял ли. И мне подписывали: претензий нет, проверял такой-то. Я этот документ предъявлял командиру.
В.А. Да, я видел такие документы. Но могли конвойные просто не знать, что с поляками стало?
А.Л. Я, например, не слышал, ради Бога, не слышал я этого.
В.А. Ведь это была строго секретная операция.
А.Л. Вот, выходит дело, настолько она строга, что не все о ней знали. А сейчас с прискорбием приходится слышать задним числом…
…Вот и генерал Серов и потом генерал Любый тоже из наркомата внутренних дел — не было такого, чтобы он нас заставлял или информировал об этом. Не информировал и не заставлял. Хотя иногда необходимо было просто пристрелить нарушающего.
В.А. То есть как?
А.Л. Ну если едет человек с огромным количеством золота, денег в чемодане, бежит на восток — и таких он не требовал расстреливать. А надо бы расстрелять. Это уж когда мы в Смоленске несколько дней были в заградотряде, и беженцы шли большими группами — вот среди них такие люди были. И то никто нас не принуждал расстреливать таких людей. А таких бы надо, кажется, расстреливать.
В.А. Мародеры?
А.Л. Мародеры самые настоящие. Мы их судили «тройками» и в конце-то концов расстреливали, но не самосудом же. Это не самосуд. Страшно уж очень, понимаете, когда беженцы… Их приходится встречать, у них вот такие глаза… Это нужно видеть, а передать, что это такое…
В.А. А почему вы их задерживали?
А.Л. Наша задача была не пропустить такой багаж и не допустить мародерства. У нас же все магазины, очень многие, были разграблены — ив Минске, и в Бресте. В Минске было много ювелирных магазинов. Вот была задача наша найти, разыскать этих людей, отобрать золото.
В.А. Как же вы их отличали среди беженцев?
А.Л. Проверяли имущество.
В.А. Но не всех же подряд проверяли?
А.Л. Нет, конечно. Там специалисты были. Заградотряды в основном из пограничников и госбезопасности состояли.
В.А. И когда эти заградотряды сняли?
А.Л. 17 июля. Нас 17 июля немец обстрелял из орудий. Сначала наш дом — там был музвзвод…
В.А. Улица Смирнова.
А.Л. Да, на улице Смирнова. На площади мы окопались. там и встретили немецких мотоциклистов…
Диалог этот особых комментариев не требует за исключением места, где речь идет о конвоях на запад. Изучая книгу приказов по 136-му батальону, я изумился числу конвоев, отправившихся в апреле-мае 1940 года по одному и тому же маршруту: Смоленск западные области Украины и Белоруссии. Сначала я решил, что это были пленные, предназначенные для обмена. А поскольку других лагерей на обслуживаемой батальоном территории не было, оставалось предположить, что это узники Козельска и Юхнова. Именно в таком виде эта информация — разумеется, не через меня — впоследствии попала в печать («Эхо планеты», 1989, № 24) и использовалась для дальнейших манипуляций. Однако слишком много достоверно установленных фактов противоречило такому толкованию. От Лукина я получил разъяснения относительно двух его конвоев: один, по его словам, имел конечным пунктом Кандалакшу («там уже были новые, как нам показалось, бараки»), другой — станцию Сухобезводную близ Кирова («туда уже много было свезено»). Но Кандалакша и Сухобезводная — не Белоруссия и не Украина. Противоречие казалось неразрешимым до тех пор, пока я не сообразил, что это были конвои не из Смоленска на запад, а с запада на восток, из Смоленска же ездки были порожними. Вскоре обнаружилось и подтверждение — обширная документация, касающаяся массовых депортаций польского населения.
ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ В СССР
Историческая справка
Факт существования на территории СССР польских автономных районов сегодня предан забвению. Между тем «польский эксперимент» заслуживает внимания хотя бы уже потому, что это была первая попытка решения проблемы национального меньшинства на демократических началах.
Начало польского эксперимента относится к 1922 году, когда Юлиан Мархлевский[87] и Феликс Кон[88] выступили на конгрессе Коминтерна с предложением создать польские автономные территориально-административные единицы в приграничном поясе. С этой целью, по данным польской разведки. с 1923 по конец 1925 года из городов Центральной России и Сибири на так называемые дальние восточные территории, прежде всего в Волынскую область, было переселено свыше 30 тысяч польских семей. Их разместили на землях бывших польских магнатов дальних восточных земель. Для советских поляков были созданы два относительно крупных автономных района: имени Ю. Мархлевского на Украине (40 тысяч жителей и 650 кв. км территории) и имени Ф. Дзержинского в Белоруссии (44 тысячи населения и 1000 кв. км площади). Эти районы повсеместно называли Мархлевщина и Дзержинщина. Во всех партийных и государственных учреждениях этих районов, включая милицию и суды, применялся польский язык.
Структура польской социалистической национальной автономии в Советском Союзе складывалась также из весьма широкой сети так называемых польских национальных местных советов, которые создавались повсюду там. где проживало более 500 поляков. По инициативе советской власти было открыто свыше 670 начальных и средних польских школ, 7 специальных школ, занятия в которых велись на польском языке, два вуза (Минский польский педагогический институт и Киевский институт общественного воспитания), а также несколько польскоязычных факультетов в разных вузах Украины, Белоруссии, в Москве и Ленинграде. Был создан советский судебный аппарат на польском языке, 3 профессиональных польских театра, 16 польских районных, 6 республиканских газет и одна центральная всесоюзная газета на польском языке. Ежегодно издавались сотни названий книг на польском языке, было создано польское радио, польские научно-исследовательские институты в рамках Академий наук Украины и Белоруссии. В Конституции БССР польский язык был объявлен одним из государственных языков.
Столь значительное число польских институтов и административных единиц было предназначено для обслуживания около 1,2 млн. поляков (в том числе 650 тысяч на Украине и около 300 тысяч в Белоруссии).
Несмотря на огромные усилия польских коммунистов, населению этих территорий не удалось привить стереотип «социалистического мышления». Мархлевщина стала «белым пятном» на карте успехов колхозного строительства. Так, в 1932 году процент обобществленных крестьянских хозяйств составлял в целом по стране 61,5 процента, на Украине — 72 процента, на Мархлевщине — 16,9 процента.
Сопротивление коллективизации повлекло за собой массовую высылку местных «кулаков» и «подкулачников» и другие репрессии. Уже в 1933 году население Мархлевщины сократилось почти на 23 процента. Польское коммунистическое руководство в полном составе также подверглось репрессиям.
Поляки стали первой многочисленной группой населения СССР, которая была коллективно репрессирована в 1936–1938 годах, исходя из национальной, а не классовой принадлежности. Они были в массовом порядке выселены из городов и сел Украины и Белоруссии в отдаленные районы азиатской части СССР (в основном в Кокчетавскую область в Казахстане).
Польский национальный район им. Мархлевского был ликвидирован декретом 1935 года, район им. Дзержинского просуществовал до 1938 года. Однако самые тяжелые испытания для польской советской общины были впереди. Роспуск Коминтерном в 1938 году КПП означал лишь обострение репрессий.
После 17 сентября 1939 года 12 миллионов польских граждан, в том числе около 4 миллионов поляков, оказались в СССР. Указом Президиума Верховного Совета (ПВС) от 29.11.1939 всем им было присвоено советское гражданство. Депортировано было с этих территорий около 600 тысяч человек, а всею за годы сталинизма в глубь СССР в принудительном порядке было вывезено 1.5–1.8 миллиона поляков.
Это подсчеты польских специалистов, в частности «Союза сибиряков». Из советских ученых вопросами депортаций в смешанной комиссии занималась ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР B. C. Парсаданова, несколько раз выступавшая в прессе с рассказами о том, какую трогательную заботу о депортированных проявляло советское правительство. По словам Парсадановой, члены комиссии «исключили из разряда депортаций призыв в Красную Армию, переезды поляков из западных районов Украины и Белоруссии в поисках работы на шахты Донбасса, на Урал, а также отселение с приграничной территории, где возводились укрепления» («Международная жизнь», 1988, № 5, с. 156).[89]
Главный поток депортированных, или, по терминологии тех лет, спецпереселенцев, пришелся на первую половину 1940 года. Так, в 1-м квартале 1940 года частями конвойных войск НКВД отконвоировано 138 619, во 2-м — 59 419 спецпереселенцев из западных областей УССР и БССР. Из инструкции от 17.1.1940 узнаем, каким образом и в каких условиях их перевозили. Эшелон состоял из 75 вагонов, в каждом помещалось 30 человек. Состав сопровождали 22 охранника, 1 врач, 1 фельдшер и 2 медсестры. Вещей разрешалось брать с собой не более 500 кг на семью. На питание одного человека выделялось 2 рубля 50 копеек в сутки.
Нечего и говорить, что вывезенные в глубь страны поляки-спецпереселенцы оказывались в чрезвычайно тяжелых условиях. Приведу лишь одно свидетельство — Владимира Яковлевича Зленко из Ставрополя. «Поздней осенью 1939 года, — пишет он, — мои родители, продавцы Салаирского Золотопродснаба, были отправлены на работу на золоторудник «Громотуха», расположенный недалеко от вершины Таскыл, что на границе Кемеровской области и Хакассии. Весной 1940 года на рудник пригнали много семейных и одиноких поляков. Работали они на руднике, а после работы пилили лес, ошкуривали бревна и строили себе дома. Бедность поляков бросалась в глаза даже детям».
Отдельный «спецконтингент» составляли перебежчики, осужденные постановлениями ОСО. Цитирую циркуляр полковника Кривенко, врио начальника KB НКВД, от 2.3.1940:
«Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР тов. Берия приказал Народным Комиссарам Внутренних Дел УССР и БССР — осужденных Особым Совещанием НКВД перебежчиков с бывшей территории Польши направить для отбытия срока наказания в Севвостлаг НКВД (г. Владивосток).
Организация отправки осужденных возложена на тюремные отделы и отделы исправительно-трудовых колоний НКВД.
Конвоирование этих заключенных возложено на конвойные войска эшелонами численностью 1000–1500 человек под усиленным конвоем. Всего будет 6–8 эшелонов.
Для обеспечения этого конвоирования предлагается Вам:
1) связаться с Народными Комиссарами Внутренних Дел соответственно УССР и БССР и приступить к подготовительной работе этого вида конвоирования;
2) учесть, что конвоируемые будут стремиться бежать, а потому командованию частей весь состав конвоя подобрать персонально и в усиленном составе против существующего расчета;
3) для того чтобы конвоируемые не могли определить систему охраны и численность конвоя, в пути следования, в необходимых случаях, в зависимости от обстановки, производить увеличение и сокращение постов в эшелоне, а для этого при оборудовании товарных вагонов потребовать вагоны с тормозными площадками в двойном размере;
4) для предупреждения побегов конвоируемых необходимо тщательно подготовиться к приему и использованию агентуры;
5) для поимки бежавших выделить в эшелоны лучших младших инструкторов службы собак с собаками;
6) учесть опыт работы по конвоированию спецпереселенцев…»[90]
И так далее.
А вот что пишет мне ленинградка Анна Яковлевна Розина:
«В 1939 году в лагерь, где я находилась (Мордовская АССР, ст. Потьма, поселок Явас, Темлаг), прибыл этап. Это были молодые девушки, которые бежали от Гитлера из Польши. Они рассказывали, что, увидев советских пограничников, они бросились к ним, целовали их, видели в них своих спасителей. Их всех отправили в лагерь…»
Я, кстати, специально поинтересовался: что стало с этими польками после объявления амнистии, освободили ли их, вернули ли польское гражданство? Анна Яковлевна ответила отрицательно: все они остались на советской каторге.
Итак, Мордовия, Мурманск, Хакассия, Ямало-Ненецкий автономный округ. Дальний Восток… Это не просто география депортаций — это география кладбищ. Те, чьи останки покоятся там, умерли «естественной» смертью. Надгробий, конечно, нигде нет. Нет и могильных холмов. Это тоже естественно для режима, жертвами которого стали эти люди.
Кое-где, впрочем, места захоронений все-таки обозначены. Письмо от жительницы узбекского города Карши Дильбар Калимовны Исламовой:
«Лет 10 назад в райцентре Гузар мне показали на окраине поселка бугорок размером 50 на 50 метров, обнесенный металлической сеткой. Директор «Техсложбытприбора» И. Б. Черняк сказал, что это кладбище поляков-военнопленных, которых в годы войны здесь было очень много, рассказывал, как они погибали от голода и болезней. Мысль об этих людях с тех пор не покидала меня». Дильбар Калимовна приводит свидетельства и других местных жителей, подтвердивших рассказ И. Б. Черняка. «Всегда готова помочь в дальнейших поисках», — заканчивает она свое письмо.
Массовое захоронение поляков в Архангельской области указывает Б. П. Заморов (Архангельск).
Где-то на берегу Енисея, в Красноярском крае, погребены жертвы трагедии, о которой рассказал мне Г. С. Шайдуллин из Днестровска Молдавской ССР. «Во время войны я плавал матросом на пароходах «Багратион» и «Маяковский» по Енисею. Однажды мы причалили к стоящей у берега полузатопленной барже типа «Карская». Она стояла недалеко от дебаркадера пристани Придивная — это в 100–110 километрах от Красноярска вниз. Из затопленных трюмов несло трупным запахом». Из рассказов очевидцев, пишет далее Г. С. Шайдуллин, выяснилось: в трюмах баржи везли польских военнопленных. На мелководье баржа получила пробоину и стала тонуть. Люди бросились к единственному незадраенному люку. но охрана встретила их выстрелами. «Последний путь к спасению был завален трупами. Спаслось около 20 человек. Утопленников вывозили ночами, хоронили в траншеях и засаживали деревьями. Обо всем этом тогда рассказывалось шепотом. Боялись».
30 июля 1941 года в Лондоне было подписано соглашение между СССР и Польшей о восстановлении дипломатических отношений, 14 сентября — военное соглашение. На территории Советского Союза началось формирование польской армии под командованием генерала Владислава Андерса. Польским военнопленным была объявлена амнистия. Освобожденные из лагерей и тюрем, они отправились на сборные пункты. Эти изнуренные голодные люди обращали на себя внимание, а ведь и из советских граждан мало кто в то время не терпел лишений.
Штаб Андерса располагался в поселке Колтубанка Бузулукского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области. Об условиях, в которых жили там польские военнослужащие, рассказывает Евгений Федорович Зарубин из Куйбышева:
«Если наши формируемые войска рыли для себя землянки, то поляки продолжали жить в палатках. Это им дорого стоило в морозную зиму 1941/42 года. их очень много померзло. Единственным их объектом строительства был костел. Там они отпевали своих умерших. Больно писать, но памятника на месте захоронения до настоящего времени нет. хотя я неоднократно ставил этот вопрос перед соответствующими товарищами в креслах». Евгений Федорович часто посещает кладбище в Колтубанке — там покоятся его родители — и берется совершенно точно указать место, где похоронены солдаты и офицеры армии Андерса.
Депортации польского населения продолжались и после войны. Леонид Михайлович Охлопков в конце 40-х годов в качестве молодого офицера войск НКВД вывозил из Белоруссии на алданские золотые прииски бывших солдат армии Андерса и членов их семей. Да, есть и такой эпизод в истории советско-польских отношений: 4520 «андерсовцев», прибывших по репатриации из Англии, были превращены советскими властями в спецпоселенцев, 74 человека интернированы с территории Польши в 1944–1945 гг. (данные кандидата исторических наук В. Земскова).
Когда я попросил Л. М. Охлопкова назвать свою часть, выяснилось, что это тот самый 136-й конвойный батальон. переформированный в 252-й полк, архив которого я изучил до тонкостей. После войны полк дислоцировался опять в Смоленске, командовал им все тот же полковник Репринцев. Бывал Леонид Михайлович и на спецдаче в Козьих Горах, где под большим секретом слышал о катынской трагедии, причем определенно было сказано, что «расстреливали наши».
«И еще, — продолжает Охлопков. — На всякий случай. В 1944 году я учился в Саратовском пограничном училище. В октябре курсантов этого училища внезапно отправили на Кавказ для усиления охраны советско-турецкой границы. Цель операции держалась в секрете, но слухи все же просочились: оперативные войска НКВД (были тогда такие) в начале ноября будут выселять тюрков и курдов.
Моя погранзастава стояла на уровне 4000 метров (на стыке Армении. Грузии и Турции), в ночное время были отчетливо видны бесконечные горные серпантины, освещенные фарами автомобилей, — «оперативники» вывозили людей.
Только недавно мне стало ясно, что «тюрки» — это турки-месхетинцы».
Глава 3. МОСКВА, ЛУБЯНКА
Поиски пропавших без вести польских офицеров начались сразу же по установлении дипломатических отношений между правительствами Сталина и Сикорского. Переговоры с чинами НКВД вел от имени Андерса бывший узник Старобельского лагеря Юзеф Чапский. Отчет ротмистра Чапского в свое время был опубликован мною в «Литературной газете». Этот текст, включавший также ответы на мои вопросы одного из главных действующих лиц отчета Л. Ф. Райхмана, вызвал обширную читательскую почту, и теперь у меня есть возможность дополнить свою публикацию новыми подробностями. Одновременно восстанавливаю купюры, сделанные из экономии места.
«Формирование польской армии в СССР, — пишет Чапский, — началось в сентябре 1941 года в Татищеве около Саратова, а также в Тоцке на железнодорожной линии Куйбышев Чкалов. В летний лагерь в Тоцке прибывали ежедневно сотни людей… Мы создали что-то вроде информационного бюро. Я выполнял задание, которое заключалось в подробном опросе каждого прибывшего. Поочередно все прибывшие из Воркуты, Магадана, Камчатки или Караганды рассказывали о себе, и все говорили о двух вещах: разыскивали следы своих вывезенных семей и сообщали целые списки коллег, находящихся еще в лагерях и еще не освобожденных. С первой минуты я стал спрашивать каждого из них. не работал ли он с кем-либо из наших товарищей из Старобельска, Козельска и Осташкова. Мы все еще верили, что наши коллеги оттуда вот-вот прибудут… Но не только никто из них не приезжал, а и вестей от них не было никаких, и о судьбах их мы не знали ничего, если не считать противоречивых сообщений из вторых рук…
С момента, когда генерал Андерс начал организовывать армию, он упорно домогался у советских властей сведений о пропавших, но в ответ получал все те же вежливые и туманные обещания. Сообщения обо всех поступавших к нам сведениях, касавшихся пропавших, мы направляли командующему армией и в посольство в Куйбышеве…
Мы ожидали наших коллег со дня на день, дополняя и расширяя список пропавших. Прошел месяц, никто из прежних узников Старобельска, Козельска и Осташкова не приезжал. К моменту приезда главнокомандующего в Москву в декабре у нас уже был список, превышающий 4500 фамилий, который генерал Андерс и привез в Москву…
В начале января 1942 года я был направлен генералом Андерсом в Чкалов в качестве уполномоченного по делам невозвращенных военнопленных, чтобы попытаться выяснить вопрос у начальника ГУЛАГа генерала Наседкина…
Наседкин при первой встрече был захвачен врасплох и потому более доступен. Он сидел на фоне большой карты СССР, на которой были обозначены главные из подведомственных ему лагерей. Больше всего звездочек, кружков и других значков, обозначающих крупные скопления лагерей, было на территории Коми АССР, на Кольском полуострове, на Колыме…
Я охарактеризовал Наседкину положение с тремя лагерями для военнопленных, добавив, что дальнейшее задерживание в лагерях военнопленных, освобожденных по приказу Сталина, «пахнет саботажем». Мне показалось, что мой собеседник действительно не ориентировался в этом деле — а может, только притворялся… Он сказал мне, что весной 1940 года, в период ликвидации этих лагерей, еще не возглавлял ГУЛАГ и что в его ведении нет лагерей военнопленных, а только трудовые лагеря политических и уголовных заключенных. Возможно, среди них имеются «также» польские военные, ничего точно, однако, ему об этом не известно. Он сказал, что постарается выяснить вопрос и завтра даст ответ на него. Я спросил его, не отправил ли он военнопленных на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю, как я это слышал от многих возвратившихся заключенных. Генерал заверил меня, что он никого не отправлял на эти острова, что если там и есть лагеря, то они находятся в ведении другого начальства, которое ему не подчинено, — может быть. там действительно есть лагеря военнопленных…[91]
Генерал в моем присутствии приказал по телефону точно выяснить вопрос о лагерях в Старобельске, Козельске и Осташкове. Отдавая это распоряжение, он процитировал письмо генерала Андерса, повторяя содержавшиеся в нем слова: «по приказанию товарища Сталина». На этом моя первая беседа с генералом Наседкиным закончилась.
Около 11 часов вечера в тот же день я был принят начальником НКВД Чкаловской области Бзыровым…[92] Бзыров принял меня очень любезно, изображая всяческую готовность помочь мне. Прежде всего он сказал мне, что ничего точного я не узнаю нигде, а лишь у центральных властей, притом у самых высших (разговор происходил при двух свидетелях, тоже энкаведистах), и дал понять, что Меркулов или Федотов могут помочь мне. (Главой НКВД СССР был тогда Берия, Меркулов был его заместителем, а затем уже шли по иерархической лестнице Круглов, Федотов и Райхман.) Когда я заговорил о Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, он не только не был удивлен, но сам показал мне на карте порт Дудинка на Енисее, через который переправлялись на эти острова самые большие партии заключенных. Он сказал, что в его области невыпущенных поляков нет.
На другой день я был снова принят генералом Наседкиным. В этот раз я уже не застал его врасплох, как накануне: он сказал, что ему нечего сообщить мне и что разъяснение по интересующим меня вопросам могут дать лишь центральные власти. Я снова спросил генерала о Новой Земле, сказав, что у меня есть информация о находящихся там польских военнопленных… И опять Наседкин прореагировал иначе, чем накануне. «Не исключено, — буквально сказал он. — что подчиненные мне северные лагеря отправили некоторые немногочисленные группы на эти острова, однако там и речи нет о тех многих тысячах, о каких я услышал от вас…»
В середине января я был направлен генералом Андерсом в Куйбышев и Москву, к генералу Жукову, с рекомендательным письмом и письмом, излагающим суть вопроса, где генерал Андерс писал, до какой степени наши бесплодные поиски пропавших военнопленных затрудняют организацию армии. как сильно морально угнетают и его самого, и его сотрудников, и просил, поскольку он не может заняться этим вопросом лично, помочь мне так же, как если бы эта помощь оказывалась ему. Советские генералы, к которым я отправился, занимали в НКВД очень высокие посты, и им было поручено специальное задание содействовать организации польской армии. В предшествующие два года генерал Райхман лично допрашивал многих из наших коллег, и я рассчитывал на то, что он и другие генералы, несомненно, кардинально знающие наш вопрос, сумеют и захотят помочь мне — например, добьются для меня аудиенции у всемогущего Берии или Меркулова. В Куйбышеве я не застал ни Райхмана. ни Жукова, так что я отправился в Москву и там лишь 3 февраля 1942 года после краткого — якобы ошибочного заключения под стражу попал наконец на Лубянку к генералу Райхману (Жуков отсутствовал).
Ожидая своей очереди в маленькой приемной Райхмана, я с удивлением заметил, что до меня Райхман принял бывшего коменданта лагеря в Грязовце Ходаса. Через четверть часа впустили меня. Разговор, как обычно, шел при свидетелях.
Я попросил Райхмана помочь мне попасть к Берии или Меркулову, но получил вежливый отказ. Тогда я подал ему мемориал, в котором очень подробно изложил всю известную нам историю трех лагерей вплоть до их ликвидации, то есть до мая 1940 года. После этого вступления я писал далее:
«Со дня объявления амнистии для всех польских военнопленных и узников 12 августа 1941 года прошло почти шесть месяцев. В польскую армию прибывают группами и поодиночке польские офицеры и солдаты, освобожденные из тюрем и лагерей. Несмотря на «амнистию», несмотря на твердое обещание, данное в октябре 1941 года нашему послу Коту самим Сталиным, вернуть нам военнопленных, несмотря на категорический приказ, отданный Сталиным в присутствии генерала Сикорского и генерала Андерса 3 декабря 1941 года. о том, чтобы узники из Старобельска, Козельска и Осташкова были найдены и освобождены, к нам не поступило ни единого призыва о помощи от военнопленных из вышеупомянутых лагерей. Расспрашивая тысячи возвращающихся из лагерей и тюрем коллег, мы ни разу не услышали сколько-нибудь достоверного подтверждения местопребывания узников, вывезенных из тех трех лагерей. До нас доходили лишь слухи о том, что в 1940 году на Колыму через бухту Находка было переправлено от 6 до 12 тысяч офицерского и сержантского состава, что в шахтах на Земле Франца-Иосифа сконцентрировано более 5000 офицеров, а множество их было выслано также на Новую Землю, на Камчатку, на Чукотку, что польские военнопленные офицеры были вывезены на огромных буксировавшихся баржах (по 1700–2000 на каждой) на северные острова и что баржи эти затонули. Ни один из этих слухов не был достоверно подтвержден.
Мы знаем, с какой старательностью и точностью работает НКВД, так что никто из нас, военнопленных узников, не допускает и мысли о том, что высшим инстанциям НКВД может быть неизвестным местопребывание 15 000 узников, в гом числе 8000 офицеров. Разве торжественное обещание самого Сталина и его строжайший приказ выяснить судьбу бывших польских военнопленных не позволяет нам надеяться, что мы по крайней мере узнаем, где находятся наши боевые товарищи, а если они погибли, то как и когда это произошло?»
Далее следовала по возможности точно составленная сводка. Генерал Райхман читал внимательно… Лицо его ни разу не дрогнуло, ни на секунду не изменило выражения…
Он ответил мне, что ничего не знает о судьбе этих людей, что вопрос этот не входит в компетенцию подчиненных ему отделов, но, желая, однако, оказать любезность генералу Андерсу, постарается все выяснить и сообщить мне. Он просил меня подождать в Москве звонка от него. Прощание было прохладным. Я прождал 10 дней, после чего ночью последовал звонок: звонил сам Райхман, который неожиданно любезным, даже чрезвычайно любезным тоном сообщил мне, что, к сожалению, завтра утром он вынужден уехать, что, к сожалению, он не сможет со мной увидеться, что он советует мне ехать в Куйбышев, потому что все материалы по нашему делу пересланы заместителю народного комиссара иностранных дел товарищу Вышинскому. Я лишь успел еще ответить Райхману, что прекрасно понимаю: Вышинский ничего мне не скажет, так как до того дня. когда происходил наш с Райхманом разговор, польский посол Кот уже восемь раз безрезультатно обращался по этому вопросу к товарищу Вышинскому. На этом и кончилась моя командировка в Москву.
У нас еще оставалась тень надежды, искусно поддерживаемая прикрепленными к нашей армии энкаведистами: мы надеялись, что наши коллеги прибудут к нам в июле — августе, то-есть в тот единственный период, когда навигация в тех морях возможна. Множество раз нам под величайшим секретом нашептывали: «Только ничего никому не говорите, но будьте терпеливы — ваши товарищи приедут к вам в июле-августе». Но наступил и июль, и август миновал, и снова никто не вернулся».
Из названных Юзефом Чапским трех генералов обратиться с вопросами я имел возможность лишь к одному — Райхману. Леонид Федорович принял меня весьма любезно. Это было время, когда вся страна приникла к телевизорам, наблюдая дебаты на Первом Съезде народных депутатов. Мой собеседник, помню, особенно интересовался делом Гдляна… Однако вернемся к нашему предмету.
Леонид Федорович сразу же разочаровал меня: Чапского он не знает и никогда с ним не встречался. Зато встречался с самим генералом Андерсом. Факт этот, насколько мне известно, в литературе о Катыни не зафиксирован. Л. Ф. Райхман рассказывает (текст авторизован):
«В первых числах ноября 1941 года я вылетел в Куйбышев, куда, как известно, были эвакуированы из Москвы посольства. Моей задачей было обеспечить безопасность дипломатов. Там по указанию руководства и произошла моя единственная встреча с генералом Андерсом. Она состоялась в ресторане, в отдельной комнате. Андерса сопровождали адъютант и еще какой-то поляк. Со мной было два работника из оперативной группы контрразведки в Куйбышеве. Андерс передал мне список польских офицеров на одной неполной страничке и просил принять меры к их розыску. Я тут же передал этот список одному из находившихся со мной оперативных работников и обещал позвонить через две недели. Однако до истечения этого срока я вылетел в Москву. Перед отъездом я позвонил Андерсу и сообщил, что вопросом о разыскиваемых офицерах занимается тот самый работник. которому я вручил этот список в присутствии его, Андерса. Делами, хоть в какой-то мере касающимися поляков, в наркомате госбезопасности занимался только Георгий Сергеевич Жуков (комиссар госбезопасности 3-го ранга), являвшийся с сентября или октября 1941 года уполномоченным ГКО по формированию польской армии. У него был мандат за подписью Сталина, и только он один имел право встречаться с поляками без особого на то разрешения руководства наркомата. Отдел Жукова подчинялся мне как заместителю начальника контрразведки, но не сам Жуков и не по польским делам. Кроме встречи с Андерсом, в дальнейшем я не участвовал ни в каких встречах с кем-либо из поляков. Фамилию Чапского я никогда не слышал».
Спросил я Л. Ф. Райхмана и о его участии в подготовке свидетелей по Катыни для Нюрнбергского процесса. Это отдельная тема: в одном из советских архивов имеются протоколы заседаний так называемой правительственной комиссии по Нюрнбергскому процессу, где Райхман фигурирует в качестве одного из трех членов группы, работавшей с катынскими материалами; кроме него, в группу, судя по протоколам, входили А. Н. Трайнин и Л. Р. Шейнин (подробнее об этом ниже). Леонид Федорович ответил так:
«К Нюрнбергскому процессу я не имел ни малейшего отношения. Был еще один эпизод, связанный с поляками: летом 1946 года (точнее не вспомню, помню только, что на мне была гимнастерка без шинели) мне позвонил Меркулов и предложил явиться к Молотову. Он не сказал, какой вопрос будет обсуждаться, сказал только: «Выскажите наше мнение». Это был единственный раз. когда я общался лично с Молотовым. Кроме Молотова в кабинете находился Вышинский. Оказалось, что готовится решение относительно статуса бывших польских граждан в СССР. Я высказал ряд своих соображений.[93]
С Шейниным я был знаком, мы иногда встречались в одном доме, но никогда с ним не сталкивался по службе. С Трайниным не был знаком вообще, никогда его не видел, фамилию его я знал.
С апреля 1946 года по 6 июня 195) года (был вызван в Москву в связи со смертью отца) я находился в западных областях Украины, где участвовал в операциях по борьбе с оуновским бандитизмом, поэтому никакого участия в работе правительственной комиссии по Нюрнбергскому процессу принимать не мог. Как появилась моя фамилия в протоколах? Возможно, Вышинский назвал меня потому, что отдел Жукова, как я уже сказал, подчинялся мне. Самого же Жукова в 1946 году уже не было в Москве».
Зашла, конечно, речь и о только что появившейся публикации в «Московских новостях».[94]
«Что касается опубликованного в «Московских новостях» от 21 мая 1989 года «рапорта на имя генералов Зарубина и Райхмана», то это явная фальшивка хотя бы уже потому, что в 1940 году я имел звание майора.[95] Кроме того, направляться такой рапорт мог только на имя начальника Главного управления лагерей Наседкина. Единственный известный мне чекист по фамилии Зарубин работал в это время в разведуправлении в звании, если не ошибаюсь, капитана».
К моменту знакомства с Райхманом я плохо знал его послужной список. Постепенно, по мере выяснения все новых и новых обстоятельств, я понял, что имею дело не просто с очевидцем и непосредственным участником многих интересующих меня событий, но прежде всего с неординарной личностью.
Свою карьеру он начал в Ленинграде (обладавший изумительной памятью Леонид Федорович назвал мне даже номер своего кабинета в «Большом доме» на Литейном — 626), занимался меньшевиками, раскрыл, в частности, «Союз марксистов-ленинцев».[96] До убийства Кирова атмосфера и методы работы в «органах» были, по словам Леонида Федоровича, совершенно иными, нежели это описывается современной журналистикой. Инициатива арестов исходила снизу, следствие вел сам оперативный работник — это правило было принято для того, чтобы вывести из дела агентуру. Необходимости в клевете, фальсификации следственных материалов не возникало: при хорошо поставленной оперативной работе человек, вызванный на допрос, «сам не знал о себе того, что знали мы». При Ежове в «органах» работали настоящие профессионалы. Чтобы овладеть приемами вербовки, работы с агентурой, нужно не менее 5–6 лет, сказал Райхман. С приходом Берии в структуре НКВД появились следственные отделы, туда хлынул поток партийных функционеров, «которые умели только одно — бить». Не удержавшись, я спросил: «Неужели при Ежове совсем не били?» «Случалось, — хмуро произнес Райхман. А сейчас разве не случается?» Рассказал Леонид Федорович о совещании в Москве, на котором Ежов зачитал текст известной сталинской директивы, санкционировавшей применение пыток. Ежов, по его словам, пребывал в полнейшем недоумении, выглядел подавленным…[97]
Массу интереснейших деталей о довоенном прошлом Райхмана я узнал от бывшего военного прокурора Бориса Петровича Беспалова, который в свое время работал в шверниковской комиссии по реабилитации — по его собственному выражению, «батрачил в рабочем аппарате». Вот, например, один из сюжетов:
«В конце лета 1939 года где-то на очень высоком уровне возник замысел назначить Андрея Вышинского заместителем председателя СНК СССР. В связи с этим возникла необходимость всесторонне «прощупать» кандидата, выяснить, чем он дышит, благонадежен ли он, можно ли допускать его в общество близких Сталину. Да и как он вообще относится к самому Сталину, не враждебно ли, не возникнет ли у новоиспеченного заместителя главы правительства шального желания при встрече со Сталиным садануть ему под сердце острый нож или пустить в него злодейку-пулю.
Потребовались источники, из которых можно было бы получить наиболее достоверные ответы на все эти вопросы. В качестве одного из источников был избран Л. Шейнин, который относился к Вышинскому с сыновним благоговением. был вхож в дом и, несомненно, многое знал.
Шейнин находился в то время на сочинском курорте. К нему послали Райхмана. Почему Райхмана? Не допрашивать же Шейнина посылался сотрудник, а на личную, сердечную, откровенную беседу, во время которой нужно будет все вылизать из души собеседника. Делать это Райхман умел и сдал экзамен по этой части еще в 1936 году при подготовке процесса «Антисоветский троцкистский центр».[98] К тому же для такой миссии, конечно же, нужен был человек, состоящий с Шейниным в близких товарищеских отношениях, основанных на взаимном доверии.
Райхман рассказывал: чтобы вызовом для беседы в горотдел НКВД не спровоцировать у Шейнина сердечного приступа, ему в санаторий сообщили, что он по ВЧ вызывается Москвой. Шейнин, конечно, почувствовал бы себя оскорбленным при одной только мысли о том. что кто-то мог бы осмелиться «разыграть» его таким способом, и объяснял, что встреча с Райхманом произошла на пляже, как бы совершенно случайно.
Задушевная беседа продолжалась несколько дней и завершилась документом, отпечатанным на машинке через два интервала на 10 или 12 страницах. Ввиду особой секретности как самой миссии, так и содержания документа все фамилии вписывались от руки. Подписал его Райхман. Пересказать содержание документа я не в состоянии, а кратко и чтобы было понятно — это была молитва, исходящая от Вышинского к божеству, имя которого Сталин».
Таким образом, знакомство Райхмана с Шейниным было отнюдь не шапочным. Беспалов же рассказал, что в бытность свою в Ленинграде Райхмаи имел непосредственное отношение, кроме названных, и к делу Сафарова,[99] и к делу «Московского центра»,[100] и к делу «Антисоветского объединенного Троцкистско-зиновьевского блока»,[101] причем действовал столь успешно, что звание капитана ГБ получил досрочно и чуть ли не минуя старшего лейтенанта.
Уже в октябре или даже в конце сентября 1939 года Райхман с командой прибыл во Львов, где под крышей некоего фиктивного научного учреждения искал подходы к главе униатов митрополиту Шептицкому. Мне представляется вероятным. что в его задачу входила также и предварительная селекция пленных для нужд контрразведки. (В числе сосредоточенных в районе Львова пленных был, кстати говоря, и Андерс.) В дальнейшем Леонид Федорович, по его словам, ни малейшего отношения к судьбе пленных поляков не имел, хотя вот ведь встречался же с Андерсом, с Молотовым и Вышинским обсуждал проблему польского гражданства. В архивных документах фамилия Райхмана в связи с военнопленными отсутствует, зато присутствует фамилия его непосредственного начальника Федотова — именно в его распоряжение направлялись пленные, представляющие оперативный интерес для 2-го управления ГУГБ.
Во время войны главной задачей Райхмана была очистка освобожденных территорий от агентуры врага. По этому поводу он даже проникновенно процитировал Твардовского: «И все же, все же. все же…» (мол, сколько прекрасных людей погибло). Рассказал несколько остросюжетных эпизодов из собственного опыта.
Когда текст, предназначенный для печати, был тщательно отредактирован и завизирован, Леонид Федорович сообщил мне ряд дополнительных подробностей о своей встрече с Андерсом. Перескажу самое существенное. Когда Райхман прибыл в Куйбышев, там уже находились Серов и Меркулов. Один из них и приказал ему встретиться с польским генералом. Кто же именно? Скорее всего Серов, страстный любитель субординации; Леонид Федорович помнит, что в качестве аргумента фигурировали воинские звания: дескать, у Меркулова и Серова (три ромба) они выше, чем у Андерса, а у Райхмана (два) — в самый раз, ему и встречаться. На каком языке объяснялись? Андерс владел русским, Райхман польским (выучил во Львове, где оставался весь 1940 год и наезжал в 1941-м). Что пили? Лимонад. О чем говорили? Например, о Кутузове. В связи с обстановкой на фронтах? (Чуть заметная пауза.) Не в прямой. Андерс был с палкой, хромал, держался спокойно, с большим достоинством. Из ресторана возвращались пешком: Райхман и Андерс впереди, сопровождающие сзади. 7 ноября на торжественном заседании в театре Леонид Федорович, выходя из гуалета, в упор столкнулся с адъютантом Андерса. Адъютант в туалет не пошел, а развернулся и исчез — видимо, хотел свести Райхмана с ожидавшим от него вестей Андерсом. Леонид же Федорович, не имея санкции на встречу, счел за благо немедля покинуть театр.
Сразу после войны Райхман, как мы уже знаем, снова во Львове, руководит операциями против оуновских отрядов. (В машинописном тексте Л.Ф. исправил «руководил» на «участвовал», но сначала сказано было именно так.) «Только против ОУН или против АК тоже?» — опять не вытерпел я. на что Леонид Федорович ответил очень резко: «Никакой АК у нас не было». Не скрывал Райхман свою неприязнь к греко-католикам Западной Украины, которые как раз в период наших встреч впервые вышли на Арбат с требованием отменить решения Львовского собора 1946 года. Тут и возникла у меня смутная догадка: уж не Леонид ли Федорович организовал этот собор? С этим вопросом я обратился к покойному ныне писателю Владимиру Павловичу Беляеву, который был свидетелем событий во Львове и до, и после войны. Недолго думая Владимир Павлович в моем присутствии позвонил Павлу Анатольевичу Судоплатову и получил утвердительный ответ. (Общались собеседники на чистом украинском языке.)
Имеется в моем досье и такое письмо:
«В «Литгазете» (№ 36 от 6.09.89 г.) опубликован Ваш очерк «Вокруг Катыни»,[102] в котором упомянут один из руководителей контрразведки страны военного и послевоенною времени генерал-лейтенант Райхман Л. Ф.
Имя этого опытнейшего контрразведчика и честного человека я много раз слышал от моего отца (он умер в 1977 году), который в период 1947–1952 годов был зам. начальника отдела МГБ СССР в г. Кисловодске (все дела, которые вел мой отец — подполковник Колтун З. М., работая в госбезопасности, после XXII съезда КПСС были пересмотрены компетентной комиссией, и ни одного нарушения соцзаконности не выявлено — ни одного!). Поэтому я верю отцу, который считал, что такие, как Райхман, переиграли немецкую разведку и немало способствовали нашей победе над гитлеризмом.
Да. Берия, Меркулов, Кобулов, Деканозов, Мешик, Цанава, Рюмин, Гоглидзе и вся их свора истязателей и убийц скомпрометировали НКВД и МГБ СССР. Но еще раз повторяю: были же чекисты, как генерал Райхман (кстати, если мне не изменяет память, репрессированный в конце 40-х — начале 50-х годов, переживший личную трагедию, когда от него в связи с арестом отказалась жена — народная артистка СССР Л.), как мой отец и тысячи чекистов, которые, не нарушая законов страны, отважно боролись против фашизма.
Я обращаюсь к вам с такой просьбой: пока живы такие чекисты, как Райхман Л. Ф., надо по-журналистски разговорить их, дать возможность на страницах газет и журналов рассказать им о тех блестящих контрразведывательных операциях, которые они победоносно осуществили, ведь положить абвер и разведку СД на обе лопатки могли только высокообразованные профессионалы своего дела.
Этих людей осталось немного, они уходят из жизни. Надо торопиться. Мы в долгу перед ними.
С уважением,
М. З. Колтун,
полковник внутренней службы
г. Ставрополь»
Память не изменяет полковнику Колтуну: в октябре 1951 года Леонид Федорович был арестован. На него, как на активного участника сионистского заговора в МГБ, показал небезызвестный Лев Шварцман. Восемь месяцев просидел в одиночке Лефортовской тюрьмы в наручниках, о чем не мог вспоминать без откровенной и неутолимой ярости. К своему шефу Абакумову Леонид Федорович до конца дней сохранил величайший пиетет, восхищался его природным умом, высокими профессиональными качествами. Берию и его приспешников, естественно, ненавидел.
Что касается действий советской разведки и контрразведки в годы войны, то они, бесспорно, достойны самой высшей оценки, но ведь это. собственно, уже другая тема. Кстати, именно эти успехи явились причиной лютой ненависти Берии к В. С. Абакумову — жертвой их смертельной схватки стал и Райхман.[103]
Леонид Федорович, повторяю, был человек неоднозначный и уж во всяком случае не примитивный. Читатель, конечно, заинтригован: что за народная артистка упомянута в письме М. З. Колтуна под таинственным инициалом Л.? Это знаменитая балерина, солистка Большого театра, лауреат Сталинской премии I степени 1941 года Ольга Лепешинская. Ольга Васильевна, по моим сведениям, была секретным сотрудником Леонида Федоровича, и вот, как в плохой советской мелодраме, чекист влюбился в своего агента. По законам соцреализма («Любовь Яровая». «Сорок первый») герою полагается принести свою любовь в жертву идеологии. Леонид же Федорович, отдадим ему должное, поступил наоборот, за что и претерпел серьезные неприятности. (Очень осерчал Л.Ф. на А. В. Антонова-Овсеенко, написавшего в одной из своих статей, что генералы НКВД увлекались балеринами: «Я не увлекался — я был женат на балерине!»)
И наконец, совсем уже нехарактерная и необычная черта. В последние годы жизни Леонид Федорович увлекся космологией, пришел в этой области к поразительным результатам, написал две книги — «Диалектика бытия небесных тел» и «Механизм солнечной активности» и снискал некоторую известность среди специалистов. В моем дилетантском изложении теория Райхмана не прозвучит, поэтому отсылаю читателя к статье «Прогноз бедствия — возможен!» в «Московском комсомольце» от 19.5.1989. Представляя своего собеседника, автор материала Александр Поликарпов пишет: «Леонид Федорович Райхман не профессиональный ученый. В том смысле, что никаких степеней и званий он не имеет. Но его «любительство» очень похоже на «любительство» того настройщика роялей из Лондона, который открыл планету Уран и обнаружил движение Солнечной системы в пространстве. Или того школьного учителя из провинциального Боровска. который заложил основы ракетодинамики и космонавтики». Вот интересно: знал ли Поликарпов о мрачном прошлом любителя без степеней и званий, а если не знал, то написал бы свой очерк, если бы знал? Относительно званий, он. впрочем, абсолютно прав: несмотря на арест и вздорное дело о еврейском заговоре, Л.Ф. не был восстановлен в партии, не вернули ему и генеральских привилегий. На этом я уже совсем было собрался поставить точку, но тут к биографии Райхмана неожиданно прибавился новый штрих. Переводчик книги Мацкевича профессор Сергей Павлович Крыжицкий, любезно предложивший мне свою помощь, в одном из своих писем, упоминая Райхмана, написал в скобках: «он же Зайцев». «Почему он Зайцев?» — переспросил я и в ответ получил две заметки за подписью «Князь Алексей Щербатов», опубликованные в «Новом русском слове» 5.7.1988 и 8.5. 1990, а также копию письма князя профессору Крыжицкому.
Алексей Павлович Щербатов в 1945 году служил в штабе 22-го корпуса американской армии. Тогда он и услышал впервые о Райхмане и о том, что иногда он пользуется псевдонимом «Зайцев». Рассказал о нем Щербатову прикомандированный к штабу представитель лондонского правительства Польши капитан Лисовский. Лисовский был резидентом польской (лондонской) разведки в Пльзене. многое сделал для спасения членов Армии Крайовой от репрессий. Успешная деятельность Лисовского обратила на себя внимание Лубянки: в Пльзень был командирован Райхман, который вошел в контакт с гражданским губернатором города и рекомендовал ему пожаловаться на интриги антикоммунистического подполья в G-2 — американскую военную разведку, что и было сделано. В результате Лисовский был отозван «лондонскими поляками». Лисовский же указал Алексею Щербатову на Райхмана как на непосредственного организатора катынских расстрелов.
К сожалению, я лишен возможности подтвердить информацию А. П. Щербатова (у меня нет оснований не доверять ему, но ведь это данные все-таки из вторых рук, и отдельные неточности, особенно за давностью лет, не исключены), но выглядит описанная им ситуация весьма правдоподобно».
В день выхода газеты с материалом «Вокруг Катыни» я привез Райхману свежеотпечатанный номер. Леонид Федорович внимательнейшим образом прочел публикацию, в целом, кажется, остался удовлетворен. Засомневался вдруг по поводу медали «За отвагу» — дескать, нежелательное совпадение, как раз апрель сорокового. Стал даже изучать наградной Указ, ксерокс которого у меня был при себе: «Здесь нет Райхмана!»
Новые аргументы против Чапского и «Московских новостей»:
а) никаких иностранцев отродясь не бывало в здании НКВД;
б) вспомнил о существовании катынской разведшколы абвера (тот самый «Сатурн», который «почти не виден») — ведь расстреливать поляков должны были спецчасти:
в) как читал, с каким выражением лица — какое это имеет значение, если отсутствовал сам факт встречи? («Пена!»)
г) выражение «ликвидация лагерей» можно понимать двояко (это довод, можно сказать, излюбленный, слышал его от сторонников советской версии неоднократно).
Умер Леонид Федорович Райхман 10 марта 1990 года в Москве.
* * *
Георгий Сергеевич Жуков начинал свою службу в «органах» в Смоленске. Впервые услышав об этом от Райхмана, я решил, что это тот самый начальник следственного отделения смоленского УНКВД, который в ноябре 1939 года был осужден выездной сессией военного трибунала Калининского военного округа на 3 года условно за упущения по службе (упущения состояли в том, что дела расстрелянных решением «троек» были плохо оформлены, нередко отсутствовали даже обвинительные заключения). Помню, я еще подивился мрачной иронии судьбы: подельника Жукова следователя Васильева защищал на этом процессе не кто иной, как адвокат Б. Г. Меньшагин, чье имя было впоследствии использовано комиссией Бурденко и из чьих воспоминаний я и почерпнул этот факт. Так я и написал в «Литгазете», впрочем, с оговоркой, что инициалы второго Жукова утрачены.
Вскоре пришло письмо от читателя Б. М. Гзовского из Минска. Он сообщил мне, что в смоленском УНКВД было не то двое, не то даже трое братьев Жуковых. Гзовский, состоявший в спортобществе «Динамо», играл в волейбол на одной площадке с ними. Позже эту информацию подтвердил мне смоленский историк Л. В. Котов: начальника следственного отдела звали Николай Сергеевич, он был средний брат и в 1940 году осужден повторно на 6 лет.
Ну а затем в «Известиях ЦК КПСС» (1989, № 11) я прочел следующее:
«Жуков Г. С., будучи начальником дорожно-транспортного отдела НКВД Западной железной дороги, производил массовые незаконные аресты, а также создал фиктивное дело на бывшего начальника дороги т. Русанова Г. А. (член партии с 1916 г.), который отказался давать ложные показания и был доведен Жуковым до самоубийства. В результате преступных действий Жукова без оснований были арестованы и осуждены нач. политотдела Смоленского отделения т. Астафьев И.П… нач. политотдела Западной железной дороги т. Болотовский, нач. ДорУРСа т. Кац Н. Х., которые теперь (в январе 1956-го. — В.А.) реабилитированы и восстановлены в партии».
Всего вероятнее, по этому же транспортному делу арестованы в 1937 году заведующий промышленно-транспортным отделом Смоленского обкома ВКП(б) И. В. Стремоусов и его жена зав. секретариатом председателя облисполкома Н. И. Автухова, осужденные по статье 58–10 УК РСФСР на 10 лет лагерей без права переписки и реабилитированные (посмертно) в 1957 году за отсутствием состава преступления. Об этом написал мне их сын В. И. Стремоусов, ныне живущий в Волгограде. Следствие, по его сведениям, вел лейтенант (ГБ?) Жуков.
Во 2-м управлении ГУГБ НКВД Г. С. Жуков возглавлял отдел Центральной и Восточной Европы, следовательно, и Польши. Разъяснение Л. Ф. Райхмана, что сам Жуков, а тем более по польским делам, ему не подчинялся, звучит, по-моему, неубедительно: ведь мы уже знаем, что и Леонид Федорович Польшей, мягко говоря, интересовался.
По словам Райхмана, именно Жуков сразу после опубликования немецкого сообщения о Катыни первым вспомнил о существовании Гнездовского могильника и, таким образом, является автором первоначальной, явно абсурдной версии, опубликованной в «Правде» двумя днями позже и никогда больше не повторявшейся:
«В своей неуклюже состряпанной брехне о многочисленных могилах, якобы открытых немцами около Смоленска, геббельсовские лжецы упоминают деревню Гнездовую, но они жульнически умалчивают о том, что именно близ деревни Гнездовой находятся археологические раскопки исторического «Гнездовского могильника».
Обращает на себя внимание ошибка в названии деревни: правильно не «Гнездовая», а «Гнездово» — признак того. что отповедь сочинялась наспех.
Карьера генерал-лейтенанта Жукова оборвалась внезапно и нелепо. Райхман рассказал мне, что в разговоре с Хрущевым он имел неосторожность нелестно отозваться о Ванде Василевской, за что и был переведен в Новосибирск на под-полковничью должность. Б. М. Гзовский пишет, что встретил одного из братьев Жуковых в Новосибирске в 1943 году. Тот был в генеральских погонах и прогуливал дога, выглядел вальяжно. Кто-то из знакомых сказал Гзовскому, что это начальник СибЛАГа. Знакомый ошибся: он был начальником отдела новосибирского УНКВД — кстати, по делам о военнопленных и интернированных.
О новосибирском периоде службы Жукова немало интересного поведал мне общественный корреспондент «Известий» Анатолий Михайлович Третьяков, друживший с его сыном Владимиром, впоследствии журналистом-международником. Помимо прочего, Третьяков дал наводку, до сих пор мною не отработанную: в конце 40-х годов в гости к Г. С. Жукову приезжал некий судмедэксперт подполковник медслужбы Казанцев, вроде бы принимавший участие в эксгумации катынских трупов. На осторожный вопрос Третьякова, кто же в действительности расстрелял поляков, изрядно выпивший Казанцев сделал строгое лицо и ответил, тщательно выговаривая каждое слово: «Запомни раз и навсегда: поляков расстреляли немцы». При этом он, по ощущению Анатолия Михайловича, как будто хотел дать понять нечто совсем иное. В числе катынских экспертов фамилия Казанцев не фигурирует, но, во-первых, это еще ни о чем не говорит, а во-вторых, не идет ли здесь речь о повторном, послевоенном вскрытии могил? И Жуков опять тут как тут… К этому вопросу мы вернемся в следующей главе.
Закончил свои дни Георгий Сергеевич в середине 70-х годов в должности директора столичной гостиницы «Турист». На этот ответственный пост он был назначен в 1956 году в преддверии Всемирного фестиваля молодежи: она, прогрессивная иностранная молодежь, проживала ведь именно в «Туристе». В этом качестве Жукова хорошо знал мой коллега и сослуживец по «Литгазете» Анатолий Захарович Рубинов, сообщивший мне. что в Ленинской библиотеке имеется несколько брошюр по теории гостиничного хозяйства, принадлежащих перу Георгия Сергеевича.
Что касается Федотова Петра Васильевича (а не П.Ф., как указывает Ежевский), то он в 1940 году имел звание комиссар ГБ 3-го ранга и возглавлял 2-е управление ГУГБ, то-есть контрразведку; уже известным нам Указом от апреля 1940 года награжден орденом «Знак Почета». Постановлением Совмина от 7.9. 1946 Петр Васильевич был назначен заместителем министра госбезопасности СССР, а с преобразованием МГБ в КГБ стал начальником все того же 2-го, но теперь уже Главного управления. Интересную информацию о его деятельности и особенно методах можно почерпнуть из того же номера «Известий ЦК»:
«…будучи в составе бригады НКВД СССР, руководимой Маленковым и Литвиновым, сфальсифицировал обвинения на многих партийных и советских работников Армении, применял к ним меры физического воздействия. Путем истязаний добился признательных показаний в преступлениях против государства от незаконно арестованных (следует перечень). Полученные таким преступным путем показания послужили основанием для поголовного ареста командного и политического состава этой (76-й Армянской стрелковой. — В.А.) дивизии, из которых многие были расстреляны. Федотовым сфальсифицированы материалы против ряда других видных работников: бывшего полпреда СССР в Венгрии т. Бекзадяна А.А… бывшего первого секретаря обкома партии Республики Немцев Поволжья Попок Н. А., бывшего первого секретаря ЦК КП Киргизии Амосова М. К. и других. По его инициативе в Хабаровском крае на границе с Маньчжурией был организован так называемый «ложный закордон», где в результате беззаконий и провокаций безвинно погибло много советских граждан».
«Ложный закордон» — это вот что такое. Хабаровским краевым УНКВД вербовались люди для агентурной работы в Маньчжурии. Затем происходил переход границы, в результате которого агент попадал в уездную японскую военную миссию, где белогвардейцы в японских мундирах выбивали из нарушителя признание в связях с советской разведкой, а то и перевербовывали его. Затем агент с заданием теперь уже японской разведки переходил границу в обратном направлении. Оказавшись на советской территории, он немедленно препровождался в тюрьму хабаровского УНКВД и привлекался к ответственности за шпионаж в пользу Японии. «Ложный закордон» функционировал с 1941 по 1949 год. За этот срок через него прошли 148 советских граждан, осужденных к длительным срокам заключения. И ведь действительно факт перевербовки имел место. Вот только никакой границы «агенты» не переходили — вся интрига была инсценировкой сотрудников УНКВД; они-то и изображали белогвардейцев, облачившись в японскую военную форму. Вот уж, наверно, отвели душу, наприменялись «мер физического воздействия»!
Эпизод этот как нельзя лучше рисует нравы ведомства, которому верой и правдой служили Райхман, Жуков, Федотов. Идея «ложного закордона» принадлежит, повторю, Федотову. В распоряжение этого изувера и препровождались отобранные особыми отделениями лагерей польские военнопленные. Уже цитированная директива Берии «по оперативно-чекистскому обслуживанию» пленных в качестве первостепенной выделяет задачу создания агентурно-осведомительской сети в лагерях, причем сеть эта имела целью не столько «освещение политических настроений военнопленных», сколько выявление «контрреволюционного элемента, а именно:
а) лиц, служивших в разведывательных, полицейских и охранных органах бывшей Польши (…);
б) агентуры перечисленных выше органов (конфидентов, агентов сыска);
в) участников военно-фашистских и националистических организаций бывшей Польши (…);
г) работников суда и прокуратуры;
д) агентуры других иностранных разведок;
е) участников зарубежных белоэмигрантских террористических организаций (…);
ж) провокаторов бывшей царской охранки и лиц, служивших в полицейско-тюремных учреждениях дореволюционной России:
з) провокаторов охранки в братских коммунистических партиях Польши, Западной Украины и Белоруссии:
и) кулацких и антисоветских элементов, бежавших из СССР в бывшую Польшу».[104]
Обнаружить и «взять на оперативный учет» весь этот «элемент» нужно было, в частности, «для выявления зарубежных связей разрабатываемых». Определены и дальнейшие действия:
«Особым отделам округов следствие направлять на выявление антисоветских связей арестованных военнопленных и лиц, могущих быть использованными для заброски за кордон.
Вербовку агентуры, подлежащей заброске за рубеж, осуществлять только с предварительной санкции начальника Особого oтдела НКВД СССР, а заброску ее за кордон только с санкции народного комиссара внутренних дел СССР».[105]
На Лубянку поляки попадали либо через особые отделы военных округов, либо непосредственно из лагерей. Здесь им предъявлялся ордер на арест. Инкриминировался, как правило, один из пунктов 58-й статьи. Профессору Свяневичу, например, предъявили обвинение по статье 58-6 (шпионаж). «Кроме того, — пишет Свяневич. — мне объяснили, что я более не считаюсь военнопленным, а преступником, и буду трактоваться как таковой со всей строгостью советских законов». Свяневич возразил, что он не является гражданином СССР, — и получил резонный ответ, что польского государства больше не существует, стало быть, не существует и такого гражданства (читатель, возможно, обратил внимание: во всех документах НКВД Польша называется «бывшей Польшей». Польское же гражданство на территориях, включенных в состав СССР, было отменено Указом ПВС от 29.11.1939). Интересно, что профессор привлекался по Уголовному кодексу РСФСР, хотя жил и работал в Вильно и, следовательно, не подлежал юрисдикции российских законов. Этот формальный недочет был исправлен позднее. Я уже имел возможность в другой связи опубликовать Указ ПВС от 6.11.1940 (Родина. 1989. № 12), которым на территории прибалтийских стран вводилось применение кодексов РСФСР, и даже все дела, приговоры по которым вынесены, но не исполнены, подлежали пересмотру на основе этих кодексов. И уже само собой разумеется, сплошь и рядом применялась обратная сила закона, почему и попали в категорию «военно-фашистских и националистических» такие безобидные организации, как «Союз адвокатов Польши» или «Союз унтер-офицеров запаса», не говоря уже о Польской социалистической партии, в 1946 году объединившейся с Польской рабочей партией, в результате чего и возникла ПОРП.
Для федотовского управления наибольший интерес представляли, конечно, бывшие разведчики. (Приведу, кстати, свидетельство, опубликованное М. М. Фрейденбергом: будто бы в начале 1940 года в Осташковском лагере отбирали специалистов по радноделу.) Эти люди впоследствии могли быть эффективно использованы контрразведкой в качестве опознавателей или участников радиоигры. Обратим, кроме того, внимание, что в списке зарубежных белоэмигрантских организаций фигурирует ОУН — предмет особой заботы Л. Ф. Райхмана. Бесспорно, могла принести свои плоды и работа в НКВД провокаторов царской охранки, но вот ума не приложу: зачем понадобились Берии бывшие тюремщики? Разве что для обмена опытом…
Если Федотов. Райхман и Жуков и не участвовали в принципиальном решении участи поляков, то уж право влиять на отдельные судьбы безусловно имели. Однако никто из бывших чинов НКВД не осведомлен в этом вопросе лучше Петра Карповича Сопруненко, бывшего начальника Управления НКВД по делам о военнопленных, в 1940 году — капитана ГБ («Знак Почета» по Указу от апреля 1940 г.). Совсем уже было сговорился я с Петром Карповичем о встрече — назначил он мне ее в райвоенкомате, — да гут грянула статья Лебедевой в «Московских новостях». Слег только что перенесший тяжелую онкологическую операцию Сопруненко, о чем мне и сообщили сначала в военкомате, а потом подтвердила по телефону его дочь.
А вспомнить ему есть что. Подпись Сопруненко стоит под великим множеством архивных документов, имеющих касательство к судьбе польских военнопленных. Справедливости ради следует отметить, что есть среди них и тексты, благоприятно отражающие деятельность Петра Карповича. Например, возглавляемое им управление предложило руководству распустить по домам гражданских лиц, рядовых полицейских и пограничников, «а также офицеров запаса из числа трудовой интеллигенции», живших в Восточной Польше. Однако наверху эта инициатива понимания не встретила. Тогда появился новый документ от 20.2.1940, принадлежащий перу Сопруненко и комиссара управления Нехорошева:
«Совершенно секретно
Народному комиссару
внутренних дел
Союза ССР
комиссару
Государственной
безопасности 1-го ранга
товарищу Берия Л. П.
В целях разгрузки Старобельского и Коэельского лагерей прошу Вашего распоряжения на проведение следующих мероприятий:
1. Всех тяжелобольных, полных инвалидов, туберкулезников. стариков от 60 лет и выше из числа офицерского состава, которых насчитывается около 300 человек, отпустить по домам.
2. (Лиц) из числа офицеров запаса — жителей западных областей УССР и БССР — агрономов, врачей, инженеров и техников, учителей, на которых нет компрометирующих материалов, отпустить по домам.
По предварительным данным, из этой категории может быть отпущено 400–500 человек».
Гуманно, не правда ли? Хотя и непонятно, откуда в польской армии столько полных инвалидов и туберкулезников. Но вот пункт очень и очень неприятный, чтобы не сказать хуже:
«3. На офицеров КОПа («Корпус охраны погранична»), судейско-прокурорских работников, помещиков, актив партий ПОВ и «Стрелец», офицеров 2-го отдела бывшего Польского Главштаба, офицеров информации (около 400 человек) прошу Вашего разрешения оформить дела для рассмотрения на Особом совещании при НКВД».[106]
Так и поступили. (Напомню, что Указом ПВС от 16.1.1989, утвержденным Верховным Советом СССР 31.7.1989, все граждане, репрессированные постановлениями внесудебных органов, за исключением изменников и карателей, реабилитированы, а сами эти органы признаны антиконституционными.) Когда в Козельский лагерь прибыли польские военнопленные, интернированные в Литве и Латвии, Сопруненко уже знал, что делать, — предложил «оформить» их для рассмотрения на ОСО. Но и тут не угадал: Лаврентий Павлович, на которого было возложено строительство новых военных аэродромов, для чего в структуре НКВД был образован специальный главк,[107] решил перебросить их на Строительство № 106 (о нем я уже писал) — в Поной, или, что то же самое, за Кандалакшу, куда, как мы помним, конвоировал пленных А. А. Лукин, но только это было не в апреле, а уже в мае 1940 года.
Молчит Петр Карпович, предпочитает не вступать в полемику. Как тут не отдашь должное Л. Ф. Райхману, вопреки обыкновению своих коллег решившемуся на публичный спор! Кое-какая информация от Сопруненко, впрочем, просочилась в печать — правда, не в нашу.
Не успел улететь из Москвы видный английский историк лорд Николас Бетелл, как в газете «Мейл он Санди» от 17.6.1990 появилась его статья под мрачным заголовком «Палач». Речь в ней, как уже догадался читатель, идет о Петре Карповиче — сфотографирован дом на Садовой-Самотечной, обведены кружком окна его квартиры, исчерпывающим образом охарактеризована роль Сопруненко в «катынском деле» — словом, сделано мастерски. А сверхзадача сформулирована в подзаголовке: «В то время как Россия атакует Британию за решение по поводу военных преступников, се собственный массовый убийца открыто живет в своей московской квартире».
Среди прочего в статье содержится телефонный монолог дочери Сопруненко. На попытки лорда Бетелла поговорить с самим Петром Карповичем Елена Петровна ответила решительным отказом, так как «вся эта история» действует губительно на здоровье отца. «Мой отец служил своей стране, — сказала она. — Он был шахтером в Донбассе, и из-за рабочего происхождения его приняли в военное училище. Он не хотел служить в НКВД. Он лишь исполнял свой долг офицера».
Дальше — самое интересное (текст я воспроизвожу, естественно, в обратном переводе с английского):
«Я вам вот что скажу. Приказ насчет польских офицеров поступил прямо от Сталина. Отец рассказывал, что видел подлинный документ со сталинской подписью. Что же ему было делать? Самому себя подвести под арест? Или застрелиться? Из отца сделали козла отпущения за решения, принятые другими».
Итак, приказ был подписан Сталиным. Ну до чего же похожи наши славные «ветераны невидимого фронта» на нацистских военных преступников! Там ведь тоже во всем виноват был один Гитлер — все остальные лишь выполняли долг офицера. Ну а как быть с только что цитированными предложениями Сопруненко? Знаю, он скажет, что «рассмотреть на ОСО» — это еще не «расстрелять». А члены ОСО, если бы ожили, сказали бы, что выносили постановления о высшей мере на основании представленных Сопруненко материалов. (До сих пор, кстати, неизвестно, имело ли право ОСО приговаривать к смертной казни.) Нет, это тупик. Бессмысленно спрашивать палача, зачем он убил, — для него этот вопрос лишен смысла, это его профессия, и убийством он свою работу отнюдь не считает.
Итак, приказ был подписан Сталиным. Где же он? Пропал, уничтожен? А если поискать? Но и это, боюсь, тупик, еще более безнадежный.
Сейчас самое время поговорить о судьбе архива смоленского У НКВД, и здесь я опять сошлюсь на князя Щербатова. Его особый интерес к этим документам объясняется тем, что в 1922 году смоленским ОГПУ были расстреляны его дядя Сергей Щербатов, двоюродные брат и сестра и grande tente[108] княгиня Хованская. Шведский журналист Г. Аксельсон, корреспондент стокгольмской газеты «Афтонбладет» и лондонской «Ивнинг стандарт», в 1943 году был в Смоленске и видел дело Щербатовых, о чем впоследствии поставил в известность Алексея Павловича. Однако по порядку.
«В Смоленске, — пишет Щербатов, — немцы захватили архив областного управления НКВД, где хранились документы с датами от декабря 1918 до июля 1941. Это единственный чекистский архив, который попал целиком в немецкие руки. Как я писал раньше, более ранняя часть его размещалась в здании церкви Св. Петра и Павла (документы за 1918–1936 гг.), а остальные — в здании НКВД (бывший окружной суд). Сотрудник ГПУ Александр Энгельгарт получил задание вместе с другим агентом взорвать и поджечь первую часть архива. Энгельгарт приказа не исполнил и, более того, убил своего напарника. Когда немцы вошли в Смоленск, он явился в штаб армии[109] фон Бока и дал сведения об архиве, а также об убийстве польских офицеров. После падения Смоленска советская сторона посылала несколько раз маленькие самолеты бросать зажигательные бомбы на здания, где находился архив, — без результата».
Вот по этому поводу мне есть что добавить. Л. В. Котов, специалист по истории смоленского подполья, вдоль и поперек изучивший все имеющиеся в наличии смоленские архивы, рассказывал мне (еще до того, как я ознакомился с информацией кн. Щербатова), что архив действительно помещался в часовне: при отступлении его подожгли, однако из-за отсутствия должной тяги пламя быстро задохнулось, так что сгорел лишь каталог. Германским оккупационным властям удалось разыскать несколько бывших сотрудников архива, которые составили каталог заново. Все это так, но дело в том, что речь в данном случае идет о партийном архиве — том самом, который теперь хранится в США. Что касается архива УНКВД, то его, по словам Котова, все же удалось эвакуировать: пострадал лишь один вагон, попавший под бомбежку. По сведениям Котова, полученным от бывшего заведующего этим архивом ныне здравствующего И. Ноздрева, произошло это на перегоне Кардымово — Ярцево.
Косвенное подтверждение целости и сохранности архива удалось получить и мне. Уже упоминавшийся Владимир Иванович Стремоусов имеет на руках письмо от 15.2.1988 за подписью начальника секретариата Военной коллегии Верховного суда СССР А. Никонова. В письме сказано, что дело отца Владимира Ивановича «хранится в УКГБ СССР по Смоленской области, имеет гриф «секретно». А Иван Васильевич Стремоусов и его жена осуждены были, напомню, в 1937 году.
Остается неясным, каким образом Аксельсон мог видеть дело Щербатовых в партархиве. Одно из двух: либо это было не собственно уголовное дело, а что-то вроде справки, составленной сотрудниками ОГПУ для своего партийного начальства, либо материалы дела были временно запрошены обкомовским архивом для каких-то своих нужд.
Во всяком случае, имеются достаточно основательные надежды на то, что поиски в архиве УКГБ могут оказаться небесполезными. Вот только никто не ищет: независимых историков к документам на пушечный выстрел не подпускают, а сами сотрудники КГБ найти у себя ничего не могут — вспомним, как харьковчане искали-искали, да и приехали в конце концов в особый архив, где и получили то, что впоследствии выдали за собственную находку.
А почему, собственно говоря, вообще этим занимается КГБ, на каком юридическом основании? Ведь руководители этого ведомства сплошь и рядом повторяют, что нынешний крючковский комитет не имеет ничего общего с бериевским наркоматом. Но в таком случае кто уполномочил его заниматься Катынью? Единственное, чем может и должен помочь расследованию КГБ, — это предоставить свои архивы.
Многие, правда, сомневаются, что бумаги сохранились. К примеру, Овидий Горчаков, в прошлом резидент советской разведки, а ныне известный писатель, заявил в интервью «Комсомольской правде» (номер от 22.5.1990): «И потом — у меня нет надежды на архивы. Когда мы снимем все печати со спецхранов, найдем немного. В октябре 1941 года, когда немцы подходили к Москве, на Лубянке жгли архивы, да так, что дым стоял коромыслом». Верно, жгли архивы, но не все подряд, о чем я уже писал: уничтожались определенные категории документов — остальные эвакуировались. Полагаю, катынские материалы все же уцелели. Справки о польских военнопленных, составленные в НКВД по запросам руководства, помечены более поздними, нежели названная Овидием Александровичем, датами — одна из них. в частности, декабрем 1943 года. Следовательно, в декабре 1943-го существовали и документы, на основании которых она составлена.
Что же касается возможности привлечения к уголовной ответственности оставшихся в живых исполнителей катынской акции… Вот что сказал Николасу Бетеллу ответственный работник ЦК КПСС Валентин Алексеевич Александров, многое, кстати, сделавший для политического решения проблемы: «Мы не исключаем возможность судебного расследования или даже суда. Но вы должны понимать, что советское общественное мнение не целиком поддерживает политику Горбачева в отношении Катыни. Мы в Центральном Комитете получили множество писем от организаций ветеранов, в которых нас спрашивают, почему мы порочим имена тех, кто лишь исполнял свой долг в отношении врагов социализма».
Существует и еще одно. более веское препятствие к суду над палачами — его назвал мне известный правозащитник, народный депутат РСФСР ныне покойный Револьт Иванович Пименов: посадить бериевцев на скамью подсудимых означает применить обратную силу закона.
И еще об архивах. Приведу отрывок из письма, автор которого просил не называть себя:
«На каждого человека, попавшею в орбиту деятельности органов, заводилось дело (различных категорий оперативного учета), существовавшее независимо от того. возбуждалось ли уголовное (следственное) дело, заполнялись учетные карточки. После ликвидации бериевщины усилиями его приспешников, возглавлявших на первых порах КГБ, большинство архивных дел и картотек было уничтожено, но должны сохраниться акты об уничтожении этих дел и номенклатурные книги с перечнем этих дел в тех органах, где они велись. До этих сугубо канцелярских документов руки обычно не доходят, а чиновники берегут их пуще глаза, ибо за секретный документ, уничтоженный без акта, можно и «сесть».
И далее:
«Исключено, чтобы отсутствовали архивные личные дела на генералов и офицеров органов 30-40-х годов. Из послужных списков в них можно проследить все должности, а из аттестаций — практическую деятельность».
Вот для того, чтобы было ясно, где и что искать, публикую обещанное продолжение списка сотрудников НКВД-НКГБ, имевших непосредственное отношение к катынской акции:
Л. Ф. Баштаков жив, недавно давал показания следователям Главной военной прокуратуры СССР о расстреле в Орловской тюрьме в октябре 1941 г. Марии Спиридоновой и группы военачальников.
И отдельно — сотрудники Управления НКВД по делам о военнопленных и интернированных:
Глава 4. ЛЖЕЭКСПЕРТЫ
В этой главе речь пойдет о судебно-медицинской экспертизе эксгумированных в Катыни трупов — вернее, экспертизах. Это один из важнейших аспектов проблемы, ведь именно на заключениях экспертов базируются две взаимоисключающие версии катынских расстрелов. Сегодня, когда вопрос о виновниках катынской бойни решен и, следовательно, выводы советской комиссии, возглавлявшейся Н. Н. Бурденко, официально дезавуированы, такой анализ может показаться излишним. Мне тем не менее он представляется необходимым по крайней мере по двум причинам.
Во-первых, мы должны знать, как возникла, формировалась и корректировалась лживая советская версия, кто ее авторы: история фальсификаций — тоже история. Во-вторых, судя по сообщениям ТАСС, основанием для пересмотра официальной советской точки зрения явились недавно обнаруженные архивные документы — до этого таких оснований, стало быть, не существовало. На протяжении 46 лет номенклатурные советские историки, юристы, политические деятели и партийные функционеры ссылались на «авторитетное мнение» комиссии Бурденко как на убедительное доказательство вины нацистов, материалы же предшествующих экспертиз раз и навсегда были объявлены провокационными, фальшивыми или уж как минимум тенденциозными. Вот и посмотрим, насколько безупречен документ, подписанный членами советской Специальной комиссии, и наоборот насколько основательны обвинения в адрес тех экспертов, чьи выводы противоречат бурденковским.
Прежде всего уточню: катынских комиссий было не две, как полагают многие, а три. и каждая зафиксировала свои выводы в соответствующем документе. Первым же могилы вскрыл Герхард Бутц, возглавлявший судебно-медицинскую лабораторию группы армий «Центр». Профессор Бутц также представил свой отчет.
Кроме того, существуют два текста, трактующие не судебно-медицинские вопросы, а обстоятельства катынского убийства: рапорт секретаря тайной полевой полиции Людвига Фосса и «Сообщение» Специальной комиссии Н. Н. Бурденко, составной частью которого является акт экспертизы профессора Прозоровского и его коллег. Здесь мы эти документы рассматривать не будем.
Наконец, в нашем распоряжении имеется довольно много всевозможных материалов, проливающих дополнительный свет на условия и методы работы экспертов.
Вообще следует признать, что раскопки 1943 года хорошо документированы. Отбирая материалы для этой главы, я решил остановиться прежде всего на недавно обнаруженных или труднодоступных для советского читателя источниках.
Главный аргумент адептов советской версии угадать нетрудно: все, кто побывал в Катынском лесу при немцах, или, будучи убежденными врагами СССР, лгали сознательно, или вынуждены были искажать факты под давлением обстоятельств, или, в самом крайнем случае, были введены в заблуждение организаторами экспертиз и «экскурсий». В этой связи внимание неизменно обращалось на состав международной комиссии — из 12 ее членов лишь один являлся представителем нейтральной страны, остальные прибыли из союзных Германии или оккупированных ею стран. По этой же причине было отказано в доверии комиссии Польского Красного Креста: приняли предложение немцев — следовательно, коллаборанты (по советской терминологии тех лет — «пособники»). Нельзя, по мнению единомышленников Бурденко, полагаться и на свидетельства членов делегаций общественности и пленных: их силой заставили участвовать в пропагандистской кампании. При этом совершенно не принималось во внимание естественное для всякого поляка стремление выяснить подлинную судьбу военнопленных офицеров или такая нравственная категория, как профессиональный долг медика.
Начну с документа, впервые опубликованного в 1989 году. Его автор литератор Фердинанд Гетль находился в составе первой польской делегации, вылетевшей из Варшавы в Смоленск 11 апреля 1943 года, то есть еще до официального немецкого сообщения о катынских могилах. Отчет написан в 1946 году в Лондоне; первый вариант отчета от апреля 1943-го, переданный Гетлем в Польский Красный Крест, по-видимому, утрачен. В декабре 1945 года Гетль эмигрировал из Польши, так как за ним охотились органы безопасности. Оригинал документа хранится в лондонском музее им. Сикорского.
«В первых числах апреля 1943 года мне позвонил секретарь Общества писателей и журналистов, а во время оккупации один из членов так называемой Литературной комиссии Главного попечительского совета, Владислав Зыглярский и сообщил, что меня срочно разыскивает д-р Грундман из «отдела пропаганды управления Генеральной Губернией». Поскольку я подумал, что это имеет отношение к кухне при клубе Союза писателей, я сперва отправился в город разузнать, не произошло ли чего на кухне. А в это время Грундман, узнав, что я живу на улице Мицкевича, 56 на Жолибоже, приехал ко мне домой на машине. Не застав меня, он повторил жене, что у него ко мне очень срочное дело, и записал номер телефона ближайшего магазинчика. Я же пользовался не этим телефоном, а телефоном фотографа, который жил в подвале нашего дома, о чем знали только Зыглярский и еще несколько человек.
Сообразив, что происходит нечто необычное, я в тот же день до обеда отправился к Грундману. Он сообщил мне, что неподалеку от Смоленска, в местности, называющейся Козьи Горы, немецкая армейская разведка открыла огромные братские могилы, в которых лежат убитые польские офицеры. Вскрытие могил уже начато и дало необыкновенные результаты. Жертв, по-видимому, насчитывается несколько тысяч. Городские власти, потрясенные этим открытием, намерены выслать на место происшествия делегацию поляков, которой будет оказана всяческая помощь и которая будет освобождена от каких бы то ни было совместных выступлений с немецкой пропагандой.
Пораженный этим известием, я сразу же подумал, что в Козьих Горах может оказаться какой-то след, ведущий к разгадке тайны исчезновения польских военнопленных в лагерях Козельска, Старобельска и Осташкова. После некоторого раздумья я спросил у Грундмана, почему он не обращается с этим вопросом в Польский Красный Крест — наиболее подходящее для этого учреждение как с точки зрения его статуса, так и с точки зрения веса, который в польском обществе имеет его мнение. Грундман ответил, что, по его мнению, Польский Красный Крест действительно должен этим заняться. но существуют обстоятельства, затрудняющие отношения между немецкими властями и этим учреждением. Он полагает, что эти обстоятельства мне известны.
Отношение немцев к Польскому Красному Кресту было мне действительно известно. Польский Красный Крест был единственным учреждением в Генеральной Губернии, которое сохранилось еще со времен суверенного польского государства, было единственным его следом. Охраняемый международным законом, Польский Красный Крест упорно сопротивлялся многочисленным попыткам немцев ликвидировать его. В результате, он существовал почти только формально, ибо вся его деятельность была сведена к опеке над инвалидами военных действий 1939 года.
Сообразив, что положение Польского Красного Креста может неожиданно укрепиться, если сообщение о Козьих Горах соответствует действительности, я заявил, что в случае выезда в Козьи Горы оставляю за собой право доложить о результатах своих наблюдений в Польский Красный Крест, однако сначала я хотел бы знать, кто войдет в состав этой делегации. Грундман ответил, что принять участие в работе делегации приглашены представители Главного попечительского совета и его варшавского отделения, а также представители духовенства, городского управления и судебных властей Варшавы. Все они завтра утром придут на информационное совещание в управление пропаганды. Вылет состоится через два дня самолетом. Я ответил, что в этом случае также приму участие в делегации, но поставил условием полную свободу суждения о том, что увижу, как и свободу распоряжения этой информацией. Поскольку я — представитель Польши, я намерен всеми способами делиться с польским обществом всем, что увижу в Козьих Горах, а не сидеть затаясь в своем углу. Грундман принял мои условия.
Выйдя от него, я стал быстро искать встречи как с представителями подпольных организаций, так и теми, кто был назван Грундманом. Я входил в ряды «Лагеря Сражающейся Польши» и был редактором газеты «Нурт» («Течение»). С моим шефом, Юлианом Пясецким, я непосредственного контакта не имел, а связной «Кораль» должен был появиться v меня лишь через несколько дней. Поэтому я пошел другим путем: через живущего по соседству от меня Мариана Бучковского и его связную Марту передал известие о моем разговоре с Грундманом Хуберту, тогдашнему руководителю отдела пропаганды Армии Крайовой по Варшавскому округу.
Хуберт, по словам Мариапа Бучковского, отнесся к моему сообщению пренебрежительно и сказал, что «немцы хотят надуть Гетля». На мою поездку он, однако, согласился, обязав меня по возвращении из Смоленска представить ему отчет.
Кроме того, я связался по телефону с председателем Кульским и Махницким из Главного попечительского совета. Оба они не отрицали, что им было сделано аналогичное предложение, но, подобно Хуберту, проявили некое пренебрежение к этому вопросу и даже, как мне показалось, какое-то опасение перед участием в этой делегации. Их и Хуберта позиция рассердила меня, поскольку одного отвращения перед каким бы то ни было сотрудничеством с немцами в данном случае казалось мне недостаточно. Конечно, я знал, что Катынь станет вопросом мучительным и опасным для каждого, кто к нему прикоснется. Ибо, что бы мы там ни увидели, нас ожидали атаки или со стороны немцев, или со стороны большевиков. Предвкушение этого последнего уже чувствовалось в Варшаве. […]
На аэродроме в Смоленске мы приземлились около полудня. Во второй половине дня в сопровождении немцев мы осмотрели город, вечером нам представили в офицерском казино трех офицеров из отдела пропаганды смоленской армии: двух лейтенантов и одного капитана. Вопрос о Катыни нам изложил Словенчик[110], лейтенант запаса, кажется, журналист по профессии, родом из Вильно. Из двух остальных один представился как скульптор из Инсбрука. К нашему разговору время от времени прислушивался еще какой-то лейтенант со знаками различия «Гехайм полицай»[111]. Думаю, что это был Фосс, о котором я узнал позднее.
Словенчик познакомил нас с «катынским делом» более подробно: показал фотографии леса, трупов, а также найденных при них документов. Показал он и некоторые подлинные документы, уже обеззараженные. Несколько моментов в его рассказе заслуживают внимания. Во-первых, подробности того, как наткнулись на могилы. Упоминания о них дошли до полевой полиции, которая занималась разведкой среди местного населения. Люди, живущие поблизости от Козьих Гор (так называется часть большого Катынского леса, протянувшегося вдоль Днепра по шоссе Смоленск — Витебск), утверждали, что в Козьих Горах, уже давно служивших местом казни и охраняемых НКВД, расстреляно и закопано много тысяч польских офицеров. Могилы их были обнаружены польскими рабочими, служившими в организации «Тодт». Они произвели небольшие раскопки на этой территории и, убедившись, что в могилах закопаны действительно польские офицеры, поставили на этом месте деревянный крест, фотография которого имеется, но сам крест не сохранился, будучи снесен при начале эксгумационных работ. Во всяком случае, он послужил указателем, где следовало начинать раскопки. На наш вопрос, нашли ли этих рабочих, он сказал, что пока не удалось.
Второй момент, гораздо более интересный, это факт, что Словенчик, хотя и был склонен представлять вопрос самым драматическим с точки зрения поляков образом, понятия не имел, откуда здесь появилось столько польских офицеров, и знал от местного населения лишь то, что транспорты с ними прибывали сюда из Смоленска. Поскольку же у него были копии и даже оригиналы разных найденных вместе с трупами писем и карт, он спросил нас, почему на многих страничках писем стоит адрес Козельска. Я коротко рассказал ему тогда то, что знал о Козельске, а также о Старобельске и Осташкове, внимательно наблюдая при этом за его реакцией. Реакция же его оказалась очень живой и полностью убедила меня, что о Козельске Словенчик узнал лишь теперь, от нас. […]
Назавтра утром мы поехали на автомашинах в Козьи Горы. Свернув в лес, мы остановились около огромной раскопанной ямы. Это был длинный ров, выкопанный, по-видимому, во всю длину и глубину могилы, но не охвативший ее в ширину, о чем свидетельствовали торчавшие по бокам рва головы и ноги трупов, еще оставшихся в земле. Срез по всей длине ямы наглядно свидетельствовал о том. что трупы погребались в строгом порядке и укладывались слоями, один на другой, в несколько этажей. Могила была вырыта в холмистой местности, и в ее высоких частях земля была сухой, глинисто-песчаной, нижние же ее части заливали грунтовые воды. Неподалеку начали раскапывать вторую могилу, где пока был виден еще только первый слой трупов. На раскопках обеих могил работали местные жители, русские. Возле могил стоял наспех сколоченный домик, в котором работала эксгумационная группа под руководством доктора Бутца, профессора судебной медицины Вроцлавского университета. Профессор Бутц был в мундире полковника. Работы группы лишь начались. На лесной поляне неподалеку от могилы лежало около двухсот трупов, вынутых из могилы и ожидающих судебно-медицинского вскрытия в том порядке, как были выкопаны. Трупы были пронумерованы и уложены в несколько рядов. Около домика доктора Бутца в разных местах уже лежало около двух десятков трупов, по-видимому, уже обследованных доктором. На ветвях деревьев и кустов висели части военной формы, снятой с трупов. Все вокруг производило впечатление едва только начавшейся и еще не слишком упорядоченной работы. Доктор Бутц попросил нас указать ему любой труп в могиле, который он велит тут же выкопать и чье вскрытие он произведет в нашем присутствии. Мы указали на тела посреди могилы. Вскрытие показало, что череп имеет входное и выходное пулевые отверстия, из распоротого ножом кармана на мундире доктор извлек открытку, адресованную ротмистру, фамилию его я уже не помню. Написана открытка была женой ротмистра и отправлена в Козельск из Гродненского уезда.
Среди разложенных вокруг домика трупов были опознанные уже останки генералов Сморавиньского и Бохатыревича. По моей просьбе доктор Бутц срезал один генеральский погон с мундира Сморавиньского и снял ленточку ордена «Виртути Милитари» с шипели генерала Бохатыревича. Этот погон, орденскую ленточку, несколько пуговиц с мундиров других офицеров и горсть земли из могил я забрал с собой в Варшаву. Реликвии эти я сохранял до самого Варшавского восстания, когда они сгорели вместе с моей квартирой и домом.
Мы обошли всю территорию вокруг и быстро научились распознавать еще не вскрытые могилы. Края их были несколько запавшими, поверхность неровной, к тому же повсюду на них были высажены маленькие сосенки, несомненно специально здесь помещенные. Невысокие ровные ряды этих деревьев выделялись на фоне остального леса, дикого и запущенного, хотя это была и не очень старая еще сосновая роща. Посаженные на могилах сосенки производили впечатление здоровых и пустивших уже крепкие корни кустов, они наверняка росли здесь более года.
От доктора Бутца я получил еще список фамилий тех, чьи трупы он уже успел осмотреть и чью личность идентифицировал. Их было тридцать человек. Список этот я проверил и дополнил еще в Грущенках, на обратном пути.
Во время нашего пребывания в Козьих Горах немецкие корреспонденты транслировали по радио свои комментарии об этом и не раз уговаривали нас выступить по радио с подтверждением того, что преступление, обнаруженное здесь, совершено большевиками. В конце концов, устав от этих упорных приставаний, я сказал в микрофон одну единственную фразу о том, что, по моему мнению, в могилах лежат останки тех военнопленных из Козельска, о которых нет никаких известий с апреля 1940 года.
Перед отъездом я попросил у немцев разрешения остаться возле могил одним, без них, поскольку мы хотим почтить память погибших в своем кругу. Вопрос этот я согласовал с доктором Зэйфридом[112] накануне. Немцы отошли, и доктор Зэйфрид произнес над могилой следующее: «Предлагаю польской делегации минутой молчания почтить память тех, кто погиб за то, чтобы существовала Польша». Эти слова я записал потом в протоколе, направленном в Польский Красный Крест (ПКК), копию которого по моей просьбе послали в управление пропаганды.
Кроме радиокорреспондентов, никто из немцев нас не беспокоил, нам была предоставлена полная свобода действий, и беседы с представителями местного населения происходили без всякого контроля со стороны немцев. Местные жители полностью подтверждали немецкую версию как о том, что Козьи Горы — давно известное место казни, так и о том, что польские офицеры были расстреляны большевиками. Я не принял непосредственного участия в беседах, так как обстоятельства, в которых они происходили, а именно поспешность опроса и нервная атмосфера мешали задавать более точные вопросы и отвечать на них.»[113]
Этот текст избавляет меня от необходимости говорить о взаимоотношениях ПКК с оккупационными властями, а также излагать подробности обнаружения и вскрытия захоронений — описание Гетля в точности соответствует другим источникам.
Интересно, что Словенчик, координатор всех пропагандистских мероприятий в Катыпи, а стало быть, и местные германские власти, не имел ни малейшего понятия об офицерских лагерях в Козельске, Старобельске и Осташкове. Уж не автор ли этого отчета раскрыл немцам глаза? Делегация, в которую входил Гетль, прибыла в Смоленск, напомню, 11 апреля, а утром 13 апреля германское радио оповестило мир о могилах в Катынском лесу. К этому времени немцы располагали более или менее верной цифрой пропавших без вести офицеров: документы же и личные вещи, найденные при трупах, указывали на то, что расстрелянные являются узниками только Козельска.
Не секрет, что верхи рейха сделали все, чтобы извлечь из своего катынского открытия наибольший пропагандистский эффект. А для этого требовалась независимая экспертиза. Сразу же после того, как была собрана первоначальная информация, в Берлине возник замысел пригласить для участия в раскопках Международный комитет Красного Креста.
«13 апреля 1943, Берлин.
Начальник Культурно-политического отдела
Министерства иностранных дел
Ф. А. Сикс
в Бюро министра.
13 апреля в 22.30 заместитель начальника Иностранного департамента Министерства пропаганды Империи министерский советник Грегори, а вскоре после нею и министерский директор Берендт позвонили в Культурно-политический департамент профессору Сиксу и по поручению министра Империи д-ра Геббельса сообщили ему следующее.
В окрестностях Смоленска открыто место, где НКВД производил казни. В расположенных рядами общих могилах было обнаружено 12 000 польских офицеров. Речь при этом идет обо всех польских офицерах, которые попали в руки Советов при занятии ими восточной Польши. Тогда это составило цифру в 12 000 офицеров и 300 000 солдат. Из этих 300 000 солдат 10 000 прибыло в Иран, но без офицеров. Прибывшие в Иран солдаты ничего не знают о месте пребывания их офицеров. Офицеры же эти первоначально были заключены в лагерь для военнопленных в Посбельске.[114] Польские власти поддерживали с ними связь до апреля 1940 года, после чего связь оборвалась. О дальнейшем месте пребывания их мы располагаем сейчас показаниями железнодорожников и жителей городов, которые наблюдали прибытие офицеров. Согласно этим показаниям, офицеров привозили ежедневно большими группами и затем расстреливали. Эксгумация показала, что все офицеры оставались в своем обмундировании и при знаках отличия, были при них также ордена и документы, так что возможно произвести установление личности. К эксгумации были привлечены Польский Красный Крест, делегации польских ученых, врачей, творческих работников и промышленников. Фюрер теперь дал приказ использовать этот случай для пропаганды во всем мире, прибегнув к помощи всех имеющихся в нашем распоряжении средств. 14 апреля д-р Геббельс сообщит об этом прессе и кино, имперский министр просит только, чтобы управление министерства иностранных дел привлекло к участию в эксгумации оставшихся больших могил массового захоронения еще и Международный Красный Крест, настояв, чтобы он прислал для этого свою комиссию. Поскольку работы по эксгумации могил уже продвинулись далеко вперед, а время года не благоприятствует этим работам, следует считаться с тем, что трупы разлагаются. Поэтому необходимо ускорить приглашение Международного Красного Креста.
Прошу дать инструкции.
Подпись: Сикс».[115]
Такое приглашение действительно вскоре последовало. однако свою делегацию в Катынь МККК так и не направил.
15 апреля Московское радио передало «Заявление ТАСС», возложившее вину за катынские расстрелы на немцев, 17 апреля тот же текст (с упоминанием Гнездовского могильника) опубликовала «Правда».[116]17-го же появилось коммюнике Совета министров Польши, которым польское правительство извещало о своем намерении обратиться в Международный Красный Крест; одновременно с обращением к МККК выступил министр обороны Польши генерал Кукель. В 16.30 того же дня князь Станислав Радзивилл, заместитель делегата Польского Красного Креста в Швейцарии, вручил соответствующую ноту представителю МККК Паулю Рюггеру. На этой встрече выяснилось, что накануне, 16 апреля, с аналогичной просьбой к МККК обратился Немецкий Красный Крест. Москва отреагировала на эти события редакционной статьей в «Правде» от 21.4. 1943, озаглавленной «Польские сотрудники Гитлера». Речь шла о кабинете Сикорского в связи с его обращением к МККК. Сикорский и впрямь оказался в сложной ситуации, но ведь не мог же он, в самом деле, оставаться безучастным к сообщениям германской пропаганды. Оказывалось ли на МККК какое-либо давление, неизвестно. Во всяком случае, отозвался он лишь на шестой день, сообщив, что готов содействовать установлению истины при условии, что к нему обратятся все заинтересованные стороны, а значит, и СССР. Такой ответ после правдинской статьи был равнозначен отказу.[117] Сталин понял, что у него развязаны руки. В ночь с 25 на 26 апреля Молотов вручил послу Тадеушу Ромеру ноту о разрыве дипломатических отношений СССР с польским правительством в изгнании.
Так был исчерпан вопрос об участии МККК в эксгумации катынских захоронений. Тогда в Берлине было решено создать специальную международную комиссию экспертов. Одновременно прорабатывался вариант приглашения в Катынь премьер-министра Сикорского.
«14 апреля 1943 года, Берлин.
Бооль Гиммлеру по вопросу
приглашения генерала Сикорского
в Катынь в качестве частного лица.
Совершенно секретно.
Касается: убийства польских офицеров около Смоленска.
Один из живущих заграницей немецких партийных товарищей высказал следующую мысль в связи с пропагандистским использованием массового убийства польских офицеров:
Правительство Империи или министр пропаганды Империи публично сделают правительствам вражеских стран предложение послать врачей-экспертов или судебных врачей, дабы самим убедиться в беспримерной жестокости, проявленной большевиками. Разумеется, при этом должны быть даны гарантии неприкосновенности. Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить господину Сикорскому — также при гарантии безопасности — возможность участвовать в качестве частного лица в идентификации убитых польских офицеров.
Не подлежит сомнению, что правительства вражеских стран не примут этого предложения и не разрешат также поехать господину Сикорскому, который, по всей вероятности, захотел бы это сделать. Полагаю, однако, что пропагандистское воздействие такого предложения на мировое общественное мнение было бы чрезвычайно велико, тем более, что господин Сикорский, несмотря на все его попытки выяснить местопребывание взятых в плен польских офицеров, не получил от Кремля никакого ответа. Кроме того, это принесло бы большую пропагандистскую удачу с точки зрения воздействия на родственников убитых, значительное число которых, несомненно, бежало заграницу: идентификация личности убитых дала бы уверенность в судьбе их близких.
Во всяком случае, не считаю возможным пренебречь изложенными здесь мыслями и не передать их вам.
Подпись: Бооль»
«22 апреля 1943 года,
полевая ставка.
Гиммлер Риббентропу по вопросу
приглашения Сикорского в Катынь.
Касательно Катынского леса — меня не оставляет мысль, что мы можем поставить поляков в ужасное положение, если пригласим через Испанию, дав гарантии неприкосновенности, господина Сикорского и выбранных им лиц прилететь в Катынь, чтобы лично убедиться в фактах.
Это лишь моя идея, которую, возможно, нельзя реализовать. Однако я хотел сообщить тебе о ней.
Подпись: Гиммлер»
«24 апреля 1943 года,
полевая ставка.
Гиммлер Боолю — о передаче
предложения пригласить
Сикорского в Катынь
министру иностранных дел.
Секретно.
Содержание: вопрос об убийстве польских офицеров возле Смоленска.
Сердечно благодарю вас за ваше письмо от 14 апреля 1943 года. Ваша инициатива касательно убийства польских офицеров показалась мне тем более интересной, что я уже передал точно такую же мысль от себя господину министру иностранных дел Империи. Возможно ли осуществить ее, я, разумеется, не знаю.
Подпись: Гиммлер»
«26 апреля 1943 года, Фушль.
Ответ Риббентропа Гиммлеру
по вопросу приглашения
генерала Сикорского в Катынь.
Секретно.
Сердечно благодарю за твое письмо от 22 апреля, в котором ты задаешься мыслью, не должны ли мы пригласить господина Сикорского слетать в Катынь. Должен признать, что эта мысль с точки зрения пропаганды поначалу выглядит соблазнительно. Однако существует принципиальная позиция по вопросу о том, как рассматривать польскую проблему, и позиция эта, исключающая какой бы то ни было контакт с главой польского эмигрантского правительства, настолько важна, что не может не быть принята во внимание даже в случае такой кажущейся ныне соблазнительной пропагандистской акции.
Подпись: Риббентроп»[118]
Пока решался вопрос с приглашением МККК, а затем формировалась международная комиссия, в Катыни приступила к работе техническая комиссия Польского Красного Креста. В феврале 1989 года профессор В. Ковальский обнаружил и опубликовал так называемый «Секретный доклад», подготовленный генеральным секретарем ПК К Казимежем Скаржиньским. Кстати говоря, именно этим материалом начался поток катынских публикаций в польской подцензурной прессе, который не иссяк по сей день.[119] В июне 1945 года документ, существующий в единственном экземпляре, был передан поверенному в делах британского посольства в Варшаве, однако в Лондоне ему был присвоен гриф «совершенно секретно». Предваряя публикацию, профессор Ярема Мацишевский пишет, что свидетельство Скаржиньского позволяет показать и еще раз напомнить гражданскую позицию деятелей ПКК. которые свою трудную и трагическую миссию выполняли с чувством патриотического и гуманного долга. Они не позволили втянуть себя в орбиту немецкой пропаганды, понимая, что если Советский Союз ведет войну с гитлеровской Германией, то независимо от развития событий и собственной точки зрения на события 1940–1941 гг. ни в коей мере нельзя оказать хоть какую-либо услугу немецкой пропаганде. ПКК, сознавая всю ответственность положения, решительно отказался сообщить гитлеровским властям, несмотря на возможные суровые последствия, дату преступления в какой-либо форме.
Доклад содержит следующие основные выводы:
1. Недалеко от Смоленска, в местности Катынь, находятся частично раскопанные массовые могилы польских офицеров.
2. Основываясь на обследовании около 300 извлеченных тел, можно констатировать, что эти офицеры были убиты выстрелами в затылок. Причем одинаковый тип всех этих ран, вне всякого сомнения, свидетельствует о массовой расправе.
3. Убийство не имело целью грабеж, поскольку тела остаются в мундирах, при орденах, в обуви, при них найдено большое количество польских монет и купюр.
4. Исходя из бумаг, найденных там, убийство было совершено в марте-апреле 1940 г.
На основе исследования пуль, извлеченных из тел офицеров, и гильз, найденных в песке, можно утверждать, пишет Скаржиньский, что стреляли из пистолетов калибра 7,65 мм, по-видимому, германского образца.[120] Боясь, чтобы большевики не воспользовались этим обстоятельством, германские власти внимательно следили, чтобы ни одна пуля, ни одна гильза не была спрятана членами комиссии ПКК.
В заключении Скаржиньский подчеркивает самоотверженную работу членов технической комиссии, которые собственноручно извлекали тела из ямы, заполненной водой. «Это яма. которую я сам видел, будучи в Катыни. Ее образовал нижний край одной из семи огромных могил, сходивших террасами к ложбине. Яму заполнила грунтовая вода, и из нее торчали части трупов. Немцы обещали предоставить насосы, и яма оставалась неразработанной вплоть до последних дней работ.[121] И вот господин Водзиновский заметил как-то, что русские рабочие засыпают яму. Он моментально остановил работы, но получил сообщение, что ввиду постоянных советских налетов и объявленной противопожарной готовности армия поставить насосы не может. От рабочих требовать извлекать трупы в таких условиях было нельзя. Тогда пять членов технической комиссии Польского Красного Креста, руководимые господином Водзиновским, вошли в яму и своими руками в течение 17 часов извлекли из воды 46 тел польских офицеров».[122]
С 28 по 30 апреля в Катыни находилась международная комиссия экспертов, на которую нацисты возлагали особые надежды.
Как я уже писал, за прошедшие годы не раз муссировался вопрос о мотивах участия экспертов в катынской комиссии. По-моему, самым достойным образом ответил на обвинения в коллаборационизме профессор Женевского университета Франсуа Навиль. История этого текста такова.
В сентябре 1946 года, когда Нюрнбергский процесс был близок к завершению, член швейцарского Большого Совета от Рабочей партии Винсент обратился в Государственный совет с запросом как «предполагается оценить тот факт, что доктор Навиль, профессор судебной медицины, по просьбе германского правительства дал согласие в апреле 1943 г. быть судебным экспертом в деле о происхождении останков 10 000 польских офицеров, обнаруженных в Катынском лесу под Смоленском». Глава женевского кантонального правительства Альбер Пико ответил на запрос Винсента в письменном виде; этот ответ включал извлечения из отчета профессора Навиля, который тот представил правительству по его просьбе. Навиль, в частности, писал:
«Господин Винсент, кажется, убежден в том, что я получил от немцев значительное вознаграждение. Он может не беспокоиться. Я действительно имел полное право просить вознаграждения за столь сложную и столь ответственную работу, на которую я потратил месяц, проведя после восьмидневного путешествия самые разные исследования. Но вначале я хотел отказаться от этого предложения из моральных соображений. Я не хотел получать деньги ни от поляков, ни от немцев. Не знаю, кто оплатил дорожные расходы нашей экспертной комиссии, но лично я никогда не просил и не получал ни от кою золота, денег, подарков, наград, ценностей либо же каких бы то ни было посулов. Если оказавшаяся между двумя могущественными соседями страна узнает об уничтожении почти 10 000 своих офицеров, военнопленных, вся вина которых была лишь в том, что они защищали родину, если эта страна пытается выяснить, как все произошло, порядочный человек не может принять вознаграждение за то, что выехал на место и попытался приподнять край завесы, которая скрывала, да и теперь скрывает, обстоятельства, при которых совершилась эта акция, вызванная отвратительной трусостью, противная обычаям войны.[123]
Господин Винсент уверяет, что я действовал при постоянном давлении гестапо, которое связало нам руки. Это совершеннейшая неправда. Не знаю, были ли полицейские среди тех, кто принимал и сопровождал нас (врачей и проводников), но могу определенно заявить, что в нашу работу экспертов никто не вмешивался. Я не заметил никаких признаков Давления ни на меня, ни на моих коллег. Мы постоянно имели возможность свободно обсуждать между собой наши проблемы так, чтобы при этом не присутствовали немцы. Не раз я излагал моим собратьям-экспертам и немцам, которые пригласили нас, известные истины, и это принималось довольно искренне. Мои слова, казалось, ошеломляли их. но никто никогда не цеплялся ко мне. Я не скрывал того, что думал о моральной ответственности немцев, которую они несут в этом деле, ибо они начали войну и захватили Польшу — даже если наше заключение и утвердит их невиновность в гибели офицеров.
Два дня и три ночи провели мы в Смоленске, в 50 километрах от линии обороны русских. По Смоленску я ходил чуть ли не так же свободно, как по Берлину, и никто меня не сопровождал, никто за мной не следил. Поскольку двое из нас знали язык, то мы могли несколько раз поговорить с русскими крестьянами и военнопленными. Мы также сотрудничали с Польским Красным Крестом, представители которого работали вместе с нами во время эксгумации, идентифицировали трупы, вели поименный список и ставили в известность ближайших родственников. Мы убедились, что в этом направлении было сделано все возможное.
Мы свободно провели около десяти посмертных обследований тел, извлеченных в нашем присутствии из нижних слоев исследуемых братских могил. Никто не беспокоил нас, когда мы диктовали отчеты об этих обследованиях, не было никакою вмешательства со стороны немецкого медицинского персонала. Мы обследовали поверхностно, но совершенно свободно около сотни трупов, которые были извлечены в нашем присутствии. Я лично нашел в одежде одного из них деревянный портсигар, на котором было выгравировано название «Козельск» (один из трех лагерей, откуда поступили погибшие офицеры), и в форме последнего трупа я нашел спичечный коробок русской фабрики из Орловской области — района, где размещались все три упомянутых лагеря.[124]
Во время судебно-медицинских обследований мы обращали особое внимание на трансформацию жировых отложений кожи и внутренних органов, на разрушение костей, сочленений сухожилий, деформацию и атрофию различных частей тела. а также на иные признаки, по которым возможно установить время смерти.
Особые исследования черепа лейтенанта, проведенные профессором Оршосом из Будапешта, при которых присутствовал и я, выявили такое состояние черепа, которое не допускало гибели его обладателя позднее, чем за три года до того — что согласуется с научными трудами, опубликованными на эту тему.
Мы, эксперты, имели возможность обсуждать между собой все наши находки, равно как и формулировки отчета. После обследования могил и трупов — в четверг и пятницу, 29 и 30 апреля — все эксперты встретились в пятницу вечером, чтобы обсудить и утвердить состав нашего отчета. В этом обсуждении принял участие только медицинский персонал без какого-либо вмешательства со стороны. Несколько человек написали проект заключительного отчета, и он был предложен мне на подпись в субботу, 1 мая, в три часа утра.
Я высказал некоторые замечания и попросил о некоторых поправках и добавлениях, которые были немедленно сделаны. Не знаю, были ли предложения и замечания доктора Маркова из Болгарии приняты так же. как и мои; не помню, говорил ли он что-либо во время общего обсуждения, но я присутствовал при том, как он подписывал отчет 1 мая около полуночи, и могу заверить, что с его стороны не последовало никаких возражений или протестов. Не знаю, было ли оказано на него какое-либо давление властями его страны до поездки в Катынь или в то время, когда он аннулировал свою подпись, будучи обвинен в предательстве и заявив, что действовал под нажимом; но в действительности не было никакого нажима, никакого принуждения во время работы комиссии, членом которой он являлся. Как бы то ни было, но он в нашем присутствии проводил посмертные обследования трупов и вполне свободно диктовал по этому поводу свой отчет, копия которого у меня имеется…
Что касается нас, судебно-медицинских экспертов, так правом и долгом в нашем неблагодарном деле являются изыскания, должные установить истину в спорах, участники которых порой служат разным хозяевам; в этом традиция, в этом гордость, в этом честь нашей профессии, порой чреватой опасностями. Мы обязаны делать свое дело, не поддаваясь давлению, откуда бы оно ни исходило, не обращая внимания на критику и враждебное отношение со стороны тех, кто может оказаться в щекотливом положении благодаря пашей беспристрастности. Нашим девизом всегда должны оставаться слова, украшающие надгробья: «vitam impendere vero».[125]
Альбер Пико заключал свой ответ Винсенту следующими словами.
«Государственный Совет пришел к выводу, что ему не в чем упрекнуть доктора Франсуа Навиля, выдающегося ученого, прекрасного судебно-медицинского эксперта, действовавшего по собственной инициативе и ни разу не поступившегося ни профессиональными правилами поведения, ни понятием чести. Отчет доктора Навиля содержит утверждение, подкрепляющее выводы его первоначального отчета 1943 г. Он имеет право опубликовать его, когда сочтет нужным. Большой Совет не полномочен делать какое бы то ни было заявление по данному вопросу.
С другой стороны. Большой Совет согласен с нами в том, что кропотливый поиск ученым истины согласуется с идеалами науки и моральными устоями нашего государства»[126]
Вскоре после войны двое экспертов отреклись от своих катынских протоколов — это профессор Марков из Болгарии и профессор Хаек, представлявший в комиссии протекторат Богемии и Моравии. Остальные оказались вне пределов досягаемости советских или просоветских властей и могли себе позволить защищать свою честь так, как это сделал Франсуа Навиль. Время от времени, однако, возникают новые свидетельства на эту тему.
В марте 1989 года в белградской газете «Вечерне новости» появилась любопытная информация о бывшем члене международной комиссии профессоре Будапештского университета Оршосе. В интервью газете бывший югославский разведчик Владимир Милованович рассказывает о своем знакомстве с Оршосом в 1947 году в Германии. «Будучи уверенным в том, что имеет дело с закоренелым противником «красных», — говорит Милованович, — доктор Оршос, о котором я уже знал, что он являлся членом международной комиссии, созданной немцами в 1943 году из представителей квислинговских стран, однажды раскрыл мне до конца свою душу». Далее следует монолог Оршоса (закавыченный), суть которого состоит в том, что катынское преступление совершили немцы. Милованович признается, что из «специальных аспектов» мало что понял. Тем не менее тогда же он направил в Белград сообщение о беседе с Оршосом.
Публикация в югославской газете осталась почти незамеченной, а между тем здесь есть важный нюанс. Профессор Оршос был не просто одним из экспертов, приглашенных нацистами; его заключение сыграло важную, если не первостепенную роль в выводах комиссии. Вскользь об этом упоминает в приведенном отчете Франсуа Навиль. Вот что рассказал другой член комиссии к тому времени, вероятно, последний из оставшихся в живых — профессор Пальмьери в январе 1973 года в Неаполе польскому публицисту Густаву Херлинг-Грудзинскому:
«Не было никаких сомнений ни у кого из двенадцати членов нашей комиссии, не было ни одной оговорки. Все решило вскрытие одной черепной коробки, произведенное венгерским профессором Оршосом. На внутренней стенке черепа он обнаружил неосубстанцию, вещество, которое формируется через три года после смерти человека».[127]
Нечто принципиально иное показал Нюрнбергскому Трибуналу профессор Марков из Болгарии, вскоре после войны отрекшийся от своего катынского протокола. В судебном заседании 2 июля 1946 года на вопрос советского обвинителя Смирнова, что означает термин «псевдокаллус», он ответил:
«Под этим явлением профессор Оршос понимал отложение и наслоение нерастворимых солей кальция и других солей во внутренней части черепа, и профессор Оршос утверждал, что, согласно его опыту, в Венгрии такое явление наблюдалось в том случае, если труп находился в земле по меньшей мере три года».
На вопрос, много ли черепов с явлениями так называемого псевдокаллуса было предъявлено членам комиссии, Марков ответил, что сам он псевдокаллуса на единственном исследованном им трупе «не заметил», что касается других экспертов, то и они, по его наблюдениям, псевдокаллус не обнаружили, и им ничего об этом явлении не известно.
Зашла речь о псевдокаллусе и на допросе советского эксперта В. И. Прозоровского.
«СМИРНОВ: Вам известен термин псевдокаллус?
ПРОЗОРОВСКИЙ: В частности, о нем я узнал, когда получил книгу в институте судебной медицины, в библиотеке. Это было в 1945 году…[128]
СМИРНОВ: Говорите медленнее, свидетель.
ПРОЗОРОВСКИЙ: До этого у нас, в частности, в Советском Союзе, ни один судебно-медицинский эксперт таких явлений не наблюдал.
СМИРНОВ: Среди вскрытых 925 черепов много ли было с явлениями псевдокаллуса?
ПРОЗОРОВСКИЙ: Никто из судебно-медицинских экспертов при исследовании этих 925 трупов каких-либо известковых отложений на внутренней поверхности черепа или на каком-либо другом участке головною мозга не обнаружил».
Информацию Миловановича не следует переоценивать, тем более что проверить ее нет никакой возможности. Но и дезавуировать ее сложно. Характерно, впрочем, что появилась она сразу после того, как в Польше был опубликован «Секретный доклад» Казимежа Скаржиньского.
Вернемся к выводам международной комиссии. Вот выдержка из протокола, подписанного всеми 12 ее членами (цитирую по переводу, хранящемуся в архивном фонде ЧГК[129]):
«Причиной смерти всех польских офицеров, извлеченных до сих пор из могил, является без исключения выстрел в голову. Все были убиты выстрелом в затылок, причем это были одиночные выстрелы. Только в редких случаях установлены двойные выстрелы и только в одном случае тройной. Выстрел проходит глубоко в затылок и идет в затылочную кость. Выход по большей части находится близко от линии волос над лбом. Это. по большей части, револьверные пули калибра ниже 8 мм. Трещины на черепе и следы пороха на затылочной кости вблизи входа пули. а также неизменно повторяющаяся локализация выстрела указывает на то, что он производился в упор или в непосредственной близости, причем направление выстрела повсюду одинаково и представляет только немногие небольшие отклонения. Удивительное однообразие ранений и локализация выстрела в очень ограниченной части затылочной кости позволяют заключить, что выстрел производился умелой рукой».
Итог и деятельности комиссии резюмирует в своем письме Риббентропу Леонард Конти — глава здравоохранения рейха:
«3 мая 1943 года, Берлин.
Д-р Л. Конти
министру иностранных дел Империи
о результатах работы
международной комиссии
врачей в Катыни.
С вашего разрешения и по моему приглашению ведущие эксперты судебной медицины европейских стран подвергли экспертизе массовые захоронения в Катыни.
Протокол, единодушно подписанный этими весьма уважаемыми иностранными специалистами, по всем пунктам подтверждает выдвинутые немецкой стороной утверждения.
Сообразно пожеланию этих иностранных ученых, позволяю себе передать вам это и известить вас также о том, что подписавшиеся согласны на использование этого протокола для выявления и обнародования правды компетентными органами немецкой Империи.
Подпись: д-р Л. Конти»[130]
Всего из катынских могил в 1943 году было извлечено 4143 трупа, из них идентифицировано 2815. В последней, восьмой могиле, обнаруженной 1 июня, к моменту прекращения работ оставалось не более 200 тел. При трупах обнаружено 3184 документа, самый поздний из которых датирован 6 мая 1940 года. а также множество личных вещей. Кроме того, в Катынском лесу были найдены и вскрыты многочисленные массовые захоронения советских граждан — жертв НКВД.
Возможна ли была в принципе инсценировка, описанная в «Сообщении» Специальной комиссии?[131] Очевидцы в один голос утверждают, что никаких следов предварительной эксгумации останков они не наблюдали. Трупы были плотно спрессованы между собой, карманы застегнуты, и для того чтобы вынуть документы, их приходилось вспарывать; помимо всего прочего, немцам для своей инсценировки нужно было где-го добыть сотни экземпляров советских газет от марта-апреля 1940 года, так как невероятно, что пленные хранили эти газеты в течение полутора лет.
Разумеется, дико было бы ожидать от Геббельса и его пропагандистской машины объективности. Число погребенных было завышено до 12 тысяч человек (но и в советском «Сообщении» содержится ложная цифра — 11 тысяч). На головы «еврейских палачей НКВД» были низвергнуты потоки громогласной риторики. Но вот любопытная деталь, на которую, кажется, впервые обратил внимание Юзеф Мацкевич: в списке идентифицированных жертв довольно много евреев, хотя это явно противоречит антисемитской версии нацистов. Факт этот, по мнению Мацкевича, свидетельствует о том, что нацисты, при всем своем патологическом антисемитизме, в интересах дела старались не вмешиваться в процесс опознания.
Как я уже сказал, раскопки 1943 года описаны во многих источниках, и все-таки определенный пробел в них налицо: отсутствуют свидетельства советских граждан, а ведь известно, что немцы устраивали специальные «экскурсии» для местных жителей. В моем досье этот эпизод отражен скромно; тем не менее некоторые детали приводимых ниже свидетельств, полагаю, заслуживают внимания.
В. В. Колтурович из Даугавпилса излагает свой разговор с женщиной, которая вместе с односельчанами ходила смотреть вскрытые могилы: «Я ее спросил: «Вера, а что говорили люди между собой, рассматривая могилы?» Рассуждения были таковы: «Нашим халатным разгильдяям так не сделать — слишком аккуратная работа». Рвы были выкопаны идеально под шнур, трупы уложены идеальными штабелями. Аргумент, конечно, двусмысленный, к тому же из вторых рук. Но характерно, что в возможности расстрела поляков органами НКВД местные жители не сомневались.
Несколько иначе картина эксгумации выглядит в рассказе Людмилы Васильевны Васильевой (урожденной Якуненко), ныне живущей в Краснодаре. Она тоже участвовала в одной из «экскурсий» в Катынский лес. По ее словам, поездка была тщательно организована. Перед осмотром выступили три или четыре советских свидетеля. Всего к приезду группы было вскрыто три могилы, еще на одной сделан поперечный разрез с тем, чтобы продемонстрировать корни высаженных на поверхности молодых сосенок — немец-«экскурсовод» объяснил, что деревьям, судя по длине корней, не менее трех лет. На раскопках работали советские военнопленные, стоял невыносимый смрад. На глазах Людмилы Васильевны из могилы извлекли труп генерала, из планшета достали документы, среди которых ей запомнилась фотография красавца-генерала с женой и двумя детьми; врезалось в память имя «Мечислав». Таким образом. Л. В. Васильева присутствовала при эксгумации генерала Мечислава Сморавиньского. Это имя узнать ей было негде. поскольку к моменту нашей встречи ни в каких советских публикациях оно не фигурировало. Впоследствии Людмила Васильевна сражалась в партизанском отряде, видела много крови, сама была не раз ранена, и все же катынские раскопки — самое страшное ее воспоминание о войне.
* * *
Поговорим теперь о комиссии Бурденко. Кстати, полное ее наименование звучит так: «Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров». Как видим, уже в самом ее названии однозначно определены и цель расследования, и преступники. Судебно-медицинскую экспертизу Специальной комиссии возглавлял профессор Прозоровский.
В. И. ПРОЗОРОВСКИЙ
Биографическая справка
Из протокола допроса В. И. Прозоровского от 17 июня 1946 г. (ЦГАОР, ф. 7445, оп. 2, ед, хр. 136, л. 332):
«Прозоровский Виктор Ильич, 1901 г. рождения, русский, уроженец Москвы, несудившийся, имеет сына, образование высшее медицинское (окончил медицинский факультет II Московского государственного университета), профессор судебной медицины, доктор медицинских наук, главный судебно-медицинский эксперт Минздрава СССР, председатель судебно-медицинской комиссии Ученого медицинского совета Минздрава СССР».
Добавлю, что директором ГНИИ судебной медицины Прозоровский стал в 1939-м, а главным судмедэкспертом Минздрава — в 1940 году; после войны к его титулам прибавилось звание «заслуженный деятель науки». В бытность Прозоровского главным судмедэкспертом в Советском Союзе проведена серьезная реорганизация судебно-медицинской экспертизы (эта структура сохраняется и поныне), унифицирована специальная документация. Действовавшие с 1928 года «Правила судебно-медицинского исследования трупов» дополнились при Прозоровском рядом других документов, как то «Инструкция о взятии для судебно-медицинской экспертизы материала для вскрытия умерших от инфекционных заболеваний для последующего бактериологического исследования» (1952), приказ Минздрава СССР № 452 «О врачебной регистрации причин смерти» (1954), циркулярное письмо № 1440 «Об изъятии из трупов образцов крови» (1955), методическое письмо «Об определении роста по костям скелета взрослого человека» (1958) и др.
При Прозоровском же состоялись две принципиальные дискуссии специалистов. Первая возникла в связи с разработкой нового Уголовного кодекса, вступившего в силу в 1960 году. В ходе дискуссии были подвергнуты резкой критике «Правила для составления заключения о тяжести повреждения», изданные еще в 1928 году. Профессор Прозоровский вынес на обсуждение проект новых «правил», однако он так и не был принят. Спорным оказался, в частности, пункт об определении половой зрелости. В конце концов необходимость определения половой зрелости была предусмотрена уголовными законодательствами лишь шести союзных республик, в кодексах же остальных республик указан непосредственно возраст лица, половое сношение с которым является наказуемым. Вторая дискуссия трактовала пределы компетенции экспертов и началась в 1945 году. Дело в том. что уже упоминавшиеся «Правила», утвержденные Наркомюстом и Наркомздравом, вменяли в обязанность эксперту квалифицировать телесные повреждения применительно к статьям Уголовного кодекса. Группа судебных медиков выступила против этого положения, доказывая, что эксперт не имеет юридического права давать заключение о роде насильственной смерти (убийство, самоубийство, несчастный случай). Не сумев примирить коллег, Прозоровский обратился в Министерство юстиции, Верховный суд, Прокуратуру и МВД СССР за разъяснением. В итоге в 1956 г. было опубликовано циркулярное письмо № 306, согласно которому эксперт имеет право давать заключение о роде насильственной смерти «лишь тогда, когда этот вывод вытекает из специальных познаний судебно-медицинского эксперта (теоретической подготовки и практического экспертного опыта) и результатов судебно-медицинского исследования трупа». Дискуссия, однако, на этом не закончилась. (С. Шершавкин. История отечественной судебно-медицинской службы. М., «Медицина», 1968, с. 155–171.) В настоящее время действуют «Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений» (с 1.04.1979), согласно которым эксперт не может определять. является ли повреждение условно или безусловно смертельным, а также решать вопрос о наличии обезображе-ния лица, квалифицировать повреждения как мучения и истязания. устанавливать факт побоев и т. д. В соответствии со статьей 78 УПК РСФСР он должен отказаться от ответов на вопросы, выходящие за пределы его специальных познаний или не входящие в его компетенцию. (Судебно-медицинская экспертиза. М., «Юридическая литература», 1980. с. 11. Ill, 116–118,219.)
Почему я пишу об этом? Да потому, что из пяти выводов акта катынской судмедэкспертизы три не входят в компетенцию экспертов.
Не вдаваясь в излишние подробности, перечислю, на мой взгляд, самые существенные недостатки акта.
Акт подписан пятью экспертами. Эксгумация и исследование трупов производились, согласно акту, с 16 по 23 января 1944 года. В показаниях Нюрнбергскому трибуналу профессор В. И. Прозоровский датирует начало работ в Катынском лесу 14 января. Примем этот последний вариант: в течение 10 дней комиссия исследовала 925 трупов, т. е. каждый член комиссии вскрыл и изучил 185 трупов, или по 18 трупов ежедневно. Представляется маловероятным, что при таких темпах экспертиза была достаточно тщательной. Правда, в акте перечислены имена еще шести военных медиков, участвовавших в работе комиссии, из которых двое являются по специальности судмедэкспертами, а один — патологоанатомом, однако, не будучи членами комиссии, они могли лишь ассистировать, но никак не делать окончательные выводы. Кроме того, один из членов комиссии — профессор судебной химии М. Д. Швайкова, по свидетельству Прозоровского, была приглашена для сулсбно-химической консультации и судебно-химических исследований» и также не могла заниматься вскрытием и исследованием трупов.
Согласно акту, «экспертизой изъят соответствующий материал для последующих микроскопических и химических исследований в лабораторных условиях». Результатов этих исследований в акте нет, опубликованы они не были и суду в Нюрнберге не предъявлялись.
Далее. Собственно говоря, объективные данные вскрытия, зафиксированные актом экспертизы Прозоровского, чуть ли не дословно совпадают с протоколом международной комиссии. Никакого парадокса здесь нет, просто этих данных для окончательного и определенного вывода о дате расстрела было недостаточно. И тут вступали в силу вещественные доказательства, то есть документы, извлеченные из могил. Так вот документы, обнаруженные Прозоровским и его коллегами, абсолютно неубедительны. Всего при 925 трупах обнаружено 9 документов. Из них 2 представляют собой почтовые отправления из Польши, датированные сентябрем 1940 г., — разумеется, они не могут служить доказательством того, что их адресаты были к моменту отправления живы, да к тому же и текст на одном из документов выцвел. 5 квитанций о приеме золотых часов и денег, из них две от декабря 1939 г. (записи о продаже часов Ювелирторгу от марта 1941 г.) и три — от апреля и мая 1941 г., также ни о чем не говорят, ведь они могли быть выписаны задним числом. Бумажная иконка, «датированная» апрелем 1941 г., — вообще не документ, и решиться предъявить его можно было лишь в условиях острой нехватки более веских доказательств. Остается, таким образом, только неотправленная почтовая открытка в Варшаву от 20 июня 1941 года. Итак, 925 трупов и одна открытка. Но дело, собственно говоря, даже не в этом, а в том, что автор огкрыткн ротмистр Станислав Кучинский никогда не был в Козельском лагере: согласно спискам Мощиньского, он содержался в Старобельске, откуда его забрали в декабре 1939 года.[132]
Мало того: на основании этих документов эксперты во главе с Прозоровским делают вывод о том, что «немецко-фашистские власти, предпринявшие в весенне-летнее время 1943 г. обыск трупов, произвели его не тщательно», а на основании отсутствия признаков экспертной деятельности — о том, что «в 1943 г. немцами произведено крайне ничтожное число вскрытии». Откуда же экспертам известно об обысках и вскрытиях, если признаков таковых не обнаружено?
Наконец, Прозоровский применяет для датировки могил еще один способ сравнение с состоянием трупов в других массовых захоронениях близ Смоленска, ссылаясь при этом на собственный же акт. Из чего следует, что, во-первых, трупы поляков погребены опять-таки около двух лет назад, а кроме того, полная идентичность метода расстрела.
Таким образом, катынские расстрелы прямо инкриминированы немцам. Именно этого и не имели права делать эксперты — впрочем, по современным юридическим нормам.
Среди многочисленных советских архивных источников, способных пополнить наши сведения о катынской трагедии, особое место принадлежит рабочим материалам Специальной комиссии. К сожалению, большая часть этих бумаг действующими архивными правилами до сих пор закрыта. Однако отдельные разрозненные документы вполне доступны и не нуждаются в рассекречивании. Их я и предлагаю вниманию читателей. Но сначала — несколько слов о значении этих текстов.
Сегодня уже совершенно очевидно, что «Сообщение» комиссии Бурденко серьезной критики не выдерживает. Некоторые из имеющихся в нем противоречий были исправлены при повторных публикациях. Значительным коррективам версия Бурденко подверглась на Нюрнбергском процессе: тот, кто изучал протоколы предварительных допросов свидетелей обвинения, проведенных в Москве в июне 1946 года. наверняка обратил внимание на множество мелких разночтении по сравнению с показаниями тех же лиц, зафиксированных годом раньше. Любопытно также, что про юколы допросов советских судмедэкспертов написаны рукой самих допрашиваемых. Наконец, уже в ходе судебного заседания советское обвинение дважды, и весьма существенно, отступало от первоначальной формулы (подробнее об этом в следующей главе). Все эти обстоятельства придают специфическую ценность публикуемым ниже текстам. Кроме всего прочего, не исключено, что в служебных документах, не подлежащих широкой огласке, обнаружатся подробности, не попавшие в окончательный текст «Сообщения».
Самый ранний документ — письмо Н. Н. Бурденко на имя В. М. Молотова от 2 сентября 1943 года.
«Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович! Обращаюсь к Вам по следующему обстоятельству: в апреле месяце Вы, как Народный Комиссар Иностранных дел, опубликовали ноту Советского Правительства о разрыве дипломатических отношений с Польским Правительством. В ноте Вы указали на ложное и провокационно возводимое на наши государственные органы обвинение в расстреле нескольких тысяч польских офицеров. Читая сообщение немецкого правительства о расстреле в Катынском лесу польских офицеров и заключение «международной комиссии», я тщательно изучил текст. Несмотря на широковещательное заглавие сообщения — «Виновники, изобличенные судебно-медицинскими экспертами», немцы приводят довольно своеобразную аргументацию о виновности советских органов — это главным образом способ расстрела. Я, в бытность мою в Орле, как член Правительственной Комиссии, раскопал почти 1000 трупов и нашел, что 200 расстрелянных советских граждан имеют те же самые ранения, что и польские офицеры».
В заключение Бурденко выражает надежду, что скоро он будет иметь возможность поехать в окрестности Смоленска, и сообщает, что за время работы в ЧГК им была составлена коллекция из 25 черепов казненных немцами советских граждан и «для установления несомненного тождества ран» он готов, «в случае нужды, предварительно предъявить их представителям наших союзников».[133]
Из письма следует как минимум два вывода. Во-первых, Бурденко начал работу над катынскими материалами задолго до эксгумации. Во-вторых, он априори полагал виновность немцев несомненной.
Следующий документ не имеет ни подписи, ни даты. Озаглавлен он так: «Характеристика черепных ранений трупов, извлеченных из могил Катынского леса». Судя по всему, это одно из первых профессиональных заключений, составленное безусловно после осмотра эксгумированных останков.
«Входные отверстия, — гласит первая фраза, — как правило, располагаются в затылочной кости, над большим затылочным отверстием, большей частью вблизи от средней линии». Указан диаметр отверстий: от 0,6 см до 0,8–0,9 см, причем преобладают отверстия диаметром 0,8 см. Далее констатирован небольшой процент слепых ранений — в этих случаях внутри черепа найдены пули калибр 0,6–0,7 см, а в одном черепе — «неправильных очертаний кусок металла, по-видимому, оболочка разрывной пули». Заканчивается документ следующим сообщением: «В единичных случаях наблюдались повреждения черепа холодным оружием. В этих случаях раны кости имели форму четырехгранных отверстий с ровными краями и были множественными».[134]
Что можно сказать по поводу этого текста? Заключение составлено вполне объективно, причем человеком, не имеющим отношения к армии, — иначе калибр отверстий был бы указан в миллиметрах. Бросается в глаза не отмеченное «Сообщением» наличие колотых ран четырехгранной формы. Такие же раны, но не в черепах, а на телах, были обнаружены Герхардом Бутцем. Суть дела в том. что четырехгранным был советский штык, немецкий же, как известно, плоским. Неудивительно, что советская экспертиза эту деталь предпочла не учитывать.
Еще один документ — письмо Бурденко на имя председателя ЧГК Н. М. Шверника от 21 марта 1944 года. Вот его полный текст:
«Глубокоуважаемый Николай Михайлович! По слухам, кажется, довольно достоверным, полученным мною от военных врачей, в Виннице были массовые убийства, произведенные немцами. Немцы провокационно приписывают эти убийства Советским органам. Хорошо было бы для установления техники умерщвления командировать в Винницу профессора Смирнова Л.И. — патологоанатома Центрального Нейрохирургического Института, — который обрабатывает все черепа. Позволяю Вам это писать потому, что прошедший опыт вскрытия могил не всегда был ценен». На письме имеется резолюция Шверника: «Принять предложение т. Бурденко о командировании в Винницу проф. Смирнова. 23/III».[135]
Самое главное здесь — это, конечно, Винница. Летом 1943 года в Виннице германскими властями были обнаружены и вскрыты массовые захоронения жертв НКВД, по примеру катынской была образована комиссия экспертов, проводилась с участием местных жителей идентификация трупов, материалы расследования публиковались в оккупационной и мировой прессе.[136] Приписать немцам и эти расстрелы не удалось, хотя, как видим, такие попытки предпринимались. Из даты под письмом следует, что Специальная комиссия продолжала функционировать уже после того, как опубликовала свое «Сообщение».
Наконец, письмом от 29 мая 1944 года Бурденко предлагает Швернику «дополнить материалы по катынскому делу подлинными показаниями врачей, участвовавших в немецкой экспертизе». И далее: «Снятие показаний с участников немецкой инсценировки, фамилиями которых мы располагаем, окончательно бы разоблачило гнусную провокацию немецко-фашистских палачей в Катыни»[137]
Итак, работа комиссии продолжалась и в мае 1944 года. Ощущал ли Бурденко неполноценность своего «Сообщения»? Во всяком случае, полагал необходимым дополнить его. Предложением Бурденко воспользовались, как мы знаем, лишь отчасти.
Я уже писал, что деятельность комиссии Бурденко с самого начала была направлена не на оправдание органов НКВД (их непричастность как бы сама собою разумелась), а на обвинение немцев. Так, например, первое, за что ухватился Бурденко, ознакомившись с заключением международной комиссии, — это способ расстрела. В акте советской экспертизы также подчеркнута «полная идентичность метода расстрела польских военнопленных со способом расстрелов мирных советских граждан и советских военнопленных, широко практиковавшимся немецко-фашистскими властями на временно окулированной территории СССР». Но ведь одно не исключает другого. Сегодня нам хорошо известно, что способ этот — выстрел в затылок широко практиковался на территории СССР не только айнзатцкомандами СС, но и НКВД — об этом убедительно свидетельствуют раскопки, например, в Куропатах.[138]
В том, что все это грубый и недостойный фарс, были уже в 1944 году уверены приглашенные в Катынь иностранные корреспонденты. Вот, скажем, как описывает увиденное англичанин Александр Верт в своей в целом весьма доброжелательной книге «Россия в войне 1941–1945»:
«15 января 1944 г. большая группа западных корреспондентов в сопровождении Кэти Гарриман, дочери посла Соединенных Штатов Аверелла Гарримана, отправилась в свое страшное путешествие, чтобы увидеть сотни трупов в польском обмундировании, вырытых в Катынском лесу русскими органами власти. Утверждалось, что здесь было похоронено около 10 тысяч человек, но фактически было отрыто лишь несколько сот «образцов», которые пропитали даже морозный зимний воздух на всю жизнь запоминающимся зловонием. Русская Специальная следственная комиссия, которая была создана для этой цели и руководила всей церемонией, состояла из представителей судебно-медицинской экспертизы, таких, как академик Бурденко, и ряда «видных лиц», само присутствие которых должно было придать всему расследованию респектабельность и авторитетность; среди них были митрополит Московский Николай,[139] знаменитый писатель Алексей Толстой, нарком просвещения Потемкин и другие. Какими знаниями эти «видные лица» обладали, чтобы судить о том, насколько «свежими» или «старыми» являются вырытые трупы, было не совсем ясно. Однако именно этот вопрос и был центральным моментом спора — были ли поляки похоронены русскими весной 1940 г. или немцами в конце лета 1941 г.? Профессор Бурденко в зеленой фуражке пограничника деловито анатомировал трупы и, помахивая куском зловонной печени, нацепленной на кончик его скальпеля, приговаривал: «Посмотрите, какая она свеженькая!»
И далее:
«В общем отправной точкой для русских в ходе всего следствия было то, что всякую мысль, будто поляки могли быть убиты русскими, следовало сразу же исключить: такая мысль сама по себе была оскорбительной и недопустимой, а потому не было никакой необходимости останавливаться на фактах, которые могли бы привести к «оправданию» русских. Самым важным было обвинить немцев, оправдывать же русских было совершенно незачем».
Тем не менее возглавлявшая команду иностранных корреспондентов Кэтлин Гарриман по прибытии в Москву заявила, что убедилась в достоверности советской версии. Надо полагать, у нее были на то особые причины.
В апреле 1990 года мне довелось встретиться еще с одним участником поездки в Катынь — корреспондентом «Санди таймс» Эдмундом Стивенсом. Вот отрывок из его корреспонденции от 29 ноября 1989 года в связи с визитом премьер-министра Польши Тадеуша Мазовецкого в Москву:
«Я занимаюсь катынским делом с февраля 1944 года, с тех пор, когда был включен в состав группы военных корреспондентов, приглашенных туда советским отделом печати. Так как в эту группу попросилась Кэти Гарриман. дочь американского посла, то нам достался роскошный спальный вагон и вагон-ресторан, полный икры и прочих прелестей, которых нам так не хватало во время пребывания в лесу. Нас повезли на автобусах из совершенно разрушенного Смоленска за 15 километров в лес, состоявший в основном из сосновых посадок-трехлеток, высаженных перед немецкой оккупацией, перед тем как Сталин и Гитлер поделили между собой Польшу.
Трупы, которые нам показали, лежали на мерзлой земле, вероятно, на том же месте, где их и расстреляли. На трупах были шинели (это указывало на то, что их расстреляли зимой), и у каждого в затылке было отверстие от пули.
Сопровождал нас Николай Бурденко, выдающийся советский хирург. Его неблагодарной, чтобы не сказать невыполнимой, задачей являлось убедить нас в том. что ответственность за эту расправу несут немцы. Бурденко и его помощников, без сомнения, проинструктировали, но их сообщения казались натянутыми и неубедительными».
В беседе со мной г-н Стивенс сообщил некоторые дополнительные детали. В Москву группа отправилась уже наутро следующего дня. Он не помнит, чтобы журналистам показывали какие-либо документы. Наконец, выступивший на пресс-конференции в Смоленске вице-бургомнстр был, по мнению Стивенса, заранее подготовлен и произносил «зазубренный» текст.
Обратим внимание на два момента. Во-первых, Эдмунд Стивенс уверяет (я его специально переспрашивал), что ни при каких раскопках группа не присутствовала — трупы уже лежали на земле. Дело, напомню, было в январе, причем иностранцев, по словам Стивенса, предупредили, что для поездки надо тепло одеться. Не могу понять, каким образом в лютый мороз экспертам удалось извлечь трупы из могил, не повредив их. И второе: шинели. Факт наличия на трупах зимней формы очень удивил корреспондентов, ведь им объяснили, что поляки расстреляны в августе-сентябре, а в это время года шинели еще явно не нужны, и наоборот: в марте-апреле в средней полосе России, как правило, холодно. Недоуменные вопросы иностранцев привели в замешательство советских официальных лиц. В результате Прозоровский записал в своем акте, что расстрелы совершены «между сентябрем-декабрем», менять же показания свидетелей было уже, по-видимому, поздно — в этих текстах так и остались август и сентябрь.
* * *
В потоке писем, полученных мною после моих публикаций о Катыни, есть и касающиеся комиссии Бурденко. Вот, к примеру, письмо Веры Андреевны Звездаевой из Смоленска. Она сообщает, что ее отец Андрей Максимович Козловский наблюдал в 1944 году работу советских экспертов и, среди прочего, обратил внимание на важную деталь: «Семья прожила в оккупации с 1941 года до дня освобождения, так что немецкие порядки изучила достаточно хорошо. Так вот, отец рассказывал, что когда были извлечены трупы польских офицеров, то у всех сохранились у кого золотые зубы, у кого перстни, кольца. Немцы же никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляли золота во всех его видах у расстрелянных». Этот факт отмечен и в заключении комиссии экспертов и в отчете профессора Бутца. В «Сообщении» же Специальной комиссии какие-либо упоминания изделий из драгоценных металлов отсутствуют.
Еще одно свидетельство. Эксперт-криминалист Георгий Иванович Рыбников, бывший сотрудник Института криминалистики МВД СССР, пишет, что летом 1947 года к нему обращался за консультацией член Специальной комиссии П. С. Семеновский. Он показал Георгию Ивановичу два десятка стреляных гильз и попросил определить марку оружия. Рыбников установил, что все гильзы стреляны из «шмайссера» образца 1939–1940 гг., а одна-из «парабеллума». Гильзы. как припоминает Георгий Иванович, были ржавые, с налипшей свежей землей и жухлыми листочками. Разумеется. сам по себе этот факт еще ни о чем не говорит, гильзы могли быть извлечены совсем из другого захоронения. Известно также, что никаких гильз комиссия Бурденко в Катыни не нашла. Однако известно и другое: после войны катынские могилы вскрывались еще раз. Что касается эксперта П. С. Семеновского, то он, как выяснилось недавно, профессиональной добросовестностью отнюдь не отличался. Не кто иной, как Семеновский дал судебно-медицинское заключение по знаменитому сенсационному делу Семенчука-Старцева, сфальсифицированному Вышинским и Шейниным. Автор публикаций на эту тему доктор юридических наук Александр Ларин пишет: «Не исследуя трупа, по материалам дела давал свое заключение доктор Семеновский. Я его знал лично. Вышинский не случайно выбрал именно его в эксперты. Это был посредственный профессионал, но очень сговорчивый и послушный человек. Вышинский манипулировал им, как хотел. В своем рвении и желании оправдать доверие Вышинского Семеновский ухитрился даже в акте экспертизы давать чисто юридические заключения: констатировать преднамеренность, умысел и т. п.» .[140]
Прочитав насквозь «Сборник сообщений ЧГК о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков», я нигде не обнаружил в числе экспертов фамилии Семеновского. Единственное исключение — Смоленск. Так откуда же все-таки были извлечены гильзы, предъявлявшиеся Г. И. Рыбникову в 1947 году?
И последнее. Огромный архивный фонд ЧГК, в рамках которой трудилась комиссия Бурденко, содержит небольшой, но красноречивый документ, как нельзя лучше иллюстрирующий стиль работы этого государственного учреждения. В письме от 18 августа 1944 года на имя секретаря ЧГК П. И. Богоявленского член ЧГК профессор И. П. Трайнин выражает свое крайнее недоумение тем фактом, что проект сообщения «О злодеяниях финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР» прислан ему вечером накануне дня публикации, так что никакие поправки были уже невозможны.[141]
Глава 5. НЮРНБЕРГСКИЙ ВАРИАНТ
Важнейший эпизод «катынского дела» — Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Именно в Нюрнберге сталинская версия обнаружила свою полную юридическую несостоятельность. На Нюрнберге следует остановиться еще и потому, что исследователи катынской проблемы до сих пор допускают отдельные неточности в изложении хода судебного следствия. Так, например, Чеслав Мадайчик в книге «Катынская драма» пишет, что на процессе профессор Базилевский «повторил показания, данные им советской Специальной комиссии».[142] Это, как мы сейчас убедимся, не совсем так. Более грубую ошибку допускает автор редакционною вреза к известному материалу Н. С. Лебедевой в «Московских новостях» or 25 марта 1990 года. «…взаимоисключающие версии, — сказано в этом тексте, — прозвучат и на Нюрнбергском процессе. Окончательных убедительных доказательств не представит ни одна из сторон». Но дело в том, что никакой своей версии защита в Нюрнберге суду не представляла: ее целью было опровергнуть версию обвинения и. только. Любая попытка представить контрверсию была бы блокирована в зародыше, поскольку обвинения в адрес СССР явно противоречили статусу Международного военного трибунала (МВТ).
Поначалу, впрочем, советское обвинение до такой степени не сомневалось в благополучном итоге судебного следствия по Катыни, что перед самой публикацией обвинительного акта внесло в него серьезнейшую поправку: число жертв было произвольно увеличено с 925 до 11 тысяч человек.[143]925 — число трупов, эксгумированных комиссией Бурденко. 11 тысяч — окончательная цифра пропавших без вести польских военнопленных. Советское руководство стремилось легитимировать свою версию и тем самым навсегда закрыть вопрос о виновниках катынских расстрелов, равно как и о дальнейшей судьбе всех пленных поляков. Оказалось, однако, что задача эта трудновыполнима.
Мне уже приходилось писать о «белых пятнах» Нюрнберга.[144] В полемику со мной вступили П. И. Гришаев и Б. А. Соловов — бывшие сотрудники МГБ СССР, выполнявшие на процессе свои специфические функции. В числе прочего они обвинили меня в оскорблении памяти покойных и чести ныне здравствующих представителей советского обвинения. Позволительно спросить: расценивают ли они как оскорбление памяти бывшего председателя Верховного суда СССР Л. Н. Смирнова многочисленные публикации о процессе Синявского — Даниэля, на котором он председательствовал? Быть может, они полагают оскорблением памяти Р. А. Руденко опубликованные в последнее время материалы о противоправном изгнании из страны А. И. Солженицына, ссылке А. Д. Сахарова, разнообразных репрессалиях против правозащитников и инакомыслящих? Ведь все это имело место в бытность Руденко Генеральным прокурором СССР, а занимал он этот пост, страшно сказать, с 1953 по 1981 год. Нет, пожалуй, в данном случае уместно поставить еще более резкий вопрос: желают ли преподаватели и студенты Свердловского юридического института, чтобы их учебное заведение продолжало и впредь носить имя Руденко, не является ли этот факт оскорблением памяти тех, кто подвергся преследованиям по политическим мотивам при непосредственном участии Руденко, оскорблением самой идеи правового государства?
«Получается, — пишут ветераны МГБ, — что советские обвинители прибыли в Нюрнберг не с единственной целью — достойно представлять СССР в Международном военном трибунале и приложить максимум усилий к тому, чтобы главным немецким военным преступникам был вынесен основанный на доказательствах справедливый приговор, а с какой-то другой, темной целью…»
Тема неприятная, но уж коль скоро Гришаев и Соловов затронули ее, позволю себе объясниться.
Разумеется, целью советских обвинителей было достойно представлять СССР, но дело в том, что многолетняя практика участия в организации массовых репрессий, противозаконные методы советского следствия и судопроизводства не могли не сказаться на качестве их представительства. Люди эти давно забыли, что такое настоящий состязательный процесс, беспристрастность суда, судебное следствие. У советских обвинителей была принципиально иная концепция суда над главными немецкими военными преступниками, нежели у их западных коллег. Они полагали, что процесс сведется к произнесению эффектных обвинительных речей — это они делать действительно умели, чувствуется школа их шефа Вышинского, — и никак не рассчитывали столкнуться с изощренной и высокопрофессиональной защитой. Вот причина, по которой в Советском Союзе вопреки решению МВТ до сих пор не опубликован полный корпус нюрнбергских материалов.
Предвижу, что многих читателей мое суждение шокирует. Возможно, мне даже инкриминируют попытку поставить под сомнение приговор МВТ. Это, конечно, вздор. Речь о другом — дочитав эту главу до конца, читатель, надеюсь, поймет меня. Но для начала — еще несколько предварительных замечаний.
В документах, которые я процитирую ниже, как нельзя лучше выражена атмосфера, в которой работала советская делегация в Нюрнберге. Мало кому сегодня известно (да и в те дни знали немногие), что помимо официальной советской делегации в работе Международного военного трибунала непосредственно участвовал орган, в разных источниках именуемый по-разному: то «правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу», то «правительственная комиссия по организации суда в Нюрнберге», а то и «комиссия по руководству Нюрнбергским процессом». Возглавлял ее Андрей Януарьевич Вышинский, в то время — заместитель министра иностранных дел СССР.
Правительственная комиссия, не в пример многим нынешним ведомствам, не только принимала решения, но и строго взыскивала с невыполнивших или выполнивших неудовлетворительно ее указания. И немудрено: в ее состав входили наряду с прокурором СССР К. П. Горшениным, министром юстиции И. Т. Голяковым. председателем Верховного суда Н. М. Рычковым и такие одиозные фигуры, как Б. З. Кобулов, В. Н. Меркулов, B. C. Абакумов. Ясно, что у них были свои методы ведения следствия. Протокол от 16 ноября зафиксировал такой, например, диалог:
«ВЫШИНСКИЙ…До сих пор у т. Руденко нет плана проведения процесса. Руденко не готов к проведению процесса. (Процесс начался 20 ноября. — В.А.) Вступительную речь, которую мы с вами выработали, я послал в ЦК.
КОБУЛОВ. Наши люди, которые сейчас находятся в Нюрнберге, сообщают нам о поведении обвиняемых на допросах (читает записку). Геринг, Йодль, Кейтель и другие вызывающе держат себя при допросах. В их ответах часто слышатся антисоветские выпады, а наш следователь т. Александров слабо парирует их. Обвиняемым удается прикинуться простыми чиновниками и исполнителями воли верховного командования. При допросе англичанами Редера последний заявил, что русские хотели его завербовать, что он давал показания под нажимом. Это его заявление было записано на пленку.
ВЫШИНСКИЙ. Прокурор должен, где это надо. срезать обвиняемого, не давать ему возможности делать антисоветские выпады».[145]
«Наши люди» — это как раз Гришаев и Соловов. И не только они.
Чем же закончился инцидент с Александровым? Как он оправдывался? Может быть, объяснил попустительство врагам тактическими соображениями — мол, пускай расслабятся и наговорят побольше? Резонно возразил, что трудно все-таки ожидать от Геринга просоветских высказываний? Ни то ни другое. Вот его объяснительная записка Горшенину:
«1. На всех допросах, кроме меня, присутствовали полковник юстиции Розенблит и, как правило, полковник юстиции Покровский.
2. Никаких выпадов против СССР и лично против меня ни со стороны допрошенных обвиняемых, ни со стороны допрошенных свидетелей сделано не было.
3. Случай, о котором Вам было сообщено, как о случае, будто бы имевшем место со мной, в действительности имел место в моем присутствии во время допроса 28 октября с.г. американским подполковником Хинкелем обвиняемого Франка. По окончании допроса Франк действительно обозвал Хинкеля свиньей. (…)
Докладывая об изложенном, я считаю, что в данном случае правительственные органы были дезинформированы о действительной обстановке, в которой протекали допросы обвиняемых.
Я прошу назначить специальное расследование для установления виновных в подобной дезинформации и привлечь их к строгой ответственности. Вместе с тем я прошу пресечь различного рода кривотолки в связи с производившимися допросами обвиняемых, так как все это создает нездоровую обстановку и мешает дальнейшей работе».
И Александрова оставили в покое.
Однако вернемся к «катынскому делу». Мы остановились на том, что советское обвинение исправило в обвинительном заключении цифру 925 на 11 тысяч. Сделано это было неосторожно, привело к нежелательной огласке. Именно отсюда и начались все неприятности с Катынью.
Обратимся к книге одного из участников процесса Марка Рагинского «Нюрнберг: перед судом истории». На странице 22 читаем:
«…вопреки Уставу[146] трибунал не принял протокола допроса Паулюса, произведенного в Москве в январе 1946 года. и вызвал по ходатайству адвокатов в качестве свидетелей военных преступников, показания которых якобы могли опровергнуть акт расследования Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях гитлеровцев в Катыни».
Там же, страница 49:
«Фрэнсис Биддл[147]6 апреля 1946 года на организационном заседании трибунала не только поддержал незаконные домогательства защитника Геринга о вызове подобранных им свидетелей, которые якобы могли опровергнуть акт советской Комиссии, но и пустился в пространные рассуждения, превратно толкуя ст. 21 Устава в пользу нацистских преступников».
Там же, страница 92:
«Франк всячески пытался отгораживаться и от Катыни, однако Международному трибуналу были представлены бесспорные доказательства преступления нацистов в Катынском лесу (вблизи Смоленска), где осенью 1941 года гитлеровские оккупационные власти произвели массовые расстрелы польских военнопленных».
Цитаты эти нуждаются в комментариях.
Статья 21 Устава МВТ гласит: «Трибунал не будет требовать доказательств общеизвестных фактов и будет считать их доказанными. Трибунал также будет принимать без доказательств официальные правительственные документы и доклады Объединенных Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования военных преступлений, протоколы и приговоры военных или других трибуналов каждой из Объединенных Наций». В феврале 1946 года заместителем главного обвинителя от СССР полковником Ю. В. Покровским суду был представлен акт советской Специальной комиссии по Катыни, не нуждающийся, согласно статье 21, в дополнительных подтверждениях.
В свою очередь, защитник подсудимого Геринга Отто Штамер подал ходатайство о вызове в суд свидетелей-немцев, а также дополнительное ходатайство о вызове профессора Женевского университета Франсуа Навиля, намереваясь с помощью их показаний опровергнуть обвинение по Катыни.
По-видимому, советское обвинение было абсолютно уверено в негативном ответе на ходатайство Штамера, потому и не предпринимало никаких демаршей вплоть до 12 марта 1946 года, когда ходатайство, невзирая на энергичный протест Покровского, было-таки удовлетворено.
Обратимся к протоколу соответствующего организационного заседания МВТ.
Председатель Трибунала лорд-судья Джеффри Лоренс оглашает ходатайство Штамера, затем заявление Покровского на имя Трибунала. Смысл его сводится к тому, что «принципиально неправильной была бы проверка бесспорных доказательств с помощью доказательств спорных, какими являются показания лиц, перечисленных в ходатайстве д-ра Штамера». Нет необходимости, по мнению Покровского, и в вызове профессора Навиля, «принимавшего участие, сознательно или бессознательно, в гитлеровской мистификации относительно Катыни», поскольку «время расстрела, произведенного гитлеровцами в Катыни, уже совершенно точно установлено авторитетной экспертизой». К тому же и местонахождение свидетелей защиты неизвестно, так что «практически вызов явился бы беспредметным». (По предположению Штамера, четверо из шести свидетелей находились в плену, причем двое — в советском.)[148]
Начинается обсуждение вопроса. Судья Никитченко, ссылаясь на статью 21, предлагает отклонить ходатайство Штамера. Лоренс возражает: из текста статьи 21 вовсе не следует, что указанные в нем документы являются неопровержимыми [149] доказательствами. «Конечно, — говорит он, — рассмотрение контрдокументов займет время, но из этого не следует, что защита не может попытаться (а я сомневаюсь, что это ей удастся) доказать, что факт, сообщенный Правительственной комиссией, неправилен. Мы не можем препятствовать в этом защите, на это у нас не имеется оснований». Его поддерживает судья Биддл: «В правительственные документы включают и показания отдельных лиц, например, солдат-очевидцев. Неправильно толкование статьи 21, при котором другим лицам не разрешается опровергать этот документ. Впоследствии мы сможем сказать, что внушительный доклад советской Комиссии не позволяет считать убедительными показания швейцарского профессора». (Нетрудно заметить, что Лоренс и Биддл уговаривают Никитченко, дают ему понять, что будут отдавать предпочтение все-таки советскому документу.) Французский судья де Вабр присоединяется к мнению своих коллег. Никитченко высказывает другой довод: «В том случае, когда речь идет об общеизвестных исторических фактах, Трибунал принимает их без доказательства, признает их доказанными». Де Вабру приходит в голову, что русский текст статьи 21, возможно, не соответствует английскому, однако Лоренс и Биддл заявляют, что русский текст совпадает с английским. «Обвинение могло и не касаться вопроса о расстреле в Катынском лесу, — замечает судья Паркер. — Если мы запретим подсудимым прибегнуть к помощи свидетелей, следовательно, мы не предоставим им права на защиту». Де Вабр полагает, что отклонение ходатайства «не соответствовало бы положениям международного права и вызвало бы неблагоприятную реакцию у общественного мнения». На это судья Волчков возражает, что «ни одна судебная инстанция не может оспаривать документы другой инстанции. Именно это находится в соответствии с международным правом». (Здесь, конечно, явная передержка: комиссия Бурденко — не судебная инстанция.) Затем следует еще более изумительный аргумент Волчкова: «Акт суверенного государства не может быть опровергнут 2–3 свидетельскими показаниями». Биддл предлагает голосовать. Никитченко заявляет, что он не может участвовать в голосовании, так как вопрос об изменении Устава не подлежит компетенции Трибунала. Биддл говорит, что в данном случае речь идет не об изменении, а о толковании Устава. Лоренс поддерживает Биддла. Никитченко стоит на своем. Биддл, которому надоела эта изнурительная и бесплодная дискуссия, снова предлагает голосовать (ясно, что советский судья в меньшинстве). Тогда Никитченко (ему это тоже ясно) говорит, что до вопроса о ходатайстве следует разрешить принципиальный вопрос о статье 21. «Если будут различные мнения по этому вопросу, — говорит он, — я не смогу участвовать в решении по ходатайству. Если же согласимся. то, руководствуясь статьей 21, примем решение в отношении ходатайства». То есть Никитченко соглашается участвовать в голосовании лишь в том случае, если отказ будет гарантирован. Дискуссия продолжается. Новых аргументов ни у кого нет, повторяют прежние. Судья Виддл в третий раз предлагает голосовать. Трое за, Никитченко отказался от голосования. В протокол заносится его особое мнение. Заседание закрыто.[150]
Решение Трибунала явилось полнейшей неожиданностью для советской делегации. В резком письме на имя Трибунала от 18 марта генерал-лейтенант Руденко писал:
«Этот вопрос имеет большое принципиальное значение для всего процесса, а решение Трибунала от 12 марта составляет крайне опасный прецедент, т. к. оно дает защите возможность бесконечно затягивать процесс путем попыток опровергнуть доказательства, считающиеся, согласно статье 21, бесспорными. Независимо от изложенного принципиального положения, имеющего для данного вопроса основное и решающее значение, нельзя обойти молчанием и тот факт. что Трибунал считал возможным вызвать в качестве свидетелей таких лиц. как Аренс, Рекст, Хотт и др., которые, как видно из представленного Трибуналу сообщения, являются непосредственными исполнителями злодеяний, совершенных немцами в Катыни, и, согласно декларации глав трех правительств от 1.11.1943 г., должны быть судимы за свои преступления судом той страны, на территории которой эти преступления были совершены».
6 апреля суд вернулся к вопросу о ходатайстве Штамера, однако оставил свое первоначальное решение в силе. Точку зрения своих коллег подробно разъяснил судья Биддл («пустился в пространные рассуждения, превратно толкуя» — М. Рагинский).
Между тем комиссия Вышинского приступила к подготовке свидетелей обвинения. Читаем протокол от 21 марта:
«1. Подготовить болгарских свидетелей, для чего командировать в Болгарию нашего представителя. Исполняет т. Абакумов.
2. Подготовить три-пять наших свидетелей и двух медицинских экспертов (Прозоровский, Семеновский, Смольянинов). Исполняет т. Меркулов.
3. Подготовить польских свидетелей и их показания. Исполняет тов. Горшенин (через т. Сафонова с т. Савицким).
4. Приготовить подлинные документы, найденные при трупах, а также протоколы медицинского обследования этих трупов. Исполняет тов. Меркулов.
5. Подготовить документальный фильм о Катыни. Исполняет тов. Вышинский.
6. Тов. Меркулов подготовит свидетеля-немца, который был участником провокации в Катыни».
Опять Абакумов, Меркулов, Вышинский! Что означает на их языке подготовить свидетелей, надеюсь, объяснять не надо.
Свидетели, давшие наиболее существенные показания комиссии Бурденко, были немедля вызваны в Москву. Здесь в июне 1946 года с ними работал помощник главного обвинителя Л. Н. Смирнов, который и вел затем «катынское дело» в судебном заседании. Он допросил, в частности, Б. В. Базилевского, А. М. Алексееву, С. В. Иванова, И. В. Савватеева, П. Ф. Сухачева, а также судмедэкспертов В. И. Прозоровского и В. М. Смольянинова: собственноручные письменные показания дал болгарский эксперт Марков. Взглянув на протокол заседания комиссии Вышинского от 11 июня, обнаружим, что он содержит список из восьми имен, причем исполнителям — Райхману[151] и Шейнину — предписано на следующий же день отправить свидетелей в Нюрнберг. Перед судом, однако, предстало лишь трое. Когда совершился окончательный отбор? Кем? Неизвестно. Подробность эта, полагаю, говорит об участии в подготовке катынских материалов лиц, еще более высокопоставленных, чем Вышинский. Такими лицами могли быть только Сталин, Молотов и Берия.
Тем временем в Нюрнберге Никитченко еще раз вернулся к вопросу о катынских свидетелях: на закрытом заседании от 19 июня он предложил, «чтобы доказательства по катынскому делу были представлены в письменной форме, без вызова свидетелей в суд». Но и это предложение Трибунал в конце концов отклонил. Единственное, чего удалось добиться обвинению — это решение МВТ заслушать от каждой из сторон не более трех свидетелей. Этими тремя стали Базилевский, Марков и Прозоровский. Выбор этот никак нельзя назвать удачным. Лишь Виктор Прозоровский, главный судмедэксперт Минздрава СССР, обладал известной респектабельностью, но ведь он возглавлял судебно-медицинскую экспертизу советской Специальной комиссии, следовательно, не мог проявить полную беспристрастность.
В качестве дополнительных документов обвинение представило суду протоколы допросов тех свидетелей, кто не попал в Нюрнберг.
Сравнивая текст «Сообщения» Специальной комиссии с протоколами допросов, проведенных Смирновым в июне 1946 года, легко обнаружить, что показания свидетелей отредактированы. Скажем, допрошенный комиссией бывший начальник «лагеря № 1-ОН»[152] майор госбезопасности В. М. Ветошников показал: «Я обратился к нач. движения Смоленского участка Западной ж.д. т. Иванову с просьбой обеспечить лагерь вагонами для вывоза военнопленных поляков». («Сборник сообщений ЧГК о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков». М., 1946, с. 104.) В протоколе же допроса С. В. Иванова от 1946 г. никакого Ветошникова нет, а сказано, что к нему явился военный в звании капитана, представившийся начальником лагеря. Но дело в том, что общевойскового капитана никак невозможно перепутать с майором госбезопасности. Вывод таков: советское обвинение стремилось исключить из показаний свидетелей какие бы то ни было упоминания о том, что лагеря находились в ведении НКВД. Бросается в глаза и тот факт, что протокол допроса Алексеевой написан, как и полагается, рукой Смирнова, а экспертов Прозоровского и Смольяпинова — их собственной. (В довершение казуса на каждой странице стоит их подпись-заверка.)
Еще один документ, представленный обвинением — протокол допроса военнопленного Людвига Шнайдера от 19 июня 1946 г. Обер-ефрейтор Шнайдер, по профессии химик, работал в лаборатории профессора Бутца, когда тот зксгумировал катынские захоронения. В своих показаниях он упоминает два случая фальсификации результатов лабораторных анализов. В первом случае Шнайдеру было поручено определить процентное содержание закиси железа на лезвии извлеченного из могилы ножа — оно оказалось несколько более 23 процентов, однако Бутц, по словам Шнайдера, «своей рукой исправил цифру, увеличив ее в три раза». Во втором случае Бутц приказал лаборанту Мюллеру подвергнуть кусок мундирной ткани тепловому воздействию до 80 °C и обработке хлористым кальцием; Шнайдеру об этом известно из рассказа Мюллера.
Наконец, был подготовлен (по-видимому, Абакумовым) еще один странный документ, юридическую значимость которого следует признать ничтожной. Это протокол допроса гражданина Нидерландов Франца Йозефа Фердинанда Херверса. В свое время он слышал разговор двух эсэсовцев, из которого следует, что катынские расстрелы — дело рук немцев. Дата допроса Херверса — 2 мая, однако в Нюрнберг протокол попал, как явствует из сопроводительных писем, лишь в самом конце июля, когда судебное следствие по Катыни уже закончилось.
Имелся в распоряжении Смирнова и бесспорный козырь, по о нем позже.
Как обстояли дела у Отто Штамера?
Согласно «Сообщению» советской Специальной комиссии, расстрелы польских военнопленных производило «немецкое военное учреждение, скрывавшееся под условным наименованием «штаб 537-го строительного батальона», во главе которого стояли оберст-лейтенант Арнес и его сотрудники — обер-лейтенант Рекс, лейтенант Хотт». Выяснилось, что штаб подразделения под таким номером действительно располагался в Катынском лесу. на бывшей даче Смоленского УНКВД, правда, командовал им не оберст-лейтенант (т. е. подполковник) Арнес, а полковник Аренс. (Имена и наименование воинской части записаны Специальной комиссией со слов свидетеля А. М. Алексеевой, работавшей в штабе.) Полковник Фридрих Аренс значился первым в списке Штамера. Видимо, именно его присутствие в Нюрнберге заставило советское обвинение воздержаться от вызова Алексеевой: ведь она показывала, что экзекуция совершалась в августе-сентябре 1941 года, а Аренс принял полк лишь во второй половине ноября от полковника Беденка. Рекса найти не удалось, Хотта нашли, но поздно. Оставались непосредственный начальник Аренса генерал-лейтенант Оберхойзер[153] и профессор Навиль. Помогла Штамеру чистая случайность: 7 марта в контору мюнхенского нотариуса Ганса Нобиса явился некто Рейнхарт фон Эйхборн: он заявил, что прочел в «Зюддойче Цайтунг» от 19 февраля речь советского обвинителя (Покровского) и желает дать показания по «катынскому делу». В нотариально заверенном аффидевите Эйхборн свидетельствовал: в районе Катынского леса осенью 1941 года стоял штаб не 537-го строительного батальона, как сказано в акте советской комиссии, а штаб 537-го полка связи; полк «не получал никаких приказов о проведении каких-либо мероприятий такого характера, о котором говорил Обвинитель»: «произвольные мероприятия такого рода со стороны полка немыслимы»; экипировка полка исключает его участие в подобных экзекуциях. В заключение фон Эйхборн ссылался на начальника разведотдела штаба армий «Центр» генерал-майора Рудольфа Кристофа фон Герсдорффа, который может подтвердить его показания. Фон Герсдорфф действительно полностью подтвердил слова Эйхборна. Его показания были представлены суду. Эйхборн был вызван в Нюрнберг для перекрестного допроса. А затем Трибунал решил ограничиться тремя свидетелями от каждой из сторон. И Штамер отказался от услуг профессора Навиля.
Заметим, что защита представила окончательный список свидетелей за несколько недель до судебного заседания, обвинение же держало свой список в секрете, и огласил его Руденко лишь в самый день суда, и то по настоянию защиты.
1 июля 1946 года. К свидетельскому пульту приглашается Фридрих Аренс.
«Вскоре после моего прибытия. — рассказывает он, — один из солдат обратил мое внимание на то, что в одном месте на холмике стоит березовый крест. В это время все было занесено снегом, но я сам видел этот березовый крест. После этого в 1942 году я постоянно слышал от своих солдат, что здесь, в нашем лесу, якобы когда-то происходили расстрелы. (…) Я чисто случайно установил, что здесь действительно находится какое-то место захоронения. Обнаружил я это зимой 1943 года, в январе или феврале. Дело было так: я случайно увидел в этом лесу волка. Сначала я не поверил, что это действительно мог быть волк, пошел по его следам вместе с одним знающим человеком и увидел разрытую могилу на этом холме с березовым крестом. (…) Врачи сказали, что это кости человека».
«ШТАМЕР. Здесь утверждалось, что из Берлина якобы прибыл приказ расстрелять польских военнопленных. Знали ли вы что-либо о таком приказе?
АРЕНС. Heт, я никогда ничего не слышал о таком приказе.
ШТАМЕР. Может быть, вы получали подобный приказ от какой-либо другой инстанции?
АРЕНС. Я только что сказал, что о такого рода приказе я никогда ничего не слышал. Следовательно, я его и не получал.
ШТАМЕР. Были ли расстреляны поляки по вашему указанию, но вашему непосредственному указанию?
АРЕНС. По моему указанию не было расстреляно никаких поляков. Вообще никто не был расстрелян по моему указанию. За всю мою жизнь я не издавал таких приказов.
ШТАМЕР. Но ведь вы прибыли только в ноябре 1941 года. Слышали ли вы что-либо о том, что ваш предшественник полковник Беденк приказал провести такую акцию?
АРЕНС. Я ничего не слышал об этом. Я со своим штабом полка работал в самом тесном контакте в течение 21 месяца. Мы были так внутренне связаны — я хорошо знал своих людей, а они знали меня, что я абсолютно убежден, что ни мой предшественник, ни вообще кто-либо из моего полка не участвовал в подобном деле. Я непременно хотя бы по каким-либо намекам узнал бы об этом.
ШТАМЕР. Каким образом дело дошло до вскрытия могил?
АРЕНС. В подробностях я не осведомлен. Однажды ко мне явился профессор Бутц по поручению командования фронтом и сообщил мне, что в моем лесу на основании имеющихся слухов должны быть произведены раскопки и что поэтому он должен информировать меня об этих раскопках.
ШТАМЕР. Рассказывал ли вам впоследствии профессор Бутц со всеми подробностями о результатах своих раскопок?
(…) АРЕНС. Я запомнил только один дневник, который он передал мне, в этом дневнике следовали дата за датой, сопровождавшиеся письменными заметками, но я не мог их прочитать, так как они были написаны по-польски. Он заявил мне, что эти заметки были сделаны польским офицером, причем дневник оканчивался весной 1940 года. В последней записи было выражено опасение, что им предстоит что-то ужасное. Таков был общий смысл.
(…) ШТАМЕР. Здесь утверждалось, что в марте 1943 года на грузовиках в Катынь были доставлены трупы и погребены в этом лесу. Известно ли вам что-либо по этому поводу.
АРЕНС. Мне ничего не известно».
Слово берет защитник Деница Кранцбюлер.
«КРАНЦБЮЛЕР. Господин полковник, вы сами когда-нибудь говорили с местными жителями о тех событиях, которые произошли там в 1940 году?
АРЕНС. Да. В начале 1943 года около моего штаба полка, метрах в 800 от нас, жили муж с женой, русские.[154] Они занимались пчеловодством, я сам тоже пчеловод, поэтому между нами установились довольно близкие отношения. (…) Когда состоялись раскопки, приблизительно в мае 1943 года, я сказал им как-то, что они, собственно говоря, должны знать, когда произошли эти расстрелы, поскольку они живут рядом с могилами. Тогда эти люди мне рассказали, что это было весной 1940 года; на станцию Гнездово в 50-тонных железнодорожных вагонах прибыло свыше 400 поляков в форме, которые были затем на грузовых машинах доставлены в лес. Они слышали потом стрельбу и крики.
КРАНЦБЮЛЕР. Кроме массовых могил около Днепровского замка[155] были найдены еще какие-либо другие могилы?
АРЕНС. В непосредственной близости от дома — на схеме я изобразил это отдельными точечками — были обнаружены мелкие могилы с разложившимися трупами и рассыпавшимися скелетами. В каждой могиле было по 6–8 или больше скелетов, мужских и женских. Даже я, будучи человеком несведущим, мог это легко определить, так как на большей части трупов были галоши, которые полностью сохранились. Там были найдены также остатки дамских сумочек.
КРАНЦБЮЛЕР. В течение какого времени находились эти скелеты в земле?
АРЕНС. Я не могу этого сказать. Я знаю лишь, что они совершенно разложились и распались. Кости сохранились, а скелеты уже рассыпались».[156]
В показаниях Аренса советского обвинителя Смирнова, кажется, более всего заинтересовал эпизод с волком. Начинает он издалека и как бы невзначай:
«СМИРНОВ. Кстати, вам самому приходилось видеть катынские могилы?
АРЕНС. Уже вскрытыми, или до того?
СМИРНОВ. Да, вскрытыми?
АРЕНС. Когда они были вскрыты, я должен был проезжать мимо этих могил, так как они были западнее дороги, которая вела на нашу дачу, и всего в 30 метрах от нее. Я не мог, конечно, проезжая, не видеть этих могил.
СМИРНОВ. Меня интересует, может быть, вы вспомните, какой слой земли прикрывал массу человеческих трупов, находившихся в этих могилах?
АРЕНС. Я этого не знаю. Я уже говорил, что этот ужасный запах, который мы должны были переносить в течение нескольких недель, был мне настолько противен, что, когда я проезжал на своей машине по этой дороге, я всегда закрывал окна и старался скорее проехать мимо.
СМИРНОВ. Но все-таки, если вы хотя бы бегло глядели на эти могилы, может быть, вы заметили — глубоким или незначительным был слой земли, отделявший поверхность земли от трупов, был ли он в несколько десятков сантиметров или он исчислялся метрами?»
Аренс терпеливо объясняет все сначала: «Будучи командиром полка связи, я должен был следить за работой на территории. равной по размерам половине Великой Германии, и очень часто бывал в разъездах. Моя работа протекала не на командном пункте. Поэтому я обычно с понедельника или вторника до самой субботы находился в своей части. Когда я проезжал по этой дороге, я иногда, правда, бросал взгляд в сторону могил, но деталями особенно не интересовался. (…) Поэтому я не припомню того, о чем вы меня спрашиваете.
СМИРНОВ. Из предъявленного советским обвинением высокому суду документов следует, что, очевидно, трупы были зарыты на глубину полтора-два метра. Теперь меня интересует вопрос, где вы нашли такого волка, который сумел разрыть землю на глубину полтора-два метра?»
Вот она. «домашняя заготовка» Смирнова. Однако Аренс невозмутим. «Я не нашел такого волка, я видел его». — отвечает он.
Последний вопрос обвинителя: «Почему, обнаружив крест и узнав о массовых расстрелах в 1941 году, вы только в марте 1943 года приступили к раскопкам массовых захоронений?»
Ответ: «Я сообщил о том, что видел и слышал. В остальном это дело меня совершенно не касалось и я не занимался этим. У меня и так было достаточно других забот».
В зал заседаний вызывается свидетель Рейнхарт фон Эйхборн, являвшийся референтом по телефонной связи при штабе армий «Центр». Он заверяет суд: «Совершенно невозможно, чтобы столько офицеров попало в руки армии и она ничего бы не сообщила об этом установленным порядком». Кроме того, он решительно отрицает существование приказа о расстреле поляков, пояснив, что все приказы 537-му полку проходили через его руки.
За пультом — генерал-лейтенант Оберхойзер, начальник связи группы армий «Центр»: «Такое задание было бы совершенно необычным для полка, во-первых, потому, что полк связи имеет совершенно другие задачи, а во-вторых, потому, что он не мог бы технически провести такую массовую казнь». И наконец: «Я считаю это совершенно невозможным на том основании, что, если бы командир знал об этом, он никогда бы не выбрал для своего штаба место по соседству с 11000 трупов». Смирнов долго выясняет, какое все-таки оружие имелось у 537-го полка (карабины его не интересуют). По подсчетам генерала — 150 пистолетов. «Почему вы считаете, что 150 пистолетов на длительный период времени — это недостаточное количество для того, чтобы произвести массовые расстрелы?» — спрашивает Смирнов. «Полк связи фронта, — объясняет Оберхойзер, — никогда не бывает сконцентрирован в одном месте».
Перекрестный допрос свидетелей защиты закончен.
Познакомимся поближе с важнейшим свидетелем обвинения Борисом Базилевским, которому предстоит сейчас отвечать на вопросы Смирнова и Штамера.
БАЗИЛЕВСКИЙ Б. В.
Биографическая справка
Борис Васильевич Базилевский (26.05.1885, Каменец-Подольск — 1955? Новосибирск), окончил физико-математический факультет Петербургского университета, по специальности астроном. В 1914 г. — преподаватель математики, физики и космологии во 2-м Варшавском реальном училище, с 1919 г. — профессор Смоленского университета, с 1930 г. — зав. кафедрой астрономии Смоленского пединститута и одновременно директор обсерватории. Публицист А. З. Рубинов, живший до войны в Смоленске, сообщил мне, что Базилевский вел также астрономический кружок в Доме пионеров.
Существуют сведения об аресте Базилевского во времена ежовщины; они пока не подтверждены документально. Однако же известные притеснения он, несомненно, претерпел. В «Сообщении» Специальной комиссии, сказано, что Базилевский «был насильно назначен» на должность заместителя бургомистра. Б. Г. Меньшагин утверждал, что в начале оккупации Базилевский был бургомистром и только позднее они поменялись местами. Ведал в горуправе вопросами просвещения. искусства, адравоохраненя и жилья. По открытии в городе в октябре 1942 г. гимназии (учительской семинарии) стал ее директором. В момент вступления в Смоленск частей Красной Армии жил в доме инвалидов. По словам бывшего начальника полиции Смоленска Глеба Умнова, ему было разрешено не эвакуироваться, «так как у него на советской стороне остался сын». («Новый журнал», кн. 104, 1971, с. 276.)
Позднее выяснились новые подробности биографии Базилевского. Джеральд Райтлингер в книге «Дом, построенный на песке» со ссылкой на Юргена Торвальда излагает такой сюжет. В конце сентября 1941 года через командующего группой армий «Центр» фон Бока Гитлеру была направлена памятная записка с предложением сделать Смоленск самоуправляемой столицей оккупированных территорий и мобилизационным центром «для всех, кто хочет бороться со Сталиным». Записку сопровождал подарок: музейная пушка, брошенная Наполеоном в 1812 году при отступлении из России.[157] Автором записки был не кто иной, как профессор Базилевский. Был ли Базилевский, как полагает Райтлингер, двойным агентом? Вряд ли мы когда-нибудь выясним это доподлинно. Умнов в цитированной выше публикации утверждает, что Базилевский до войны был осведомителем НКВД, за что и был отстранен немцами от должности. Меньшагин же этот факт отрицал.
В январе 1944 года в присутствии группы иностранных журналистов Базилевский дал показания Специальной комиссии во главе с Н. Н. Бурденко. Вот как описывает эту сцену один из очевидцев — Александр Верт.
«Огласка этого дела (включая и посещение Катынь представителями западной прессы) была проведена русскими крайне неуклюже и грубо. Корреспондентам было разрешено присутствовать только на одном заседании Специальной комиссии, когда она производила опрос ряда свидетелей. Среди них был некий профессор Базилевский, астроном, дрожащий маленький человечек, которого немцы якобы уговорили или принудили стать помощником бургомистра Смоленска: он заявил, что его начальник, квислинговец, впоследствии бежавший с немцами, сообщил ему, что польские офицеры будут ликвидированы: в виде доказательства был также представлен принадлежавший, по его словам, этому бывшему бургомистру блокнот с многозначительной, хотя и несколько неясной записью: «Говорят ли люди в Смоленске о расстреле поляков?»[158]
«Вся процедура, — заключает описание допроса Верт, — явно смахивала на инсценировку».
Напомню также, что, по словам Эдмунда Стивенса (см. главу «Лжезксперты»), Базилевский произносил явно «зазубренный текст».
В протоколе предварительного допроса Базилевского от июня 1946 г. указаны следующие анкетные данные: «Профессор астрономии Новосибирского педагогического института и Института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, женат, имеет сына».
Первоначальные показания Базилевского также претерпели редактуру. Так. Специальной комиссии Базилевский показал, что о своем разговоре с Меньшагиным он тогда же, осенью 1941 г., сообщил профессору И. Е. Ефимову, который и подтвердил этот факт. В Нюрнберге Базилевский кроме Ефимова назвал еще и санитарного врача Никольского, с которым он тоже говорил об участи поляков, «но оказалось, что Никольский из каких-то других источников уже знал об этом злодеянии». То есть факт расстрела был если и не общеизвестен. то во всяком случае слухи о нем циркулировали. (В сообщении Специальной комиссии этому обстоятельству посвящен целый раздел.) Это чрезвычайно важное обстоятельство однако Смирнов несколько раз перебивает Базилевского, просит его «не задерживаться на деталях» и говорить короче, вообще они говорят так быстро, что Лоренс вынужден дважды вмешаться.
Между тем речь идет о предметах отнюдь не маловажных. Вот текст сообщения комиссии Бурденко:
«В начале сентября 1941 г. Базилевский обратился с просьбой к Меньшагину ходатайствовать перед комендантом фон Швец об освобождении из лагеря военнопленных № 126 педагога Жиглинского. Выполняя эту просьбу, Меньшагин обратился к фон Швецу и затем передал Базилевскому. что его просьба не может быть удовлетворена…» и т. д. А вот как тот же эпизод звучит в Нюрнберге:
«Вскоре я получил сведения, что в лагере находится известный в Смоленске педагог Георгий Дмитриевич Жиглинский. Я обратился к Меньшагину с просьбой возбудить ходатайство перед германской комендатурой Смоленска, в частности перед фон Швец, об освобождении Жиглинского из лагеря, мотивируя…
СМИРНОВ. Я прошу вас не задерживаться на этих деталях и не терять на них времени, а рассказать суду о беседе с Меньшагиным, о том, что вам сообщил Меньшагин.
БАЗИЛЕВСКИЙ. Меньшагин сказал на мою просьбу: «Что же, одного спасем, а сотни все равно будут умирать». Однако я все-таки настаивал на ходатайстве. Меньшагин после некоторого колебания согласился войти с таким ходатайством в немецкую комендатуру.
СМИРНОВ. Может быть, вы будете короче говорить, свидетель, и расскажете, что вам рассказал Меньшагин, вернувшись из немецкой комендатуры».
Совершенно очевидно, что Смирнов стремится не допустить подробного рассказа о мотивах Меньшагина — ему важен отказ и причина отказа.
Но дело в том, что и отказа не было. На этом обстоятельстве специально останавливается Габриэль Суперфин, автор комментариев к «Воспоминаниям» Меньшагина. В книге Л. В. Котова «Смоленское подполье» (М., 1966, с. 30–31) читаем: «Жеглинский, воспользовавшись знакомством с заместителем бургомистра города, устроился в жилищный отдел городской управы». Следовательно, просьба Базилевского все-таки была удовлетворена. Впоследствии Жиглинский стал одним из руководителей подполья и в сентябре 1942 г. был казнен. (Тут, конечно, обращает на себя внимание ошибка в написании фамилии — «е» вместо «и». Полагаю, здесь нет особого умысла, ведь книга Котова появилась через 20 лет после Нюрнбергского процесса; скорее всего, тот, кто правил стенограмму, просто сверился с текстом «Сообщения» Специальной комиссии (а там есть и другие ошибки — например, вместо «Рекс» в одном месте, на с. 108, написано: «Рекст»; вот в этом случае и в самом деле удивительно, как ее не заметили корректоры, а впрочем, быть может, здесь неточность преднамеренная?) Речь тем не менее об одном и том же человеке.)
В самом начале допроса Базилевского произошел инцидент, многократно описанный в литературе как удачный психологический прием защиты. Цитирую стенограмму:
«ШТАМЕР. Господин свидетель, вы до перерыва, как я наблюдал, читали свои показания. Верно ли это?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Я ничего не читал. У меня в руках только план суда.[159]
ШТАМЕР. Это выглядело так, как будто вы читаете. Как вы объясните то, что у переводчика уже были в руках ваши ответы.
БАЗИЛЕВСКИЙ. Я не знаю, каким образом переводчики могли иметь заранее в руках мои ответы. Дело в том. что ведь мои показания на предварительной комиссии, на предварительном допросе, известны».
Когда перекрестный допрос закончился, слово взял американский обвинитель Т. Додд.
«ДОДД. Господин председатель, до допроса этого свидетеля я хотел бы обратить внимание Трибунала на один факт. Д-р Штамер задал предыдущему свидетелю вопрос о том, каким образом получилось так, что у переводчика были вопросы и ответы, если их не было перед свидетелем. (…) Я направил записку переводчикам и получил на нее ответ от ответственного за переводчиков лейтенанта, в котором сообщалось, что ни у одного из переводчиков не было ни вопросов, ни ответов, и я считаю, что следует занести разъяснение по данному вопросу в протокол.
(…) ШТАМЕР. Вне зала суда мне было сообщено об этом факте, так я об этом узнал. Если это неверно, то я беру свои слова обратно. (…)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (лорд-судья Лоренс). Защитники не должны делать подобных заявлений до тех пор, пока они не проверили их обоснованность.
СМИРНОВ. Разрешите мне приступить к допросу следующего свидетеля, господин председатель».
Инцидент, таким образом, был исчерпан. Штамер, однако, достиг своей цели: Базилевский говорил неуверенно, нервничал. Вернемся к началу допроса.
«ШТАМЕР. Знаете ли вы, где находились катынские могилы, в которых было погребено 11 тысяч польских офицеров?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Я там не был, катынских могил лично не видел.[160]
ШТАМЕР. Вы никогда не были в Катынском лесу?
БАЗИЛЕВСКИЙ. В Катынском лесу, как я уже показывал, бывал не однажды.
ШТАМЕР. Тогда вы знаете, где находятся эти массовые могилы?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Как же я мог знать, где находились эти катынские могилы, когда я после оккупации, конечно, бывать там не мог. (…)
ШТАМЕР. Таким образом, вы не знаете о том, что в Катынском лесу находился санаторий или дом отдыха ГПУ?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Знаю прекрасно. Это всем жителям Смоленска было известно.
ШТАМЕР. Тогда вы знаете, какой дом я имею в виду в своем вопросе?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Я лично в этом доме никогда не бывал. В этот дом, вообще говоря, имели доступ семьи служащих НКВД, а остальным людям вообще не было надобности и возможности в этот дом ходить.
ШТАМЕР. То есть дом был закрыт для посторонних?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Не дом был закрыт для посторонних, а вообще говоря, какой же посторонний пойдет туда, где для него место отдыха не предназначено.[161]
ШТАМЕР. Жив ли русский свидетель, который вам рассказал об этом дележе польскими офицерами? Жив ли он еще?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Господин защитник подразумевает бургомистра Меньшагина, очевидно? Так я понимаю этот вопрос?
ШТАМЕР. Ранее, когда вы читали, я не успевал следить за вашими показаниями. Как звали бургомистра — Меньшагин? Он еще жив?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Меньшагин ушел вместе с германскими войсками при отступлении, а я, конечно, остался, и судьба Меньшагина мне не известна.
ШТАМЕР. Можете ли вы назвать какого-нибудь свидетеля, который бы присутствовал при этих расстрелах или наблюдал за ними? (…)
БАЗИЛЕВСКИЙ. Нет, такою лица, которое видело непосредственно, я не могу назвать».
Кредит Базилевского, и без того невысокий, был окончательно подорван вопросом Штамера, был ли он репрессирован за сотрудничество с немцами. Базилевский был вынужден ответить: «Нет, не был».
«ШТАМЕР. Вы находитесь сейчас на свободе?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Не только нахожусь на свободе, а, как докладывал, являюсь профессором и в настоящее время двух высших учебных заведений.
ШТАМЕР. То есть вы снова служите и пользуетесь уважением?
БАЗИЛЕВСКИЙ. Да».
Следующим свидетелем обвинения был профессор судебной медицины Софийскою университета Марко Марков. Эта фигура в высшей степени любопытна, и вот почему. За полтора года до Нюрнберга Марков предстал перед болгарским судом в качестве обвиняемого по статье 2-й «Декрета-закона о народном суде над виновниками вовлечения Болгарии в мировую войну против союзных народов и за злодеяния, связанные с ними». Вместе с ним на скамье подсудимых находились еще пять человек, обвинявшихся по той же статье того же закона, а именно: судмедэксперт Георгий Михайлов, три духовных лица (бывший начальник культурно-просветительского отдела Святейшего Синода архимандрит Иосиф Диков, бывший главный редактор «Церковного вестника» архимандрит Стефан Николов, бывший ректор Софийской духовной семинарии архимандрит Николай Кожухаров) и бывший директор Национальной пропаганды Борис Коцев. Маркову вменялось в вину участие в международной экспертизе катынских захоронений. Михайлову же — участие в аналогичной экспертизе в Виннице; остальные побывали в Виннице в качестве представителей общественности и впоследствии включились в соответствующую пропагандистскую кампанию. Так вот: самое поразительное, что Марков и Михайлов были болгарским судом оправданы, а священнослужители и директор Национальной пропаганды осуждены. Полагаю, налицо явная сделка, к тому же лично Марков исследовал один-единственный труп. Напомню также, что против вызова защитой другою эксперта международной комиссии, профессора Франсуа Навиля, советское обвинение резко возражало. А ведь профессор Навиль — единственный в составе комиссии» представитель нейтральной страны.
Материалы софийского процесса интересны еще и тем, что судьи пришли к выводу о полной идентичности катынских и винницких захоронений. Как сказано в одном из документов, «Винница является копией Катыни». И далее: «…авторы убийств в Катыни и Виннице исходили из одной и той же среды. Об этом свидетельствует один и тот же способ убийств — выстрел в затылок, один и тот же способ зарытия трупов и способ маскировки кладбища — насаждение деревцев».
Как видим, затея Бурденко приписать немцам винницкие расстрелы реализована в материалах софийского процесса, вот только эффект достигнут прямо противоположный.
Выяснением дальнейшей судьбы Маркова я, честно говоря, не занимался. Могу лишь сослаться на письмо Г. Суперфина, который сообщил мне в сентябре 1989 года: «После всех своих признаний он, кажется, все равно исчез. Семья, говорят, живет в Софии и никаких сведений о нем не имеет».
Из пространных показаний болгарского эксперта приведем ответы на три ключевых вопроса Штамера.
«ШТАМЕР. Согласно вашему протоколу о вскрытии, на вскрытом вами трупе польского офицера имелась одежда. (…) Какая одежда была на этом офицере — зимняя или летняя?
МАРКОВ. Это была зимняя одежда, шинель и шерстяной галстук на шее.
(…) ШТАМЕР. В вашем протоколе о вскрытии, господин свидетель, имеется следующее замечание. Я цитирую: «В одежде были обнаружены документы. Эти документы хранились в конверте с № 827». Я вас спрашиваю: как вы обнаружили эти документы? Вы сами вынули их из карманов?
МАРКОВ. Эти бумаги находились в карманах шинели и куртки. Насколько я припоминаю, они были вынуты немецким прислужником, который раздевал трупы перед моими глазами.
(…) ШТАМЕР. «Найденные при трупах документы — дневники, газеты, письма относятся к периоду между осенью 1939 года и мартом и апрелем 1940 года. Последняя дата, которая была нами установлена, дата на одной русской газете, была — 22 апреля 1940 года». Я спрашиваю вас: правильны ли эти сведения? Соответствуют ли они тому. что вы лично установили?
МАРКОВ. Такие письма и газеты действительно имелись на витринах, которые были нам показаны. Некоторые подобные бумаги были вынуты некоторыми из членов комиссии, которые вскрывали трупы, и, как я впоследствии понял, они составили описание их содержания, причем оно противоречило тому, что я установил; я этого не сделал».
Таким образом. Марков признал наличие на трупах зимней одежды — как мы помним, это обстоятельство в свое время привлекло внимание иностранных корреспондентов, приглашенных в Катынь, и заставило их сомневаться в истинности советской версии. Он признал также, что обнаруженные при трупе документы были извлечены у него на глазах. Неясно, что имеет в виду Марков, когда говорит «я этого не сделал». Означает ли эта фраза, что содержание документов не соответствовало результатам вскрытия или что Марков не интересовался их содержанием? Во всяком случае, он проявил похвальную осторожность, никак не отразив этот факт в своем протоколе.
При допросе Прозоровского Смирнов как раз и пустил в ход свой главный аргумент — телеграмму, извещавшую варшавские власти о том, что комиссией Польского Красного Креста в катынских могилах обнаружены гильзы немецкого производства. Этот неоценимый подарок был преподнесен советскому обвинению американцами. Теперь Прозоровский мог с полным основанием утверждать, что и советская Специальная комиссия обнаружила гильзы с этой маркировкой. Видимо, Штамер не успел достаточно тщательно изучить текст «Сообщения» комиссии (одним из протоколов зафиксирована его жалоба на задержку перевода),[162] иначе он неизбежно задал бы вопрос: почему в акте судмедэкспертизы об этой наиважнейшей улике ничего не сказано? Документ, «любезно предоставленный нам нашими американскими коллегами» (Смирнов), гласит: «Сотрудники Польского Красного Креста привезли с собой гильзы патронов, использовавшихся при расстреле жертв в Катыни. Выяснилось, что это немецкие боеприпасы. Калибр 7,65, фирма «Геко». Телеграмма отправлена из Кракова правительству Генеральной Губернии и датирована 3 мая 1943 года. В 1944 году Специальная комиссия этим документом не располагала, сама же она никаких гильз не нашла — Прозоровский попросту солгал. Интересно. что и Покровский, представлявший доказательства по Катыни, о телеграмме не упоминает — надо полагать, американцы передали ее нашей делегации уже после того, как было удовлетворено ходатайство Штамера. А на предварительных допросах 17–18 июня и Прозоровский и Смольянинов уверенно показали, что ими обнаружены гильзы с фирменной маркировкой. Вот образчик профессиональной добросовестности экспертов комиссии Бурденко.[163]
Отто Штамер был явно недоволен решением Трибунала допросить в судебном заседании только по три свидетеля — ведь у него в запасе были еще профессор Навиль и лейтенант (к тому времени уже старший) Хотт. Дважды по ходу дела он пытался убедить суд пересмотреть свое решение и оба раза получил отказ. Первый эпизод интересен еще и тем, что из него видно, как Смирнов менял первоначальную формулу обвинения. Штамера, похоже, такой оборот вполне устраивал — именно потому, что давал повод для дополнительных ходатайств.
«ШТАМЕР. Господин председатель, прежде чем я вызову третьего свидетеля генерал-лейтенанта Оберхойзера, я прошу позволить мне сказать следующее. Обвинение до сих пор утверждало, что 537-й полк производил эти расстрелы под руководством полковника Аренса. Еще сегодня обвинение инкриминировало это полковнику Аренсу. Затем от этого утверждения, по-видимому, отказались и стали говорить, что если это был не Аренс, то во всяком случае его предшественник полковник Беденк, а если не Беденк, то тогда СД (это, видимо, уже третья версия). Защита же была намерена опровергать только то утверждение, что это преступление совершил полковник Аренс. В связи с изменившимся положением вещей и новой позицией обвинения я должен дополнительно пригласить четвертого свидетеля. Это старший лейтенант Хотт, которого сегодня называли в качестве соучастника преступления; он был с самого начала при штабе полка и, как мы слышали, уже в июле с передовым отрядом прибыл в Днепровский замок. Я только вчера случайно узнал адрес старшего лейтенанта Хотта; это — Глюксбург, около Флейсбурга. Я прошу вызвать старшего лейтенанта Хотта в качестве свидетеля. Он должен показать, что в период с июля по сентябрь таких расстрелов не было произведено.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Доктор Штамер, ваше ходатайство о вызове этого дополнительного свидетеля Трибунал рассмотрит во время перерыва в половине четвертого».
Во второй раз, после допроса Маркова, Штамер применил. по-моему, весьма тонкий прием, однако и он не имел успеха.
«ШТАМЕР. Господин председатель, я хотел бы предпослать несколько вопросов, касающихся процедуры. Было предусмотрено представить Суду с каждой стороны по три свидетеля. По-моему, этот свидетель сообщал не только о фактах, а давал и такие показания, которые являются заключением эксперта. Таким образом, как это мы называем в германском праве, он давал показания не как свидетель, который может дать показания по данному вопросу, а как эксперт. Если Суд будет придавать какое-либо значение этим данным, представленным свидетелем как экспертом, то я прошу дать мне возможность и со стороны защиты также вызвать одного эксперта.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Нет, доктор Штамер, Трибунал не будет заслушивать более трех свидетелей с каждой стороны. Вы могли пригласить в качестве свидетеля любого эксперта или любого члена комиссии по расследованию, являвшегося экспертом со стороны Германии. Вам было предоставлено право вызвать любого из них».
Когда перекрестные допросы закончились, неожиданную инициативу проявил Смирнов, который не мог не понимать, что проиграл. К его просьбе тотчас присоединяется Штамер:
«СМИРНОВ. Нам пришлось выбрать из 120 свидетелей, опрошенных по катынскому делу, только трех.[164] Если Суд интересуют показания любых других свидетелей, упомянутых в Сообщении ЧГК, то по большинству из них мы имеем надлежаще оформленные аффидевиты, которые могут быть представлены по первому требованию Суда, и любое из этих лиц также по требованию Суда может быть вызвано в судебное заседание. Это все, что я имел заметить, господин председатель.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Доктор Штамер?
ШТАМЕР. У меня нет возражений против предъявления дальнейших доказательств, поскольку будет соблюден принцип паритета, то есть в том случае, если мне будет разрешено предъявить дополнительные доказательства. Я также в состоянии вызвать в Суд других свидетелей и экспертов».
Но судья Лоренс остался тверд.
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Трибунал уже вынес свое решение; мы больше не будем заслушивать какие-либо показания по этому поводу.
ШТАМЕР. Благодарю вас.»
В этой реплике слышится нескрываемое удовлетворение.
Нюрнбергский трибунал за недостатком доказательств не включил дело о катынских расстрелах в окончательный вариант приговора.
Один из американских обвинителей в Нюрнберге Уитни Харрис в письме к автору сообщает, что Роберт Джексон рекомендовал Руденко отказаться от катынского обвинения, «полагая огромное число других преступлений, против которых у немцев не было защиты, достаточным для их осуждения». Тем не менее Руденко настоял на своем.
Объяснить это можно лишь абсолютной уверенностью в том, что правда о Катыни навсегда погребена под руинами второй мировой войны. Но закрыть катынскую тему в Нюрнберге не удалось.
Глава 6. СВИДЕТЕЛИ
Зa 50 лет «катынское дело» вовлекло в свою орбиту множество людей. Некоторые из них жестоко поплатились за свою, иногда невольную, осведомленность. Так, был репрессирован член советской Специальной комиссии председатель исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца С. А. Колесников — с ним встречался Солженицын на одной из пересылок ГУЛАГа. Сразу после войны расследованием катынского преступления занялся краковский прокурор Роман Мартини. Варшавские власти поручили ему доказать вину нацистов. Он доказал обратное и 28 марта 1946 года был убит в собственной квартире «с целью ограбления». Единственный уцелевший узник Козельского лагеря профессор Станислав Свяневич в апреле 1989 года рассказал журналу «Гвязда можа», что 10 лет назад, когда он писал книгу «В тени Катыни», на него напали неизвестные лица, и только чудом он остался жив.
О судьбе еще одного катынского свидетеля — американца Джона ван Влита — пишет в «Новом русском слове» (номер от 8.5.1990) князь Алексей Щербатов:
«Полковник Джон ван Влит был взят в плен немцами в Северной Африке и находился в Германии в лагере военнопленных. Его вместе с другим американским офицером, Д. Б. Стюартом, немцы возили в Катынь, где в 1943 году были раскопаны могилы польских офицеров, расстрелянных НКВД, и он присутствовал при эксгумации трупов. Ван Влит пришел к твердому убеждению, что убили польских офицеров советские палачи.
В самом конце войны ван Влит с трудом выбрался из немецкого лагеря военнопленных, который оказался на территории, занятой советской армией.
5 мая 1945 года полковник ван Влит перешел линию фронта и попал в расположение 104-й американской дивизии. У него были с собой фотографии раскопанных катынских могил, сделанные в 1943 году. Ван Влит немедленно потребовал, чтобы ему дали возможность снестись с Пентагоном. Его отправили (через Лондон) в Вашингтон. Там ван Влита принял генерал Биссел (помощник начальника отдела G2 — военная разведка), которому он передал обширный рапорт о Катыни со всеми фотографиями. Биссел потребовал от ван Влита, чтобы тот молчал обо всем, что стало ему известно, и написал на рапорте: «Совершенно секретно».
Прошло пять лет, политическое положение в мире изменилось, началась «холодная война». В апреле 1950 г. ван Влит написал письмо генералу Парксу в Пентагон, прося сообщить, где находятся его рапорт и фотографии, переданные им генералу Бисселу. Генерал Парке ответил, что найти эти материалы невозможно, и попросил полковника написать вторично все, что ему стало известно о Катыни. Ван Влит так и сделал».
Прервем цитату. Первый рапорт ван Влита пропал при невыясненных обстоятельствах, однако, по сведениям Леопольда Ежевского, следы ведут к советскому агенту Элджеру Хиссу, советнику Рузвельта на Ялтинской конференции. Второй рапорт полковника опубликован в сентябре 1950 года. Ван Влит в это время воевал в Корее в составе 2-й пехотной дивизии. А. П. Щербатов пишет, что он был взят в плен и сгинул в застенках МГБ. К счастью, Алексей Павлович ошибается: в декабре 1988 года в Омахе, штат Небраска, с ним встречался профессор Заводный.
Особый интерес представляет судьба советских граждан. давших показания немцам. Двое из них, как указывает комиссия Бурденко в своем «Сообщении», умерли еще до освобождения Смоленской области Красной Армией. Трое — Андреев, Жигулев и Кривозерцев — «ушли с немцами, а может быть, были ими увезены насильно». Еще четверо были допрошены Специальной комиссией и показали, что немцы вынудили их лжесвидетельствовать угрозами и пытками. Неясно. как сложились взаимоотношения с гестапо бывшего рабочего гаража УНКВД Е. Л. Игнатюка. который, по его словам, несмотря на избиения, отказался дать ложные показания, однако не был ни расстрелян, ни повешен, а дождался прихода Красной Армии и предстал перед комиссией Бурденко. Упоминаются в «Сообщении» еще два человека, из которых немцы выбивали нужные им свидетельства, — бывшие помощник начальника смоленской тюрьмы Н. С. Каверзнев и работник той же тюрьмы В. Г. Ковалев; поскольку их показания в «Сообщении» отсутствуют, остается заключить, что они не дождались освобождения либо означенных лиц не существовало вовсе, как Игнатюка и майора ГБ Ветошникова. Во всяком случае, ни Ветошников, ни Игнатюк, ни эти двое ни в каких более поздних материалах не фигурируют, на их показания никто не ссылается, дальнейшая их судьба покрыта мраком.
Из тех, кто ушел на Запад, хорошо известна судьба Ивана Кривозерцева. После войны он повторил свои показания под присягой, сменил фамилию, поселился в Англии, а в 1947 году не то повесился, не то был повешен. В мае 1990 года Л. В. Котов опубликовал в смоленском журнале «Политическая информация» (1990, № 5) материал, в котором излагает свою беседу с Михеем Кривозерцевым — однофамильцем Ивана, которого, кстати. Жаворонков упорно выдает за его родного брата. Так вот, Михей Григорьевич утверждает, что Иван Кривозерцев сотрудничал с гестапо — поэтому, а вовсе не из-за Катыни, и «сбежал с немцами». Того же мнения М. Г. Кривозерцев и об Иване Андрееве: «Ваньку Андреева после войны нашли, судили за его злодейство. Лет семь отсидел, выпустили по амнистии. Жил тут, в Батеках, работал на заводе в Смоленске. Помер и похоронили тут». Впрочем, сам Леонид Васильевич Котов, когда мы встретились с ним в январе 1990 года, утверждал, что никакому наказанию Андреев не подвергался.
Странно обрывается след инженера-железнодорожника Сергея Васильевича Иванова. В июне 1946 года он был, как мы помним, снова допрошен, на сей раз в Москве советским обвинителем на Нюрнбергском процессе Л. Н. Смирновым. В протоколе этого допроса указан адрес свидетеля: после войны Иванов с семьей поселился в Вышнем Волочке. Бюро ЗАГС Вышнего Волочка на мой запрос ответило, что смерть Иванова С. В. 1882 года рождения с 1946 по 1989 год не регистрировалась. Семья же Сергея Васильевича, как сообщила мне, сверившись с домовой книгой, нынешняя хозяйка дома, жила в Вышнем Волочке до начала 50-х годов: жена Ольга Николаевна умерла в 1952 году, сын Виталий Сергеевич временно выбыл в Киев в 1951 году. Но где же все-таки сам Сергей Васильевич? Похоже, в 1946 году он так и не вернулся с Лубянки.
О том, что происходило в штабе 537-го батальона осенью 1941 года, показали Специальной комиссии три девушки, работавшие на даче, — А. М. Алексеева, О. А. Михайлова и З. П. Конаховская. С последней летом 1988 года встречался мой друг — Николай Рыжиков. Зинаида Павловна встретила гостя неприветливо. Первая ее фраза была: «Кто вас на меня навел?» В разговоре Конаховская то и дело, как бы по рассеянности, сворачивала на сорок первый год и упорно не желала говорить о сороковом- Выяснилось, однако, что на даче в Козьих Горах Зинаида Павловна, медсестра по профессии, начала работать еще до войны. После войны она отбыла наказание — 9 лет лагерей за «пособничество» — и вернулась на дачу, где и продолжала работать к моменту встречи с Рыжиковым. Так ничего толком и не узнав, Николай попрощался с Конаховской, напоследок пригрозившей пожаловаться куда следует. И угрозу свою исполнила: на следующий день в восемь утра в гостиницу к Рыжикову явился порученец обкома партии с безапелляционным требованием немедля явиться «на ковер». По словам Николая, Конаховская производит впечатление женщины волевой, но измученной, исковерканной жизнью. Посреди разговора она вдруг заявила, что ей нужно срочно принять лекарство, и ушла в другую комнату. По мнению Рыжикова, этим лекарством мог быть только наркотик: после процедуры Конаховская впала в полнейшую прострацию. На руке Зинаида Павловна имела лагерную татуировку. Курила «Беломор».
Я уже имел случай указать, что всего Специальной комиссией допрошено 56 человек. Что это за люди?
Двое (если это не миф) — сотрудники НКВД; один начальник полиции; трое старост. О десяти свидетелях мы не знаем ничего, кроме фамилии и инициалов — они отрекомендованы просто как «жители Смоленска» или вообще никак. В 28 случаях указана профессия, например, «плотник», «учительница», «бухгалтер», «священник», но и «колхозник», и даже «председатель колхоза», а то и «помощник санитарного врача Сталинского райздравотдела Смоленска». Ясно, что никаких колхозов, райздравотделов, тем более Сталинских, при немцах не существовало. Да и прочие, если продолжали учительствовать и плотничать, с приходом Красной Армии оказались под дамокловым мечом неумолимого советского правосудия. Оставшиеся 12 человек, и в их числе давшие наиболее ценные показания, неминуемо подпадали под Указ об измене Родине и пособничестве.
Сегодня мало кто помнит об этом Указе, а справиться негде — никогда не публиковался. Вот, должно быть, изумились многие горячие сторонники отмены смертной казни, открыв доклад «Международной амнистии»[165] и обнаружив, что в нашей стране по сей день существует не просто смертная казнь, но смертная казнь через повешение! Вот о преступлениях, караемых виселицей, и трактует Указ ПВС от 19.4.1943 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».
Подробная реконструкция Указа опубликована Габриэлем Суперфином в уже упоминавшейся книге, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что под действие Указа из граждан СССР подпадали те, кому вменялась статья 58-1 УК РСФСР (измена Родине),[166] в частности, служба в органах самоуправления и «выполнение заданий оккупантов по сбору продовольствия, восстановлению важных для оккупантов предприятий и др., совершенные с целью оказания помощи врагу». Совершенно очевидно, что под измену Родине можно было подвести и бухгалтера, работавшего в горуправе, и плотника, починившего табуретку, на которой этот бухгалтер сидел. Как пособничество врагу квалифицировались, например, «стирка белья немецким солдатам», «чистка картошки на немецкой кухне или мытье полов в помещениях, занятых немцами».[167] Отсюда следует, что драконовский Указ охватывал практически все трудоспособное население оккупированных территорий. Ведь каждый, пишет Солженицын, «мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, но хотя бы пособничество врагу». Спасибо и за то, что пособничество не каралось повешением, а всего-навсего каторгой!
Так вот — положа руку на сердце: у кого из нас сегодня повернется язык обвинить этих несчастных людей в лжесвидетельстве? Многие ли из нас, сегодняшних либералов и правдолюбцев, проявили бы независимость суждений перед лицом чрезвычайных обстоятельств, когда на одной чаше весов — абстрактная правда (да и не абстрактная, а в пользу оккупантов), а на другой — собственная жизнь, жизнь и свобода семьи? Ведь советские номенклатурные историки лгали о Катыни, когда им уже ничего не грозило, и лгали с упоением — так чья вина больше? И потом мы ведь не знаем, кто из свидетелей попал в «Сообщение», а кто нет: быть может, среди непопавших были бесстрашные люди? (Я в это верю.) Наконец, где гарантия, что показания не перевраны, не отредактированы (как раз в обратном мы и убедились в предыдущей главе)?
Поскольку мне еще предстоит упоминать Указ от 19.4.1943, объективности ради следует сказать, что 26.5.1947 смертная казнь в мирное время была отменена, вместо нее вводилась новая санкция — 25 лет лагерей. 12.1.1950 смертную казнь, однако, восстановили. «А убрать четвертную забыли, так и осталась», — замечает Солженицын. В 1955 году изменникам и пособникам была объявлена амнистия[168] (нетрудно подсчитать, что под нее скорее всего и попала З. П. Конаховская), но применяли ее избирательно, многие остались отбывать свой срок. Могу сослаться, в частности, на свидетельство Сергея Ковалева, недавнего политзаключенного, а ныне народного депутата РСФСР. На встрече группы депутатов с председателем КГБ Крючковым он привел пример Михаила Тараховича из Белоруссии, который был насильно мобилизован в германскую армию, через 17 дней дезертировал, впоследствии в составе частей уже Красной Армии дошел до Берлина — и тем не менее тех 17 дней ему не простили, причем когда А. Д. Сахаров пытался добиться пересмотра дела Тараховича, прокуратура его попросту обманула, сообщив, что такой заключенный в советских лагерях не числится. Тарахович теперь на свободе, но это. по словам С. А. Ковалева, не единственный старик, до сих пор отбывающий наказание за «военные преступления».[169] Не коснулся их и недавний Указ от 16.1.1989 «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости…», отменивший постановления ОСО и «троек». Бесспорно, дела эти надо пересматривать строго в индивидуальном порядке(реабилитировать всех скопом вообще, по-моему, недопустимо — ведь опять вышло, что кроме «системы» никто персонально в беззакониях не виновен),[170] но горе в том, что настрой у наших правоохранительных органов прямо противоположный, ничего они пересматривать, похоже, и не собираются. Вот, к примеру, что ответил начальник отдела Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции В. Г. Провоторов на вопрос корреспондентов «Советской культуры» (номер от 25.2.1989): «А много ли действительных шпионов, врагов было выявлено в тридцатые годы?»
«Мне такие встречались редко. Другое дело — сороковые годы. Здесь и полицейские, и каратели, и те, кто добровольно вступал в легионы. Есть такие, кто из лагерей попадал в трудовые батальоны. За это немцы их ставили на довольствие, предоставляли разною рода льготы — 150 марок в месяц, две сигареты в день. одежду, пригодную для носки. Находились люди, погибавшие в лагерях от голода и выбравшие трудовую армию. Между тем именно они строили оборонительные сооружения, восстанавливали разбомбленные аэродромы, входили в какие-то вспомогательные войска — то есть, укрепляли в определенной степени военную мощь противника. Эти люди были наказаны и не подлежат реабилитации как способствующие врагам».[171]
Не чудится ли вам, читатель, некий нравственный изъян в спокойном рассуждении генерал-майора? Да и сам Владимир Григорьевич — неужели совсем не сомневается в собственной правоте? «Льготы», «оборонная мощь»… уж не из обвинительных ли заключений почерпнута эта фразеология?
В самом начале своей работы над «катынским делом» я определил приоритетные направления. Одним из них было выяснение судеб свидетелей. Не только для того, чтобы косвенно подтвердить лживость советской версии — я надеялся дать им возможность отречься от своих показаний и тем облегчить душу. Вот почему из множества читательских писем я сразу выделил как весьма важные два на одну и ту же тему.
Николай Нешев из Пятигорска, осужденный по статье 58 УК РСФСР и отбывавший наказание в Мордовии, пишет, что в 1958 году на пересылке в Тотьме заключенные рассказывали ему о безымянном катынском леснике, давшем показания немцам и приговоренном за это к 25 годам лишения свободы; наказание он отбывал в знаменитой Владимирской тюрьме. То же самое сообщил мне В. А. Абанькин (Ростов-на-Дону).[172] В 1974 году он был переведен во Владимирскую тюрьму из пермского политлагеря за забастовку. «В тюрьме ходили слухи о том, что в одной из камер несколько лет назад сидел заключенный под номером. Содержали одиночно, что у нас запрещено законом. Говорили, что это был лесник Катынского леса, который видел, кто и когда расстрелял польских офицеров».
Владимирская тюрьма (точнее — «учреждение ОД-1/ст-2 г. Владимира») — заведение особое. В разные годы здесь отбывали наказание Василий Сталин, подельник Олега Пеньковского Гревилл Уинн, бывший член Государственной думы В. В. Шульгин, американский летчик Пауэрс, заместитель министра внутренних дел СССР генерал-лейтенант С. С. Мамулов и другие бериевцы, а в брежневские времена многие советские правозащитники. Есть версия, согласно которой там же содержался Рауль Валленберг.[173] Имеют под собою основания и слухи о «катынском леснике»: с 1951 по 1970 год во Владимирке отбывал срок бывший бургомистр Смоленска Б. Г. Меньшагин.
Читатель, конечно, помнит, что на свой разговор с ним ссылался один из свидетелей комиссии Бурденко, а затем и советского обвинения на Нюрнбергском процессе профессор астрономии Борис Базилевский, причем в «Сообщении» сказано, что эти показания имеют «особо важное значение». Фигурировал в качестве вещественного доказательства и блокнот Меньшагина.
«Показания Базилевского, — сказано далее в «Сообщении», — подтверждены опрошенным Специальной комиссией свидетелем — профессором физики Ефимовым И. Е., которому Базилевский тогда же осенью 1941 года рассказал о своем разговоре.
Документальным подтверждением показаний Базилевского и Ефимова являются собственноручные записи Меньшагина. сделанные им в своем блокноте. Принадлежность указанного блокнота Меньшагину и его почерк удостоверены как показаниями Базилевского, хорошо знающего почерк Меньшагина, так и графологической экспертизой».
Итак. показания Базилевского подтверждаются записями Меньшагина, почерк которого удостоверяет Баэилевский! Другое подтверждение слов Базилевского — показания профессора Ефимова о том. что Базилевский рассказывал ему то же. что и Комиссии!
Этого мало. На допросе в июне 1946 года (это была, как мы знаем, генеральная репетиция перед Нюрнбергом) Базилевский добавляет новые штрихи к портрету Меньшагина:
«Нужно сказать, что Меньшагин вообще весьма быстро сделался «своим человеком» в немецкой комендатуре. Мне трудно высказаться о причинах этого быстрого завоевания Меньшагиным авторитета у немцев. Может быть, этому способствовало то, что сам Меньшагин был пьяницей и очень быстро нашел себе собутыльников в немецкой комендатуре. причем особенно сблизился с неким зондсрфюрером Гиршфельдом. остзейским немцем, отлично владевшим русским языком и практически занимавшимся рядом вопросов, связанных с городским самоуправлением».[174]
Читая этот протокол, я почти ничего не знал о Меньшагине, но россказням Базилевского уже тогда не верил. А вскоре в Париже вышли «Воспоминания» Меньшагина — этот текст он наговорил на кассету в последние годы жизни. Далее я воспользуюсь материалами этой книги с любезного разрешения ее комментатора Г. Г. Суперфина.[175]
Б. Г. МЕНЬШАГИН
Биографическая справка
Борис Георгиевич Меньшагин родился 26 апреля (9 мая) 1902 года в Смоленске. По завершении гимназического образования добровольно вступил в Красную Армию, где служил с 1919 по 1927 год. Демобилизован за религиозные убеждения и регулярное посещение церкви.
После демобилизации Меньшагин заочно окончил юридический факультет в Москве. В 1928–1931 гг. работал в коллегии адвокатов при облсуде Центрально-Черноземной области, в 1931 г. — на заводе АРЕМЗ (Москва); в 1931–1937 гг. — во втором парке Мосавтогруза.
С 1937 года Меньшагин работает в облколлегии адвокатов в Смоленске вплоть до оккупации города немецкими войсками. Во время оккупации Меньшагин стал бургомистром Смоленска, а после отступления немцев (сентябрь 1943 г.) недолго занимал такую же должность в Бобруйске. Конец войны застал его с семьей в Карловых Варах, где его интернировали американские войска. Освободившись из лагеря через несколько недель, Меньшагин вернулся в Карловы Вары, уже занятые советскими частями, но семьи там не нашел. Ошибочно полагая, что его родные арестованы, Меньшагин добровольно явился в советскую комендатуру 28 мая 1945 года.
Постановлением ОСО при МГБ СССР от 12 сентября 1951 года он был осужден по части I Указа от 19.4.1943 к 25 годам лишения свободы. Срок отбывал во Владимирской тюрьме.
По окончании срока Меньшагина отправили в инвалидный дом в поселке Княжая Губа на Белом море. Последние несколько лет он провел в таком же доме в Кировске близ города Апатиты, где и умер 25 мая 1984 года…
Борис Георгиевич Меньшагин был не рядовой адвокат, один из лучших в Смоленске. Защищал он чаще всего «врагов народа» и «вредителей», выиграл несколько крупных показательных процессов, случалось, добивался даже пересмотра постановлений ОСО, обжалованию, как известно, не подлежавших. Чего это стоило и чем грозило в разгар сталинского террора, объяснять, надеюсь, не надо.
Многие сегодня, начитавшись «Огонька», не верят, что в те годы была возможна эффективная защита обвиняемых, полагают все рассказы на эту тему легендой. Здесь есть довольно тонкий нюанс. Разумеется, если бы защитник в открытом судебном заседании заявил, что это не суд, а расправа, дело фальсифицировано, а прокурор палач, он бы никого не защитил, а себя наверняка погубил бы. Но можно было построить защиту на выявлении отдельных противоречий в материалах дела (ведь известно, сколь мало заботились следователи о том, чтобы свести концы с концами) и на этом основании добиться переквалификации преступления — скажем, «халатность» вместо «вредительства» — такая тактика была вполне реальна; с учетом же предварительного заключения обвиняемый мог быть освобожден из-под стражи уже в зале суда. Ведь недаром Берия издал в 1940 году директиву, о которой идет речь вот в этом документе от 12.7.1940 за подписью В. М. Шарапова:
«Согласно директивы Народного Комиссара Внутренних Дел Союза СССР № 76 от 20 марта и приказов НКЮ и Прокурора СССР № 058 от 20 марта и 96/62с от 9 мая 1940 г. — арестованные, проходящие по делам, возникшим в органах НКВД (кроме Рабоче-Крестьянской Милиции), в случае вынесения судом оправдательного приговора (постановления) освобождаются не из зала суда, а из мест заключения. (…)
Заключенные, проходящие по делам органов НКВД (кроме Раб. Кр. Милиции), должны быть возвращены конвоем из зала судебного заседания обратно в те тюрьмы, откуда они были доставлены в суд, вне зависимости от приговора суда».[176]
А уж вернув обвиняемого в тюрьму, ничего не стоило завести новое дело «по вновь открывшимся обстоятельствам».
Ведь для чего-то же эта директива понадобилась, были, значит, оправдательные приговоры по делам, «возникшим в органах», и не один, не два! И вот еще такая деталь: в 1945 году в смоленском УКГБ Меньшагина первым долгом обвинили в том, что он «подстрекал обвиняемых отказываться от показаний, даваемых на предварительном следствии». И предъявил-то обвинение не кто иной, как следователь Беляев,[177] которого Борис Георгиевич узнал по почерку: уж очень много оформленных им дел заворачивалось на доследование. Впрочем, сами следователи услугами Меньшагина тоже не гнушались — вспомним дело Жукова и Васильева. Отдавали ему, значит, должное.
Да, при немцах Борис Георгиевич пошел в бургомистры — этот факт из его биографии не вычеркнешь. Но не пора ли пересмотреть укоренившуюся в нашем сознании однозначно-негативную оценку подобных поступков? Отнюдь не все эти люди — старосты, бургомистры, старшины заняли свои должности по заданию подпольных обкомов. Но и тот, кто такого задания не имел, вовсе не обязательно отъявленный мерзавец. Ведь кроме обкома есть еще и совесть. Неужели позиция неучастия, невмешательства перед лицом тотального зла кажется нам более нравственной? Судьбы интеллигенции, оказавшейся на оккупированных территориях, — огромная тема, она еще встанет перед нами во всей своей трагической неразрешимости, и не след нам сегодня повторять лживый бред сталинской пропаганды.
Леонид Васильевич Котов настроен к Меньшагину непримиримо. По его словам, смоленские старожилы отлично помнят его деятельность в качестве бургомистра, потому и отказано ему было в прописке облисполкомом, куда он обращался в 1970 году сразу по освобождении. Котов утверждает также, что в областном госархиве имеются документы, доказывающие непосредственное участие Меньшагина в уничтожении еврейского гетто. Эти бумаги заинтриговали меня чрезвычайно, и попросил я Леонида Васильевича показать мне хотя бы выписки. Вышла, однако, заминка: кроме статей в оккупационной прессе ничего не обнаружилось.[178] Да и не вяжется как-то одно с другим: вряд ли человек, замешанный в кровавых преступлениях, пожелает поселиться там, где еще живут свидетели его злодеяний.
Что было известно Меньшагину о Катыни?
В апреле 1943 года он побывал в Козьих Горах, осмотрел извлеченные из могил останки. Он вспоминает:
«…На другой день[179] к двум часам все собрались на Рославльском шоссе в помещении пропаганды. И оттуда на легковых машинах поехали по Витебскому шоссе в район Гнездова. Помимо меня ездили сотрудники городского управления Дьяконов и Борисенков и главный редактор издававшейся немцами газеты — «Наш путь»,[180] кажется, нет, уже забыл — Долгоненков[181] и еще кто-то из работников пропаганды — русских.
Ну, когда доехали по Витебскому шоссе до столба с отметкой «15-й километр», свернули налево. Сразу ударил в нос трупный запах, хотя ехали мы по роще сосновой и запах там всегда хороший, воздух чистый бывал. Немножко проехали и увидели эти могилы. В них русские военнопленные выгребали последние остатки вещей. А по краям лежали трупы. Все были одеты в серые польские мундиры, в шапочки-конфедератки. У всех были руки завязаны за спиной. И все имели дырки в районе затылка. Были убиты выстрелами, одиночными выстрелами в затылок.
Отдельно лежали трупы двух генералов. Один — Сморавиньский из Люблина, и второй — Бохатыревич из Модлина, около них лежали их документы. Около трупов были разложены их письма. На письмах адрес был: Смоленская область, Козельск, почтовый ящик — ох, не то 12,[182] не то 16, я сейчас забыл уже. Но на конвертах на всех был штемпель: Москва, Главный почтамт. Ну, число трупов было так около пяти — пяти с половиной тысяч.
По признакам убийства и смерти их не похоже было, что их убили немцы, потому что те стреляли обычно так, без разбору. А здесь методически, точно в затылок, и связанные руки. А немцы так расстреливали, не связывали, а просто поводили автоматом. Вот и все, что я знаю».
Заметим, что Меньшагину неоткуда, кроме собственной памяти, было взять имена генералов Сморавиньского и Бохатыревича, действительно идентифицированных среди катынских трупов, — ни польскими, ни немецкими источниками он, естественно, не располагал.
22 с половиной года из своих 25-ти Меньшагин провел в одиночном заключении. В течение первых трех лет пребывания во Владимирке он был лишен фамилии и числился под номером 29, носил полосатую тюремную робу. В течение всего срока ему была запрещена переписка. Режим его исключал какие бы то ни было контакты с другими заключенными. Когда Меньшагин обратился к Хрущеву с письмом, в котором указывал на незаконность одиночного заключения, к нему «подселили» сначала заместителя Берии Мамулова, а затем сотрудника Разведупра полковника М. А. Штейнберга, разумеется, бывших. На прогулку после письма Хрущеву его выводили также в обществе чинов МВД-МГБ — кроме названных, это были П. А. Судоплатов и Б. А. Людвигов, бывший начальник секретариата Берии.
В поисках дополнительной информации о Меньшагине я обратился к Елене Николаевне Бутовой, в 60-е годы работавшей во Владимирской тюрьме в качестве начальника санчасти. Вот ее ответ:
«Меньшагина Б. Г. помню хорошо. Он производил впечатление скромного, интеллигентного человека. С медработниками всегда был корректен. На посторонние темы, кроме здоровья, врачи не разговаривали. Ведь нас интересовало только здоровье. Иногда он отвлекался и начинал говорить о своей работе с каталогом библиотеки. Чувствовалось, как он переживает за свою работу, в это время отмечалась его внутренняя нервозность. Через медиков передавал просьбы к работникам библиотеки. Каких-либо конфликтов у него с администрацией я не наблюдала. Мне казалось, что все к нему относились с каким-то уважением.
Вот все, что я могу Вам сообщить».
Библиотека — это отдельный сюжет, вернемся к нему чуть позже.
Второе свидетельство принадлежит П. А. Судоплатову, отбывавшему наказание, как и его коллеги, во Владимирке и довольно много общавшемуся с Меньшагиным.
Павел Анатольевич, напротив, отозвался о Меньшагине крайне неприязненно: «враг», «предатель». По его словам. Меньшагин ездил в Берлин для переговоров с генералом Власовым и «церковниками», где и получил от германских властей медаль. В юности, сообщил Судоплатов. Меньшагин был церковным старостой, досконально знал историю всех московских храмов: первое, что он сделал как бургомистр, — открыл Успенский собор.
Ремонт Успенского собора и возобновление службы в нем по инициативе Меньшагина действительно имели место, причем Борис Георгиевич ставил этот факт себе в заслугу. Павел же Анатольевич не одобрял, как и вообще религиозность Меньшагина. Что касается медали (точнее, бронзового ордена «За заслуги»), то вручена она ему была не в Берлине, а в Смоленске 19 июля 1943 года, в годовщину взятия города немцами. (Неопубликованные воспоминания Меньшагина.) Котов рассказал даже, что по этому поводу был банкет, на котором Долгоненков декламировал «Стихи о советском паспорте». — не знаю уж. где Леонид Васильевич почерпнул столь пикантную подробность. А вот встречался ли Меньшагин с Власовым, неизвестно.
Говорил я о Меньшагине и с Револьгом Пименовым, также бывшим заключенным «учреждения ОД-1/ст-2». Меньшагина Револьт Иванович не знал, зато рассказывал много интересного о самом владимирском «учреждении», в частности о тюремной библиотеке. Рассказ этот имеет непосредственное отношение к Меньшагину: одно время он вел, как уже знает читатель со слов Бутовой, библиотечный каталог, получая за эту работу 2 рубля 50 копеек в месяц.
Что библиотека в бывшем Владимирском централе была хороша, отмечает и Солженицын в «Архипелаге» («Скрипникова особенно была поражена peгулярной отправкой заявлений каждые десять дней (она стала писать… в ООН) и отличной библиотекой: в камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку»). Прекрасный подбор литературы объяснялся двумя причинами. Во-первых, в тюрьму можно было передать с воли любую книгу с тем условием, что по прочтении она останется гам навсегда. Во-вторых, тюрьма находилась в прямом подчинении НКВД МГБ, поэтому ее не коснулись многочисленные изъятия: Пименов, например, помнил том Макиавелли с предисловием Зиновьева. Он и П. А. Шария. бывший секретарь ЦК КП Грузии по идеологии. пользовались даже правом выписывать книги по межбиблиотечному абонементу из Ленинской библиотеки — правда, у Шарии после XXII съезда, когда, по словам Пименова, положение соратников Берии ухудшилось, абонемент отобрали. Завершился золотой век владимирской библиотеки стараниями все тех же бериевцев, Мамулова и Людвигова, польстившихся на меньшагинскую «зарплату». Они отобрали у него работу с каталогом и пришли в ужас, обнаружив в фонде запрещенную литературу. Тюремное начальство, не желая лишней мороки, поначалу сопротивлялось их «сигналам»: Мамулов с Людвиговым стали писать в Москву и в конце концов добились своего — разорили библиотеку.[183]
Из биографической справки видно, что следствие по делу Меньшагина длилось более шести лет. Почти все это время он содержался в одиночной камере лубянской тюрьмы. На допросах следователи изредка заводили речь о Катыни. но как-то вяло: Меньшагин рассказывал то же, что и в книге, а на вопрос «кто убил?» отвечал, что не знает. Однако показания его ни в один протокол не попали: всякий раз следователь обещал вернуться к этой теме позже. В январе 1944 года комиссия Бурденко могла позволить себе манипулировать именем Меньшагина как угодно: если бы он и вздумал протестовать, то кто бы ему поверил? А вот к моменту судебного следствия в Нюрнберге Меньшагин уже год как находился во власти Берии: здесь же на Лубянке, по соседству с его одиночкой, шла подготовка свидетелей, в том числе и Базилсвского — тем не менее комиссия Вышинского не только не представила его Трибуналу, но и, как явствует из ее протоколов. не обсуждала такую возможность. Почему? Наиболее убедительным представляется мне объяснение Суперфина: «Меньшагина, уже имевшего клеймо предателя, можно было бы содержать только под стражей, а следовательно, в Трибунале его должна была бы конвоировать американская военная полиция». Оставалось лишь упрятать Меньшагина подальше — вот почему свой срок он отсидел от звонка до звонка. В 1955 году тюремное начальство пыталось применить к Меньшагину Указ об амнистии. Однако прибывшая во Владимир комиссия ПВС по амнистии отказалась пересматривать его дело. заявив, что дело это не в ее компетенции, и рекомендовала обратиться к секретарю ЦК КПСС А. Б. Аристову. Единственный эффект, который возымело обращение к Аристову, — ответ Прокуратуры СССР, в котором было сказано. что амнистия к Меньшагину применена не будет — без объяснения причин.
За полгода до конца срока Меньшагина неожиданно вызвали на допрос — и именно по «катынскому делу». Оказалось, один из заключенных Владимирки Святослав Караванский сначала на свидании с женой, а затем через тюремного парикмахера пытался передать на волю в числе других текстов составленное от имени Меньшагина послание в Международный Красный Крест и «всем правительствам»; адресатом документа была Лариса Богораз. Против Караванского было возбуждено дело по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). Свидетелем по делу и вызывался Меньшагин, не только не поручавший Караванскому составление каких-либо обращений, но и, по всей видимости, не знакомый с ним. Трудно было расценить дело Караванского иначе как провокацию. На допросе в закрытом судебном заседании Борис Георгиевич показал то же, что и когда-то на Лубянке, — что о катынских могилах он впервые узнал в апреле 1943 года и тогда же побывал на раскопках, а также, что ему (цитирую приговор по делу Караванского) «обстоятельства уничтожения польских военнопленных офицеров в 1941 году не известны, однако он убежден, что польские военнопленные были расстреляны немецкими фашистами». Как видим, этот вариант коренным образом противоречит показаниям Базилевского. зафиксированным комиссией Бурденко и материалами Нюрнбергского процесса. Тем не менее следствие и суд удовлетворились показаниями Мепьшагина. Караванский же был осужден с учетом неотбытого срока на 10 лет лишения свободы, из которых три провел в тюрьме и семь в ИТК особого режима.[184]
Дело Караванского представляет интерес еще и тем, что в его обращениях фигурирует некий «лесник Катынскою леса Андреев», тоже 25-летник и тоже заключенный владимирской тюрьмы: там же, но отдельно от него, якобы отбывала наказание его жена. Источник Караванского — все те же слухи, о которых пишут мне и Нешев с Абанькиным. Об их достоверности судить трудно, некоторые детали не совпадают: например, согласно немецким материалам, Андреев не лесник, а слесарь впрочем эту аберрацию я уже попытался объяснить. Единственное, что могу добавить: по словам Ивана Кривозерцева, Андреев «доставлял немцам продовольствие», следовательно, ему вполне можно было инкриминировать Указ от 19.4.1943 («выполнение заданий оккупантов по сбору продовольствия»). По сведениям Караванского, в 1966 году Андреев отбывал 22-й год из своего 25-летнего срока — стало быть, срок исчислялся с 1945 года; по словам же М. Г. Кривозерцева, Андреев отсидел около семи лет и был освобожден по амнистии, то есть в 1955 году, и значит, начало срока — 1948 год. Все вопросы, впрочем, легко разрешить, будь на то добрая воля соответствующих правоохранительных органов. Ознакомиться с делом Андреева было бы интересно еще и для того, чтобы выяснить, являлся ли он, как утверждает Михей Кривозерцев, агентом гестапо.
Завершая рассказ о судьбе Б. Г. Меньшагина, приведу несколько цитат, в которые уместилась вся его жизнь.
«…На одной из дверей я прочел «юрист автопарка». Я постучал в дверь и вошел. В полутемной комнате, отгороженной от другой перегородкой, за столом сидел интеллигентного вида человек лет сорока, аккуратно одетый, в галстуке. Весь его вид не вписывался в окружающую его обстановку.
На столе лежало большое количество бумаг, обложки для претензионных и судебных дел. Подняв голову и посмотрев на меня, он предложил мне сесть. Я стал рассказывать о себе. Я сказал, что имею юридическое образование, что работал в институте на Украине, и показал свою трудовую книжку с записью о том, что уволен как «враг народа». Как мне показалось, эта формулировка его не испугала, а, наоборот, вызвала ко мне более пристальное внимание — я почувствовал его доброжелательное отношение. Его взгляд вызывал доверие и сочувствие.
Он мне сказал, что у него много судебных дел по взысканию задолженности по перевозкам, что ему действительно нужен помощник, но с моими документами идти в отдел кадров безнадежно. Попытаемся, как он сказал, обойти кадровика…
Человек, который протянул мне руку помощи, был Борис Георгиевич Меньшагин».
Из воспоминаний Григория Кравчика
«…начальником города был назначен немцами адвокат Меньшагин Б. Г., впоследствии ушедший вместе с ними. предатель, пользовавшийся особым доверием у немецкого командования и в частности у коменданта Смоленска фон Швеца».
Сборник сообщений ЧГК. М., 1946.
«Попав после американцев в Карловы Вары, он пошел к себе домой, но застал один разгром с распахнутыми дверями.[185] Тогда он пошел в дом священника, у него застал то же. Он решил, что большевики посадили его женщин. Достал веревку и пошел наверх в горы в лес, чтобы повеситься. Но когда он пристраивался, его спугнул пожилой мужчина с повязкой (советские давали разного цвета повязки на рукава) местного жителя, который стал его убеждать, что так делать не надо. Он тогда решил, что, значит, не судьба, и, чтобы облегчить участь своих родственников, добровольно явился в комендатуру».
Из письма Ирины Корсунской (1985)
«Осужденный Меньшагин за весь период нахождения в местах заключения по материалам личного дела характеризуется с положительной стороны.
В учреждении ОД-1/ст-2 г. Владимира содержится с 30 сентября 1951 года. За весь период содержания в учреждении также зарекомендовал себя в основном с положительной стороны.
Ранее предоставлялась возможность трудиться, к работе относился добросовестно. В настоящее время из-за отсутствия возможности на работу не выводится. Иногда требует к себе особых условий содержания. Были случаи необоснованного отказа от приема пищи. В поведении с администрацией и сокамерниками высокомерен».
Из тюремной характеристики (1970)
«Одиноким себя не чувствую и вообще считаю, что жаловаться на проведенную мною жизнь было бы грешно. Я обладал хорошей памятью, получил довольно много знаний в различных областях гуманитарной науки, все члены семьи меня любили, и в армии в 1919–1927 гг. и потом на судебной работе я чувствовал себя на своем месте и успешно выполнял свою работу. Не всякий сможет поставить себе в актив спасение от смерти 11 человек с риском для себя, не считая случаев замены смертной казни без такого риска: да и возвращение нескольким тысячам людей свободы, в т. ч. в годы войны более 3 тыс… всегда приносило мне радость. Что же касается несчастий, то редкий человек может избежать их…»
Из письма Б. Г. Меньшагина (1980)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед автором, взявшимся писать о Катыни, неизбежно встает простой вопрос: зачем? Зачем Сталин убил пленных?
Западные исследователи (а до недавних пор только они и могли всерьез обсуждать проблему) убедительного ответа не находят. Все попытки понять мотивы обычно заканчиваются предположением, что руководство НКВД неверно истолковало приказ о ликвидации лагерей: Сталин, мол, вовсе не имел в виду казнить поляков, это подчиненные перестарались. Как тут не вспомнить Райхмана с его афоризмом «ликвидацию можно понимать двояко»! Да ведь и в документах НКВД нигде не сказано «расстрел» — везде эвфемизмы типа «разгрузка лагерей» и «передать на ОСО». Так, может, и Берия не собирался расстреливать? Совершенно очевидно, что эта гипотеза заводит в новый тупик. Поневоле задумаешься: уж не в недрах ли НКВД родилась сама эта идея «Нюрнберга наоборот» (там был виноват автор преступных приказов, здесь — исполнитель)?
Вспоминают также, что в Тегеране, когда зашла речь о том, как поступить после победы с германской армией, Сталин предложил попросту расстрелять 50 тысяч немецких офицеров без суда и следствия, чем поверг в крайнее замешательство своих западных визави. Но и этот эпизод, бесспорно красноречивый, ничего не объясняет, а лишь доказывает, что Сталин мог отдать приказ о расстрелах. Но разве в этом кто-нибудь сомневается?
Боюсь, мы не выберемся из этой трясины мелкой факто-лоши, если не найдем некий новый уровень обобщения. В конце концов, сталинизм иррационален, а раз так, то не следует ли признать Катынь (равно как и весь сталинский террор) немотивированным убийством?
Впрочем, вот еще одна не лишенная резонов догадка. Войтех Мастны в книге «Путь России к холодной войне», повторив уже известный нам тезис о том. что Сталина «неправильно поняли, пишет, что ключ к катынскому преступлению «можно найти в его совпадении по времени с жалобами нацистов на то, что русские предоставляли убежище польским офицерам со скрытой целью. Но если сталинские головорезы убили поляков, чтобы снискать расположение Гитлера к Сталину, который тогда изо всех сил добивался этого, то Берлин не был информирован о сделанном».
Всякий раз, когда речь заходит о контактах между НКВД и гестапо, разговор ограничивается упоминанием встреч невысокого уровня, да и то гипотетических. Но если внимательно посмотреть протокольные сообщения о визите Молотова в Берлин, обнаружится, что в составе советской делегации был не указанный в списке сопровождающих лиц заместитель Берии Меркулов («Правда» от 14.11.1940) — и тогда понятно, почему среди встречавших находился Гиммлер, а среди провожавших — его заместитель Далюге. Напомню, что советско-германские соглашения 1939 года включали, кроме всего прочего, и секретный дополнительный протокол о пресечении польской агитации, а в нем фразу о взаимных консультациях.
Так что оговорка Мастного, что катынская акция должного эффекта в Берлине не возымела, так как немцы о ней ничего не узнали, все-таки не вполне корректна: не знала мелкая сошка вроде Словенчика, а Гитлер?
Ну а тот факт, что немцы молчали аж до 1943 года, как раз поддается объяснению. Во-первых, это слишком серьезный козырь, важно было не продешевить. Во-вторых, для большей убедительности следовало обнаружить само захоронение — дружба дружбой, а все же вряд ли Меркулов назвал точные места казни. И вот уж тут нельзя не поразиться, до какой степени вовремя были найдены могилы. Ведь это произошло после Сталинграда, когда воюющие стороны достигли равновесия и исход войны был совершенно непредсказуем. Гитлеру во что бы то ни стало нужно было изменить баланс сил в свою пользу, а для этого прежде всего осложнить отношения СССР с союзниками, предотвратить возможное открытие второго фронта в Европе.
Менее актуальной была задача инспирировать разрыв между Москвой и польским правительством в изгнании, и вот почему.
Катынь была не причиной, а лишь формальным предлогом советского демарша — подлинная же причина состоит в том, что Сталин к тому времени уже решил польский вопрос по-своему. Дипломатические отношения были прерваны в ночь с 25 на 26 апреля, а 8 мая объявлено о формировании на территории СССР дивизии имени Костюшко под эгидой Союза польских патриотов — прообраза будущего сталинистского правительства Польши, причем в сообщении сказано, что «формирование этой дивизии уже начато». Ясно, что замысел разрубить таким образом советско-польский Гордиев узел созрел до, а не после катынской сенсации. Вот почему Сталин не внял уговорам союзников, фарисейски ссылаясь на мнение своих «коллег» и на «общественное мнение».
«Премьер Сталин премьеру Черчиллю, лично и строго секретно. Кремль, 25 апреля.
Получил Ваше послание насчет польских дел. Благодарю Вас за участие, которое Вы приняли в этом деле. Однако должен Вам сообщить, что дело перерыва отношений с польским правительством является уже делом решенным, и сегодня В. М. Молотову пришлось вручить ноту о перерыве отношений с польским правительством. Этого требовали все мои коллеги, так как польская официальная печать ни на минуту не прекращает враждебную кампанию, а, наоборот, усиливает ее с каждым днем. Я был вынужден также считаться с общественным мнением Советского Союза, которое возмущено до глубины души неблагодарностью и вероломством польского правительства.
Что касается вопроса о публикации советского документа о перерыве отношений с польским правительством, то, к сожалению, никак невозможно обойтись без публикации».
В ответ Черчилль разразился следующим посланием:
«Г-н Иден и я указывали польскому правительству на то, что никакое возобновление ни отношений дружбы, ни сотрудничества с Советами невозможно в то время, когда оно выступает против Советского правительства с обвинениями оскорбительного характера и таким образом создает видимость того, что оно поддерживает злобную нацистскую пропаганду. Тем более никто из нас не может терпеть расследование Международным Красным Крестом под покровительством нацистов и под воздействием запугивания со стороны нацистов. Я рад сообщить вам, что польское правительство согласилось с нашим взглядом и хочет лояльно работать совместно с Вами.
Британский кабинет исполнен решимости навести должную дисциплину в польской прессе в Великобритании. Жалкие скандалисты, нападающие на Сикорского. могут говорить вещи, которые германское радио громко повторяет на весь мир, и это наносит ущерб всем нам. Это должно быть прекращено и будет прекращено.
Пока это дело было триумфом Геббельса. Теперь он усердно внушает мысль о том, что СССР будет организовывать польское правительство на русской земле и что СССР будет иметь дело лишь с этим правительством. Мы, конечно, не был» бы в состоянии признать такое правительство и продолжали бы наши отношения с Сикорским, который является самым полезным человеком, которого Вы и мы могли бы найти для целей нашего общего дела. Я рассчитываю, что такой же будет и американская точка зрения.
Я лично считаю, что они получили удар и что после любого периода времени, который будет сочтен удобным, отношения, установленные 30 июля 1941 года, должны быть восстановлены. Это больше всего не понравится Гитлеру, а то. что больше всего ему не нравится, нам разумно делать.
Наш долг перед армиями, которые в настоящее время ведут бои и которые вскоре будут вести еще более тяжелые бои, поддерживать хорошее положение в тылу. Я и мои коллеги твердо надеемся на более тесное сотрудничество и понимание между СССР, Соединенными Штатами, Британским содружеством наций и Империей не только в усиливающейся военной борьбе, но и после войны. Какая другая надежда, помимо этой, может существовать для измученного мира?»
Вся эта риторика пропала даром. В конце концов Сталин сделал именно то, чего больше всего опасался Черчилль — создал новое польское правительство. К слову сказать, наши западные союзники муссировали польский вопрос на протяжении всей войны, однако всякий раз, стоило Сталину проявить упорство, умывали руки.
Из сказанного видно, что в сталинской интерпретации конфликта причина и следствие просто переставлены местами. Какова же, собственно говоря, роль немцев? В «Сообщении» комиссии Бурденко сказано, что они посредством катынских разоблачений стремились спровоцировать польско-советский разрыв. Пусть так, но зачем же гениальный стратег «поддался на провокацию»? В том-то и дело, что Гитлер не мог не знать, хотя бы только из прессы, что отношения Москвы с «лондонскими поляками» из рук вон плохи, причем испорчены самой же Москвой. Теперь ему следовало попытаться вбить клин между Сталиным и его новыми польскими партнерами, между Советским Союзом и поляками как нацией. И Катынь, воскресившая в памяти поляков сговор 1939 года, идеально отвечала этой цели.
А перспектива нового сговора именно в 1943 году. после Сталинграда и особенно после Курской битвы, была вполне реальна. Поклонники Юлиана Семенова, с замиранием сердца наблюдающие за тем, как штандартенфюрер Штирлиц разоблачает происки Карла Вольфа и Аллена Даллеса в Швейцарии, вряд ли подозревают, что о попытке Вольфа вступить в сепаратные переговоры (кстати, она имела место в Цюрихе, а не в Берне) советское правительство совершенно официальным порядком информировал не кто иной. как английский посол Арчибальд Кларк Керр. У Гитлера со Сталиным до переговоров не дошло, однако их идея, судя по всему, витала в воздухе и Кремля, и рейхсканцелярии. Состоялся и взаимный зондаж, не возымевший последствий, вероятно, потому, что Сталин сделал ставку не на Гитлера, а на генералов-заговорщиков, о которых уже 20 апреля 1943 года сообщил в Москву Шандор Радо. Существует версия, согласно которой Берия всю войну поддерживал контакты с Гиммлером — кстати говоря, именно они, быть может, послужили причиной смерти Рауля Валленберга, который ненароком вышел на этот канал связи.
Еще одно обстоятельство, на которое указывает в своей книге «Россия после 1917 года» Фредерик Шуман: «Следует отметить, что первоначальное разоблачение Геббельса совпало по времени с героическим восстанием евреев в Варшавском гетто и было рассчитано на отвлечение от него внимания». (Отсюда — «еврейские комиссары».)
И, наконец, совсем простое соображение: нацистам надо было чемто отвечать на сообщение ЧГК — отсюда и Катынь, и Винница, и Пятигорск.
Только теперь вижу, что последние страницы книги больше похожи на пролог, чем на заключение. Так оно и есть: ка-тынская проблема не закрыта, политическое решение всего лишь сделало возможной полноценную работу над ней. Как бы нам ни внушали обратное, факт остается фактом: до сих пор не обнаружено ни одного окончательного, однозначного документа только косвенные, а уж в интерпретации косвенных доказательств советская историческая наука не имеет себе равных: до сих пор мы не знаем ни имен преступников, ни деталей акции: сведения о недавно обнаруженных захоронениях страдают крайней неполнотой и невразумительностью. По-прежнему блокирован доступ к архивам КГБ. а ведь именно там и только там хранятся ответы на все оставшиеся вопросы, именно это учреждение, а не безымянная «советская сторона», должно выражать «глубокое сожаление в связи».
Само собою разумеется, весь корпус уже выявленных документов должен быть рассекречен и опубликован — только тогда появится реальная возможность анализировать их не по-партизански, а профессионально. Я уже писал о недопустимой игре с цифрами. Увязать их друг с другом трудно, но необходимо. Всю имеющуюся в наличии информацию следует заложить в компьютер, но для этого она должна быть доступна, нужна заинтересованность соответствующих должностных лиц и ведомств.
Одна из самых безотлагательных задач состоит в том, чтобы найти и опросить свидетелей, пока они не ушли из жизни. В дополнение к уже перечисленным назову еще одно имя: в Австралии опознан бывший начальник смоленской полиции. военный преступник Алферчик — уверен, ему есть что рассказать о Катыни.
Есть. впрочем, целая категория свидетелей, до сих пор как-то совсем не разговорившаяся. Это бывшие сотрудники НКВД — НКГБ. работники среднего звена, которые многое знают, но поведать общественности ничего не могуг, так как в свое время обязались не разглашать служебную тайну. Надо думать, не только катынская, но и иные проблемы прояснятся, если подписки о неразглашении, составленные, скажем, до 1953 года включительно, признать утратившими силу. Принять решение по этому вопросу мог бы Верховный Совет.
Специфический поворот темы — мифологизация катынской трагедии. Слишком долго она пребывала в зоне молчания, за полвека вокруг нее образовался целый фольклор. Наверное, каждому, кто решил отправиться по катынским адресам, приходилось встречать среди местного населения людей. которые не моргнувши глазом излагают фантастические подробности, указывают места погребения, чуть ли не в лицах описывают кровавые сцены расстрелов. Как правило, несообразности в этих рассказах обнаруживаются без особых усилий, однако же мнимые очевидцы стоят на своем, вступают в изнурительные дискуссии, пишут в инстанции и органы прессы. Бывают случаи и более сложные, требующие тщательной проверки. А бывает — человек искренне заблуждается. Боюсь, теперь, когда цензурные шлюзы окончательно рухнули, чти народные сказители имеют шанс оказаться в центре внимания, начнут еще, чего доброго, водить экскурсии и выступать с лекциями от общества «Знание». Этой деятельности необходимо положить конец. Главное противоядие — опять-таки публикация подлинных документов. Имея в руках источники, любой квалифицированный краевед опровергнет самозванца, сколь бы изощренной ни была его легенда.
Как и во всякой большой, трудоемкой и многослойной теме, в «катынском деле» есть своя периферия — эпизоды, возникающие при обработке источников попутно, не имеющие отношения к основному сюжету, однако способные составить предмет специального исследования. Например, изучая архивный фонд Главного управления конвойных войск НКВД СССР. я обнаружил списки около двухсот интернированных военнослужащих английской, французской и бельгийской армий. В феврале — марте 1941 года они были отконвоированы из Бутырской тюрьмы в Козельский лагерь, где содержались вплоть до начала войны; в последних числах июня их эвакуировали в Грязовец. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна. (Совсем недавно этим сюжетом заинтересовался лорд Бетелл, опубликовал в английской прессе составленный мною список из девяти имен. запросил о них британское министерство обороны. Надо полагать, к моменту выхода книги участь по крайней мере англичан выяснится.) Существуют и иные частные проблемы.
Хочу обратить внимание читателей — и па юридические аспекты «катынского дела», доставшиеся нам в наследство от сталинско-гитлеровских времен. Все население территорий. отошедших к CCC'pпо советско-германскому договору о дружбе и границе, тогда же, в 1939 году, было объявлено советскими гражданами. По заключении в августе 1941 года военного соглашения с Польшей гражданство было возвращено, но не всем, а лишь этническим полякам. В 1943 году, после разрыва советско-польских дипломатических отношений, поляки снова стали считаться гражданами СССР. а те. кто отказывался от этой чести, подверглись репрессиям. В результате человек, родившийся, скажем, в 1938 году во Львове, имеет паспорт, где в графе «место рождения» указано «Украинская ССР». Но в 1938 году Львов был польским городом!. И таких казусов, причем более запутанных, множество. Я уж не говорю о том, что польский Сейм потребовал от правительства СССР компенсации за Катынь — это, понятно, вопрос тяжелый. Ну а запись-то в паспорте исправить — нет ничего проще, но ведь все-таки дело, а не слова, которыми мы все еще пытаемся заболтать межнациональные конфликты.
Отдельная тема — юридическая ответственность виновников катынского убийства. С какого боку к ней ни подступись, говорить приходится о сталинских репрессиях в целом, хотя известные оттенки здесь существуют и учитывать их тоже необходимо. Официальные лица, от которых зависит принципиальное решение вопроса, в своих публичных выступлениях обычно ссылаются на срок давности, который, дескать, в данном случае истек. Между тем всякому юристу известно, что статья 48 УК РСФСР вопрос о применении срока давности к лицу. совершившему преступление, за которое может быть назначена смертная казнь, оставляет открытым он должен решаться судом. Катынскую же акцию следует квалифицировать как умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (статья 102 УК РСФСР), то есть как преступление, караемое смертной казнью.
Далее. Катынская акция, вне всякого сомнения, является военным преступлением, в число которых, как гласит статья 6 Устава МВТ в Нюрнберге, входит нарушение законов и обычаев войны, в частности, убийства или истязания военнопленных. Советский Союз — участник Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и к преступлениям против человечности от 26.11.1968. а в декабре 1983 года голосовал за резолюцию 38/99 Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой привлечение к ответственности лиц, виновных в этих преступлениях, является обязательством всех членов международною сообщества. К тому же и советское законодательство предусматривает наказание за военные преступления (статьи 266–269 УК РСФСР).
Распространено также мнение, что суд над виновниками сталинского террора невозможен, поскольку их нет в живых. Но и это не так: согласно статье 5 УПК РСФСР, уголовное дело может быть возбуждено и против умершего в тех случаях, «когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам».
Вынужденное «покаяние» — это еще не очищение от скверны сталинизма. Только суд может объявить сталинизм вне закона, а его пропаганду запретить де-юре без ущерба для плюрализма. Вся правда — вот гарант нашей способности к подлинному нравственному обновлению.
Процесс десталинизации только начинается. Главное — не остановиться на полпути, иначе «белые пятна» так и останутся «грязными». Это пятна не на истории, а на совести народа.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Новая глава, предисловие и постскриптум к польскому изданию
В 1991 году, еще до того, как были обнародованы катынские документы, в Москве вышла книга Владимира Абаринова «Катынский лабиринт». В настоящий момент книга вышла по-польски под заглавием «Катынские палачи». К польскому изданию автор написал предисловие, большую дополнительную главу 7, где излагает развитие темы Катыни в СССР-России после 1990 го, и постскриптум. При подготовке дополнительных материалов автор использовал информацию как из своего архива, так и из опубликованных в последние годы источников, в частности, из обстоятельного исследования И. С. Яжборовской, А. Ю. Яблокова и В. С. Парсадановой «Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях» (РОССПЭН, Москва, 2001).
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОЛЬСКОМУ ИЗДАНИЮ
Эта книга писалась в другой жизни и другом мире. О них сегодня даже странно вспоминать. Будто листаешь семейный альбом фотографий и видишь себя в далеком детстве, наивного и глупого, и смотреть на себя прежнего немного стыдно, потому что ведь у каждого в детстве были стыдные тайны, о которых мама так и не узнала, но ты-то знаешь. И еще немного жалко себя — потому же, почему бывает жалко людей, запечатленных на довоенных или дореволюционных фотографиях: они не догадываются, что их ждет впереди.
Закат брежневской эпохи был таким медленным и долгим, что мы ничего не замечали. Лично я был уверен, что советский рейх простоит еще лет пятьсот. Это было абсурдное, вывернутое наизнанку государство, но рушиться ему было не от чего — ни извне, ни изнутри его никто не разрушал. Даже диссиденты требовали от вождей лишь одного: соблюдайте собственную конституцию. Кафкианская реальность, но иной нам было не дано, и мы приспособились к той, какая была.
Действительное разрушение большевистской империи началось тогда, когда потеряла свою эффективность пропаганда — машина крутилась, но на холостых оборотах. У нас просто наступила идиосинкразия: пропаганды было слишком много, и головной мозг стал сопротивляться. Это была защитная реакция организма.
В 70-е годы «железный занавес» уже основательно проржавел и прохудился. Несомненно, в Кремле думали над тем, как бы «выпустить пар», и при этом искали альтернативу «буржуазной» культуре. Так посредственный певец, но зато восторженный поклонник социализма американец Дин Рид стал в СССР звездой рок-н-ролла, а серб Гойко Митич — главным индейцем восточногерманских вестернов. Но самой большой брешью, самым широким окном в мир для моего поколения была Польша.
Сейчас уже и не вспомнить, с чего это началось. Максимы Станислава Ежи Леца я прочел раньше, чем увидел «Пепел и алмаз». И то и другое стало для меня откровением. Я был заворожен этим строем чувств и мыслей, этой неповторимой, неподражаемой смесью горького сарказма с высоким романтизмом, трагедии с фарсом, нежности со стойкостью. В нашей компании студентов московского института кинематографии слова «польское кино» были термином, не требующим объяснений. «Польское кино» не обязательно было польским. Прочитав сценарий однокурсника, я мог сказать ему: «Это польское кино». Такой оценкой можно было гордиться. Но она означала, что сценарий, скорее всего, так и останется рукописью. «Пейзаж после битвы» я увидел раньше, чем прочел Тадеуша Боровского, но и «Прощание с Марией» для меня — тоже «польское кино».
Позднее у меня появились друзья среди польских актеров и режиссеров, на московском кинофестивале польская делегация была самая общительная и раскованная, оправдывая присвоенное кем-то Польше звание «самого веселого барака в соцлагере», а однажды я наблюдал, как Даниэль Ольбрыхский давал интервью юной советской журналистке, на все вопросы отвечая исключительно цитатами из песен Владимира Высоцкого, и всякий раз в точку, и ни разу не повторился. Это был феерический спектакль! Журналистка смеялась вместе со всеми, но, когда поняла, что ни слова опубликовать не сможет, смех обратился в слезы, и кто-то сказал: «Ну что ты делаешь, Данила? Дай девочке нормальное интервью, а то ее с работы выгонят». И Данила дал нормальное интервью.
Потом наступил 1981 год, и дикторы советского телевидения строгими голосами вещали про «перерывы в работе» в Польше. Назвать забастовки «Солидарности» забастовками для кремлевского агитпропа было бы страшной крамолой: бастуют при капитализме, а при социализме бастовать не из-за чего. В моем кругу в те дни родилась фраза «Вся надежда на Польшу». И Польша надежду оправдала. Когда выяснилось, что Москва не пошлет войска в Польшу, мы поняли: польский бастион устоял, а советская империя обречена. Она скончалась естественной смертью, распалась, потому что пришел ей срок, потому что ослабли державшие ее скрепы страха.
При Горбачеве поначалу никаких кардинальных перемен не ощущалось — слегка открутил гайки, но не слишком. В феврале 1987 г. в лютый мороз на зов перестройки в Москву съехался весь мировой бомонд от Грэма Грина до Йоко Оно. То был какой-то форум в защиту мира. Я ходил по отелю «Космос» и чувствовал себя на балу у Воланда. На этом форуме впервые появился на публике возвращенный из ссылки Андрей Сахаров. Но специфика того момента заключалась в том, что появиться Сахарову уже было можно, а написать об этом в «Литературной газете», где я тогда работал, или показать его по советскому телевидению — еще нельзя.
В руководстве Союза кинематографистов СССР в то время оказались либералы, постоянно испытывавшие режим на прочность — именно там получили крышу над головой и легальную трибуну люди, составившие впоследствии первую команду Ельцина. На очередной кинофестиваль в Москву Союз пригласил Анджея Вайду и Адама Михника, но Михнику не дали визу, и тогда Вайда, который должен был возглавить жюри, сказал, что он тоже не поедет. В итоге приехали оба.
Я привез Вайду в редакцию, в комнату набилось много народу, это было первое появление Вайды в Москве после «Человека из мрамора». Среди прочих там сидел человек, написавший гнуснейший пасквиль на фильм «Дантон», но он задавал вопросы как ни в чем не бывало и, по всей видимости, ничего похожего на комплекс вины не ощущал и даже, наверно, искренне не понял бы, о чем речь, если бы его спросили, не стыдно ли ему. Во всяком случае многие из тех, кому тогда задавали подобные вопросы, реагировали именно так.
«Молчащих нельзя лишить слова», — сказал Станислав Ежи Лец. Пора было говорить. Я работал в могучей, авторитетнейшей «Литературной газете». В то время журналист с таким удостоверением почти не знал преград. Чиновникам и обыкновенным гражданам и в голову не могло прийти, что он действует не по заданию редакции, а по собственному почину. Я взялся за проблему секретных протоколов к пакту Молотова—Риббентропа. Моим старшим товарищем и наставником в этой работе был ныне покойный блистательный историк Натан Эйдельман. Нет, я не обнаружил оригиналы протоколов — даже во времена расцвета горбачевской гласности к самым секретным архивам никого извне не подпускали. Но я нашел косвенные подтверждения их существования в документах Нюрнбергского процесса. Эйдельман пригласил меня участвовать в дискуссии в Центральном доме литераторов. Уже наутро об этом донесли моему газетному начальству, которое велело мне впредь не участвовать в «полуподпольных сборищах».
То было странное время. Еще действовала цензура, но она уже не знала, что можно, а чего нельзя. Когда в августе 1989 г. в связи с 50 летием начала II Мировой войны развернулась острая дискуссия о советско-германских протоколах и стало ясно, что чаша весов клонится к признанию их подлинности, мой редактор принял запоздалое решение печатать мой текст на эту тему, который провалялся у него на столе полгода. Но к тому времени я уже отдал статью в московский журнал. Цензура вынула ее из сверстанного номера, и номер полетел к черту, но я переслал статью в Таллин, где она и была опубликована. А месяц спустя вышла и в Москве.
В архиве, где я искал документы о Катыни, полагалось все выписки делать в специальную тетрадь с пронумерованными страницами, чтобы нельзя было вырвать и унести часть записей. После занятий тетрадь надлежало сдавать на хранение работникам архива, которые внимательно просматривали записи, выясняя, не содержат ли они государственную тайну. Лишь после такого просмотра тетрадь можно было забрать домой. Но мне вся эта морока сильно осложняла работу, к тому же я был почти уверен, что катынское дело по-прежнему составляет государственную тайну (узнать это было неоткуда, ведь перечень гостайн тоже был гостайной). Поэтому я царапал свои заметки на клочках бумаги, а клочки совал в карман. Все мое катынское досье состояло из кучи бумажных обрывков, в которых я потом с трудом мог разобраться.
Ничего особенно героического во всем этом нет. Я никак не пострадал — меня не выгоняли с работы, не вызывали в КГБ. А неприятности с цензурой бывали у всех приличных людей. Но все-таки, когда оригиналы протоколов, а затем и катынские документы наконец нашлись в президентском архиве и были опубликованы (их никто и не терял, разумеется), у меня было ощущение свалившегося с плеч груза — дело сделано, повернуть историю вспять невозможно. Оказалось, еще как возможно. Всего только и требуется спрятать протоколы в какую-нибудь «особую папку». И через полвека историки и журналисты нового поколения начнут раскопки заново.
Иногда мне все это кажется каким-то наваждением — не то, что было со мной и Россией тогда, а то, что происходит с Россией сегодня без меня. Я смотрю теперь на нее издалека, из-за океана, не улавливаю многих деталей, но ведь со стороны виднее. Происходящее в России представляется мне экранизацией романа жанра «альтернативная история», чудится, будто к власти в Москве благодаря какой-то дикой причуде истории пришли постмодернисты и устроили инсталляцию, перформанс размером со страну. Будто Пелевиным написаны фантасмагорические визиты на бронепоезде северокорейского вампира Ким Чен Ира, абсурдные «съезды гражданского общества» под патронатом верховной власти и шпиономанские судилища в духе Льюиса Кэрролла («— Нет! — сказала Королева. — Пусть выносят приговор! А виновен он или нет — потом разберемся!»).
Я публикую свои маргиналии и ламентации в Интернете, а потом читаю в блогах, что мне, предателю и клеветнику, давно пора на Колыму. Наивные люди. Они думают, что лояльность режиму спасет их от Колымы. Как говорит нам история родной державы, лояльные на Колыме тоже нужны — ведь они работают не за страх, а за совесть.
Только теперь я вижу скрытый смысл названия этой книги. Я побывал в лабиринте, но до Минотавра не добрался. Наш Минотавр, наше общее чудовище — тяжкое наследие сталинизма. Еще недавно я все твердил согражданам, как рыцарь Ланцелот из пьесы Евгения Шварца: «Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение. Но мы всё это исправим».
Должность вопиющего в пустыне утомляет. Но никакой другой у меня нет.
Август 2006, Арлингтон, Вирджиния
Глава 7. ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
Михаил Сергеевич Горбачев искренне верит, что он дал свободу народам Советского Союза. На его месте я бы, наверно, тоже верил. Но на своем верить этому не могу, потому что очень хорошо помню, как было на самом деле.
«О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради Бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов», — писал, пародируя кого-то, Достоевский в 1861 году, когда Россия после лютой стужи николаевского царствования пошла по пути великих реформ. (В английских толковых словарях эта исторически первая дефиниция гласности отсутствует вовсе — glasnost ассоциируется исключительно с горбачевской перестройкой.)
Именно это и произошло с горбачевской политикой гласности: едва приоткрыв клапан, генеральный секретарь ЦК КПСС, который очень хотел нравиться иноземцам, испугался последствий и то и дело норовил закрыть его. Попытки восстановить контроль над прессой маскировались разными предлогами — например, борьбой с порнографией. Он провел закон о защите чести и достоинства президента, тем самым показав, что президент «равнее» прочих граждан. (Закон этот отнюдь не остался мертвой буквой — по нему привлекались к ответственности лидеры оппозиции, а арбатских торговцев, торговавших матрешками, изображающими Горбачева, штрафовали, конфискуя товар.)
Действительно при Горбачеве, с превеликими трудами, был принят закон о печати — в июне 1990 года. Но уже в январе 1991 го застрельщик перестройки попытался отменить его «в связи с необъективным освещением событий в Литве». Речь идет о войсковой операции по захвату телецентра и других ключевых объектов в Вильнюсе — в город вошли танки и бронетранспортеры, московский спецназ штурмом взял телецентр, при этом погибли защищавшие здание в качестве живого щита безоружные граждане. После событий в Вильнюсе вся либеральная пресса встала в оппозицию режиму и впервые, черным по белому, назвала его преступным. Горбачева это шокировало. Он просто не представлял себе, что журналисты могут осмелеть до такой степени, у него это не укладывалось в голове. На заседании Верховного Совета генсек предложил приостановить действие закона о печати, но столкнулся с такой обструкцией зала, что вынужден был отступить. Эта нерешительность и стала смертным приговором режиму, который оказался слаб в коленках. Путч в августе 1991 го был агонией советской империи.
Примечательна обмолвка Горбачева: «Этот вопрос мы решим по ходу пьесы», — сказал он однажды вместо «по ходу съезда». Он не понимал, что события уже давно вырвались из рамок стройного сценария. И до последней возможности все твердил про «социалистический выбор», который сделал еще его дед.
Горбачев не подарил нам свободу слова. Мы взяли ее сами, постепенно, шаг за шагом, расширяя зону гласности. На заре перестройки я и мои коллеги по «Литературной газете» постоянно шли как бы по тонкому льду: вот сюда уже можно, а туда — еще нет. Пределы допустимого определялись всякий раз заново. Статья, не имевшая шансов у одного редактора, могла проскочить у другого. Тонко вычислялся политический момент. Помогали ссылки на прецеденты — публикации в конкурирующих изданиях — и на публичные выступления генсека. Сегодня это звучит смешно, но именно таким образом увидели свет наиболее громкие материалы ЛГ. «Чуть ли не каждую неделю появлялись «дерзкие» публикации, поднимавшие планку допускавшейся в тот момент открытости», — пишет Горбачев в своих мемуарах «Жизнь и реформы». Там же, в другом месте: «Гласность вырывалась из рамок, которые первоначально пытались ей определить…»
Мне в какой-то мере было проще: я работал в отделе зарубежной культуры, эта сфера в глазах высокого начальства была не столь взрывоопасна, как внутренняя политика или экономика. В мае 1988 г. я пришел в Союз кинематографистов СССР на советско-польский «круглый стол» об историческом кино. Дискуссия быстро вышла за узкопрофессиональные рамки. Критик Анджей Вернер прочел неслыханный по откровенности доклад о «белых пятнах» в истории двусторонних отношений. Советские историки, и это было еще удивительнее, поддержали диалог, проявив полную осведомленность в этой проблематике. В такой концентрации рассуждения о трагизме советского периода в истории Польши и о лжи, окружающей его, мне прежде слышать не приходилось. Отрывки из стенограммы «круглого стола» были опубликованы без особых усилий — возможно, бдительность цензуры усыпила тема — «историческое кино». Но очень скоро я понял, что это только начало работы. Тираж «Литературной газеты» в то время был 6,5 млн. экземпляров. После выхода в свет статьи на меня обрушилась лавина читательских писем.
Теперь из мемуаров бывших кремлевских сановников я знаю, что Горбачев столкнулся с проблемой «белых пятен» уже через несколько недель после своего избрания генеральным секретарем ЦК в 1985 году. С предложением снять табу к нему обратился Войцех Ярузельский, к которому Горбачев относится с подчеркнутым пиететом. Новый советский лидер не возражал, но сказал, что недавно приступил к исполнению обязанностей и ему требуется время, чтобы вникнуть в эти вопросы. Горбачев умел по аппаратной привычке «спускать на тормозах» неприятные дела, для этого советская система изобрела множество уловок в духе законов Паркинсона. Но генерал проявил настойчивость, и в ходе его визита в Москву в апреле 1987 г. была подписана «Декларация о советско-польском сотрудничестве в области идеологии, науки и культуры», в которой было сказано, что «все эпизоды (совместной истории. — В.А.), в том числе драматические, должны получить объективное и четкое истолкование с позиций марксизма-ленинизма». На основании декларации была создана и уже в мае того же года провела первое заседание двусторонняя комиссия историков.
Никаких вестей от членов комиссии, заседавшей за закрытыми дверями, не доносилось. Моя наивная попытка помочь советским историкам привела лишь к попытке одного из них воспрепятствовать моей работе. Но мое начальство не нашло в моих занятиях ничего предосудительного.
Сегодня трехлетняя эпопея комиссии описана во всех подробностях, как ее польским сопредседателем Яремой Мачишевским, так и советским — Георгием Смирновым. Проблема советской части комиссии состояла не только в том, что в нее входили люди, посвятившие свою научную карьеру апологии довоенной внешней политики Сталина и разоблачению «польской контрреволюции» (один из них, Олег Ржешевский, писал о «засевшей в КОС-КОР и руководстве пресловутой «Солидарности» агентуре империалистических разведок»), но и в том, что она не имела никаких полномочий на проведение самостоятельных научных исследований.
Вместе с тем в качестве компенсации за проволочки в катынском вопросе Смирнов добился рассекречивания решения президиума Исполкома Коминтерна от августа 1938 г. о роспуске компартии Польши. Очевидцы рассказывают, что на заместителе директора Центрального партийного архива Аникееве, который принес бумагу на заседание комиссии, лица не было, у него тряслись руки. Тот факт, что он должен передать совершенно секретный документ иностранному профессору, не укладывался у него в голове и разрушал сложившуюся в ней картину мира.
Советская часть комиссии оказалась в нелепом положении: она не могла принимать политических решений, но и побудить руководство страны к их принятию была не в силах.
Между тем в Кремле стал муссироваться вопрос о секретных протоколах к пакту Риббентропа—Молотова. 5 мая 1988 г. он был поставлен на заседании Политбюро в связи с предстоящим визитом Горбачева в Польшу. Разброс мнений оказался таков, что, как пишет тогдашний секретарь ЦК Вадим Медведев, «девять десятых в решении этого вопроса зависело от Горбачева. Но он подтвердил свою прежнюю точку зрения: по копиям, как бы достоверно они ни выглядели, юридическое признание документов неправомерно».
Аргумент об отсутствии подлинника, на основании которого Советский Союз десятилетиями отрицал аутентичность копий протоколов, для профессионального историка звучит, конечно, дико. Оригиналы множества межгосударственных договоров утрачены, но это отнюдь не значит, что сами договоры утратили силу или что надо переписать историю так, как если бы их никогда не заключали. Помнится, Натан Эйдельман в ответ на этот довод рассказал, что недавно из отдела рукописей Ленинской библиотеки пропал подлинник Ништадского мирного договора между Петром I и Карлом XII — может, теперь по этому случаю снова объявить войну Швеции?
Но дело не только в абсурдности аргумента, но и в том, что Горбачев знал, что оригиналы существуют, и не только знал, но и видел их собственными глазами.
Как выяснил Валерий Болдин (в то время — заведующий Общим отделом ЦК, позднее — шеф аппарата президента СССР), сразу после смерти Сталина его ближайшие клевреты вскрыли его личный сейф и разобрали хранившиеся там документы по служебной принадлежности. Подлинники секретных протоколов взял себе Молотов. В его личном сейфе они и хранились вплоть до октября 1957 г., когда Молотов был снят Хрущевым с высших партийно-государственных постов и отправлен послом в Монголию. Оригиналы протоколов поступили тогда в архив Политбюро и хранились там за семью печатями. Даже глава государства не мог распоряжаться бумагами этого архива бесконтрольно. Болдин пишет, что показал Горбачеву протоколы и карту раздела Польши с автографом Сталина в начале 1987 г. и получил команду: «Убери подальше!»
Катынское же дело и подавно не могло сдвинуться с мертвой точки. Парадокс ситуации заключался в том, что Кремль хотел — или делал вид, что хотел, — принять политическое решение на основании архивных документов; но ведомства-архиводержатели не могли представить документы, не имея политического решения. С этой аппаратной головоломкой приходится постоянно сталкиваться любому бюрократу — человек опытный чутко улавливает умонастроения начальства и точно знает, когда нужны документы, а когда отписки. Академик Смирнов отовсюду получал отписки.
Александру Яковлеву, которого Смирнов донимал просьбами помочь в поисках документов, генсек отвечал одним словом: «Ищите!» Валерий же Болдин на вопросы Яковлева о катынских документах «уверял, что таковых у него нет, но говорил это с легкой усмешкой». «Иногда у меня появлялись сомнения в искренности ответов на мои просьбы», — признаётся Яковлев.
Саммит Горбачева и Ярузельского в июле 1989 г. не оправдал ожиданий поляков. Как пишет д р Мачишевский, Горбачев высказался о Катыни «только в результате стараний, настояний и прямо-таки требований польского руководства». Советский генсек затронул тему лишь в послесловии к брошюре о своей встрече с польской интеллигенцией. «История этой трагедии, — написал он, — сейчас тщательно исследуется. По результатам исследования можно будет судить, насколько оправданны те или иные суждения, оценки». На самой встрече заговорить на катынскую тему у Горбачева не хватило духу. Ему все еще казалось, что ее можно обойти и забыть, он искренне не понимал, почему бы Москве и Варшаве не сосредоточиться на будущем и не предать забвению прошлое.
Между тем вопрос о переоценке пакта Риббентропа—Молотова встал на Первом съезде народных депутатов по настоянию представителей прибалтийских республик. Горбачев в своем выступлении заявил, что подлинники протоколов не найдены, а судить о подлинности копий он считает невозможным. Даже видавший виды Болдин, внимая речам генсека, изумлялся такому фарисейству.
Вскоре Горбачев, как бы между делом, спросил Болдина, уничтожил ли он протоколы. Болдин остолбенел: сделать это он мог лишь по письменному распоряжению первого лица. Но лицо это как раз не хотело оставлять своих следов в таком щекотливом деле. В этом эпизоде, как в капле воды, отражается половинчатость натуры первого и последнего президента СССР — он не решался ни уничтожить документы, ни опубликовать, ни даже признаться, что видел их. О том, что видел, не знал даже его ближайший соратник Александр Яковлев, возглавивший на съезде комиссию по политической и правовой оценке пакта 1939 года. После отчаянной борьбы, как публичной, так и закулисной, Второй съезд, состоявшийся в декабре того же 1989 г., признал предвоенные советско-германские секретные протоколы «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания». Голосование по проекту постановления было открытым. Горбачев не спешил поднимать руку «за», наблюдая за залом, и сделал это, лишь убедившись, что «за» голосует большинство.
Постановлению предшествовали разнообразные и хитроумные ходы, направленные на легитимацию копий. Одним из главных возражений противников признания аутентичности копий была подпись Молотова, сделанная латиницей, что не соответствовало дипломатическому протоколу и как будто не было в обычае у наркома иностранных дел. Тогда депутат от Эстонии академик Эндель Липмаа представил комиссии образчики латинского автографа Молотова из своей личной коллекции — оказалось, что на иноязычных экземплярах документов Молотов подписывался именно так. Заведующий международным отделом ЦК Валентин Фалин передал комиссии результаты криминалистической экспертизы, установившей, что текст советско-германского договора о ненападении 1939 г. и секретные протоколы напечатаны на одной и той же машинке. Доложив об этом генсеку, Фалин сказал Яковлеву: «Протоколы существуют, и Горбачев их видел. Непонятно, для чего генеральный разыгрывает этот спектакль».
Я следил за перипетиями этой борьбы с неослабевающим интересом, хотя видел только верхушку айсберга. У меня уже в конце 1988 г. была написана большая статья-расследование о секретных протоколах на Нюрнбергском процессе, о показаниях на эту тему Риббентропа и Вайцзеккера; я списался с адвокатом Гесса Рудольфом Зайдлем, который допрашивал их в качестве свидетелей защиты; из рабочих документов советской делегации в Нюрнберге я знал, что следователи и обвинители находились под неусыпным наблюдением сотрудников МГБ, докладывавших о каждом их шаге в Москву; наконец, знал я и о загадочной смерти в Нюрнберге одного из советских военных прокуроров Николая Зори — по странному совпадению, именно ему пришлось вести допросы свидетелей, подтверждавших существование секретных протоколов, и ему же было поручено представление доказательств по Катыни.
Мне хотелось, чтобы статья вышла в «Литературной газете», но в то же время важно было напечатать ее к 50 летию начала II Мировой войны. Статья была опубликована вовремя, но не в Москве, а в Таллине, в русскоязычном журнале «Радуга».
Оригиналы же секретных протоколов были представлены публике лишь 27 октября 1992 г., уже при Ельцине. Позднее, вспоминая о своих переговорах с покойным японским премьер-министром Рютаро Хасимото, Борис Ельцин написал, что в Москве раздумывали, не заключить ли с Токио некий негласный пакт о Южных Курилах, которые Япония считает своей территорией. Однако отказались от этой идеи: «Время секретных протоколов все-таки уже в прошлом. Ничего хорошего от возрождения этой практики не будет».
Теперь, с расстояния в 17 лет, видно, что Первый и Второй съезды народных депутатов были высшей точкой горбачевской гласности и демократизации. Горбачев выдохся в неравной борьбе с партийным аппаратом, а опереться на радикальное крыло реформаторов опасался. Народ, измученный борьбой за выживание, отказал в доверии своему лидеру, забалтывающему любую проблему. Кремль переходил к обороне, защите «идеалов социализма» от посягательств слишком рьяных либералов («…многие начали срываться на истерики, — писал впоследствии Горбачев, — злобные выпады против перестройки и лично против меня. Одни мстили за разрушение привычных миров и удобного для них порядка. Другие, пьянея от свободы, соревновались в показной смелости»). Пресса была заполнена статьями о преступлениях сталинизма, но непорочные ризы Ленина оставались неприкосновенными.
«Говорят, что рамки социализма для перестройки тесны, — вещал Горбачев на встрече с деятелями науки и культуры в январе 1989 года. — Исподволь подбрасывается мысль о плюрализме, многопартийности и даже частной собственности». Но в марте 1990 го ему пришлось смириться с многопартийностью. На внеочередном Третьем съезде был поставлен вопрос об избрании Горбачева президентом — он испустил вздох облегчения, когда было решено избирать съездом, а не всенародным голосованием, которое он, несомненно, проиграл бы. Но и на съезде при отсутствии альтернативных кандидатур за него было подано всего 59,2 % голосов.
Катынская проблема тем временем перешла в стадию аппаратных игр. По высоким кремлевским кабинетам циркулировали совершенно секретные записки, справки и проекты решений. Одни бесследно пропадали, не возымев никаких последствий, другие получали ход, обрастали визами, но из замкнутого круга секретного бумагооборота вырваться не могли.
22 марта 1989 г. Эдуард Шеварднадзе, Валентин Фалин и Владимир Крючков подают в ЦК КПСС под грифом «секретно» записку «К вопросу о Катыни». У авторов ее нет сомнений в том, какая из двух версий верна. «Советская часть Комиссии (историков. — В.А.), — пишут они, — не располагает никакими дополнительными материалами в доказательство «версии Бурденко», выдвинутой в 1944 году. Вместе с тем нашим представителям не дано полномочий рассматривать по существу веские аргументы польской стороны». Авторы записки предлагают: «Видимо, нам не избежать объяснения с руководством ПНР и польской общественностью по трагическим делам прошлого. Время в данном случае не выступает нашим союзником. Возможно, целесообразнее сказать, как реально было и кто конкретно виновен в случившемся, и на этом закрыть вопрос. Издержки такого образа действий в конечном счете были бы меньшими в сравнении с ущербом от нынешнего бездействия».
И опять заседание Политбюро, и новое поручение различным инстанциям в месячный срок представить ЦК КПСС «предложения о дальнейшей советской линии по Катынскому делу». Но такие предложения, а вернее указания, инстанции хотели получить как раз от ЦК КПСС. В ответ на слезные мольбы академика Смирнова, просившего принять хоть какое-нибудь решение, ему от имени Горбачева было предложено вместе с д ром Мачишевским выступить с совместным обращением к гражданам, организациям и архивам Польши, Советского Союза и третьих стран с просьбой направлять комиссии свидетельства и документы, имеющие отношение к событиям в Катыни. Но Мачишевский категорически отказался участвовать в этом фарсе.
Видимо, в момент тяжких раздумий Горбачев решил посмотреть на документы «особой папки». Бегло прочитав несколько страниц, он собственноручно заклеил пакеты скотчем и вернул их Болдину со словами: «Храните получше и без меня никого не знакомьте. Слишком все это горячо».
Горбачев держал в руках документы «особой папки» за 10 дней до визита Ярузельского в Москву (27–28 апреля 1989). Среди этих бумаг была и самая главная — постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940: «…рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела. (…) Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения…»
Но и на этот раз до признания дело не дошло. Болдин пишет, что не может понять, почему генсек «начинал юлить и лгать» всякий раз, когда речь заходила о Катыни. Возможно, в этом не отдавал себе отчета и сам Горбачев.
До меня доходили отголоски аппаратных баталий — в основном через Юрия Зорю, сына погибшего в Нюрнберге военного прокурора. Теперь уже тоже покойный, он был убежден, что отца убили бериевские тонтон-макуты. Я в этом не уверен — эта смерть могла быть и самоубийством. В любом случае она связана с катынским делом, которое в Нюрнберге не удалось приписать нацистам. Юрий Николаевич был одним из исследователей, тщетно стучавшимся в двери закрытых архивов. Волею случая и собственной находчивости он проник в Особый архив, нашел там ключевые документы и понес их в ЦК.
1 декабря 1989 г. Михаил Горбачев встретился в Ватикане с Папой Иоанном Павлом II. Судя по официальной записи беседы, о Катыни они не говорили, но тема эта будто присутствует подспудно в разговоре, который касался главным образом свободы совести и взаимоотношений римско-католической Церкви с русской православной. Конфликт Церквей связан прежде всего с историческим наследием, перекройкой государственных границ, и Святой отец много говорил об этом. Горбачев не вдавался в подробности и сказал, что примет любое решение, к которому придут главы Церквей. А потом произнес удивительную в устах советского лидера фразу: «Это не значит, что мы, используя известное выражение, умываем руки…» Он не хотел быть Пилатом…
Помощник Горбачева Анатолий Черняев в одном из интервью говорит о взаимоотношениях Кремля и Святого Престола в этот период. На реплику журналистки о том, что Горбачев отправился к Папе за тем, «чтобы получить свидетельство в Ватикане, что с «империей зла» покончено», Черняев отвечает утвердительно: «Очень правильная постановка вопроса».
Меня кремлевские интриги интересовали мало. Я вообще не понимал, для чего нужно обивать пороги Старой площади. Меня не волновали личные душевные терзания президента. Я спешно заканчивал книгу, не представляя себе, когда и в каком виде она выйдет и выйдет ли вообще. Издательство дожидалось того дня, когда Горбачев наконец признается.
Полного, безоговорочного признания, однако, не произошло. Горбачев решил не передавать польской стороне документы «особой папки», содержавшей главную улику — постановление Политбюро о расстреле польских военнопленных без суда и следствия. 13 апреля 1990 г. Ярузельский получил от Горбачева две папки, в которых были собраны, по словам советского президента, «косвенные, но достаточно убедительные доказательства того, что расправа с польскими офицерами в Катыни была осуществлена тогдашними руководителями НКВД». Об ответственности высшего политического руководства страны не было сказано ни слова. Более того, Горбачев счел нужным попросить генерала не раздувать сенсацию. Утвержденный Политбюро проект беседы (тоже под грифом «совершенно секретно») гласит: «Хотел бы посоветоваться с Вами, Войцех Владиславович, как лучше сделать, чтобы внесение окончательной ясности в катынскую трагедию не пошло во вред польским друзьям, а сам факт объявления об этом сейчас не был бы представлен как результат давления». Конечно, забота о своем личном престиже и лицемерное беспокойство по поводу «вреда», который может причинить «польским друзьям» признание вины НКВД, не идет ни в какое сравнение со значением события.
Широкая публика узнала о нем из сообщения ТАСС, в котором было сказано, что «выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма».
Моя рукопись ушла в набор. Книга вышла в январе 1991 г. неслыханным сегодня тиражом — 75 тысяч экземпляров.
Я в то время работал в «Независимой газете» — совершенно новой и непохожей на все старые. Мы создавали ее на пустом месте и голом энтузиазме. В короткий срок она заняла положение главного оппонента правительства. Когда газете потребовался девиз, я предложил из Тацита — «Sine ira et studiо». Начав выходить в декабре 1990 го, «Независимая» сразу же прошла горнило вильнюсских событий и «Бури в пустыне» и во многом сформировала отношение общества к обоим событиям. Эта работа захватила меня целиком. Это время было самым счастливым периодом моей жизни.
Катынь я считал пройденным этапом — главное сказано, остались детали. Я не видел тогда эту тему во всем масштабе. Работая в газете, вообще многое видишь в искаженной и даже обратной перспективе — за мелкой повседневностью подчас не слышна тяжкая поступь судьбы и истории.
В марте 1991 го состоялась генеральная репетиция путча — в Москву под предлогом защиты внеочередного съезда депутатов России, созванного ради отставки Бориса Ельцина, вошли танки. (На самом деле — дабы не допустить демонстраций в поддержку Ельцина.) Отлично помню свои ощущения. Зрелище было не приведи Господь. Стволы аккуратно и молчаливо высовывались из переулков в центре города. В тот же день Горбачев в ответ на требование депутатов съезда войска из города вывел. Но с этого дня военный переворот был лишь вопросом времени. Поэтому, когда в августе грянул путч, я нисколько не удивился. Было противно, но не страшно. В конечном счете это и погубило ГКЧП — люди отвыкли бояться. У нас появился иммунитет, и за эту прививку от страха, пожалуй, следует сказать спасибо Горбачеву.
Вечером 21 августа я наблюдал на Лубянке, как толпа валит кумир Дзержинского. В здании КГБ почти не было светящихся окон. Как рассказал мне потом один сотрудник зловещего ведомства, большинство его коллег оставалось на рабочих местах, а свет в кабинетах выключили, чтобы лучше было видно происходящее на площади. То был один из редчайших в истории России моментов, когда тайная полиция оказалась под угрозой ликвидации — предпоследний был в XVIII веке. Единственный русский правитель, при котором не было госбезопасности — Петр III, герцог Голштинский. Он сгоряча отменил Тайную экспедицию, за что вскоре жестоко поплатился: года не процарствовал, как переворотчики во главе с собственной супругой монарха Екатериной отменили его самого. И ведь ни тогда, ни теперь никакая самая бдительная госбезопасность еще ни одного царя от ГКЧП не спасла. С императором Павлом еще интереснее вышло. Первый сановник империи и шеф Тайной канцелярии граф фон дер Пален вел себя замысловато: императора заверял, что нарочно примкнул к заговорщикам, чтобы вовремя пресечь преступные планы, однако же не пресек, но в самый решительный момент вдруг исчез и объявился лишь после убийства Павла. Вот и Горбачев в Форосе то ли выжидал за высоким забором, то ли сам оказался в заложниках у собственной госбезопасности.
Борис Ельцин назвал КГБ «принципиально нереформируемой структурой». Но уничтожать эту структуру не стал, поменяв лишь высшее руководство. А в декабре 1991 г. и вовсе объединил госбезопасность с министерством внутренних дел в одно ведомство, как это уже было после смерти Сталина. Но менее чем через месяц Конституционный суд признал реформу незаконной и отменил указ президента. Много было разговоров о люстрации, но законом они так и не стали. Помню, во время одной из таких дискуссий генерал-майор ГБ выходил из зала курить, нервно играл желваками, слушая ораторов, и говорил мне сквозь зубы: «Мстить будем. А вы как думали?»
Генерал напрасно нервничал. Новые хозяева жизни, русские олигархи, рекрутировали себе в советники отставных лубянских «рыцарей плаща и кинжала». В период первоначального накопления капитала для выживания и успешной борьбы с конкурентами им потребовались собственные службы безопасности. Генерал, собиравшийся мстить, получил высокую должность в частной нефтяной компании, а затем и избрался в Думу по списку компартии. Проблема в том, что у госбезопасности всегда собственная повестка дня. В конце концов она провела одну из самых успешных в своей истории тайных операций: власть в стране перешла к ней незаметно, без драматических эффектов.
Тот краткий период, когда Лубянка оказалась деморализована провалом путча, был золотым временем для историков и журналистов, исследующих мрачные тайны повергнутого режима. Кажется, на второй или третий день после провала путча новый заместитель председателя КГБ генерал Николай Столяров пригласил к себе журналистов, был учтив и радушен, постоянно улыбался. Архивы можно было брать голыми руками — Столяров обещал настежь распахнуть двери хранилищ. Аппарат, правда, поправил своего начальника-неофита — двери разве что слегка приоткрылись, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы значительно продвинуться в изучении «белых пятен». Ни до, ни после в прежде недоступных архивах не было такого широко доступа к документам.
Сегодня я вынужден признать, что использовал это время нерационально — я был уверен, что уж теперь-то архивы не закроются никогда. У меня разбегались глаза. Я не знал, за что хвататься, — выхватывал и публиковал самое броское. О том, как вожди Коминтерна в 20 е годы планировали революции в Бразилии и на Филиппинах. Как советская разведка доносила: в Баварии появился некто Адольф Хитлер, марионетка реакционного генералитета. О том, как в годы «холодной войны» Москву опять обуяла идея мировой революции и она за тридевять земель, в иные полушария рассылала своих военных инструкторов и оружие, щедро снабжала повстанцев Третьего мира всем необходимым, от нижнего белья до музыкальных инструментов. Собственными глазами видел и опубликовал документы о безвозмездной поставке партизанам Африканского национального конгресса носков, трусов и книги на португальском языке «Почему в СССР сложилась однопартийная система», а конголезцам — микроскопов, гитар и саксофонов. Под носками стояла подпись не кого-нибудь, а председателя Совета министров Алексея Косыгина. Само собою разумеется, что революционеры учились, лечились и отдыхали в Советском Союзе, прибывая в Москву в целях конспирации кружным путем, через Париж и Лондон, проводили на его территории свои секретные, но расширенные пленумы, а расплачивались за все эти блага тем, что на съездах КПСС дружно пели осанну государству рабочих и крестьян.
Архивы стремительно коммерциализировались. По сходной цене можно было заказать подборку материалов на любую тему. Помню, я привел к заместителю директора архива ЦК КПСС на Ильинке двух американцев, желавших написать книгу о поддержке Москвой леворадикальных партизанских движений Латинской Америки. «Нет проблем», — сказал хозяин кабинета и назвал сумму, по нынешним временам смехотворную.
Никогда прежде общение с государственными чиновниками, жрецами доселе самых закрытых учреждений, не доставляло мне такого удовольствия — симпатичные, приветливые, милые люди. Еще вчера до них было не дозвониться. Сегодня они угощали чаем с печеньем и изъявляли полнейшую готовность поделиться любой интересующей журналиста информацией. Страной правил закон о печати.
Увы, это время быстро кончилось. Уже к концу 1991 г. режим секретности в архивах был восстановлен практически в прежнем объеме. Лубянка пришла в себя. Вежливые чиновники опять превратились в хамов.
Но кое-что мы все-таки успели сделать.
В архиве Главного управления конвойных войск я нашел списки военнопленных англичан и бельгийцев, содержавшихся в Козельском лагере вместе с поляками, — они бежали в Польше из немецкого плена и угодили в советский. Английский историк лорд Николас Бетелл, которому я передал список, нашел одного из англичан. Тот рассказал, что они вернулись домой только после того, как началась война Сталина с Гитлером, причем английские командиры взяли с них подписку о неразглашении факта пребывания в советском плену.
Нашлись документы об американских пилотах, членах экипажа бомбардировщика B-25, который участвовал в знаменитом налете Джимми Дулиттла на Токио в апреле 1942 года. Эскадрилья поднялась в воздух с авианосца «Хорнет», но самолет майора Эдварда Йорка на обратном пути потерял много топлива и совершил вынужденную посадку близ Владивостока. Хотя США и СССР были союзниками, Йорк и четверо членов его экипажа были интернированы и никогда больше не увидели свою машину. После моей публикации Национальный музей аэронавтики и космических исследований пытался найти самолет Йорка, но не нашел.
Мои поиски в архивах иногда приводили к неожиданным результатам в смежных темах. Так, например, мой интерес к «процессу шестнадцати» (суд над командующим Армии Крайовой генералом Леопольдом Окулицким и руководителями Польского подпольного государства в Москве в июне 1945 г.) оказался важен для исследователей судьбы Рауля Валленберга. Когда генеральный консул Польши в Москве Михал Журавский дал мне посмотреть только что полученную им копию тюремного дела Окулицкого, который был приговорен к 10 годам лишения свободы и уже после оглашения приговора скончался на операционном столе в больнице Бутырской тюрьмы, где его оперировали по поводу подозрительного диагноза «заворот кишок», я ахнул: под заключением о смерти стояла подпись начальника санчасти внутренней тюрьмы МГБ Смольцова. Именно этот человек подписал рапорт на имя министра госбезопасности Абакумова о смерти Валленберга от инфаркта миокарда 17 июля 1947 года. Рапорт этот, появившийся на свет в 1957 г., спустя годы после кончины как автора, так и адресата, всегда внушал независимым исследователям сильнейшие подозрения. Годами нам твердили, что ни одного другого автографа Смольцова не сохранилось. И вот нашелся образчик подписи того же лица, сделанный совершенно другой рукой. Рапорт Смольцова оказался несомненной фальшивкой и был изъят из корпуса документов по делу Валленберга.
25 декабря 1991 г., на западное Рождество, президент Горбачев объявил согражданам, что уходит со своего поста. Он сказал, что делает это «по принципиальным соображениям». Но на самом деле у него теперь просто не было государства, которым можно было бы руководить. «Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить, — говорил президент-реформатор с некоторой обидой в голосе. — Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это — самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, потому что еще не научились пользоваться свободой».
«Не научились пользоваться свободой». По крайней мере он и себя включил в число не научившихся. И на том спасибо.
Почему Горбачев так и не решился до конца открыть правду о Катыни?
Не исключено, что правы те, кто считает, что правда оказалась слишком чудовищной. Конечно, в истории Европы были и Варфоломеевская ночь, и крестовые походы, и инквизиция… Но из близких по времени событий массовых убийств, сопоставимых с катынским, нет. Ленский расстрел — 270 убитых, Кровавое воскресенье — тысяча, кишиневский погром 1903 г., всколыхнувший мировую общественность — 49 трупов.
Была Катастрофа еврейского народа, но она была уже после Катыни.
Существует гипотеза, что Горбачев предвидел, что катынское признание приведет к тектоническим сдвигам в общественном сознании. «Ну что может быть страшнее для КПСС признания того, что с благословения некоторых ее лидеров гибли тысячи соотечественников, коммунистов и беспартийных, граждан многих зарубежных стран, о чем мир уже знал, — пишет Валерий Болдин. — Зачем же теперь архитектору перестройки и обновления вдруг понадобилось утаивать это преступное убийство? Думаю об этом и не нахожу ответа».
Но разница есть, и очень существенная. Разоблачения хрущевской поры касались только лично Сталина и его подручных, исказивших «ленинские нормы». Дальше узкой группы лиц, в основном уже покойников, Хрущев не пошел. Виноват был «культ личности», жажда личной власти, маниакальная подозрительность вождя. Об осуждении партии, государственного строя, социализма не было и речи. Комиссия по реабилитации под председательством Николая Шверника уже в 1962 г. прекратила свою деятельность. С тех пор масштабного и юридически значимого возвращения к этой теме на уровне высшего политического руководства страны не было.
На посту генерального секретаря Михаил Горбачев ни разу не высказывался о Сталине отрицательно. В мае 1985 г. в докладе по случаю 50 летия окончания войны он отметил заслуги Сталина как организатора победы. Прекрасно помню, как резанула слух эта фраза, — мы надеялись услышать от нового молодого генсека совсем другое.
Да, при нем открылись шлюзы, публиковались материалы об ужасах сталинизма. Но разоблачения системы и идеологии в этих публикациях все же не было. На меня эта новая «оттепель» особого впечатления не произвела — новыми были лишь детали, а суть я знал и прежде, причем в гораздо более жестких формулировках: при позднем Брежневе книги самиздата и русских зарубежных издательств имели достаточно широкое хождение, за их чтение уже не сажали. Фигур, равновеликих Солженицыну, среди «прорабов перестройки» не было. Публикация «Архипелага» в «Новом мире» началась только в конце 1989 года. Это было действительно событие. Именно после этого я поверил словам о «необратимости перестройки».
Конечно, мы знали, что Горбачев не сталинист. Но сам он только в отставке стал откровенно говорить о Сталине и XX съезде. В феврале 1996 г. «Горбачев-фонд» провел конференцию, посвященную 40 летию XX съезда. В своем вступительном слове бывший президент впервые рассказал о своем восприятии доклада Хрущева о сталинском терроре: «Помню, тогда я работал в комсомоле и принял съезд сразу же — для меня проблемы тут не было. Но когда, будучи заместителем заведующего отделом пропаганды крайкома комсомола, я по поручению Ставропольского крайкома партии поехал в Ново-Александровский район разъяснять итоги съезда, секретарь, который меня встретил в райкоме, мой хороший знакомый, сказал: «Я думаю, Михаил Сергеевич, тебя подставили. Мы вот сидим и не знаем, что делать». Спрашиваю: «Почему? Есть же материалы, есть пресса». Он отвечает: «Вот поедешь, послушаешь, что говорят люди, тогда и узнаешь… Не понимают… И не принимают»». Он уподобил воздействие съезда «электрическому шоку огромной мощности».
В той же речи он говорил о том, что поставить под сомнение систему, порвать с ней Хрущеву оказалось не под силу: «Хрущев, конечно, был реформатором. Но в его деятельности очень много противоречий. Часть из них связана с сугубо субъективным пониманием происходивших процессов. А часть определялась приверженностью, ангажированностью, включенностью в эту систему. Я это по себе хорошо знаю».
И настойчиво проводил параллель между хрущевской оттепелью и перестройкой: «…новый импульс мы дали перестройкой, пытаясь соединить социализм с демократией». А далее следует знаменательное признание: «Но многое и не получилось, и, может быть, из-за того, что мы соединяли несоединимое».
Спустя 10 лет он повторил: «Есть органическая связь между перестройкой и ХХ съездом, и поэтому, наверное, некоторые также считают перестройку актом предательства».
«Соединяли несоединимое»… Признание вины за катынские расстрелы потребовало бы от Горбачева полного разрыва с партией, отказа от иллюзорной веры в возможность реформировать социализм, морального осуждения не отдельных лиц, не преступлений тайной полиции или даже режима, а системы. К такому признанию Горбачев в то время был просто не готов.
Я считаю, за это его можно уважать. Для партократа, ни имевшего никаких внутренних убеждений, не составляло ни малейшего труда превратиться в демократа. А Горбачев мучился. Он не смог.
В своей Нобелевской лекции он сказал: «Невозможно «выпрыгнуть» из собственной тысячелетней истории». А потом в интервью добавил: «Мне кажется, это будет напоминать выпрыгивание из штанов».
Да и все мы не смогли. Помню призывы к всенародному покаянию. Слово это вошло в публицистическую речь после фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», с превеликими трудами пробивавшегося в прокат. И помню реакцию: мол, каяться должны сталинско-брежневские сатрапы, палачи, а нам, народу, каяться не в чем.
Оно и верно: покаяние — глубоко религиозный акт. В атеистической стране он невозможен, а православные пастыри молчали. Об этом писал в 1933 г., еще до сталинских ужасов, философ Георгий Федотов: «Почему Россия — христианская Россия — забыла о покаянии? Я говорю о покаянии национальном, конечно. Было ли когда-нибудь христианское поколение, христианский народ, который перед лицом исторических катастроф не видел в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совестью? На другой день после татарского погрома русские проповедники и книжники, оплакивая погибшую Русь, обличали ее грехи… Жозеф де Местр видел в революции суд Божий… А в православной России не нашлось пророческого обличающего голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели. Это бесчувствие национальной совести само по себе является самым сильным симптомом болезни».
25 июля 1991 г. в Москве, в своей квартире на Фрунзенской набережной, умер Лазарь Каганович — последний из тех, кто скрепил своим «за» расстрельную записку Берии. Один из самых беспощадных палачей-сталинистов, кровавый вампир, при Хрущеве он был исключен из партии, но к более серьезной ответственности не привлекался, до самой смерти пользовался кремлевской больницей и получал продовольственный кремлевский паек.
В своих мемуарах Горбачев отрицает, что видел документы «особой папки» в 1989 году. Он утверждает, что в папках, которые показал ему тогда Болдин, находилась «документация, подтверждающая версию комиссии академика Бурденко». Записку же Берии с визами Сталина и других членов Политбюро он, по его словам, впервые увидел лишь в декабре 1991 г., накануне встречи с Ельциным, когда готовился сдавать ему дела, причем на ознакомлении Горбачева с этой бумагой будто бы настояли архивисты. «У меня дух перехватило от этой адской бумаги, обрекавшей на гибель сразу тысячи людей», — пишет Горбачев.
Он не просто передал записку Ельцину, но прочел ему ее вслух в присутствии Александра Яковлева, что само по себе свидетельствует об исключительном значении, которое придавал бумаге Горбачев: архивный документ передавался новому главе государства вместе с ядерной кнопкой. Такова была его взрывная сила. Президент России тотчас согласился с тем, что документ следует передать полякам.
«— Но теперь, — сказал я, — это уже твоя миссия, Борис Николаевич».
Почему Ельцин не исполнил эту миссию при первой же возможности? На этот вопрос Горбачев дает удивительно мелкий ответ: «Сейчас уже ясно, что тяжелейшую драму в польско-советских отношениях пытались использовать, чтобы лишний раз бросить грязь в Горбачева».
Александр Яковлев, очевидец встречи Горбачева и Ельцина в Кремле (которая, кстати, продолжалась более восьми часов) описывает ее иначе. В его рассказе Горбачев вслух записку не зачитывает, а просто передает конверт с документами и говорит, что надо посоветоваться, как быть с этими бумагами: «Боюсь, могут возникнуть международные осложнения. Впрочем, тебе решать». Ельцин, продолжает Яковлев, «почитал и согласился, что об этом надо серьезно подумать».
«Я был потрясен… — пишет мемуарист. — Михаил Сергеевич передавал эти документы с поразительным спокойствием, как если бы я никогда не обращался к нему с просьбой дать поручение своему архиву еще и еще раз поискать документы. В растерянности я смотрел на Горбачева, но не увидел какого-либо смущения. Такова жизнь».
Борис Ельцин задумался надолго. Он не передал Польше документы «особой папки» ни тогда же, в декабре, ни в мае 1992 г., когда в Москву с визитом приезжал Лех Валенса. Я помню этот визит, во время которого общине московских католиков был наконец передан костел Непорочного зачатия Девы Марии, построенный на пожертвования паствы, но национализированный советской властью; я помню и напряженное ожидание. В том, что документы существуют и что Ельцин знает об их существовании, сомнений не было. Но дело было даже не в документах, а в признании.
Одна моя знакомая, большая поклонница Ельцина (у него вообще, как у оперного тенора, было много поклонниц среди одиноких дам бальзаковского возраста), называла его «раскаявшимся грешником». Он и впрямь похож на Савла, обратившегося в Павла. В отличие от Горбачева он решительно порвал с КПСС, президентским указом распустил ее на территории России. Уходя на покой, он попросил прощения у народа. Он «нашел» в президентском архиве оригиналы секретных протоколов и написал по этому поводу:
«Сколько слов было сказано по поводу лживости буржуазной пропаганды, сочинившей секретные протоколы пакта Молотова—Риббентропа?! Сколько раз приходилось пропагандистскому аппарату говорить, что это всё происки и фальшивки?! Хотя любому здравомыслящему человеку было ясно, что уже нельзя отнекиваться от того, что давно известно всем. Прошло время, и вот мы признали, да, секретные протоколы существуют, но сколько же уважения и авторитета мы потеряли из-за такой твердолобости».
Так что же мешало ему признать и извиниться за Катынь? Неужели прав Горбачев — нет, не в том, что Катынь стала для Ельцина поводом лишний раз «бросить грязь» в предшественника, а в том, что Ельцин выбирал удачный политический момент? Мне не верится.
Со слов Олега Попцова, который был близок к Ельцину, можно судить о его реакции на переданные Горбачевым документы: «Впоследствии он рассказывал о брезгливом чувстве, которое пережил в тот момент, о своем нежелании не только вникать, но даже прикасаться к этим свидетельствам сотворения порока, насилия, искалеченных судеб и судеб целых народов».
Знаю по себе: подлинный архивный документ таит в себе страшную силу, огромной мощности энергетический заряд. Нежелание прикасаться к бумагам вполне понятно.
В марте 1992 г. я пришел в МИД брать интервью у министра иностранных дел Андрея Козырева, к тому моменту просидевшего в министерском кресле чуть больше трех месяцев. Едва ли не первым, что я услышал от него, были сожаления по поводу распада Советского Союза. К тому времени ностальгия по СССР уже вошла в политическую моду.
Господи, думал я, что же это такое? Что же такое эта империя, где никто, включая правителей, не был свободен, которую ненавидели и боялись, из которой бежали при малейшей возможности, которая воздвигла свою мощь на костях собственных подданных, но все равно осталась «Верхней Вольтой с ракетами», империя, о которой вчерашние рабы не могут говорить без трагического надрыва?..
Во время визита Валенсы в Россию 21–23 мая 1992 г. шаг вперед все же был сделан: в совместном заявлении двух президентов говорится о преступлениях «сталинского режима» и «антигуманной сущности тоталитаризма». Горбачев в свое время решился обвинить лишь головку НКВД: «Берию, Меркулова и их подручных».
Следующим шагом стало «дело КПСС» в Конституционном суде, куда обратились вожди упраздненной Ельциным партии с просьбой признать неконституционными указы президента о роспуске КПСС и КП РСФСР и о конфискации их имущества. Эксперты президентской стороны рассчитывали превратить судебные слушания в новый Нюрнбергский процесс, который признает КПСС преступной организацией и тем самым избавит Россию от «призрака коммунизма». Позицию президента должны были подкрепить архивные документы, иллюстрирующие механизм принятия и исполнения решений и тем самым доказывающие, что КПСС подменила собой государственный аппарат.
Отбором документов для представления в Конституционный суд занималась специальная комиссия по архивам при президенте РФ. В качестве эксперта из Лондона был приглашен правозащитник Владимир Буковский, предлагавший окружению Ельцина устроить суд над КПСС еще в августе 1991 года. «Я сказал им очень простую и практическую вещь о том, что коммунизм сегодня как раненый зверь и что подранка нужно добить: «Если вы его не добьете сейчас, через несколько месяцев он оправится и бросится вам на горло»», — рассказывал Буковский на пресс-конференции в Варшаве в марте 1998 года. По словам Буковского, с ним были согласны все, кроме Ельцина: «Он не объяснял, почему, но было ясно. Он понимал, что такой процесс, однажды начавшись, обязательно заденет и таких людей, как он. Во всяком случае такие люди не смогут остаться лидерами после этого процесса».
Но оказавшись в роли ответчика, Ельцин, по версии Буковского, испугался: «Он понял, что может проиграть это дело, потому что большинство судей симпатизировало коммунистам».
Буковский не получил доступа к самому закрытому архиву — президентскому. Там работали только особо доверенные должностные лица, которые и вскрыли в сентябре «пакет № 1», где находились документы, переданные Горбачевым Ельцину, а тот вернул их на хранение. О находке доложили президенту, который тотчас распорядился вручить их полякам. Главный архивист РФ Рудольф Пихоя был назначен по этому случаю специальным посланником президента России. Он вылетел в Варшаву 14 октября и передал документы лично президенту Валенсе. Второй комплект тех же документов был представлен в Конституционный суд.
Дело КПСС слушалось с перерывами с 26 мая по 30 ноября 1992 года. Сейчас уже можно с полной определенностью сказать: та масштабная задача, какую поставили перед собой советники президента, оказалась им не по плечу. И не потому, что они были плохими юристами. Слишком высок был накал политических страстей, слишком тяжело многим давалось отречение от недавнего прошлого. Не хватало времени, опыта, не было прецедентов, события эпохи сталинизма трудно было рассматривать с сугубо академических, правовых позиций. Зал судебных заседаний стал ареной идеологического столкновения. Судьи не смогли абстрагироваться от своих политических симпатий и антипатий. Судья Анатолий Кононов занимал радикальную позицию и настаивал на конституционности роспуска КПСС. Судья Виктор Лучин голосовал против. Оба написали особые мнения. Председатель КС Валерий Зорькин балансировал между двумя крайностями. («В моей профессии человек на компромиссы обречен», — сказал он в недавнем интервью.)
Михаил Горбачев в суд не явился. На пресс-конференции 17 августа он заявил, что, даже если его приведут в суд в наручниках, он не скажет там ни единого слова, а позднее добавил, что на процессе КПСС его хотят «дискредитировать или использовать». В ответ суд наказал его штрафом в размере 100 рублей. По просьбе суда Горбачеву был воспрещен выезд из России вплоть до дачи показаний.
В итоге суд принял половинчатое решение: он признал неконституционными руководящие структуры партии, но сохранил первичные организации, поскольку они, по мнению суда не нарушали статус общественных организаций. Как писал судья Кононов, это постановление «одновременно устраивало и не устраивало обе стороны именно в силу недоговоренности, неопределенности и возможности различного толкования». Исполнять решение КС никто не стал. Коммунистическая партия благополучно возродилась.
Катынское дело в рамках «дела КПСС» рассматривалось поверхностно. Документы «особой папки» в экспертное заключение, составленное представителями президента, включены не были. Там сказано лишь, что «есть веские, хотя и косвенные основания полагать, что расстрел польских офицеров был санкционирован Политбюро ЦК ВКП(б) на заседании 05.03.1940 г.». Обновленная редакция заключения готовилась к судебному слушанию 7 июля, а «пакет № 1» был обнаружен в президентском архиве 24 сентября. Откуда авторам заключения стала известна не только точная дата, но и сам факт существования протокола Политбюро, не упоминающийся ни в каких опубликованных ранее документах? Вполне очевидно, что эта осведомленность — результат утечки, которую допустило одно из должностных лиц, знавших о существовании протокола до его повторного обнаружения в архиве президента. 14 октября президентская сторона ходатайствовала о приобщении к делу документов «особой папки». 22 октября суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать.
Представители КПСС поставили под сомнение аутентичность бумаг. Представлявший документы Сергей Шахрай был не готов к такому повороту. Как писал впоследствии эксперт Юрий Слободкин, «для представителей президентской стороны обвинение в фальсификации документов явилось настоящим ударом. Они старались не показывать растерянности и даже пообещали представить «подлинные архивные документы», но, разумеется, никаких подлинников никому и никогда не предъявляли». К аргументации Слободкина мы еще вернемся.
Желая помочь представителям КПСС, бывший сотрудник ЦК КПСС Валентин Александров направил им письмо, в котором изложил по памяти все, что ему по долгу службы стало известно по катынскому делу. Поскольку он был помощником секретаря ЦК Медведева, а затем Фалина, через его руки прошли все бумаги, связанные с подготовкой решения о передаче катынских документов Ярузельскому в апреле 1990 г., — вся закрытая служебная переписка начиная с осени 1987 года. Александров особо подчеркивает, что в 1988–1989 гг. «остро этот вопрос поляками не ставился» (хотя и «выражалась неудовлетворенность крайне медленным освещением «белых пятен» истории»), — в его версии, инициаторами признания правды о Катыни были высокопоставленные сотрудники ЦК. Александров нисколько не сомневается в виновности советской стороны. По его словам, сокрытие истины об этом преступлении было делом рук не партии, а Горбачева и его ближайшего окружения, за действия которых партия не должна нести ответственность. «Утаивание документов, — писал Александров, — стало проявлением противопартийных действий со стороны горстки людей, поставивших себя над, а следовательно, и вне КПСС».
Нетрудно увидеть в этих обвинениях логику Хрущева, который тоже обвинял Сталина и горстку его клевретов, но не партию. Однако тактика защиты, предложенная Александровым, вождям КПСС не понравилась, его записка Конституционному суду не представлялась.
В тексте постановления КС по «делу КПСС» Катынь не фигурирует. В особом мнении судьи Кононова Катынь упоминается в одной фразе, но зато эта фраза содержит правовую квалификацию расстрелов: «Как военное преступление можно расценить уничтожение по постановлению Политбюро ЦК КПСС тысяч польских военнопленных в Катыни и других местах». Это единственный в катынском деле судебный документ.
После публикации ключевых документов встал вопрос о юридической ответственности виновных. На него должна была ответить Главная военная прокуратура. Во время своего официального визита в Польшу в августе 1993 г. Ельцин обещал: «В атмосфере взаимопонимания и доброй воли были выяснены обстоятельства катынского преступления, виновники которого будут наказаны».
Действительно, в это время следственные действия шли полным ходом. По существу, следователи ГВП выполнили ту задачу, от исполнения которой уклонился Конституционный суд. Но для этого им пришлось проделать колоссальный объем работы — не только установить обстоятельства расстрелов, но и вскрыть технологию последующих фальсификаций. Результаты этой работы поражают своей скрупулезностью, профессионализмом, добросовестностью и юридической основательностью.
Главная военная прокуратура открыла дело еще в сентябре 1990 года. Следственную группу возглавил подполковник, впоследствии генерал-майор юстиции Александр Третецкий. Сейчас уже очевидно, что, принимая решение о возбуждении уголовного дела, главный военный прокурор СССР Александр Катусев ориентировался на политическое решение Горбачева о признании виновными руководителей НКВД. Дело нужно было «оформить», то есть придать ему юридически законченную форму, и закрыть за смертью обвиняемых. От группы Третецкого никто не ожидал столь доскональных следственных действий.
Но специфика дела была такова, что для решения вопросов о юридической квалификации катынского преступления, о подсудности исполнителей, о правовом статусе жертв потребовалось изучить международно-правовой режим, при котором совершались расстрелы, процессуальную сторону репрессий и даже систему кремлевского делопроизводства. Возможно, это было первое юридически состоятельное комплексное исследование механизма сталинского террора.
На ход расследования самым непосредственным образом влияла общественно-политическая атмосфера в стране. Зачастую одни и те же должностные лица то способствовали следственным действиям, то препятствовали им. Самый яркий пример такого рода — тогдашний начальник управления КГБ по Тверской области Лаконцев. 19 августа 1991 г., едва получив известие о путче в Москве, он потребовал от следственной группы прекратить раскопки массовых захоронений в Медном и заявил, что не гарантирует безопасность экспертов. Распоряжение свернуть работы получила и группа, работавшая на раскопках в Харькове. А спустя несколько дней, когда путч окончательно провалился, Лаконцев приехал на место раскопок и стал убеждать следователей в огромной важности катынского дела.
Я встречался с подполковником Третецким и его подчиненными по их приглашению в здании ГВП, предоставил им всех свидетелей и документы, которыми располагал сам. По их собственному признанию, именно из первого издания моей книги они узнали о существовании захоронения в Медном.
Чтобы квалифицировать состав преступления, следствию необходимо было прежде всего установить, являлись ли польские узники на территории СССР военнопленными. Логика подсказывает, что для этого Советский Союз и Польша должны были находиться в сентябре 1939 г. в состоянии войны. Но войну они друг другу не объявляли. В ноте, которую заместитель наркома иностранных дел Владимир Потемкин пытался вручить польскому послу ранним утром 17 сентября, говорилось, что «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать». Посол Вацлав Гжибовский принять ноту отказался, заявив, что польское государство существует и оказывает сопротивление.
Если польское государство перестало существовать, то кому была адресована нота? В ней ничего не было сказано о состоянии войны, а советское вторжение мотивировалось необходимостью защиты «единокровных» братьев — украинцев и белорусов. Более того, главнокомандующий Войска Польского маршал Рыдз-Смиглый в тот же день издал приказ не вести боевых действий против советских войск и уходить в Румынию и Венгрию «кратчайшими путями». Однако в приказах советских военачальников говорится о «скрытном сосредоточении», «молниеносных» и «мощных ударах», «решительном наступлении» и «разгроме противостоящих сил противника». Войскам приказывалось не допустить ухода польских частей в Румынию и Венгрию. В то же время Потемкин, убеждая посла Гжибовского принять ноту и передать ее по назначению, говорил, что тем самым, «быть может, были бы предупреждены вооруженные столкновения и напрасные жертвы», то есть предлагал капитулировать без боя. Вряд ли поддается логическому объяснению и позиция посла: если правительство Польши существует, он обязан передать ему советскую ноту. Всего вероятнее, посол, поднятый с постели в два часа ночи, просто растерялся и был слишком взволнован («посол, от волнения с трудом выговаривавший слова…» — записал в своем служебном дневнике Потемкин); тем не менее он совершенно точно определил происходящее как «четвертый раздел и уничтожение Польши» (выписка из дневника Потемкина, направленная Сталину).
По окончании польской кампании фразеология советской пропаганды приняла еще более уничижительный, лживый и наглый характер. В приказе от 7 ноября 1939 г. нарком обороны Клим Ворошилов пишет о том, что «Польское государство при первом же серьезном военном столкновении разлетелось, как старая и сгнившая телега… а его правительство и верховное командование польской армии позорно сбежало за границу».
Вполне очевидно, для чего нужны эти упорные утверждения о том, что Польша как государство прекратила существование, — тем самым снималась необходимость соблюдения договорных обязательств по отношению к ней.
Следователи Главной военной прокуратуры приняли к сведению содержание секретных протоколов к пакту Риббентропа—Молотова и факт признания их недействительными с момента подписания. Таким образом, советское вторжение в Польшу было лишено международно-правовых оснований, а с другой стороны, нарушало обязательства СССР по отношению к Польше. (Советско-польские отношения того времени регулировались Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г., договором о ненападении от 25 июля 1932 г. и Конвенцией об определении агрессии, подписанной в июле 1933 года. Эти документы гарантировали суверенитет, неприкосновенность границ и невмешательство в дела друг друга.)
Между советскими и польскими войсками были боестолкновения, иногда ожесточенные. Если не состояние войны, то вооруженный конфликт бесспорно имел место, а значит, правомерно говорить о военнопленных. В советском проекте «Положения о военнопленных» от 19 сентября 1939 г. сказано: «Военнопленными признаются лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находящихся в состоянии войны с СССР, захваченные при военных действиях, а также граждане этих государств, интернированные на территории СССР». Иными словами, советское правительство считало свои действия именно войной.
Военнопленные находились под защитой международных конвенций. Правительство большевиков в 1917 г., как известно, объявило недействительными все международные обязательства царского и Временного правительств. Однако уже в 1918 г., находясь в кольце фронтов, оно обязалось соблюдать Женевскую конвенцию 1864 г. во всех ее позднейших редакциях, включая и Гаагскую (1907) «О законах и обычаях сухопутной войны» (принятую, к слову сказать, по инициативе Николая II и разработанную выдающимся русским правоведом-международником Федором Мартенсом). Эти обязательства были грубо нарушены, мало того — в своих инструкциях и приказах руководители управления по делам военнопленных НКВД СССР указывали подчиненным, что в обращении с военнопленными следует исполнять не требования конвенции, а ведомственные директивы.
Прежде всего, согласно конвенции, военнопленные должны быть распущены по домам по окончании военных действий. Они не должны использоваться на физических работах. Привлекать к уголовной ответственности их можно лишь за конкретные уголовные преступления, а не за то, что они состояли в вооруженных силах противника, служили в полиции, в судах или государственных учреждениях. Между тем польских узников судили особыми совещаниями «за активную борьбу против рабочего класса», причем по Уголовному кодексу РСФСР, как будто, будучи гражданами Польши, они обязаны были соблюдать советские законы. Основную же массу расстрелянных приговорили без суда и следствия к смерти как «закоренелых, неисправимых врагов советской власти».
Все это вместе взятое, наряду с уровнем, на котором было принято решение, и процедурой его принятия, а также способом его исполнения заставило следователей в дальнейшем переквалифицировать состав преступления с превышения власти на преступление против человечности.
Группа Третецкого испытывала острый дефицит документальных материалов из секретных архивных фондов. Аппарат КГБ/МБ/ФСБ после признания Горбачева перестал отрицать вину НКВД, но по-прежнему отвечал на все запросы, что документов о Катыни в его архивах нет. После публикации известной записки Шелепина на имя Хрущева с предложением уничтожить учетные дела расстрелянных поляков Лубянка стала ссылаться на нее как на бесспорное доказательство уничтожения. Аналогично ведомство вело себя и в отношении свидетелей из числа бывших сотрудников НКВД. В ряде случаев местожительство таких свидетелей военные следователи установили с помощью обыкновенного адресного бюро, куда может обратиться любой желающий. Но часто следствие просто не знало имен возможных свидетелей — ему требовались списки личного состава тех или иных подразделений. Но и списки получить не удавалось.
В этих обстоятельствах следственная группа решила изучить материалы комиссии Бурденко, которая в январе 1944 г. обвинила в катынских расстрелах немцев. В свое время я видел часть этих материалов. Вкупе с рабочими документами советской делегации в Нюрнберге они оставляют тягостное впечатление грубой и наглой фальсификации. Некоторые доказательства лжи комиссии Бурденко я нашел, о других догадался. Следственная бригада ГВП располагала полным корпусом этих документов и улик, установила и допросила свидетелей; в итоге мои выводы и предположения дополнены и подтверждены, но теперь это уже не журналистика, а уголовное дело. Скрупулезность следователей, их терпеливая настойчивость и высочайшая квалификация внушают мне глубокое уважение.
Прежде всего выяснилось, что задолго до комиссии Бурденко в Катынском лесу было проведено так называемое «предварительное расследование», а точнее — уничтожение подлинных свидетельств и фабрикация ложных. Как явствует из справки о результатах этой деятельности, подписанной наркомом госбезопасности Меркуловым и заместителем министра внутренних дел Кругловым, в Катыни с 5 октября 1943 по 10 января 1944 г. работала «комиссия соответствующих органов». Текст справки Меркулова—Круглова дословно совпадает с текстом сообщения комиссии Бурденко — вплоть до мелких неточностей и разночтений в именах свидетелей.
В деле имеется также опись документов и предметов, обнаруженных экспертами комиссии Бурденко при вскрытии могил. Самый поздний документ — конверт с почтовым штемпелем от 14 мая 1940 года. Однако в сообщении комиссии Бурденко фигурируют девять документов, якобы найденные на шести трупах и датированные ноябрем 1940 — июнем 1941 года. [В действительности восемь из этих девяти документов фигурируют и в описи. — Прим. ред. ] Документы эти никогда и никому, включая Нюрнбергский трибунал, не предъявлялись и факсимильно не публиковались. Как установила следственная группа ГВП, эти девять документов, которые она изучила в оригиналах, сфабрикованы.
Так, например, на одном из трупов комиссией Бурденко найдена неотправленная почтовая открытка, написанная Станиславом Кучинским и датированная 20 июня 1941 года. В каждом из трех лагерей был свой Станислав Кучинский, но того, который написал открытку, звали «Кучинский — Искандер Бей». Он не был расстрелян: по распоряжению Берии от 16 февраля 1940 г. он был переведен в Москву. Его открытка, которую он написал во внутренней тюрьме НКВД, была подброшена в могилу «соответствующими органами», проводившими «предварительное расследование».
И так со всеми девятью «документами». Крайне сомнительным оказался и блокнот смоленского бургомистра Меньшагина, на который ссылается комиссия Бурденко и о котором сказано, что он прошел «графологическую экспертизу». Военные следователи выяснили, что экспертиза установила лишь идентичность образцов почерка с записями в блокноте, но сделаны ли эти образцы рукой Меньшагина — неизвестно.
Обильно присутствует в документах мой старый знакомый, ныне покойный ветеран Лубянки Леонид Райхман, в 1940 м — заместитель начальника контрразведывательного управления НКВД. Он-то как раз и руководил «комиссией соответствующих органов» в Катынском лесу. Как показал свидетель Козлов, входивший в состав этой оперативной группы, Райхман сразу же заявил группе, что расстреляли поляков немцы и что теперь требуется найти доказательства их вины. Именно Райхман «нашел» блокнот Меньшагина и отбирал свидетелей.
Местным жителям, особенно тем, кто дал немцам показания против большевиков, пришлось, конечно, худо. Один из них, Иван Андреев, как установило следствие, был осужден в октябре 1949 г. Особым совещанием к лишению свободы на срок 25 лет за измену родине и пособничество оккупантам и освобожден в порядке реабилитации в феврале 1956 года. Дело оказалось полностью сфабрикованным. На допросах его ни разу не спросили о Катыни, а когда он затронул эту тему по собственной инициативе, не проявили к ней ни малейшего интереса. О том, что Андреев «клеветал на органы», участвуя в немецкой «провокации», показывали свидетели по его делу, но следователи упорно уходили от этого сюжета. Андрееву показания немецкой комиссии не вменялись — эта тема совершенно не затрагивалась в обвинительном заключении.
Еще один свидетель, Парфен Киселев, работал сторожем на даче НКВД в Козьих горах. Он дал подробные показания немцам, а с приходом советских войск был арестован вместе с сыном. Обоих обвинили в сотрудничестве с оккупантами. На первых же допросах Киселев-старший подтвердил, что стал свидетелем добровольно и не только повторил то, что рассказывал немцам, но и добавил новые детали. Однако вскоре Парфен Киселев изменил свои показания на противоположные: теперь он утверждал, что нацисты пытками выбили из него рассказ о причастности к расстрелам НКВД, а на самом деле расстреляли поляков именно они, немцы. В такой редакции Киселев дал показания комиссии Бурденко, а затем выступил на пресс-конференции для иностранных журналистов. В сообщении комиссии Бурденко подчеркивается, что в Гестапо Киселеву причинили увечья — у него травма правого плеча, в результате отнялась рука. Может, не в Гестапо покалечили ему руку, а в другом, советском застенке?
Под страхом тяжкого наказания согласился лжесвидетельствовать профессор физики Ефимов. Ему было предъявлено обвинение в измене родине по статье, предусматривающей смертную казнь. Он провел за решеткой три месяца, после чего был освобожден, а его дело закрыто за отсутствием состава преступления. Однако предварительно Ефимов дал подписку о неразглашении ставших ему известными сведений, составляющих государственную тайну. После этого он дал показания о своем разговоре с вице-бургомистром Смоленска Базилевским, из которого следовало, что виновники катынских расстрелов — немцы.
В январе 1991 г. прокуроры ГВП допросили еще одного свидетеля комиссии Бурденко — Алексееву. Она работала уборщицей в немецких казармах, расположенных в Катынском лесу, и в 1944 г. ярко живописала картину расстрелов — вплоть до того, что солдаты возвращались после экзекуций забрызганные кровью. В 1991 г. Алексеева заявила, что о расстрелах ничего не знает, никаких выстрелов не слышала и крови не видела, а на немцев работала, чтобы не угнали на работу в Германию. Но когда ей показали протоколы ее допросов 1943–1944 гг., она испугалась и полностью их подтвердила.
Аналогичным образом, как сказано в этой книге и подтверждено Главной военной прокуратурой, обрабатывали и готовили к Нюрнбергскому процессу свидетелей-иностранцев. В этой работе, как свидетельствуют документы, активнейшее участие принимал Леонид Райхман. А ведь отрицал при наших личных беседах, что имел хоть какое-то отношение к Нюрнбергу!
Обнаружились и еще более интересные обстоятельства. Свидетель Михей Кривозерцев рассказывал комиссии Бурденко, что собственными глазами видел в августе 1941 г. грузовики с немецкими солдатами, направлявшиеся в Катынский лес; туда же двигались колонны пленных поляков, а потом из леса слышались выстрелы. Он нашел в 1943 году вблизи захоронения, вскрытого немцами, три стреляные гильзы фирмы Геко калибра 7.65, которые, однако, не отдал немцам, а передал «соответствующим органам». На допросе сотрудниками ГВП Кривозерцев полностью изменил показания и рассказал совсем другую историю: о том, как летом 1940 г. видел на станции Гнездово столыпинские вагоны с пленными, как к вагонам вплотную подгоняли автобусы, а потом в поселке говорили, что поляков хотели организовать в колхоз, но они отказались и были расстреляны. Что касается комиссии Бурденко, то в ней, по словам Кривозерцева, его никто ни о чем не спрашивал — дали подписать протокол и отпустили с Богом.
Однако отпустили его не совсем: за пять-шесть лет до допроса группой Третецкого к нему, оказывается, приходил сотрудник КГБ, который напомнил ему прежние показания 1943 г. и предупредил, что он должен их в случае надобности подтвердить. Визит этот, судя по всему, имел место либо в андроповско-черненковские годы, либо в самом начале правления Горбачева. Что означал этот обход свидетелей? Неужели Лубянка тогда готовилась публично повторить версию Бурденко? Но по какой причине, в связи с чем?
А может быть, не пять-шесть, а девять-десять лет назад? Как явствует из записи в архивном формуляре «пакета № 1», 15 апреля 1981 г. его просмотрел и вернул председатель КГБ и член Политбюро Юрий Андропов. Впервые после 1965 г. член высшего советского ареопага лично заинтересовался катынскими бумагами. Зачем ему это понадобилось?
Советских вождей в 1981 г. страшно тревожили польские события. В первых числах апреля Андропов и министр обороны Устинов встречались с членами польского руководства в вагоне поезда в Бресте. 9 апреля Андропов докладывал об этом разговоре на Политбюро. Он постоянно искал аргументы в напряженном диалоге с Варшавой, говорил о мнимых немецких претензиях на Силезию и Гданьск. 15 апреля Брежнев принимал в Кремле первого секретаря ЦК ПОРП Станислава Каню. Именно перед этой встречей Андропов и просмотрел «особую папку».
Став в 1982 г. генеральным секретарем, Андропов продолжал интересоваться катынским делом. Ходили слухи, что он завел собственное досье по Катыни. Когда Валентин Фалин — дипломат-германист, работавший тогда в ЦК КПСС, — предложил ему провести архивный поиск, собрать все имеющиеся данные и проанализировать их, Андропов дал ему поручение «подготовить предложения, как дальше вести эту проблему и, в частности, как реагировать на возможные польские обращения». Фалин утверждает, что речь шла о «мобилизации данных, которые при необходимости могут быть обнародованы».
Обращение Фалина к КГБ дало все тот же обычный результат: заместитель председателя генерал-полковник Владимир Пирожков принес ему текст сообщения комиссии Бурденко и немецкую «белую книгу» — секретную для обычных граждан, но доступную Фалину. Когда Фалин проявил настойчивость, Пирожков заявил ему, что в КГБ хранится совершенно секретное досье по Катыни, запечатанное в пакет с надписью «Вскрытию не подлежит». «Вы предлагаете обратиться к его содержанию?» — спросил генерал, давая понять, что вопрос закрыт. Фалин стушевался, сказал, что просит помощи «в пределах полномочий» Пирожкова. Спустя несколько дней секретарь ЦК, непосредственный начальник Фалина Михаил Зимянин бросил ему гневное замечание: «Не слишком ли ты глубоко хватил по Катыни? Держись в рамках». По словам Фалина, чрезмерный интерес к катынской теме стал одной из двух причин его удаления из ЦК в газету «Известия». (Второй было, опять-таки с его слов, его отношение к вторжению в Афганистан.)
Фалин полагает, что Андропов воспринял его действия как подспудную интригу, считал, что «проклятая история» косвенно бьет по нему как бывшему шефу КГБ. Вполне вероятно, что он был знаком с содержанием досье, о котором говорил Пирожков, или даже был его составителем. Речь могла идти, конечно же, в первую очередь о постановлениях тройки, на которую Политбюро возложило вынесение смертных приговоров польским военнопленным, — Меркулов, Кобулов, Баштаков. Эти документы не обнаружены по сей день. А быть может, обнаружены, но остаются секретными.
Неужели странный визит сотрудника КГБ к Михею Кривозерцеву — отголосок этого эпизода? Что если Пирожков принял меры на случай, если ЦК начнет всерьез интересоваться Катынью? Мы ступаем здесь на слишком зыбкую почву и можем лишь гадать. Катынь настолько прочно вросла в плоть России, что порой дает о себе знать в самых неожиданных обстоятельствах.
Отношение к военнопленным противника — это оборотная сторона отношения к своим гражданам, оказавшимся в плену. Непризнание за ними правового статуса — наследие Сталина, который в 1941 г. на запрос Международного Комитета Красного Креста, собирается ли Советский Союз выполнять требования Женевской конвенции, ответил: «Русских в плену нет. Русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, он автоматически перестает быть русским».
После войны насильственно репатриированные военнопленные и остарбайтеры почти без исключений отправлялись в ГУЛАГ. Лишь в 1956 г. к бывшим военнопленным был применен указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Через 11 лет после войны государство не реабилитировало своих солдат, имевших несчастье попасть в плен, а простило их, оставив виновными.
Отношение советской власти к плену как к предательству вынуждало пленников афганской войны не стремиться на родину, а искать убежища на Западе. Одного из них, Николая Рыжкова, получившего убежище в США, в 1988 г. уговорили вернуться в Советский Союз; заверения в том, что его не накажут, дал советский посол в Вашингтоне Анатолий Добрынин. Немедленно по прибытии в СССР, прямо в аэропорту «Шереметьево», он был арестован, судим и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима. По последним сведениям, 273 солдата афганской войны числятся пропавшими без вести. Им пошел уже пятый десяток. Кто-то перебрался на Запад, многие приняли ислам и остались в Афганистане и Пакистане…
В конце концов следственной группе удалось идентифицировать, найти и допросить оставшихся в живых сотрудников НКВД, имевших непосредственное отношение к расстрелам. Наиболее яркую картину, со множеством деталей, нарисовал бывший начальник УНКВД по Калининской области генерал-майор Токарев. «Первое впечатление о Токареве как о угасающем старике оказалось ошибочным, — пишет военный прокурор Яблоков. — Физическая немощь не повлекла за собой деградации личностной. Сразу проявились внутренняя собранность, быстрота и логичность мышления, острая память, эрудированность и глубокий ум и — что особенно поразило — неизжитая авторитарность». (Все это мне так знакомо! Эти люди помнят всё до последней подробности, слабоумием не страдает никто.) Токарев подробно рассказал, как было оборудовано помещение для расстрелов в одной из камер тюрьмы УНКВД (ее стены обшили войлоком), как расстреливали (выстрелом в затылок), каким оружием (немецкими «вальтерами»).
Потрясающее свидетельство Токарева — его показание о приказе Кобулова не оставлять в живых ни одного свидетеля, который не участвовал в казнях. Как тут не вспомнить русских нигилистов, Сергея Нечаева с его идеей повязать кровью заговорщиков и изображение нечаевщины в «Бесах» Достоевского, где Николай Ставрогин советует Верховенскому: «…есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать». Именно из-за кобуловского приказа, желая спасти жизнь одному из водителей, который отказался было участвовать в расстрелах, Токарев, по его словам, угрожал ему расстрелом.
Токарев выразительно описал главаря палачей Блохина, приехавшего со своими подручными для исполнения бессудных приговоров из Москвы: «Перед расстрелом Блохин надел спецодежду: кожаную коричневую кепку, длинный того же цвета кожаный фартук, такие же перчатки с крагами выше локтей…»
Благодаря показанию Токарева о том, что все участники расстрелов были награждены в приказе по НКВД, по этому наградному списку нашли и других доживших до наших дней членов расстрельной команды. Наконец, Токарев с высокой точностью — ошибся всего на 16 человек — назвал число расстрелянных в Медном и указал точное место захоронения.
В ходе расследования подполковник Яблоков привлек к изучению собранных материалов группу видных экспертов во главе с директором Института государства и права Российской Академии наук Борисом Топорниным. Комиссия, в которую вошли историки, юристы, криминологи и специалисты по судебной медицине, тщательно проанализировала весь корпус документов, в том числе данные немецкой и польской экспертиз 1943 года.
В итоге эксперты пришли к заключению о том, что эксгумация останков, с которыми работала комиссия Бурденко, была проведена заранее, исследование трупов было поверхностным. Полные протоколы судебно-медицинской экспертизы обнаружить не удалось, а данные, имеющиеся в акте, приложенном к сообщению комиссии Бурденко, содержат лишь выводы, но не основания для этих выводов. В частности, непонятно, каким образом судмедэксперты датировали смерть осенью 1941 года. Они ссылались лишь на свой личный опыт, но непонятно, учитывали ли они свойства почвы, климатические особенности, активность микрофауны, факт двойной эксгумации трупов и другие объективные факторы. Никаких следов «последующих микроскопических и химических исследований в лабораторных условиях», для которых изымал материал Бурденко, следствию обнаружить не удалось. По авторитетному мнению членов комиссии академика Топорнина, при таких условиях даже современная судебная медицина во всеоружии современных методов исследования не в состоянии определить время расстрела с точностью до полугода. Поэтому международная комиссия, работавшая в Катыни в 1943 г. по приглашению немецких оккупационных властей, этого и не сделала: дата была установлена по документам, найденным на трупах. Метод псевдокаллуса, предложенный венгерским экспертом профессором Оршосом для датировки захоронений (твердые отложения на поверхности мозговой массы), по мнению специалистов комиссии Топорнина, судебно-медицинской практикой не подтвердился. Но выводов, основанных на вещественных доказательствах, это не отменяет.
Отдельную проблему представляла проверка аутентичности документов «особой папки». На утверждениях, что эти документы — позднейшая подделка, строили свои возражение против приобщения их к материалам «дела КПСС» эксперты КПСС — заведующий кафедрой Волгоградской высшей следственной школы МВД РФ профессор Феликс Рудинский и кандидат юридических наук народный судья Слободкин. Эти аргументы с тех пор остаются в обороте российской публицистики на катынскую тему. В своем «опровержении» Юрий Слободкин пишет:
«Одним из признаков, указывающих на фальсификацию записки Берии и выписки из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б), явилось полное совпадение дат отправки записки (5 марта 1940 г.) и проведения заседания Политбюро (тоже 5 марта 1940 г.). В практике работы Политбюро такого никогда не было. Разрыв во времени между датой отправки того или иного документа с предложением рассмотреть какой-то вопрос на заседании Политбюро и самим заседанием составлял не менее 5–6 дней».
Профессор Рудинский, в свою очередь, ссылается на мнение Слободкина, которому, судя по всему, доверяет. Слободкин, пишет он, заявил, «что протокол заседания Политбюро, где за № 144 от 5 марта значится «Вопрос НКВД», по его мнению, сфальсифицирован. Он обратил внимание суда, что нумерация заседаний Политбюро вызывает сомнение: № 136, потом вдруг сразу № 144 от 5 марта. «Почему, если все это… велось по порядковым номерам, не идет 137 номер записи по порядку, а идет вдруг сразу 144 номер?» — спросил Юрий Максимович».
Опровергатели обращают внимание и на то, что записка Шелепина на имя Хрущева с предложением уничтожить учетные дела расстрелянных поляков имеет двойную дату: она датирована 3 марта 1959 г., а зарегистрирована в текущем делопроизводстве 9 марта 1965.
Эти и другие «доказательства фальсификации» скрупулезно разобраны и опровергнуты. Дата 5 марта 1940 г. на записке Берии — это не дата ее составления или поступления в канцелярию Политбюро, а дата принятия решения по ней. Пропуски в нумерации пунктов решений протокола Политбюро от 5 марта того же года (на тех самых двух листах, изъятых по указанию Черненко, поэтому текст начинается с полуслова) объясняются тем, что это не полный протокол, а выписки из него, куда вошли только секретные решения. В открытом, несекретном протоколе в таких случаях оставались лишь ссылки на особую папку.
С запиской Шелепина подробно разбирались следователи ГВП. Они допросили ее автора, обращались за консультациями к начальнику Центрального архива МБ РФ полковнику Александру Зюбченко. Шелепин подтвердил подлинность своей записки. По его словам, спустя три месяца после его вступления в должность кто-то из подчиненных доложил ему, что в помещениях архива целая комната занята секретными документами, совершенно ненужными для работы, и предложил запросить у ЦК КПСС разрешение на их уничтожение. Как заявил Шелепин, первое время на новом месте он чувствовал свою некомпетентность, доверял профессионалам ведомства и потому подписал бумагу, «не вникая в существо вопроса».
Документ, по всей видимости, хранился в сейфе заведующего общим отделом ЦК КПСС Владимира Малина. Такой порядок был принят при общении с особо важными документами, которые к тому же, как записка Шелепина, составлялись в единственном экземпляре и писались не на машинке, а от руки. В июле 1965 г. Малин был назначен ректором Академии общественных наук при ЦК КПСС и перед уходом зарегистрировал записку Шелепина. Его место во главе общего отдела занял Константин Черненко; о том, как он распорядился катынскими документами, мы уже знаем. Владимир Никофорович Малин умер в Москве в январе 1982 г., поэтому подтвердить эту версию не представляется возможным.
Уничтожены ли учетные дела, как предлагал Шелепин Хрущеву? Это неизвестно.
Шелепин писал в своей записке: «Для исполнения могущих быть запросов по линии ЦК КПСС или Советского правительства можно оставить протоколы заседаний тройки НКВД СССР, которая осудила указанных лиц к расстрелу и акты о приведении в исполнение решений троек. По объему эти документы незначительны и хранить их можно в особой папке».
Где эти «решения троек»? В том досье, о котором говорил Фалину Пирожков? Неизвестно.
Летом 1994 г. расследование Главной военной прокуратуры, пережив взлеты и падения, подошло к своему финалу. Руководитель группы Анатолий Яблоков написал постановление о прекращении дела за смертью обвиняемых. Военный прокурор пошел на беспрецедентный шаг — он квалифицировал расстрелы польских военнопленных не по советскому законодательству, действовавшему в момент совершения преступления, а по уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге. По мнению Яблокова, в деле имеются признаки преступлений, предусмотренных ст. 6 устава МВТ, а именно: преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления. При этом Яблоков исходил из квалификации, которую советская юстиция уже дала катынским расстрелам в Нюрнберге — изменился лишь состав обвиняемых, но не суть преступления.
Однако начальники Яблокова с таким подходом не согласились. Его постановление было отменено, дело передано другому прокурору с указанием переквалифицировать состав преступления на превышение власти (ст. 110 УК РСФСР в редакции 1929 г.) — именно так квалифицировались действия участников массовых репрессий в процессе хрущевской реабилитации. Практически никто из них ощутимого наказания не понес.
После того, как президентом России стал выходец из «органов», о каких-либо прорывах в катынском деле говорить уже не приходится. Лишь на третьем году своего первого президентского срока, в январе 2002 г., Владимир Путин собрался с визитом в Варшаву. Перед поездкой он принял в Кремле польских журналистов. Главный редактор «Газеты выборчей» Адам Михник спросил его, каково, по его мнению, место Сталина в истории России. «Это такой несколько провокационный вопрос», — сказал Путин. «Немножко», — согласился Михник. «Ну, не немножко», — возразил Путин. И добавил, что «Сталин, конечно, диктатор», но «именно под его руководством страна победила во II Мировой войне».
Сталинистские симпатии сегодня в России скрывать не принято. Ими, напротив, щеголяют в московских политических салонах. Лжепатриотизм, ксенофобия, комплекс великодержавности определяют сегодня внешнюю политику России.
Отношения между Москвой и Варшавой вконец испортились в связи с участием Александра Квасневского в урегулировании украинского кризиса. А потом были торжества в Москве по случаю 60 летия Победы, и Александр Квасневский колебался, ехать ему или нет, потому что Россия вдруг стала яро оправдывать пакт Риббентропа—Молотова. Потоки лжи и оскорблений, извергнутые в адрес балтийских соседей России, запомнятся надолго. На любые упоминания о советско-германском пакте Путин реагировал с нескрываемым раздражением. Даже в Израиле, в музее «Яд-Вашем» (посещение имело место 28 апреля 2005 г.), когда гид сослался на пакт, Путин тотчас предъявил претензию: а почему вы не говорите о мюнхенском сговоре?
Президенты Литвы и Эстонии Валдас Адамкус и Арнольд Рюйтель в конце концов отклонили приглашение Путина на празднество. Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга приехала, хотя Москва делала все, чтобы у нее сдали нервы. Приехал и Александр Квасневский.
Упорное стремление уравнять «мюнхенский сговор» и пакт Сталина с Гитлером, истолковав пакт как следствие «сговора», фактически возвращает нас к сталинской оценке предвоенной политики европейских держав, впервые изложенной в брошюре 1948 г. «Фальсификаторы истории» в ответ на публикацию в США сборника документов о нацистско-советских отношениях 1939–1941 годов. Оценка эта с тех пор оставалась обязательной для советских историков вплоть до 24 декабря 1989 г., когда Съезд народных депутатов СССР признал предвоенные советско-германские секретные протоколы «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания». Мюнхенское соглашение 1938 г., позволившее Гитлеру оккупировать Судетскую область Чехословакии, где преобладало немецкое население, было чудовищной ошибкой Чемберлена и Даладье, но они были убеждены, что подписывают договор о мире. Пакт Молотова—Риббентропа открывал Гитлеру дорогу к войне.
В такой морально-политической атмосфере оставалось лишь окончательно закрыть дело о катынских расстрелах. В марте 2005 г. главный военный прокурор России Александр Савенков заявил, что расследование закончено. «По просьбе польской стороны, — сказал он на пресс-конференции, созванной по этому случаю, — мы тщательно исследовали данные обстоятельства и по результатам этих исследований приняли соответствующее процессуальное решение. Уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления, поскольку факт геноцида польского народа не имел места ни на государственном уровне, ни в юридическом смысле. Дело было прекращено как военное должностное преступление, связанное с превышением должностных полномочий». «Геноцида нет, — еще раз повторил Савенков. — В дискуссию на эту тему я вступать не буду». [Cудя по ответу Главной военной прокуратуры обществу «Мемориал» от 24 марта 2005 г., уголовное дело прекращено также за смертью виновных. Цитата из письма ГВП: «Действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы по п. «б» ст. 193-17 УК РСФСР (1926 г.) как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. 21.09.2004 г. уголовное дело в их отношении прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за смертью виновных. В ходе расследования по делу по инициативе польской стороны тщательно исследовалась и не подтвердилась версия о геноциде польского народа в период рассматриваемых событий весны 1940 года. С учетом изложенного уголовное дело по признакам геноцида прекращено за отсутствием события преступления на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ». — Прим. ред.]
Но это еще не все. Даже с материалами закрытого дела польская сторона в полном объеме ознакомиться не сможет. По словам Савенкова, из 183 томов дела 116 содержат сведения, составляющие государственную тайну. Поэтому Польше может быть передано лишь 67 томов.
При таком настрое властей неудивительно, что в России расплодились и расцвели пышным цветом различные обскурантистские и реваншистские группы и движения. Апология карательных органов и сталинского режима в целом приобрела масштабы, невиданные даже в брежневско-андроповские годы. Немалое место в этом мутном потоке занимают и попытки вернуться к сталинской версии катынских расстрелов.
В этой кампании участвуют видные политики, такие как, например, бывший высокопоставленный сотрудник Прокуратуры СССР, ныне депутат Государственной Думы от КПРФ Виктор Илюхин. В одном из своих интервью он начисто отрицает вину НКВД и дополняет версию комиссии Бурденко сведениями о неких мифических, будто бы недавно обнаруженных, но скрываемых от народа документах, доказывающих вину нацистов. По мнению Илюхина, обвинение против НКВД основано исключительно на документах «особой папки» и в очередной раз выражает сомнение в их подлинности. Он ссылается на показания уже знакомого нам Михея Кривозерцева и на некий «подлинник протокола допроса немецких военнопленных», которые признались, что лично расстреливали поляков. «Геббельс, упоминая в своем дневнике о Катыни, — заключает Илюхин, — писал, что сделает из этого колоссальный скандал, который и много лет спустя будет доставлять Советам огромные неприятности. Видимо, знал, что у него будут старательные последователи».
Илюхину вторит и интервьюер: «Писатель В. Жухрай, являющийся доктором исторических наук, указывает, что изготовление и внедрение фальшивок такого рода (как постановление Политбюро от 5 марта 1940 года. — В.А.) входит в методику работы английской разведки. Там работают прекрасные специалисты, оснащенные самой совершенной техникой. Он считает, что данные фальшивки были помещены в партийные архивы зарубежной агентурой в смутное время после смерти Сталина». Видимо, ни журналист, ни Виктор Илюхин не знают, что корпус документов, обличающих НКВД, насчитывает сотни, если не тысячи архивных документов, совпадающих в мелких деталях, — фальсифицировать такой объем документации не под силу даже английской разведке, ей шпионить будет некогда. Впрочем, взглянув на фамилию автора, я все понял — это тот самый редактор «Литературной газеты», который когда-то в горбачевские времена запретил мне посещать «полуподпольные сборища», где обсуждалась катынская тема. Так замыкается круг.
Вряд ли стоит вступать в полемику с таким одиозным автором, как Юрий Мухин, сделавший себе имя на «разоблачениях» польской версии Катыни. От автора, который доказывает, что американцы никогда не высаживались на Луне и что вместо Ельцина Россией правил двойник, к тому же пишет в истерическом и оскорбительном тоне, лучше держаться подальше. Однако и его «разоблачения» все до единого добросовестно разобраны и опровергнуты. Тем не менее они продолжают гулять по русскому Интернету, где катынской теме посвящено несколько форумов, участники которых громоздят все новые горы неведомо откуда взявшихся «доказательств».
Вот лишь один образчик уровня полемики.
Внимательный Читатель:
Судя по размещенному на вашем сайте документу (следует ссылка) руководство СССР планировало в 1990 году погасить затребованную поляками компенсацию за Катынь в размере 5–7 млрд. инвалютных рублей путем списания задолженности Польши Советскому Союзу. По современному курсу это не менее 11–13 млрд. Известно ли что-нибудь о том, какое решение было тогда принято Политбюро или ЦК КПСС по записке Яковлева и Шеварднадзе? Зная нравы Горбачева и его окружения, можно не сомневаться, что польская задолженность была списана за элементарную взятку со стороны поляков Горбачеву, Яковлеву и Шеварднадзе.
Сергей Стрыгин, администратор форума:
Для подобных далеко идущих выводов пока нет достаточных оснований. Хотя почти наверняка вы кое в чем правы, поскольку дыма без огня не бывает.
Сергей Стрыгин — представитель нового поколения борцов за «правду о Катыни». Он не ограничивается сочинением наукообразных текстов. У него есть организация, так называемая Армия Воли Народа, активисты которой устраивают публичные мероприятия в Москве. Одной из самых заметных акций АВН стал пикет в сквере у посольства Польши 4 ноября 2005 г., о котором широко сообщала польская пресса. 30 марта 2006 г. Сергей Стрыгин добился приема в Главной военной прокуратуре. От ГВП в беседе участвовали генерал-майор юстиции Валерий Кондратов и полковник юстиции Сергей Шаламаев, который завершал следствие по Катыни. «В ходе состоявшейся беседы, — сообщает Стрыгин на своем сайте, — стороны продемонстрировали друг другу принципиально противоположное и взаимоисключающее понимание сути катынского дела».
Индоктринация приносит свои ядовитые плоды. Согласно опросу социологической службы «Левада-центр», в глазах российских граждан Польша — недружественное России государство. Она входит во вторую пятерку недружественных стран вместе с Украиной, Афганистаном, Ираком и Молдавией. Еще в 2005 г. эту позицию занимал Иран, а Польша была дружественной страной. Польшу все еще называют в числе союзников России во II Мировой войне, но если в 2001 г. таких респондентов было 19 %, то в 2004 м — 15.
В замороченных головах граждан России каким-то удивительным образом уживаются страх перед ростом фашизма и самый грубый национализм: по опросу «Левада-центра», опасающихся фашизма в стране 53 %, в то же время 17 % считают, что давно пора осуществить на деле идею «Россия для русских», а еще 37 — что осуществить ее надо «в разумных пределах».
Шовинистический угар у моих соотечественников рано или поздно пройдет. Останется чувство жгучего стыда за людей, которых не по чину, каким-то попутным ветром занесло на вершину власти. За что же опять России такая пагуба? Откуда оно взялось на нашу голову, это племя, как писал Константин Леонтьев, «неопределенного цвета и лукавого петербургского подбоя»?
Они все время говорят, что надо забыть былые обиды и всё начать заново, с чистого листа. Но сами не в состоянии забыть бесславный уход восвояси оттуда, куда их никто не звал.
Историю переписать несложно. Но обмануть историю нельзя — обманутым в итоге остаешься ты сам.
Москва не делает тайны из результатов расследования, заявил с трибуны Государственной Думы тогдашний генеральный прокурор России Владимир Устинов. И добавил, что депутаты, имеющие допуск к секретным документам, могут ознакомиться с закрытой частью материалов.
Этот кафкианский комментарий дополнился в ноябре того же 2005 года новым событием. На заявление вдовы одного из расстрелянных с просьбой о реабилитации покойного Главная военная прокуратура ответила, что, с ее точки зрения, катынские расстрелы — не политическая репрессия, а потому и реабилитации их жертвы не подлежат.
Ответ вызвал бурю возмущения в Польше. Но я в данном случае согласен с ГВП. Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» предполагает политические мотивы расправы и хоть какую-то, пусть квазиправовую, процедуру осуждения. Ни того, ни другого в катынском деле не было. Да и непонятно, для чего родственникам жертв эта реабилитация. Она была придумана Хрущевым в рамках возвращения к «ленинским нормам» справедливости и законности. Узников ГУЛАГа реабилитировали те же самые суды и зачастую те же люди, что и обрекали их на страдания, — просто взяли под козырек и стали выполнять новые указания партии и правительства. С такой же легкостью, с какой прежде доказывали, что обвиняемый — террорист, шпион и белогвардеец, стали доказывать, что он верный ленинец, лояльный драконовскому режиму. И восстанавливали страдальца в партии.
Каждый, кто занимался изучением истории карательных органов и реабилитации жертв режима, согласится со мной: это какое-то кольцо, блуждание в замкнутом пространстве. Всякий раз, пытаясь обнаружить оборотную, истинную сторону событий, оказываешься все на той же плоскости и ходишь по кругу. Потому и не удаются, носят односторонний характер попытки реабилитации жертв политических репрессий: реабилитирующие комиссии разбирают дела в рамках той же абсурдистской логики, в какой они фабриковались. Бухарин реабилитирован и посмертно восстановлен в партии, а Ягода, проходивший по тому же процессу, — нет. Первый не был правотроцкистским заговорщиком, а второй, выходит, был — хотел свергнуть Сталина и восстановить капитализм.
Реабилитация имела огромное значение потому, что реабилитированные получали материальную компенсацию за конфискованное имущество и каждый год заключения (и то и другое — по издевательским нормам), право на жилплощадь, бесплатное протезирование зубов… Но ведь ничего этого семьям катынских жертв не нужно. Чего же они хотят, зачем ломятся в запертую наглухо дверь?
Они просто хотят знать правду, которой до сих пор не знают. Как не знаем мы правды про московские взрывы, Норд-Ост и Беслан. И пока не узнаем, не сможем простить.
Возможен ли вообще суд над прошлым — не символический, а реальный, юридически убедительный?
Когда Кромвель и его соратники учинили суд над Карлом I, они заметно нервничали с непривычки. Им было страшновато судить легитимного монарха: не ровен час разверзнутся небеса, и произойдет что-нибудь нехорошее. Однако обошлось. Голова Карла скатилась с плеч, а спустя 11 лет парламент призвал на трон его сына. Карл II милостиво принял приглашение. Первым долгом он приказал выкопать и повесить труп Кромвеля.
Поскольку англичане уже создали прецедент, за французскими революционерами дело не стало. Причину, по которой Людовика надо обязательно осудить, Робеспьер объяснил Конвенту с подкупающей простотой: «Если король невиновен, тогда виновны те, кто его сверг». Безупречная логика!
В истории были чудовищные гекатомбы, за которые никто не наказан. Ни за работорговлю, ни за колониализм, ни за геноцид коренных народов Северной Америки и Сибири, ни за войну пулеметами «максим» с не знающими пороха туземцами, ни за потраву неприятельских солдат газами, ни за голод, ни за ГУЛАГ никто никакой юридической ответственности не понес. Кого судили за I Мировую войну? Да никого. Даже революции стали гуманны: низложенные монархи побежденных стран мирно удалились в изгнание и имущество с собой вывезли целыми железнодорожными составами. А ведь Гаагские конвенции о законах и обычаях войны уже существовали.
Впрочем, на Парижской мирной конференции в 1919 г. лидеры победивших держав обсуждали вопрос о наказании кайзера. Англичане хотели его повесить, но президент США Вудро Вильсон напомнил Ллойд-Джорджу Карла I: мол, хватит, одного уже казнили, так его потом поэты превратили в мученика. Тогда, может, сослать, как Наполеона? «Только не на Бермуды, — попросил Вильсон. — Я сам хочу там поселиться». В конце концов с Вильгельмом решили не связываться, тем более что Нидерланды наотрез отказались выдать его. Новому правительству Германии передали список тысяч лиц, обвиняемых в военных преступлениях. Из них к суду привлекли 12 человек, большинство оправдали. Двум капитанам субмарин, топившим спасательные шлюпки с ранеными, дали по четыре года; через несколько недель после приговора они сбежали из тюрьмы и так и не нашлись.
Кайзер дожил в неге и довольстве аж до 1941 г., писал мемуары, читал Вудхауза, обличал всемирный еврейский заговор, ликовал по случаю прихода к власти Гитлера и умер за считанные дни до вторжения немецких войск в Советский Союз.
И лишь бесчинства нацистов на оккупированных территориях заставили лидеров антигитлеровской коалиции всерьез задуматься о международном суде. Черчилль был против, Сталин — за, но хотел провести судилище по сценарию московских процессов. Только американцы подошли к делу с правовой точки зрения — начали собирать доказательства и разрабатывать регламент трибунала. Кстати, вопреки общественному мнению своей страны, которое считало, что главарей Рейха надо попросту вздернуть без суда и следствия. Именно американская делегация настояла на процедуре реального состязательного процесса — не потому, что желала оправдания обвиняемых, а чтобы процесс потом не объявили судом победителей. Но его все равно объявили.
Гаагский суд над Милошевичем стоило бы назвать фарсом, если бы не преждевременная смерть обвиняемого. Процесс Саддама в Багдаде и вовсе смехотворен.
Если уж судить, так всерьез и по-честному. Потому что должен быть иной ответ помимо того, который дает Булгаков в финале великого романа:
«Заплатит ли кто-нибудь за кровь?
Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю… выйдут пышные всходы… задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.
Никто».
P.S. В первом десятилетии XXI века в России вошли в моду стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Этот факт надобно занести на «кровавые скрижали», о которых сказано в этих стихах, то есть в историю русско-польских отношений. Первое — ответ «народным витиям» Франции, которые требовали от своего правительства оказать помощь польскому восстанию 1830–1831 г., второе — ода на взятие Варшавы войсками генерала Паскевича, тоже обращенная к Европе. В свое время советским пушкинистам приходилось проявлять чудеса казуистики, дабы замазать антипольский смысл стихов.
Однако из песни слова не выкинешь. В отличие от верноподданнического ража других, у Пушкина упоение кровавой расправой было совершенно искренним. Описав в письме к Вяземскому отчаянный героизм поляков в одном из сражений, он добавляет: «Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна». Но князь этих взглядов не разделял. Он назвал «Клеветникам России» «шинельными стихами», пояснив, что имеются в виду «стихотворцы, которые в Москве ходят в шинеле по домам с поздравительными одами». «Народные витии, — пишет он с неподражаемой невозмутимостью, — могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим».
Суров был князь Петр Андреевич. Как выразился один из современников, «гонял Пушкина за Польшу» без всякой пощады: «Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках». Эта оценка была господствующей в русском обществе, по крайней мере в том кругу, мнением которого дорожил Пушкин.
Федор Тютчев (тот самый, что писал про «особенную стать» России и про то, что к ней нельзя подходить с общей меркой) слагал хвалу Муравьеву — душителю другого польского восстания, 1863 года, и тоже от чистого сердца. Он был далеко не одинок, но в среде людей независимых уважения не снискал. Петербургский генерал-губернатор Суворов, внук знаменитого полководца, на предложение подписать приветственный адрес «Вешателю» не только ответил отказом, но и назвал Муравьева «людоедом» (un croque-mitaine). Возмущенный изобретатель особенного русского аршина разразился юродивыми виршами:
Гуманный внук воинственного деда, Простите нам, наш симпатичный князь, Что русского честим мы людоеда, Мы, русские, Европы не спросясь!..В апреле 1866 г., когда сразу после покушения Каракозова на царя в стране воцарилась атмосфера злобной реакции, Некрасов в тщетной надежде спасти от закрытия свой журнал «Современник», прочел на обеде в Английском клубе «мадригал» в честь графа Муравьева. В тот же вечер, вернувшись с обеда, он написал покаянные строки:
Ликует враг, молчит в недоуменьи Вчерашний друг, качая головой…Журнал ему спасти не удалось. Позором он горько терзался всю оставшуюся жизнь, хотя злосчастные стихи и не были опубликованы.
Так обстояло дело прежде. Сегодня в России завелись свои «мутители палат». Они не только не стесняются своей полонофобии, но и получают явное удовольствие от публичной демонстрации оной. «Как похотлив их патриотизм! — писал все по тому же поводу Вяземский. — Только пощекочешь их, а у них уже и заходится и грезится им, что они ублудили первую красавицу в мире». Изрядно сказано. Им никогда не бывает стыдно — у них в организме отсутствует железа, вырабатывающая фермент стыда. Они придумали назвать московскую улицу Климашкина, на которой стоит посольство Польши, именем Муравьева и воздвигнуть на ней кумир «Вешателя».
Это было в марте 2005 г., когда городские власти Варшавы назвали одну из городских площадей именем Джохара Дудаева. Летом того же года в Варшаве скинхеды избили детей российских дипломатов (детям было по 16–17 лет), что в Москве расценили чуть ли не как акт агрессии против России; расследования требовал лично Путин. Спустя несколько дней началась кулачная дипломатия: в российской столице неизвестные избили сначала польского дипломата, затем польского журналиста.
Когда позорный счет кулачным расправам сравнялся, люди из правительства Москвы объявили план переименования улицы шуткой, что, разумеется, еще гнуснее: люди, способные так шутить, бесповоротно перешагнули грань приличий.
Тем временем в Польше отметили 85 летний юбилей «чуда на Висле» — разгрома войск Тухачевского на подступах к Варшаве. Лозунг похода Тухачевского был: «Через труп Польши — к мировой революции!» Однако поражение под Варшавой переломило ход войны. Блицкриг не получился. После этой битвы большевистские армии в Европе только отступали. О мировой революции пришлось забыть.
А в ноябре того же 2005 года пришел черед веселиться и нам: Россия впервые справила в качестве государственного праздника день изгнания «польских интервентов» из Москвы, которым заменили праздник по случаю октябрьского переворота. Не день победы над Гитлером, не разгром татар, ливонцев, крымского хана, турок, шведов или французов, которые тоже добрались до Кремля, а поляков. Это теперь главный государственный праздник России.
Президент Путин по этому случаю выступил с обращением к народу, прочел краткую лекцию о том, что изгнанием «иноземных захватчиков… был положен конец Смутному времени в России, конец междоусобице и распрям, разобщенности и связанным с этим упадком». Одним словом, изгони иноземца — и в стране воцарятся мир и благодать. «С этого героического события, — вещал президент, — началось духовное становление державы — великой и суверенной».
Казенная легенда, необходимая дому Романовых для утверждения его легитимности, спокон века ассоциировалась в сознании русских с понятием патриотизма. Но и патриотизм этот всегда был казенный.
За древностию лет позабылось, что царь Димитрий, встреченный в Москве колокольным звоном и ликованием измученного Смутой народа, был русским; русским по преимуществу было и его войско. Его право на престол ни в коей мере не оспаривалось. Польской марионеткой он не был. Его отношения с Сигизмундом III складывались крайне неудачно.
Новый царь был первым русским монархом, увидевшим мир западной цивилизации и вкусившим ее благ. Человек умный и способный, он задумал глубокие реформы, которые должны были радикально изменить облик Московского царства, повергнутого в варварство зверствами опричнины; он мечтал о братском слиянии двух великих славянских народов. Лжедмитрий был тайным католиком. Он видел себя во главе христианского войска, сокрушающего Османскую империю — источник главной военной угрозы для Европы того времени. Создание антиисламской коалиции было насущным вопросом европейской повестки дня. Успешная реализация этого плана могла превратить Москву в лидера крещеного мира.
С возведением на престол Димитрия у России появился шанс войти в семью европейских народов — «интегрироваться в Европу», как говорят теперь. Этому не суждено было сбыться. Окно в Европу заросло.
Патриоты правильно поняли президента. В день народного единства они устроили в Москве «Правый марш», участники которого несли лозунг «Россия для русских». Как некогда невежественные и изнуренные нуждой подданные Московского царства, участники этого шествия верят, что все зло в России от чужеземцев.
Так и живем. То на нашей улице праздник, то на польской. Вместе не умеем.
Русский философ Владимир Соловьев, страстный проповедник воссоединения западного и восточного христианства, считал «исторической обязанностью» России решение польского вопроса. «Россия должна делать добро польскому народу», — писал он. Воссоединение христианских Церквей было самым сокровенным упованием Иоанна Павла II. Покойный понтифик воспринимал разделение Церквей как наказание за грехи прошлого и неустанно эти грехи замаливал. Чтя мучеников веры, он заклинал, обращаясь к православным единоверцам, помнить, во имя чего они претерпели свои страдания от языческих и атеистических властей: «Все едины в этих мучениках, в Риме, на «Горе Крестов» и на Соловецких островах, и столь многих других лагерях уничтожения. Объединенные тенью мучеников, мы не можем не быть едиными».
Завет Иоанна Павла II останется его духовным наследием и рано или поздно будет исполнен. «Действительное и внутреннее примирение с Западом, — писал Владимир Соловьев, — состоит не в рабском подчинении западной форме, а в свободном соглашении с тем духовным началом, на котором зиждется жизнь западного мира». Для такого соглашения время, как видно, еще не пришло.
Примечания
1
Здесь и далее: ЦГАСА — Центральный государственный архив Советской Армии, ЦГОА — Центральный государственный особый архив, ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.
(обратно)2
См. в частности, материал «Проясняя «белые пятна»» — «Международная жизнь», 1988. № 5, а также книгу: Кульков Е. Н., Ржешевский О. А., Челышев И. А. Правда и ложь о второй мировой войне. Изл. 2-е. доп., Москва. Воениздат, 1988. с. 272–275.
(обратно)3
ТАСС, 18.4.1989, серия «АД», л. 4.
(обратно)4
Профессор ошибается. Из документов видно, что в Козельском лагере содержалось 2353 человека, доставленных туда иэ Литвы. Еще 2023 рядовых и унтер-офицеров из Литвы разместили в Юхновском лагере. Данные на 23.7.1940 (ЦГОА. ф. 1/П, оп. За, д. I. лл. 89 90. Здесь и далее документы ЦГОА цитируются по публикации А. С. Прокопенко и Ю. Н. Зори в «Военно-историческом журнале». 1990. № 6).
(обратно)5
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 1, л. 1.
(обратно)6
ЦГАОР, ф. 353, оп. 3. д. 661.
(обратно)7
ЦГАСА, ф. 38651, оп. 1. д. 100. л. 131.
(обратно)8
ЦГАОР, ф. 353, оп. 3, д. 678, л. 1.
(обратно)9
Сборник законов и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства СССР, 1925. № 77, ст. 579 и 1930. № 48, ст. 497.
(обратно)10
ЦГАСА. ф. 40, оп. 1. д. 181, л. 47.
(обратно)11
ГУВС — Главное управление военного снабжения.
(обратно)12
Там же, д. 69, л. 60.
(обратно)13
Там же, д. 73, л. 31.
(обратно)14
Там же, ф. 38052, оп. I.
(обратно)15
Стефан Зволиньский. Вооруженная борьба Полыни в годы второй мировой войны. Интерпресс, Варшава, 1989.
(обратно)16
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 182, л. 22.
(обратно)17
Станислав Свянсвич. В тени Катыпи. Overseas Publications Interchange Ltd., London, 1989, p. 97–98.
(обратно)18
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 180, л. 265.
(обратно)19
Строительство автотрассы Новоград-Волынский — Львов.
(обратно)20
Там же, д. 74, л. 2.
(обратно)21
Там же, д. 179, л. 321.
(обратно)22
Там же, л. 153.
(обратно)23
Там же, д. 180, л. 250.
(обратно)24
Там же, д. 181, л. 71–72.
(обратно)25
Там же, д. 198, л. 295.
(обратно)26
Там же, д. 180, л. 276.
(обратно)27
Czeslaw Madajczyk. Dramat Katynski. Ksiazka i Wiedza, Warszawa, 1989, ss. 16–17.
(обратно)28
2-е отделения лагерей и соответственно 2-й отдел Управления по делам о военнопленных занимались учетом «контингентов».
(обратно)29
В публикации И. С. Лебедевой «О трагедии в Катыни» («Международная жизнь», 1990, № 5) он ошибочно назван начальником следственной тюрьмы, искажена также фамилия: «Жомайдо» вместо «Жамойдо». В августе 1944 г. подполковник Жамойдо занимал пост заместителя начальника УНКВД Смоленской области.
(обратно)30
ЦГАСА, ф. 40, оп. I. д. 19]. л. 246. Приложенный к письму Шарапова акт от 9.7.1941 гласит, что комиссией УКВ отобрано и уничтожено 4908 дел и 15 590 экземпляров приказов наркома. Оставшиеся документы в 2 ящиках и 30 мешках эвакуированы в Свердловск.
(обратно)31
Там же, ф. 38106, оп. 1, д. 14, л. 38.
(обратно)32
Там же, д. 182, л. 49, 51, 53, 55.
(обратно)33
До лагерей в Юхнове располагался туберкулезный санаторий Павлищев Бор», в Грязовце — дом отдыха Совлсспрома.
(обратно)34
Там же, д. 88, л. 18.
(обратно)35
Там же, ф. 38052, оп. 1, д. 74, л. 45.
(обратно)36
Там же, ф. 38106, оп. 1, д. 7, л. 14.
(обратно)37
Надо признать, что кормили пленников действительно неплохо. В дневниках содержится множество упоминаний о лагерном меню: щи, гороховый суп, гуляш, рыба, картошка, манная каша, макароны с соусом. Военнопленному полагалось 30 г сахара в день, 1 пачка махорки на 5 дней и каждый банный день 200 г мыла.
(обратно)38
На плане Заводного (Janusz К. Zawodny. Katyn. Editions Spotkania, Lublin-Paryz, 1989) что строение обозначено словом «Цирк», а клуб располагается в деревянной пристройке между Введенским собором и Казанским храмом. «Цирк», «Шанхай», «Филармония», «Индийская гробница», «Бристоль» и т. п. — так военнопленные называли между собой лагерные бараки.
(обратно)39
Pamietniki znalezione…, ss. 200 212. В дневнике Зентины находим, кроме того, и точную дату разрешения переписки — это произошло 20.11.1939.
(обратно)40
Из-за этих хороших отношений случилась с Валентином серьезная неприятность. В политдонесении комиссара Управления по делам о военнопленных Нехорошева на имя Меркулова (ЦГОА, ф. 3/П, оп. 1, д. I, лл. 145–153) читаем: «Незначительная часть военнопленных все же не верит в отправку домой, исходит из того, что всех отправляемых тщательно обыскивает конвой и что везут в тюремных вагонах. Военнопленные пытаются обрабатывать обслуживающий персонал и выяснять у обслуживающею персонала, куда их отправляют. Установлено, что сведения о перевозке в тюремных вагонах проникли в лагерь от киномехаников Левашова и Горшкова. Обслуживающий персонал крепко предупрежден в связи с этим». И далее там же: «С целью наибольшей изоляции военнопленных от обслуживающего персонала последний в зоне лагеря сокращен до минимума, остальным доступ в лагерь ограничен». Уж не знаю. чувствовали ли мать и сын Левашовы слежку за собой, но в том, что она велась, сомневаться не приходится. Доказательство — директива Берии «по оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных», параграф 7 которой гласит: «В целях своевременного выявления и предотвращения возможных фактов использования военнопленными в преступных целях отдельных лиц из обслуживающего персонала лагеря (передача сообщений, писем, подкуп в целях побега) наряду с инструктажем и политической работой. проводимой администрацией и политаппаратом лагеря, особые отделения лагерей обеспечивают агентурным обслуживанием надзирательско-конвойный состав лагеря и окружающие лагерь населенные пункты». (Там же, ф. 451/П, оп. 1, д. 1, лл. 17–20).
(обратно)41
Zbrodnia Katynska w swiette dokumentow. GRYF, London 1986, s. 27.
(обратно)42
Как раз те трое, кто спустя месяц получил поощрения в честь 22-летия KB НКВД.
(обратно)43
В списках Мощиньского капитан Лихновский числится среди узников Старобельска.
(обратно)44
ЦГАСА, ф. 38106, оп. 1. д. 10, л. 145.
(обратно)45
В июне 1940 г. Татаренко, как гласит сводка происшествий, «дезертировал из состава планового конвоя и на родине застрелился». Приказом от 11.7.1940 командиру батальона Межову и комиссару Снытко объявлен выговор «за плохой подбор конвоя».
(обратно)46
У Свяневича — «солдатами НКВД», но дело в том, что термина «солдат» в РККА того времени не существовало, равно как и термина «офицер» (нужно — «командир»). Далее я без лишних оговорок буду, где потребуется, исправлять этот анахронизм.
(обратно)47
ЦГАСА, ф. 38106, оп. 1, д. 7, лл. 86, 87, 89.
(обратно)48
Gustav Hilger and Alfred Meyer. The Incompatible Allies. New York, 1953, p. 268. В годы войны Оберлендер в чине капитана служил в контрразведке на советско-германском фронте и не раз выступал за смягчение оккупационного режима. С 1953 по I960 г. был министром федерального правительства по делам беженцев. В одной из своих последних книг — «Шесть очерков об обработке советского населения в годы второй мировой войны» (Oberlander Th. Sechs Denkschrit'ten aus dem Zwciten Weltkricg liber die Bchandlung der Sowjetvolker. Ingolstadt. 1984) он излагает методы пропагандистской работы среди нерусских народностей Кавказа в 1942–1943 гг.
О просоветских настроениях Коха и Оберлендсра пишет также Джеральд Райтлингер в книге «Дом на песке»: «Будучи рсйхскомиссаром Украины, Кох заимствовал у Гитлера его нерасположение к «неграм». Подобные чувства не владели в 20-х годах служащим железной дороги из Рура, когда он принимал свое будущее Восточно-Прусское королевство, едва ли представляя себе, как выглядит славянин. Соседство Кенигсберга с Советским Союзом развило в Кохе скорее радикализм, чем германский национализм. В 1934 году он опубликовал книжицу под названием «Aufhau im Osten». Отпечатанная готическим шрифтом, она содержала ряд претенциозных исторических параллелей, которые, как говорили, написал для него небезызвестный Веберкрозе.
Включала она и несколько речей Коха. Какова бы ни была доля участия Коха, во всяком случае книга обнаруживает то, чему Кох дал свое имя, например, теорию, что немецкая молодежь должна связать свою судьбу скорее с ожесточенной внеклассовой молодежью Советского Союза, нежели с декадентствующей молодежью капиталистического Запада; или теорию о том, что огромные просторы Востока — не то место, как он впоследствии проповедовал. откуда аборигены должны быть выселены, подобно индейцам, во имя создания зерновых зон, но дом немецких и русских первопроходцев, счастливо живущих вместе.
Еще более примечательна дружба Коха с человеком русофильских убеждений, профессором Кёнигсбергского университета Теодором Оберлендером, который непродолжительное время работал под началом Коха на Украине. В год публикации своей книги Кох присутствовал при тайном разговоре Оберлендера с человеком из старой большевистской гвардии. Карлом Радеком, галицийским евреем. И Оберлендер и Радек были против враждебного бездействия своих правительств. Радек — воистину странная фигура — выказал себя поклонником СС и СА. Эту вину Коху прежде всего пришлось заглаживать после назначения на Украину». (Gerald Reit-linger. The House Built on Sand. The Conflicts of German Policy in Russia. 1939 1945. London, 1960).
В 1959 г. появилась версия причастности Оберлендера к убийству Степана Бандеры (см., в частности, «Красную звезду» от 20.10.1959). В действительности Бандсра был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.
(обратно)49
Устав внутренней службы от 1937 г.
(обратно)50
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 74, л. 99.
(обратно)51
Строительство НКВД № 106 занималось весной-летом 1941 г. сооружением военного аэродрома в становище Поной (Кольский полуостров). Указом ПВС от 28.11.1941 начальники строительства И. И. Орловский и Г. М. Прокофьев и зам. начальника производственного отдела И. А. Туполев награждены орденами «Знак Почета», старший механик И. Г. Григорьев — медалью «За трудовую доблесть». В редакционной статье «Известий» от 29.11.1941. в частности, отмечалось: «В целом ряде случаев, особенно в суровых районах Севера, строителям пришлось на огромной площади раскорчевывать леса, осушать болота, сравнивать холмистую почву. Несмотря на новизну дела и особую его сложность, строители в короткий срок освоили весь строительный процесс и со свойственным большевикам упорством и энергией преодолели встретившиеся трудности. Все объекты, созданные в различных концах нашей необъятной родины, выполнены в рекордно короткие сроки. В мирных условиях одно из подобных сооружений строилось три года. В условиях войны, в условиях, диктовавшихся необходимостью сделать все для укрепления обороноспособности родины, оно было построено меньше чем за пятимесячный срок».
(обратно)52
ЦГАСА, ф. 38106, оп. 1, д. 14, лл. 44, 44 об.
(обратно)53
В декабре 1940 г. 15-я огдельная стрелковая бригада KB НКВД СССР переименована в 42-ю отдельную бригаду KB НКВД СССР.
(обратно)54
Там же. ф. 40, oп. 1. д. 191, л. 42.
(обратно)55
Szesiaw Madajczyk. Ibid., s. 17.
(обратно)56
ЦГОА, ф. I/П. оп. За, д. I, л. 288. Таким образом, цифру Мадайчика, из которой нужно вычесть 400 армейских офицеров. следует признать весьма точной. Еще более близкую цифру 6567 — называет Юзеф Мацкевич. Итак, мы видим, что подсчеты польских авторов отличаются высокой степенью достоверности.
(обратно)57
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 178, лл. 7–7 об.
(обратно)58
Там же, д. 179, л. 62.
(обратно)59
И ведь, похоже, прав Борис Федорович: Солженицын пишет об одном из своих героев, что зиму 1941/42 года был он на легкой работе — «упаковывал в гробовые обрешетки из четырех досок по двое голых мертвецов валетами».
(обратно)60
См. об этом также заметку в «Московских новостях» от 1.7.1990.
(обратно)61
Еще более странная история произошла на 239-м километре шоссе Москва-Ярославль, где близ деревни Селифонтово местным «Мемориалом» открыто очередное массовое захоронение жертв сталинизма. Разумеется, «самое активное участие в раскопках, — сообщили «Известия» от 15.7.1990, — приняли сотрудники УКГЬ по Ярославской области, УВД облисполкома, солдаты и офицеры воинских частей». Управляющий делами Ярославского облисполкома В. Боев рассказал корреспонденту, что. «кстати, в братской могиле обнаружены и револьверные пули, одна из них застрявшая в черепе». Однако вскоре эксгумацию пришлось прервать: в могилах нашли три неразорвавшихся снаряда. Прибыли саперы, взорвали снаряды (хочется верить, что не тут же на костях). Информация крайне невразумительная. Что за снаряды, чьи, откуда? Указан лишь калибр 76 и 36 мм. Собкор «Известий» М. Овчаров высказывает совершенно, на мой взгляд, нереалистическую гипотезу: «Уж не подброшены ли были полвека назад эти снаряды теми, кто был прямо причастен к преступной акции и любым способом думал помешать будущим раскопкам могилы?». Впрочем, теперь гадать поздно. «А раскопки братской могилы, — заключает корреспондент, — в целях безопасности сейчас не ведутся». Что и требовалось доказать.
См. также заметку в «Советской кулыуре» от 28.7.1990, где сказано, что эксгумированные останки теперь некуда захоронить.
(обратно)62
ЦГОА, ф. 1/П, оп. За, д. 1, лл. 89–90.
(обратно)63
Бывший осташковский узник Хенрик Кокошиньский написал мне и Минко, что столовой в лагере не было. баланду разливали в ведра и разносили по камерам. На одну камеру (50 человек) полагалось 10 литров баланды. Вряд ли, однако, и колонисты обходились без столовой. Столовая-то, видимо, была, но не для пленных.
(обратно)64
ЦГАСА. ф. 40, оп. 1, д. 74, л. 217.
(обратно)65
Там же, д. 179, л. 17.
(обратно)66
ЦГОА, ф. 1/П, оп. la, д. 1, лл. 182–184.
(обратно)67
Жаворонков. кстати, не указал, что письмо Дворниченко получено не им, а редакцией харьковской газеты «Новая смена» и опубликовано в номере от 3.3.1990. См. также Leon Bojko. Czarna droga Starohieteka. «Gazeta Wyhorza'». 29.5.1990.
(обратно)68
Осквернением останков нас не удивишь. Напомню читателям, к примеру, статью «Обнаженный яр» в «Правде» от 11.5.1989, в которой спецкор В. Чертков повествует о том, как в 1979 году в городе Колпашеве Томской области на месте тюрьмы НКВД обнаружились кости расстрелянных. По распоряжению местного руководства, дабы не поднимать вопрос о перезахоронении, трупы «врагов народа» теплоходными винтами вымывали из крутого берега в Обь. «Хроника» № 26, 1989-го в этой связи уточняет, что первым секретарем Томского обкома КПСС с 1963 по 1983 год был Е. К. Лигачев. В апреле 1990-го в Новосибирске состоялся митинг в поддержку кандидатов от блока «Демократическая Россия»; пункт 4 принятой на нем резолюции гласит: «Поддерживаем требование новосибирского и томского обществ «Мемориал» о гласном расследовании всех обстоятельств уничтожения захоронения жертв сталинщины в г. Колнашеве Томской области в 1979 г. Считаем недопустимым гот факт, что гражданин Лигачев Е. К., санкционировавший варварское преступление, в настоящее время является народным депутатом СССР, и требуем его немедленной отставки». («Балтия», 1990, № 5)
(обратно)69
ЦГОА, ф. 1/П, оп. 2с, д. 10, л. 268.
(обратно)70
Там же. лл. 283–284.
(обратно)71
Там же, ф. 3/П. оп. 1, л. 1, лл. 145–153.
(обратно)72
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. ISO, л. 201.
(обратно)73
Френкель Нафталий Аронович — в 1941 г. корпусной комиссар, начальник Главного управления лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС НКВД СССР). Именно за Кандалакшу Френкель был награжден вторым орденом Ленина (первый в августе 1933 за Беломорско-Балтийский канал) — см. Указ ПВС от 20.7.1940 «О награждении работников железнодорожного строительства (Дальний Восток и Кандалакша — Куолаярви)». Подробнее о нем см. в «Архипелаге ГУЛАГ».
(обратно)74
Там же, д. 185, лл. 167–169.
(обратно)75
Там же, д. 186, л. 23.
(обратно)76
Там же, л. 35.
(обратно)77
Ошибка памяти. В. М. Шарапов, как сказано выше, был начальником ГУКВ НКВД СССР. Начальником Юхновского лагеря был майор ГБ Кадышев.
(обратно)78
Моя ошибка. А. Я. Демидович — не комиссар, а начальник 2-го отделения Козельского лагеря.
(обратно)79
Осадники — польские переселенцы на территориях, ставших советскими в сентябре 1939 г.
(обратно)80
Здесь и далее оговорка: вместо КГБ в данном случае следует говорить МГБ, ниже — НКГБ.
(обратно)81
Комбриг Любый Иван Семенович Указом ПВС от 26.4.1940 награжден орденом «Красное Знамя». Никакими другими сведениями по этой персоналии не располагаю.
(обратно)82
А. А. Лукин почему-то уверен, что в Катыни также был лагерь военнопленных. Возможно, имеется в виду уже упоминавшаяся смоленская пересылка, но откуда Лукину известно географическое название «Катынь»?
(обратно)83
С безымянным политруком Лукин встретился в госпитале. Тот рассказал ему о пешем конвое из лагеря в первых числах июля 1941 г. Колонна двигалась по шоссе, забитому беженцами, и в результате часть поляков, по словам политрука, разбежалась. Конечным пунктом конвоя была Вязьма. Остается только гадать, откуда взялись беженцы близ Козельска и почему конвой направился в Вязьму, расположенную на запад от Коэельска. Речь, несомненно, идет об эвакуации не лагеря, а тюрьмы Смоленского УНКВД. Этот конвой убыл, как мы знаем, 10.7.1941. но не в Вязьму, а именно в Катынь. На шоссе Смоленск-Витебск он и встретил беженцев, двигавшихся в противоположном направлении. Уж не для осуществления ли этой акции уехал в Катынь командир полка Репринцев?
(обратно)84
См. Указ ПВС СССР от 3.2.1941 о разделении НКВД СССР на НКВД и НКГБ — «Правда», 4.2.1941.
(обратно)85
Пистолет или наган полагался также проводникам служебных собак. Например, в приказе конвойным войскам «О покушении на самоубийство проводника служебных собак 146-го конвойного батальона Зибертова Т. С. и несоблюдении правил выдачи на руки и хранения личного оружия» от 6.11.1939 сказано, что револьвер «наган» образца 1895 г. являлся табельным личным оружием покушавшегося (ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 68, лл. 43–44).
(обратно)86
Звания ГБ были введены постановлениями ЦИК и СНК «О специальных званиях начальствующего состава ГУГБ НКВД CCCp от 7.10.1935 и «Об утверждении Положения о прохождении службы начальсгвующим составом ГУГБ НКВД CCCp от 16.10.1935. По Положению, 2 нарукавных усеченных треугольника красного цвета соответствовали званию сержант ГБ. три — званию младший лейтенант ГБ. Знака различия в виде одного треугольника и соответствующего ему звания не существовало («Сборник постановлений и распоряжений правительства CCCp, 4.6.1936, № 26). Позднее знаки различия ГВ были приведены в соответствие с принятыми в РККА.
(обратно)87
Мархлевский Юлиан Юзефович (1866–1925) — один из организаторов СДКПиЛ (Социал-демократия Королевства Польского и Литвы в 1918 г. объединилась с ППС в КП Польши), в 1907 г. кандидат в члены ЦК РСДРП, один из организаторов группы «Спартак» в Германии. В 1920 г. председатель Временного ревкома Польши. Председатель ЦК МОПР (Международная организация помощи борцам революции), с 1922 г. ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. Член ВЦИК.
(обратно)88
Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) — член КПСС с 1918 г. (партстаж с 1906 г.), один из руководителей Польской Социалистической партии. В 1921 г. секретарь КП(б) Украины, в 1922–1923 гг. секретарь Исполкома Коминтерна, в 1931–1933 гг. председатель Всесоюзного радиокомитета. Член ВЦИК, ЦИК СССР.
(обратно)89
О том, как проходило отселение из приграничных районов, можно прочесть в письме В. П. Мороза (Елгава). опубликованном в «Совершенно секретно». 1990. № 2. Автор рассказывает, что до войны он с семьей жил на станции Бигосово Западной железной дороги. «Мой дедушка, Павлюкевич Емельян Антонович, и мать, Анна Емельяновна, были поляками. Стало известно, что поляков арестовывают, а латышей эвакуируют or границы, и дедушка, награжденный в 1935 году орденом «Знак Почета», каждый день ждал, когда за ним придут. Начальник погранзаставы вызвал его, чтобы уточнить происхождение, национальность». От ареста Е. А. Павлюкевича спасла смерть.
(обратно)90
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1. д. 179, лл. 181–182.
(обратно)91
Немногословное, но выразительное описание этих лагерей имеется опять-таки в «Архипелаге ГУЛАГ»: «На Новой Земле тоже были лагеря многие годы, и самые страшные потому что сюда попадали «без права переписки». Отсюда не вернулся никогда ни единый зэк. Что эти несчастные там добывали-строили, как жили, как умирали этого еще и сегодня мы не знаем. Но когда-нибудь дождемся же свидетельства!»
(обратно)92
Неточность: речь идет о капитане ГБ Иване Васильевиче Бзырине.
(обратно)93
В качестве первого заместителя наркома иностранных дел (Постановление СНК о назначении — 6.9.1940) Вышинский действительно занимался вопросами, связанными с Польшей. Вместе со Сталиным и Молотовым зимой 1941-42 года он участвовал в переговорах с генералом Сикорским, а затем сопровождал его в поездке по стране. Эпизод этот отражен в мемуарах И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь»: «В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой оказии выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора… Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среди поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым: некоторые не могли удержаться — признавались, что нас ненавидят. Я чувствовал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь». Вышинский же провел 4 мая 1943 года пресс-конференцию о причинах разрыва дипломатических отношений с польским правительством в изгнании, на которой обвинил сотрудников польского посольства, в том числе и посла Кота, в шпионаже. Напомним. чю формальным поводом для советского демарша явилось обращение правительства Сикорского к Международному Красному Кресту с просьбой провести экспертизу катынских захоронений.
Отметим, кстати, явную неувязку в сообщении Райхмана. Протоколы комиссии Вышинского датированы: первый — 24 мая, второй — 11 июня 1946 года. За эти три недели должно же было выясниться недоразумение, что Райхман в комиссии работать не может, так как его нет в Москве. А ему, которого нет, напротив, предписывается организовать доставку свидетелей в Нюрнберг. Впрочем, в следующем же абзаце выясняется, что Л.Ф., так сказать, не вполне отсутствовал, все-таки приезжал в Москву, и именно летом 1946-го.
(обратно)94
Акуличев А., Памятных А. Катынь: подтвердить или опровергнуть. «Московские новости». 21.5.1989. Среди прочего в этом материале излагается рапорт начальника минского НКВД Тартакова на имя генералов Зарубина и Райхмана от 10.5.1940, которым Тартаков докладывает о ликвидации офицерских лагерей.
(обратно)95
В 1940 г. Л.Ф. действительно был майором, но не общевойсковым, а госбезопасности, носил в петлицах один ромб, а этот знак различия соответствовал комбригу или введенному как раз в мае 1940-го генерал-майору РККА (Указ ПВС о введении генеральских званий датирован 7.5.1940, рапорт Тартакова — 10.5.1940, т. е. все-таки тремя днями позже). Мою ссылку на Указ от 26.4.1940, которым майор ГБ Райхман в составе большой группы сотрудников НКВД был награжден медалью «За отвагу». Л.Ф. счел излишней, хотя она вроде бы и подтверждала его слова; в свою очередь читатели решили, что я пытаюсь таким образом «отмыть» Райхмана. На самом деле я просто не хотел раньше времени ссориться со своим героем (любой журналист поймет); тем не менее указал же настоящее звание, чем и вызвал его неудовольствие.
(обратно)96
В 1932–1933 гг. постановлениями Коллегии ОГПУ по делу «Союза марксистов-ленинцев» в несудсбном порядке были привлечены к уголовной ответственности М. Н. Рютин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев и др. (всего 30 человек). Комиссией Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х годов, установлено, что расследование проводилось с грубым нарушением закона. В июне 1988 г. Верховный суд СССР отменил соответствующие постановления Коллегии ОГПУ в отношении 25 проходивших по делу лип за отсутствием в их действиях состава преступления. Остальные пятеро реабилитированы раньше.
(обратно)97
Дата убийства Кирова — 1.12.1934. Н. И. Ежов назначен наркомом внутренних дел 26.9.1936. До этого назначения курировал НКВД в качестве секретаря ЦК ВКП(б). Берия стал полновластным хозяином НКВД в декабре 1938 г.
(обратно)98
Имеется в виду дело о так называемом «Параллельном антисоветском троцкистском центре». По этому делу 30.1.1937 Военной коллегией Верховного суда СССР в открытом заседании были приговорены к расстрелу Ю. Л. Пятаков, Л. П. Серебряков. Н. И. Муралов и др. (всего 13 человек), к различным срокам лишения свободы — Г. Я. Сокольников. К. Б. Радек, В. В. Арнольд, М.С Слроилов: двое последних впоследствии также были расстреляны. Комиссией ПБ ЦК установлено, что материалы дела были сфабрикованы. Все реабилитированы.
(обратно)99
Дело «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и других» в декабре 1934 г. было выделено в отдельное производство в ходе расследования обстоятельств убийства Кирова. Обвинительное заключение в материалах дела отсутствует. Всего по делу Сафарова было арестовано и постановлением ОСО при НКВД от 16.1.1935 подвергнуто наказанию в виде лишения свободы или высылки 77 человек: впоследствии многие из них на тех же основаниях репрессированы повторно с применением более суровых мер наказания вплоть до расстрела. В справке КПК при ЦК КПСС и ИМЛ при ЦК КПСС отмечается: «Допросы производились пристрастно, необъективно, с применением физического воздействия». Определениями Военной коллегии Верховного суда СССР от 23.8.1957, 8.2.1958 и 21.6.1962 все обвиняемые, кроме Г. И. Сафарова, реабилитированы. Дело Сафарова, выступавшего, как гласит справка, «с провокационными, ложными показаниями против многих людей», изучается.
(обратно)100
По делу «Московского центра» в январе 1935 г. Военной коллегией Верховного суда были осуждены к различным срокам тюремного заключения Каменев, Зиновьев и еще 17 человек. Согласно сообщению Комиссии Политбюро ЦК, «проверка дела показала, что материалы по нему были сфальсифицированы». Пленумом Верховного суда приговор по делу «Московского центра» отменен за отсутствием состава преступления.
(обратно)101
По этому делу в августе 1936 г. Военной коллегией суда в открытом заседании приговорены к расстрелу 16 обвиняемых, в том числе Зиновьев и Каменев. Как сообщила Комиссия ПБ ЦК, «тщательный анализ материалов дела показал, что осуждены они были также необоснованно». Пленум Верховного суда СССР в 1988 г. удовлетворил протест Генерального прокурора СССР, отменил приговор и прекратил дело за отсутствием состава преступления.
(обратно)102
Театр Иосифа Сталина. // Театр. 1988. № 8.
(обратно)103
Когда эта книга уже находилась в производстве, я узнал о существовании воспоминаний А. Л. Войтоловской, выступившей в августе 1956 г. свидетелем на процессе Райхмана. (Подготовленный московским «Мемориалом» сборник «Звенья», в котором помещен фрагмент книги Войтоловской «По следам судьбы моего поколения», еще не вышел в свет.) Значит, был все-таки суд! По сведениям комментатора Н. Петрова (он, впрочем, ссылается на слухи), Л.Ф. был осужден по ст. 193-17а («халатность») на 5 лет и с учетом предварительного заключения вскоре освобожден.
(обратно)104
Я имею в виду два аспекта: запутанную до чрезвычайности политическую ситуацию вокруг Польши и террор советских «органов» против пролондонского подполья. Сталин в этот период проявлял известную терпимость к лондонскому кабинету, во всяком случае, делал вид. что действительно стремится сформировать правительство национального единства, для чего во исполнение ялтинских решений была образована комиссия в составе Молотова, Гарримана и Керра. Западные союзники СССР были крайне обеспокоены положением дел в Польше. В марте 1945-го обзор последних событий представил Черчиллю премьер-министр эмигрантского правительства Томаш Арцишевский. В обзоре указывалось: «Советизация Польши идет быстро… Начиная с 5 февраля поляков, занимающих важное положение (профессора, доктора и т. д.), заставляют подписывать меморандум, в котором осуждается польское правительство в Лондоне… и превозносится Люблинский комитет… НКВД держит арестованных в подвалах, бомбоубежищах и всевозможных других местах… Во время допросов сотрудники НКВД избивают заключенных, подвергают их моральным пыткам, держат на холоде без одежды. Они обвиняют арестованных в шпионаже в пользу англичан и польского правительства в Лондоне и в сотрудничестве с немцами. Очень многие заключенные умирают. Просим информировать об этом англичан. Необходимо вмешательство союзников… Большинство людей в Польше считают нынешнюю ситуацию советской оккупацией». В результате на пятом пленарном заседании Ялтинской конференции Сталин был вынужден в ответ на претензии Черчилля сказать, что он не понимает, «почему Великобритания и Соединенные Штаты не могли бы направить своих собственных людей в Польшу». Однако, когда впоследствии вопрос о наблюдателях был поставлен Гарриманом и Керром перед Молотовым, последний заявил, что советское правительство «с изумлением узнало» об этом намерении, «поскольку это предложение может глубоко уязвить национальную гордость поляков, тем более что в решениях Крымской конференции этот вопрос даже не затрагивается». Сталин в свою очередь беспрестанно обвинял «террористов, подстрекаемых польскими эмигрантами», в вооруженной борьбе против Красной Армии (телеграмма Рузвельту от 27.12.1944). В январе 1945-го Армия Крайова самораспустилась. Ее место заняла тайная организация НИЕ («ниеподлеглосць» — независимость), которую возглавил бывший командующий Армией Крайовой генерал Окулицкий. В марте Окулицкий и 15 его соратников были арестованы и в июне Военной коллегией Верховного суда СССР под председательством В. В. Ульриха осуждены к различным срокам лишения свободы (т. н. «процесс 16-ти»). Судьба Окулицкого, приговоренного к 10 годам тюрьмы, по сей день неизвестна. (Подробности см. в кн.: Eugeniusz Duraczynski. General Iwanow zaprasza. ALFA. Warszawa, 1989.) Все цитаты данного примечания взяты из книги «Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны», Выпуск 2-й, М., «Прогресс», 1977, с. 294, 297, 313.
(обратно)105
ЦГОА, ф. 451/П, оп. 1, д. 1, лл. 17–20.
(обратно)106
ЦГОА, ф. 1/П, оп. За, д. 1, лл. 274–275.
(обратно)107
Главное управление авиационного строительства (ГУАС НКВД).
(обратно)108
Двоюродная бабка.
(обратно)109
Имеется в виду группа армий «Центр».
(обратно)110
Командир роты пропаганды (Aktivpropagandakompanie).
(обратно)111
Geheimpolizei — тайная полиция (точнее было бы Geheimpolizei — тайная полевая полиция).
(обратно)112
Эдмунд Зэйфрид — директор Главного попечительского совета.
(обратно)113
Еженедельник «ПТ», 1989. № 21. Публикация Петра Жароня.
(обратно)114
Так в тексте.
(обратно)115
Akten zur Deutschen Auswartigen Politik. Serie E, Bd. V, s. 579–580. Публикуется по: Czeslaw Madajczyk. Ibid., ss. 141–142.
(обратно)116
В своих недавно опубликованных мемуарах дипломат Н. В. Новиков, в то время сотрудник Четвертого Европейского отдела НКИД, рассказывает, что сразу же по получении немецкого сообщения о Катыни он был срочно вызван заместителем наркома А. Е. Корнейчуком. По свидетельству Новикова. Корнейчук сказал: «Я с трепетом душевным думаю о том. как воспримут эту тухлую фашистскую утку мои друзья из Союза польских патриотов». На это Новиков ответил: «Надо. чтобы они восприняли ее именно как тухлую угку». «И мы, — пишет мемуарист, — перешли к обсуждению практических шагов, какие следовало бы предпринять в связи с фальшивкой. Необходимо было незамедлительно связаться с ответственными работниками НКВД и выяснить, что им известно об этом деле, наметить, как и в какой форме дать отпор провокации, подготовить предложения для наркома». Жаль, что Николай Васильевич не излагает подробности своих контактов с руководством НКВД, а впрочем, мы и так уже знаем, какой «отпор» предложил Г. С. Жуков. Ниже у Новикова читаем, что нота о разрыве динотношении с Польшей была составлена лично Сгалиным. (Н. В. Новиков. Воспоминания дипломата. М.: Политиздат, 1989. с. 124–125.)
(обратно)117
Швейцарский историк Жан-Клод Фаве, восемь лет изучавший архивы МККК, недавно опубликовал книгу «Невыполнимая задача? Красный Крест, депортации и нацистские концлагеря» (Une mission impossible? Le C1CR, les deportations et les camps de concentrations nazis de Jean-Claude Favez, Payot Lausanne. 1989), в которой, в частности, пишет, что на протяжении второй мировой войны МККК «часто искал не средства действовать, а, напротив, оправдания для бездействия».
(обратно)118
Czeslaw Madajczyk. Ibid., ss. 142–144.
(обратно)119
Упоминание этого материала тогда же, в феврале 1989-го, прозвучало в прямом эфире радиопрограммы «Маяк», о чем тотчас сообщили западные средства массовой информации. Как выяснилось, авторы этой сенсации А. Жетвин и С. Фонтон приказом председателя Гостелерадио СССР А. Аксенова были отстранены от работы в прямом эфире и на три месяца переведены на нижсоплачиваемую работу. Приказ квалифицирует поступок Жетвина и Фонтона как «грубую политическую ошибку», нанесшую «ущерб интересам нашей страны». После официального советского признания провинившиеся обратились к преемнику Аксенова М. Ненашеву с просьбой отменить приказ. Ненашев признал приказ несправедливым, однако отменить его о тказался, дабы не создавать прецедента. («Аргументы и факты», 1990, № 30.)
(обратно)120
В отчете Герхарда Бутца читаем: «Для казни применялись пистолетные патроны калибра 7.65, на что указывает маркировка горца гильз. Эти торцы во всех случаях были замаркированы штамповкой «Geco 7.65D». что совпадает с маркировкой неиспользованных патронов. Пистолетные боеприпасы этой марки, использованные в Катыни. многие годы производились на заводе Gustaw Genschow Co. в Дурлахе под Карлсруз (Баден)». Факт обнаружения в Катыни гильз германского производства все послевоенные годы использовался советской историографией для подтверждения версии Бурденко. Однако продолжим цитату из Бутца: «Вследствие Версальского договора в Германии не было спроса на боеприпасы, и фирма Геншов экспортировала пистолетные патроны в соседние страны — в Польшу, Прибалтийские государства и Советский Союз (в довольно значительном количестве до 1928 года, а потом в более ограниченном количестве)». Щит. по: Юзеф Мацкевич. Указ. соч., с. 290.) См. также рапорт Фосса: «Согласно данным, полученным от Верховного командования армией (Сh. Н. Rust und Befehlshaber des Ersatzheeres, письмо от 31 мая 1943 г.), боеприпасы к пистолетам этого калибра и сами пистолеты поставлялись СССР и Польше. Остается невыясненным, были ли взяты для расстрела пистолеты и боеприпасы с советских складов или же с польских, которые попали в руки большевиков в результате оккупации ими восточных областей Полыни». (Там же. с. 280.) Были найдены в Катыни и гильзы советского производства (Gracian Jaworowski. Nieznana relacja о grobach katynskich. «Zeszyty Historyczne». Paryz, 45, 1978, s. 4).
(обратно)121
Эксгумация была прекращена 3 июня «по санитарно-полицейским соображениям».
(обратно)122
«Odrodzenie», 1989, nr. 7.
(обратно)123
Ср. с письмом члена ЧГК и СК писателя А. Н. Толстого председателю ЧГК Швернику от 15.3.1943: «Мне необходимо быть подвижным. Очень прошу Вас дать мне право на ежедневное получение триста литров бензина». (ЦГАОР, ф. 7021, оп. 116, д. 324, л. 29.) Хочется верить, что это все же описка, ибо письмо Шверника на имя А. И. Микояна от 24.3.1943 гласит: «Прошу Вас разрешить выделить члену ЧГК академику А. Н. Толстому лимит на 300 литров бензина в месяц на его личную легковую машину». (Там же. л. 28.)
(обратно)124
Навиль, конечно, ошибается.
(обратно)125
Жизнь отдать правде (Ювенал).
(обратно)126
Цит. по: Louis Fitzgibbon. Katyn: A Crime Without Parallel. London, 1971, p. 155–161.
(обратно)127
Цит. по: Леопольд Ежевский. Указ. соч., с. 58–59.
(обратно)128
Заводный указывает, что свою работу о псевдокаллусе Оршос опубликовал за два года до Катыни (Janusz К. Zawondny. Ibid., s. 33, przypisy).
(обратно)129
ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Образована Указом ПВС от 02.11.42. Председатель — Н. М. Шверник. Члены: Н. Н. Бурденко, Б. Е. Веденеев, В. С. Гризодубова, А. А. Жданов, митрополит Николай, Т. Д. Лысенко, Е. В. Тарле, А. Н. Толстой, И. П. Трайнин.
(обратно)130
Czeslaw Madajczyk. Ibid., s. 144.
(обратно)131
«Наряду с поисками «свидетелей» немцы приступили к соответствующей подготовке могил в Катынском лесу: к изъятию из одежды убитых ими польских военнопленных всех документов, помеченных датами позднее апреля 1940 года, т. е. времени, когда, согласно немецкой провокационной версии, поляки были расстреляны большевиками; к удалению всех вещественных доказательств, могущих опровергнуть ту же провокационную версию». (Сборник сообщений ЧГК о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. М., Госполитиздат, 1946. с. 130.) Сказано, кроме того, что в Катынский лес доставлялись трупы «из других мест». (Там же, с. 133–136.)
(обратно)132
Lista katynska…, s. 294.
(обратно)133
ЦГАОР, ф. 7021, оп. 116, ед. хр. 326, лл. 13–14.
(обратно)134
Там же, л. 56.
(обратно)135
Там же. л. 57.
(обратно)136
В Виннице было обнаружено 9432 трупа, в том числе 169 женских, из них идентифицировано 679. В международную комиссию из числа катынских экспертов входили д-р Оршос и д-р Биркле (Румыния), в специальную комиссию Управления криминальной полиции рейха профессор Малинин из Краснодара и доцент Дорошенко из Винницы. Аналогичные раскопки немцы провели, например, в Пятигорске, и тоже в 1943 году. о чем мне сообщил читатель Н. Нешев.
(обратно)137
ЦГАОР, ф. 7021, оп. 116, ед. хр. 326, л. 25
(обратно)138
Да и вообще с тгой «идентичностью метода» надо еще разобраться. См., в частности, статью американского историка А. Эзергайлиса «Команда Арайса» («Вестник еврейской культуры». 1990. № 4), где подробно описан метод массовых расстрелов, практиковавшийся нацистами в Латвии. Пистолеты, указывает автор, применялись только для «выстрелов милосердия», т. е. для добивания жертв.
(обратно)139
Неточность: Николай — экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий
(обратно)140
«Московские новости», 1989, 3 сентября, № 36. См. также статью «О судебных убийствах» того же автора в журнале «Человек и закон». 1988, № 11.
(обратно)141
ЦГАОР, ф. 7021, оп. 116, ед. хр. 326, л. 4.
(обратно)142
Czeslaw Mudajczyk. Ibid., s. 71.
(обратно)143
Bradley F. Smith. Reaching Judgement at Nuremberg. New York, 1977, p. 71.
(обратно)144
В. Абаринов. В кулуарах Дворца юстиции. — «Радуга» (Таллинн), 1989, № 8 (с приложением текстов архикных документов): «Горизонт» (Москва), 1989, № 9.
Катынь — факты и аргументы. Вступление и комментарии В. Абарииова — «Радуга». 1989, № 12.
Письмо П. И. Гришаева и Б. А. Соловова и ответ на него см. в «Горизонте», 1990, № 5.
(обратно)145
Фрагменты стенограммы утреннего и вечернего судебных заседаний МВТ от 1.7.1946 публикуются по официальному русскому тексту (ЦГАОР СССР, ф. 7445, оп. 1, ед. хр. 64). Протест Руденко — там же, оп. 2, ед. хр. 6, лл. 256, 257. Протоколы комиссии Вышинского — там же, оп. 2, ед. хр. 391. Объяснительная записка Александрова — там же, оп. 2, ед. хр. 391, л. 60. Протокол организационною заседания МВТ — там же, оп. 1, ед. хр. 2625, лл. 161–176. Протоколы предварительных допросов свидетелей обвинения — там же. оп. 2, ед. хр. 132, 134, 135, 136. Стенограмма допросов Смирновым свидетелей обвинения опубликована в советском издании (Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов в 7-ми т. Под общ. ред. Р. А. Руденко. Гос. изд. юридической литературы, М., 1958, т. III), дублировать его автору представляется излишним. При подготовке текстов к печати автор позволил себе исправить в соответствии с современными правилами пунктуацию первоисточника и транслитерацию отдельных имен собственных (Обсрхойэер и Шнайдер), а также явные опечатки (напр… «в Катыне» вместо «в Катыни»).
(обратно)146
Имеегся в виду Устав МВТ. подписанный одновременно с Соглашением об учреждении МВТ 8.8.1945 в Лондоне.
(обратно)147
Член МВТ от США, член Верховного федерального суда США, бывший министр юстиции США.
(обратно)148
Этот аргумент напомнил мне состоявшийся годом раньше в Москве процесс командующего Армией Крайовой генерала Л. Окулицкого — кстати, одним из обвинителей на нем как раз был Руденко. Военная Коллегия Верхсуда СССР удовлетворила ходатайство обвиняемого о вызове свидсгелей зашиты, однако на следующий день в судебном заседании было объявлено, что «по метеорологическим условиям просимые свидетели самолетом доставлены быть не могут ни сегодня, ни завтра». Прокурор тотчас же внес предложение: «Поскольку неизвесгно, могут ли быть доставлены свидетели по просьбе подсудимого Окулицкого в ближайшие дни. обвинение не видит необходимости задерживать рассмотрение дела, тем более, что вчера, ввиду ясности обстоятельств дела, государственное обвинение отказалось от допроса 11 свидетелей, которые были намечены по списку обвинительного заключения». Суд соглашается с прокурором. В тот же день объявлен приговор («Правда», 1945, 21 июня). По-моему, этот прецедент достоин того, чтобы включить его в соответствующие справочники.
(обратно)149
Здесь и далее выделено мною. — В. А
(обратно)150
Катынь — далеко не единственный эпизод процесса, в связи с которым советское обвинение апеллировало к 21-й статье Устава МВТ. Так, например, 20 июня 1946 г. помощник главного обвинителя от СССР полковник Карев принес протест против решения суда направить запрос генералу вермахта Енике о потоплении в Крыму гражданского населения и военнопленных. Карев заявил, что, поскольку имеется сообщение ЧГК, а Енике несет ответственность за военные преступления в Крыму, в его показаниях нет необходимости. (ЦГАОР СССР, ф. 7445, оп. I, ед. хр. 358.)
(обратно)151
Л. Ф. Райхман отрицает свое участие в подготовке свидетелей для Нюрнбергского процесса (см. главу 3).
(обратно)152
Этого лагеря, равно как и двух других, перечисленных в «Сообщении Специальной комиссии», никогда не существовало, ни в одном документе ГУКВ НКВД СССР они не фигурируют.
(обратно)153
Недавно, кстати, в советской печати появился любопытный трофейный документ, в котором фигурируют как раз полковник Беденк и генерал-майор Оберхойзер. (См. «Военно-исторический журнал», 1989, № 5).
(обратно)154
Вероятно, Парфен и Аксинья Киселевы (см. «Сообщение»). Комиссии Бурденко, кроме самого П. Г. Киселева, дали показания его родственники — жена, сын Василий, невестка Мария, а также квартирант дорожный мастер Тимофей Иванович Сергеев. В материале «Московских новостей» от 21 мая 1989 г. и в некоторых польских источниках Парфен Киселев назван Парфением Козловым. Показания Киселева фигурируют уже в самых первых немецких сообщениях о Катыни. В «Сообщении» комиссии Бурденко Киселев представлен как крестьянин, «проживавший на своем хуторе ближе всех к даче в «Козьих Горах». Ясно, что никакою «Своего хутора» на раскулаченной Смоленщине быть не могло — в лесу мог жить либо лесник (отсюда, вероятно, произошла легенда Владимирской тюрьмы — см. главу 6). либо работник колхозной пасеки. Пасеку в Козьих Горах местные жители, в частности А. А. Костюченко, припоминают, а вот кто ее держал, выяснить пока не удалось.
(обратно)155
Так немцы называли дачу УНКВД.
(обратно)156
«В зависимости от условий захоронения (характер почвы и др.) полное разрушение мягких тканей и скелетирование трупа наступает примерно в течение 3–4 лет». (Судебно-медицинская экспертиза, М., 1980, с. 158.)
(обратно)157
Gerald Reitlinger. Op. cit., p. 312. Ссылка на Торвальда: Thorwald Jucrgen. Wen sie verderben wollen. Bericht des grossen Verrats. Stuttgart, 1952. S. 80. Тот же сюжет изложен в кн.: Alexander Dallin. German Rule in Russia. 1941–1945. A Study of Occupation Policies. London, 1957. p. 529 со ссылкой на архивы германского главного командования.
(обратно)158
В «Сообщении» Специальной комиссии: «Ходят ли среди населения слухи о расстреле польских военнопленных в Коз. Гор. (Умнову)». В 1950 г. Г. К. Умнов прочел «Сообщение» комиссии Бурденко. Запись в блокноте Умнов прокомментировал так: «В бытность мою начальником русской полиции Смоленска в первые месяцы немецкой оккупации я никогда не получал от начальника города Меньшагина приказа расследовать циркуляцию среди населения слухов о расстреле поляков немцами. «…» Вся история с блокнотом Меньшагина, о которой говорится в советском сообщении, кажется мне подделкой. Меньшагин обладал феноменальной памятью и очень редко делал заметки. Его блокнот большевики не могли бы найти, так как и дом Меньшагина и здание городского управления при отступлении немцев из Смоленска сгорели». («Новый журнал», кн. 104, Нью-Йорк, 1971, с. 277–278.)
(обратно)159
У автора нет однозначного объяснения, почему в руках у Базилевского оказался план зала заседаний. Возможно, это объясняется тем. что после инцидента между Герингом и Бах-Зелевским (Геринг обозвал последнего «скотиной», когда тот проходил мимо скамьи подсудимых) свидетелей стали вводить в зал так. чтобы исключить контакт с обвиняемыми, а именно — через дверь, которой пользовались синхронисты. В одной из кабин переводчиков-синхронистов в этот момент работала Е. Е. Щемелева (Стенина). По ее словам, перед началом заседания она спросила у своей коллеги-американки, получен ли ею английский текст «Сообщения» комиссии Бурденко. Та ответила, что еще нет. Штамер как раз оказался рядом и слышал этот обмен репликами. Можно себе представить, какие чувства испытала Елизавета Ефимовна, переводя диалог Штамера с Базилевским! До сих пор она не может вспоминать об этом без содрогания.
(обратно)160
Имеются, впрочем, и иные сведения. Участник одной из организованных немцами «экскурсий» С. Максимов вспоминает: «Утомленные, одуревшие от трупного запаха, мы медленно идем к грузовичку. Справа от меня, еле передвигая ноги, идет смоленский профессор-астроном Базилевский. Он болен от всего виденного. У профессора, как, впрочем, и у всех нас, нет и тени сомнения, что катынская трагедия — дело рук Сталина. Он с возмущением говорит о том, что русская история не знала более страшной эпохи, чем эпоха большевизма». (С. Максимов, Я был в Катыни. — «На рубеже», Париж, 1952, № 3–4, с. 11).
(обратно)161
«Советская Россия» от 21 июня 1987 года неожиданно пролила свет на современную обстановку в Катынском лесу. То было в разгар кампании по борьбе с «лесными домиками». Читатель А. Семуков из Смоленска в числе закрытых дач и охотхозяйств упоминает «прекрасную виллу и дачу в Козьих Горах». И. о. председателя Смоленского облисполкома В. Видный отвечает в том же номере: «Объекты, о которых пишет А. Семуков. в скором времени также станут общедоступны». (Заметку по этому поводу опубликовал в «Русской мысли» Г. Г. Суперфин.) Не знаем, как с другими объектами, а вот объект в Козьих Горах — пока не стал.
(обратно)162
По справке, полученной от Е. Е. Щемелевой (Стениной). текст «Сообщения» комиссии Бурденко переводился советскими переводчиками.
(обратно)163
Недавно все ту же битую карту попытался разыграть «Военно-исторический журнал» (1990, № 11–12). Публикация, впрочем, интересна тем, что содержит документы из той самой закрытой архивной описи Специальной комиссии. Публикаторы, видимо, не подозревают, что эти тексты благодаря массе мелких разночтении лишний раз дискредитируют «Сообщение» комиссии Бурденко.
(обратно)164
Смирнов преувеличивает. Комиссией Бурденко допрошено 56 человек.
(обратно)165
Когда убивает государство… М., «Прогресс», 1989.
(обратно)166
Состав преступления «измена Родине» (ст. 58-1, подпункты а, б, в, г) внесен в УК РСФСР в 1934 году, «когда нам возвращен был термин Родина» (Солженицын), во исполнение постановления ЦИК от 8.6.1934 «О дополнении Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка и управления) статьями об измене Родине». Постановление квалифицировало как измену Родине шпионаж, выдачу военной или государственний тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу. Для гражданских лиц предусматривалась санкция в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества при наличии смягчающих обстоятельств и расстрел в случае отсутствия таковых, для военнослужащих — только расстрел; совершеннолетние члены семьи военнослужащего, если они знали о готовящейся измене и не донесли властям, карались лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества, если ничего не знали — лишением избирательных прав и ссылке в отдаленные районы страны на 5 лет («Известия», 9.6.1934). Позднее закон стал толковаться расширительно, и санкции, предусмотренные для членов семей военнослужащих, применялись не только к ним. Напомню, что 58-я статья отменена в декабре 1958 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1959, № 1).
(обратно)167
Н. Семенов. Советский суд и карательная политика. Мюнхен, 1952, с. 130–131. (Цит. по Г. Г. Суперфину.)
(обратно)168
Указ об амнистии от 17.9.1955 не распространялся на карателей, а в одном из источников, которыми пользуется Суперфин, сказано, что осужденные по Указу от 19.4.1943 вообще амнистии не подлежали (B. C. Клягин. Некоторые вопросы теории и практики борьбы с особо опасными государственными преступниками. Минск, 1976, с. 95).
(обратно)169
«Новое время», 1990, № 16.
(обратно)170
Строго говоря, коль скоро внесудебные органы признаны антиконституционными, отменены должны быть все их решения, а дела, в которых состав преступления налицо, рассмотрены заново в судебном порядке. Ведь это то же самое, что произошло с Г. Г. Ягодой: он один из расстрелянных по делу о «правотроцкястском блоке» не реабилитирован, тем самым комиссия Политбюро признала, что блок существовал, и Ягода был единственным его членом.
(обратно)171
Эту позицию советских официальных кругов подтверждает и Указ Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» от августа 1990 г.
(обратно)172
Витольд Андреевич Абанькин упоминается в Нобелевской лекции А. Д. Сахарова в числе других политзаключенных.
(обратно)173
Рауль Валленберг — шведский дипломат, в январе 1945 г. выведенный сотрудниками советской военной контрразведки из Будапешта в Москву и. по официальной советской версии, скончавшийся в Лубянской тюрьме 17.07.1947. Пользуясь дипломатическим иммунитетом, спас тысячи венгерских евреев.
(обратно)174
ЦГАОР, ф. 7445, оп. 2, ед. хр. 132, лл. 263–264.
(обратно)175
Б. Г. Меньшагин. Воспоминания. Подготовка к печати Александра Грибанова, Натальи Горбаневской, Габриэля Суперфина. Комментарии Г. Супсрфина. YMCA-PRESS, Paris, 1989.
(обратно)176
ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 179, лл. 212–213.
(обратно)177
Беляев — в феврале 1941-го младший лейтенант ГБ, заместитель начальника следственной части УНКГБ по Смоленской области.
(обратно)178
Следствием Меньшагину инкриминировалось активное участие в организации еврейского гетто, что, конечно, далеко не одно и то же. Что касается расстрела евреев, то Меньшагин в это время (начало июля 1942-го) в Смоленске отсутствовал.
(обратно)179
18 апреля 1943 года.
(обратно)180
Правильно «Новый путь».
(обратно)181
Долгоненков Константин Акимович (1895–1980) — в прошлом комсомольский поэт, член Союза советских писателей с 1934 года.
(обратно)182
Верно.
(обратно)183
Мемуары Р. И. Пименова «Два года с бериевцами». представляющие собою главу из книги «Один политический процесс». под псевдонимом «О. Волин» напечатаны в «Совершенно cекретно» (1989, № 6). В том же издании (1990, № 6) см. протест Пименова против нарушения редакцией авторского права.
(обратно)184
Вскоре после вынесения пршговора Караванский обратился в Прокуратуру СССР с ходатайством, в котором требовал привлечь к yголовной ответственности судью и прокурора «зa укрывательство кровавых злодеяний агента иностранной разведки Берии».
(обратно)185
Так в тексте.
(обратно)


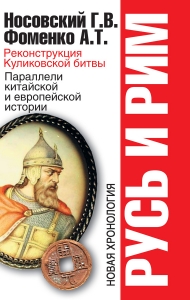
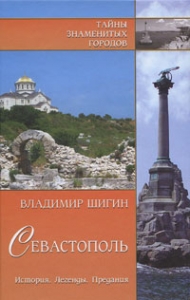
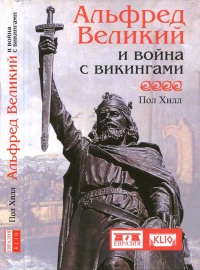
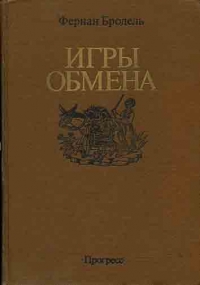
Комментарии к книге «Катынский лабиринт», Владимир Абаринов
Всего 0 комментариев