ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Приступая к выполнению задачи, поставленной в названии книги, мы должны предупредить читателя о главных и нелегко преодолимых трудностях, стоящих перед нами.
Во-первых, немало сторон жизни подданных Византийской империи слабо отражено в сохранившихся источниках, а сохранившиеся, повествуя о самых разных слоях населения, не позволяют с необходимой полнотой представить жизнь каждого из них. Некоего же типичного, абстрактного «византийца» не существовало: невозможно дать суммарную и точную характеристику деятельности, быта и помыслов византийского крестьянина и столичного сановника, ремесленника и купца, рыбака и епископа, матроса и писца, гетеры и игуменьи.
Во-вторых, не вполне определенно употребляемое нами условное понятие «византийцы», или «ромеи» (т. е. "римляне"), как они сами себя называли. Это не только греки, но и прочие христианские подданные императора: и славяне, и армяне, и грузины, и сирийцы. У каждого из этих народов были свои традиции, только им свойственные формы быта, обычаи и нравы. Иначе говоря, и жили они не совсем так, как их соседи, принадлежавшие к иным этническим группам.
В-третьих, в византийском обществе, конечно, происходили изменения. В IX столетии жили все-таки не так, как в XI, а в XI — несколько иначе, чем в XIII. Как ни медленно текло тогда время, оно несло с собою перемены, исподволь пронизывающие весь уклад жизни человека, к какой бы социальной среде он ни принадлежал.
И, наконец, в-четвертых, — что считать главным при рассказе о жизни византийцев: их экономические, социальные и политические институты, особенности их быта или же специфику их социальной психологии, общественных взглядов и представлений, как ни скудны о них свидетельства.
Пытаясь преодолеть первую трудность, мы отказываемся от детальной характеристики условий жизни мелких социальных прослоек и групп и уделяем главное внимание основным классам и сословиям византийского общества. Показав отличия, мы постараемся выявить и общее в жизни византийцев. Как ни разно они жили, они были современниками.
Что касается второй трудности, то мы считаем вполне закономерной обобщенную характеристику образа жизни «ромеев» как подданных одной страны и не рассказываем об особенностях быта других народов, обитавших в ее пределах. Во-первых, греки составляли все-таки наиболее многочисленную часть населения империи, во-вторых, все прочие этнические группы Византии испытали серьезное нивелирующее влияние греко-римской цивилизации.
Третья из названных трудностей особенно серьезна. Принцип историзма мы вынуждены в какой-то мере, нарушать хотя бы потому, что сведения, освещающие ту или иную сторону жизни ромеев в каждый отрезок времени, не являются комплектными: об одной стороне есть яркое свидетельство от XI в., а о другой, к сожалению, — лишь от XII. Поэтому мы расскажем о центральном периоде византийской истории (IX–XII вв.), представляющем собой эпоху становления и торжества в Византии феодализма, наложившего отпечаток на все стороны жизни ромеев любого класса и сословия.
И наконец, мы отдадим предпочтение экономическим, социальным и политическим аспектам жизни византийцев, но постараемся дать представление и об их быте, и об особенностях восприятия ромеями общественных и социальных явлений.
Глава 1 СОЦИАЛЬНЫЙ СТРОЙ
По численности городского населения Византия IX–XII вв. превосходила другие страны средневековой Европы. Однако и здесь сельские жители преобладали над городскими. Деревни, будто ореолом, окружали каждый сколько-нибудь значительный город. Большие села встречались редко. Обычно (особенно на Балканах) в деревнях насчитывалось 10, 20, 30 дворов, а в хуторах (проастиях, метохах, зевгилатиях), принадлежавших частным лицам, церквам и монастырям, и того меньше.
Не только размеры, но и социальный статус сельских поселений были весьма различны.
В наиболее привилегированном положении среди свободных поселений находились деревни стратиотов (IX–XI вв.) — крестьян, внесенных в воинские списки и обязанных по первому зову властей являться с конем, оружием и телегой.
Были деревни, жители которых служили гребцами и воинами-матросами на военных судах; были деревни, приписанные к ведомству дрома (почты и внешних сношений), следившие за состоянием государственных дорог и обязанные обслуживать следовавших по ним официальных лиц. Некоторые деревни привлекались к строительству казенных судов, мостов, крепостей, к выжигу угля для железоплавильных печей и т. п. Подавляющая же масса свободных поселян платила государству многочисленные налоги и выполняла иные разнообразные повинности.
Жители свободных деревень составляли общину. Они сообща решали вопросы пользования лугами, лесами, угодьями, вопросы найма общественного пастуха или сторожа полей, распределения воды, строительства мельницы, моста, устройства водоема. Сообща они праздновали и хоронили, участвовали в крестном ходе, вымаливая дождь, и вели тяжбу с соседней деревней или крупным собственником. На общинной сходке распределялись внеочередные штрафы и налоги, повинности и взносы в казну.
С конца IX в. ускорился процесс феодализации. Стало быстро расти число несвободных сел, феодально-зависимое население которых чаще всего называлось париками и проскафименами. Зависимые поселения представляли собой и небольшие поместья, и крупные села с господским домом, и проастии-хутора, где крестьяне не только вели земледельческое хозяйство, но и разводили скот. Имелись здесь нередко сыроварня, гончарная мастерская, пасека и т. п. Жители больших деревень, зависевших от крупного землевладельца, также составляли общину; они платили подати господину и исполняли повинности в его пользу или одновременно и в его пользу и в пользу казны, если их хозяину не предоставлялись налоговые льготы.
Пахотные участки передавались по наследству; их разделяли межи, канавы, изгороди из жердей и камней, ряды посаженных деревьев. К крестьянскому дому примыкали сад и огород. Дома строили чаще всего из камней или камыша, крыши покрывали черепицей, тростником либо соломой. Близ дома находились хозяйственные постройки, погреба или ямы и большие, врытые в землю кувшины-пифосы, в которых хранили зерно, вино, оливковое масло.
*
Вплоть до конца XI-начала XII в. магнаты-землевладельцы редко проживали сколько-нибудь значительное время вне города. Но постепенно земельная аристократия стала все более заботиться об устройстве своих сельских усадеб и даже о снабжении их оборонительными сооружениями. Сохранилось подробное описание господской усадьбы XI в. в Малой Азии. Вокруг дома с куполом, опиравшимся на колонны, шла открытая веранда. Рядом располагались баня с мраморными полами (как в доме), амбар из двух отделений (в нижнем, включая подвал, хранились продукты, а в верхнем печеный хлеб), особый склад для зерна, соломы и мякины, конюшни, хлева, помещения для работников и слуг. В усадьбе имелась церковь с куполом на восьми колоннах, хорами, мраморным полом, золоченой алтарной преградой. В конце X в. Василия II Болгаробойцу поразили богатство и размеры усадьбы малоазийского магната Евстафия Малеина, пригласившего на отдых все войско императора. Согласно житию Филарета Милостивого, у этого святого было некогда 600 быков, 100 волов, 800 коней, 80 выезженных лошадей и мулов, 12 тыс. овец, и размещались они по 48 проастиям.
Еще богаче был полководец Алексея I Комнина Григорий Бакуриани, многочисленные владения которого находились и под Филиппополем, и в округе Фессалоники.
*
Основными посевными культурами в Византии являлись пшеница и ячмень. Крестьяне нередко предпочитали сеять ячмень как менее прихотливый злак, дававший более стабильный урожай. В славянских провинциях выращивали просо, но знать считала пшено дурной пищей: по мнению писательницы XII в. Анны Комнин, дочери Алексея I, оно вызывало желудочные болезни. Сажали в Византии и бобовые (горох, чечевицу, бобы). Ценной культурой считался лен (тонкие льняные ткани стоили дороже шерстяных), но он требовал обильного орошения, а воды было мало: льна в империи не хватало — его ввозили.
Самые большие доходы приносил виноград. Земля под ним ценилась при продаже вдесятеро дороже, чем пахотная нива. Виноград возделывали и горожане (как в самом городе, так и в пригородах). Считалось, что даже пять модиев виноградника (50–60 соток) могут обеспечить семье скромный достаток. Разводили в Византии и фруктовые сады, но соперником винограда по доходности в Малой Азии и в южнобалканских провинциях были оливки. Оливковое масло, а также соленые оливки являлись одним из основных видов питания ромеев. В годы недородов вывоз оливкового масла за границу находился под запретом.
Лошадь в крестьянском хозяйстве обычно была редкостью. Она стоила в Х в. 12 номисм — золотых (цена трех-четырех коров). Свободный крестьянин держал ее только потому, что без лошади не мог отбывать воинскую службу. Коней разводили преимущественно в имениях знати и в императорских поместьях. Коня или целую конюшню имел каждый сановник в городе. Доброго коня откармливали ячменем. Славились арабские кони. Однако Михаил Атталиат, автор XI в., много лет проведший в походах, предпочитал коней ромейских: арабские, по его мнению, быстры, но скоро утомляются. Кони использовались и для гонцовой службы.
Мул так же, как и конь, был «привилегированным» животным: на нем ездили верхом, на него грузили поклажу (до десяти модиев зерна — около пяти пудов). Гораздо чаще крестьянин имел осла, который порой составлял все имущество бедного сельского углежога или торговца дровами.
Но главным трудягой в крестьянском хозяйстве был вол. Степень благосостояния семьи определялась не только размерами ее земельного участка, но и числом волов: дизевгаратом называли крестьянина, имевшего две пары (упряжки) волов, зевгаратом — имевшего одну пару, а воидатом — имевшего одного вола. Молочных коров крестьяне обычно не держали, да и в имениях знати мясной рогатый скот всегда преобладал над молочным.
Зато в каждом хозяйстве были овцы и козы. Они давали и молоко, и мясо, и шерсть и не требовали особых забот. Обедневшие обладатели единственного вола иногда припрягали к нему при пахоте козла. Неприхотливы были также свиньи, но разводили их там, где росли дубовые рощи, так как кормили свиней в основном желудями. Лишь поросят к празднику откармливали отрубями и мукой.
Держали селяне и домашнюю птицу. Митрополит Навпакта Иоанн Апокавк (XIII в.), вынужденный сбежать в деревню, жаловался в письме, что живет в пристройке у церкви, а рядом — кони, свиньи, собаки, овцы, голуби, гуси, утки, куры, и он оглушен их ревом и криком.
Среди различных провинций Византии, отличавшихся друг от друга по природным условиям, существовала своего рода естественная специализация. Киликия, Крит, Фракия, Южная Македония и Фессалия славились хлебом; Вифиния лошадьми; долины Меандра и Скамандра, как и Лакедемон, — оливками; Эпир и Паристрион скотом; Евбея — вином, Аттика — медом.
Но специализация, чаще вынужденная (наличие рабочих рук и тяглового скота, состав имущества, качество земли и т. д.), была характерна и для хозяйств внутри одной деревни: некоторые дворы владели виноградником или садом, другие — десятком овец или пасекой.
Перегонным овцеводством занимались в империи почти исключительно влахи прежде всего в Фессалии, Эпире, Македонии, Паристрионе. Летом (начиная с мая) они кочевали со стадами по горным пастбищам, преодолевая порой сотни километров, следуя от кошары-загона (по-гречески "мандра") к кошаре, где перерабатывали продукты своего хозяйства: изготовляли масло, сыр (влашскую брынзу уже тогда хорошо знали за границей), делали, пряжу, ковры, войлок и пр. В сентябре они возвращались для зимовки в долины. Перегонное овцеводство было издревле известно также в Малой Азии и в Северной Сирии.
Серьезную роль в жизни сельского населения играли разного рода подсобные промыслы: рыболовство — у крупных рек, озер и морского побережья; охота, бортничество; выжиг угля и заготовка дров.
Особое значение в климатических условиях большей части византийских провинций имело орошение полей и удаление из почвы камней (мелкие участки бывали нередко разбросаны по склонам гор, меж оврагов, скал, болот, кустарников, рощ). Воды часто не хватало, из-за нее вспыхивали ссоры и драки, затевались тяжбы. Карликовые участки в горных районах можно было обрабатывать только вручную. Очищали землю от камней из поколения в поколение. Некоторые нивы буквально создавались руками человека: из низины носили землю и высыпали на голые камни. На себе зачастую доставлял на поле крестьянин и удобрение (навоз). Зато во многих областях ему удавалось собрать два урожая в год.
Страшным бичом поселян были стихийные бедствия: засухи, горячие ветры с юга и востока в мае и ледяные — с моря в апреле, наводнения во время разлива горных рек, град и, наконец, периодические, продолжавшиеся по нескольку лет кряду налеты саранчи.
В обслуживании крестьянского хозяйства была занята вся семья, в том числе и дети. Рабочий день начинался с восхода солнца (а иногда с рассвета) и длился до заката. Редкий крестьянин пользовался трудом мистиев — наемных работников (ими чаще всего оказывались обедневшие соседи-односельчане). Порой, после крупных побед над арабами, пленные в качестве рабов появлялись и на поле состоятельного крестьянина. Но рабы и мистии, как правило, были плохими работниками.
Немало сил у крестьянина отнимали государственные трудовые повинности (ангарии), в особенности экстраординарные (перевозка грузов на своих животных, расчистка дорог и проходов для войска, ремонт и строительство мостов, судов, укреплений и т. п.). Непредвиденные ангарии срывали сроки сезонных работ и часто ставили хозяйство на грань разорения.
Обедневшие поселяне перебивались случайными заработками, нанимались плотниками, дровосеками, углежогами, сезонными работниками. Иногда они организовывали переходившие с места на место артели виноградарей или строителей. Документы XI–XII вв. сообщают о множестве запустевших деревень, жители которых вымерли или разбежались.[1]
Византийское крестьянство страдало от малоземелья, несмотря на наличие огромных пространств невозделанных и годных для обработки государственных земель. Правительство охотно селило на своих землях в качестве государственных париков безземельных крестьян, а иногда даже пленных или союзных арабов, печенегов, узов, половцев, заставляя их нести военную службу и платить налоги. Но свободной земли оставалось много. Дело в том, что в то время освоение целины представляло для селян огромные трудности. Не имевший тяглового скота и инвентаря обнищавший крестьянин освоить целину в одиночку был не в состоянии. Поэтому он оставался в деревне: общинники-крестьяне приходили иногда на помощь друг другу, соседи объединяли усилия в обработке земли. Выделившийся на хутор бедняк был обречен на гибель. Крестьянская аренда, о которой говорится в документах, являлась чаще всего признаком беды: нуждавшийся в земле арендовал пашню соседа, не способного ее возделать, или, напротив, обнищавший сдавал свои земли соседям.
Патриарх Фотий (IX в.) писал, как к нему в сумерках, во время, "когда уже лампады зажигают", явился бедняк, в синяках, в разорванном хитонишке, в слезах: богатый сосед отнял у него землицу — последнюю надежду на жизнь. Но иногда бедствием была не потеря земли, а ее насильственное прибавление: государство заставляло поселян платить налоги за запустевшие соседние участки, разрешая их обрабатывать. Выигрывал состоятельный, а бедняк, с трудом справлявшийся с возделыванием своей земли, разорялся еще быстрее.
Эта повинность называлась аллиленгием, или "круговой порукой": жители деревни-общины были ответственны друг за друга в уплате налога в казну. Аллиленгий тяжело отражался на крестьянах. Привилегированные стратиоты, беднея, переводились в разряд простых налогоплательщиков, свободные налогоплательщики продавали свои участки или становились париками частных лиц — крупных собственников, которые обычно пользовались разными налоговыми льготами.
Центральная власть, пытаясь воспрепятствовать сокращению налоговых поступлений в казну, неоднократно объявляла недействительными сделки о продаже крестьянами своей земли богатым и знатным лицам. Василий II конфисковал владения многих магнатов, захвативших крестьянские земли. Этот василевс сделал аллиленгий повинностью и крупных землевладельцев, заставляя их платить налоги за соседние покинутые и обедневшие крестьянские хозяйства. Но эти меры не изменили положения: разбогатевшие поселяне имели полное право покупать участки своих соседей; сама казна через 30 лет после того как крестьянин переставал обрабатывать участок, конфисковывала его и продавала всякому желающему; от аллиленгия знатные люди и духовенство вскоре после смерти Василия II были избавлены.
Положение париков в поместьях феодалов было нелегким, однако не всегда просто определить, сколь лучше жилось свободным налогоплательщикам: налоги были ниже частных рент, но сборщики сплошь и рядом, как мы увидим, не соблюдали законов. И все-таки в конце XI — в XII в. крестьяне страшились паричского состояния: человек жил надеждой достичь успеха в жизни, а зависимость от частного лица не давала таких перспектив. Согласно типовым задачам византийского учебника, доля господина достигала и трети и половины крестьянского урожая. Один из типиков (монастырских уставов) XI в. предписывал: если парик стал жить лучше ввиду доброго урожая, надо потребовать с него больше взносов в житницу и казну обители.[2]
А что касается мистиев, то данные об их бедствиях нередки в житиях. В одном из них говорится, что уже 15 лет мистий служит у богача, который дерет с него три шкуры, заставляет трудиться и днем, и ночью, хотя не уплатил за все годы ни обола. Такие мистии, особенно обремененные семьей, становились по сути дела безгласными холопами, выполнявшими самую трудную и грязную работу в имении землевладельца. Нередко их положение было хуже, чем положение рабов и рабынь, прислуживавших в доме господина.
*
Существенными особенностями отличалось монастырское хозяйство. Монахи, как правило, делились на несколько разрядов, низший из которых являлся самым многочисленным. Экономы, ключники, казначеи, привратники, каллиграфы, иконописцы, библиотекари находились в привилегированном положении, а пахари, кузнецы, плотники, ткачи, седельники, башмачники, конюхи, скотники, мельники, шерстобиты, огородники, садоводы, гончары, портные, корзинщики, мойщики одежд, пекари, повара еле успевали перемежать труд молитвой и бдениями. Как и в поместьях светских господ, в монастырях иногда применялась некоторая механизация: тесто замешивалось с помощью ходящего по кругу вола, вода подавалась по трубам водопровода, имелись мельница, водяная или приводимая в движение животными, кузница, гончарня и т. п.
Но монастырь не распылял своих богатств, подобно светскому богачу, между наследниками, не тратился на поддержание престижа, содержание отряда оруженосцев и пышной свиты, на дорогое оружие и доспехи, на снаряжение для участия в походах и т. д. Поэтому в житницах монастырей чаще залеживались крупные запасы зерна, а в подвалах застаивались амфоры с вином и оливковым маслом. Монахи умели лучше светских магнатов "мирным путем" прибирать к рукам и соседскую землицу, обольстив ее религиозного и невежественного хозяина.
В монастырях также трудилось немало мистиев (чаще всего в соответствии с уставом обители они должны были быть бессемейными). В одном из житий рассказывается, как выгнанный монахами за ничтожный проступок мистий пытался в отчаянии сжечь монастырские житницы, ибо он, негодует составитель жития, был "мужланом и холопом, во всех своих чувствах ничем не лучше неразумного скота".
*
Резкие отличия в положении крестьян и господ отражались на всем их жизненном укладе и прежде всего — на покрое и качестве одежды, составе пищи, внешнем виде жилищ и их интерьере. Одежда простых поселян почти не претерпевала изменений на протяжении веков: короткий плащ, перекинутый через плечо, рубашка-хитон из грубого полотна или шерсти, заправленная в такие же штаны, перевязанные крест-накрест ремешком сапоги. Андроник I Комнин велел изобразить себя в одежде поселянина с косой в руках: на нем длинная синяя рубаха и белые сапоги до колен. По словам крупного деятеля духовенства IX столетия Феодора Студита, он, совершая в юности монашеские подвиги, носил навоз на поля ночью или в полдень, когда его никто не мог увидеть: в полдневный зной крестьяне, видимо, соблюдали сиесту. Ложем бедняка был матрац, набитый соломой. Мрак в его хижине разгонялся угольями, факелом либо лучиной.
Состав пищи крестьянина целиком определялся его хозяйственными возможностями. Чаще всего это были ячменный хлеб, разбавленное водой вино и овощи. Признаком крайней бедности считалось употребление в пищу мякины, отрубей, желудей, и мяса "морской свиньи" (дельфина). Досыта крестьянин старался наесться утром, перед началом трудового дня; в обед он ел "в меру", а перед сном — лишь овощи и фрукты. Немало бедняков ели вообще один раз в день. Недаром у них, как говорится в сказании о Стефаните и Ихнилате, глаза разбегались, когда доводилось увидеть на столе, в непосредственном соседстве, и хлеб, и вино, и бобы, и сыр, и фрукты.
Одежда богача состояла из тонкого льняного или шелкового хитона, штанов из дорогой шерстяной ткани. Пояс его был шит золотом, украшен инкрустациями и уложен в щегольские складки, воротник — надушен. Сапоги богачи носили с загнутыми носками. Плащ эпического героя Дигениса Акрита был расшит изображениями грифонов, шапка опушена дорогим мехом, платок заткан золотом. Мехом были оторочены и одежды воительницы Максимо, а нижняя рубашка ее светилась насквозь, как паутинка.
Богато отделывались благородными металлами и драгоценными камнями оружие, седельный прибор и попоны коней и мулов магната. Для знатных дам изготовлялись особые седла, они украшались жемчугом и золотыми бляхами в виде зверей и птиц. Седло имело роскошный чехол, а с крупа коня или мула свисало покрывало из шелка.
Интерьер дома богача в сельской местности был великолепен. В спальнях стояли золоченые кровати с дорогими покрывалами, в гостиных — столы, инкрустированные слоновой костью, золотом и серебром (у Филарета Милостивого за такой стол садилось 36 человек). Вечером горели светильники на чистом оливковом масле, у ложа курились мускатный орех, камфора, касия, амбра и мускус. Когда сельский магнат собирался в дальнюю дорогу, сборы продолжались несколько недель: для него и многочисленной свиты готовились запасы провизии и походное снаряжение всех видов.
Достаточно здоров, говорится в анонимной сатире «Тимарион», тот, кто сидит в седле и способен съесть курицу. Но курица и дичь на столе бедняка была лишь залетной праздничной гостьей. Богачи же из-за неумеренного потребления жирной пищи и вина нередко страдали от ожирения и подагры (медики советовали им побольше за обедом есть кресс-салата, мальвы и асфодели). Некоторые гурманы могли безошибочно определить по вкусу, откуда привезены мед и вино и сколько дней было зажаренному целиком молочному поросенку. Лакомством считалось мясо пятимесячного ягненка, трехгодовалой особо откормленной курицы, вымя молодой свиньи. Свинину подавали с фригийской капустой, ее доставали из жира в горшке прямо рукой или вилкой о двух рожках.
*
Между деревней и городом в Византии всегда ощущалась глухая постоянная вражда, в особенности свойственная жителям деревни и обусловленная глубокими экономическими, социальными и политическими причинами. Об истоках вражды провинциальной землевладельческой аристократии к константинопольской сановной знати речь пойдет ниже. Что же касается простых поселян, то их ненависть к городу объяснялась прежде всего тем, что в Византии (в отличие от стран "классического феодализма" на западе Европы) не замок сеньора, а город властвовал над деревней: в нем проживали и сами магнаты-землевладельцы и представители имперских властей. Неприязнь крестьян к городу распространялась и на рядовых горожан, и причины этого коренились в особенностях византийской налоговой системы.
Уплачиваемые крестьянами налоги были по преимуществу денежными. Деньги же крестьянин мог добыть главным образом в городе: даже через руки нищего поденщика, буквально все покупавшего на рынке, проходило в год раз в пять больше денежных знаков, чем через руки крестьянина, эпизодически обретавшего несколько монет для уплаты налога и покупки самого необходимого. Но в городе, пытаясь приобрести деньги, крестьянин часто терпел убытки от государственной политики фиксированных цен на продукты, от высоких торговых пошлин, и также оттого, что продавать свои товары он должен был не непосредственно потребителю, а перекупщикам-оптовикам, членам торговых корпораций. Кроме того, хотя случаи увеличения налогов в городе бывали, все-таки рост платежей в пользу казны касался, как правило, только крестьян, и от него выигрывали горожане.[3]
Крестьяне избегали города, появляясь там лишь в случае крайней необходимости (торговля, поиск заработка, бегство от вторгшегося врага). Они презирали горожан за развязность, распущенность нравов; они знали, что плоды тяжелого сельского труда стекаются в город, а крестьяне живут хуже горожан. Писатель конца XII — начала XIII в. Никита Хониат рассказывает о случившейся на его глазах характерной сценке: ограбленные крестоносцами весной 1204 г. беженцы из Константинополя тайком пробирались к портовым городам и, предлагая крестьянам остатки денег и ценностей, просили их продать продукты. Поселяне же забирали у горожан вещи почти даром и со злорадством приговаривали: "Вот и мы обогатились!"
Горожане в свою очередь высмеивали грубую, испачканную землей одежду поселян, их невнятную речь, растерянность на шумных улицах и площадях; они потешались над молчаливостью крестьянина, неспособного связать двух слов, ибо овцы, быки да собаки — его единственное постоянное «общество».
В науке часто спорят о содержании понятия «город». Не будем касаться этого вопроса здесь. Для крестьянина той поры город был олицетворением безумной роскоши, жестоких властей, праздным и шумным торжищем, гнездом всяких пороков. Поселянина поражало обилие ремесленных мастерских в городе, но вряд ли могло удивить искусство ремесленников-горожан, ибо в какой-то мере каждый земледелец был ремесленником, самостоятельно изготовлявшим многие из нужных ему орудий и предметов быта. Деревня знала искусных гончаров, кузнецов, портных, сапожников, бочаров, плавильщиков металла. Производство в деревне посуды, кож, войлока, льняной и шерстяной пряжи, циновок и корзин было рассчитано порой и на городской рынок. Создававшиеся в сельских местностях артели строителей (каменщиков, штукатуров, плотников и столяров) возводили крепости, церкви, крупные монастыри, а порой строили водопроводы и цистерны в самой "царице городов" — в Константинополе. (Такие артели, по мысли анонима Х в., являлись примером доброго согласия меж людьми.[4])
Однако и большинство городов империи сохраняло в то время полуаграрный характер. Сады, огороды, виноградники располагались и вне и внутри городских стен. На соседних с городом пастбищах пасся круглый год скот горожан. Славившиеся своим шелкоткацким производством жители Фив в XII в. в засуху вымаливали дождь не менее горячо, чем крестьяне окрестных деревень. Стратиг Лариссы в конце Х в. полагал, что в случае осады при экономном расходовании одного урожая с пригородных хозяйств можно продержаться три-четыре года.
Но все-таки отличительной, особенностью города и в Византии являлось развитое ремесло. В XI–XII вв. провинциальные города переживали подъем: росло ремесленное производство, ширилась торговля, велось усиленное строительство. Как и между сельскими областями, между городами существовало своеобразное разделение труда: из Гардикии (Фессалия) везли плуги и телеги, из Спарты, Коринфа и Фив — шелка, из городов Киликии — одежду, а в Фессалонике старались нанять строителей.
*
Ремесленное производство было основано на ручном труде. В частной мастерской работали сам хозяин, члены его семьи, два наемных работника и мальчик-ученик. Относительно крупными являлись лишь государственные мастерские-эргастирии по выплавке металлов, изготовлению оружия и воинского снаряжения, дворцовой утвари, седел, сбруи и попон для императорских конюшен и коней дворцовых гвардейцев, "греческого огня" (горючей самовоспламеняющейся смеси, взятой на вооружение), ценных красителей, шелковых и парчовых тканей и т. д. Сохранилось описание ремесленников монетного эргастирия: это были одетые в отрепья, босые, покрытые сажей изможденные люди, опаленные огнем, с всклоченными волосами и затравленным взглядом. Свист бича здесь слышался особенно часто, надзор был особенно строг. Более всего именно в государственных мастерских даже в XII столетии применялся труд рабов.
Ремесленники и торговцы не только Константинополя, но, вероятно, и других крупных городов объединялись в корпорации — производственно-торговые союзы. Великое множество мастерских-лавок, принадлежавших членам таких корпораций, находилось в столице. К одной св. Софии было приписано властью императора до тысячи мастерских. Особенно много эргастириев размещалось на центральной улице (Месе). Ремесленники концентрировались по специальностям в разных кварталах: в одном — сапожники, в другом — свечники, в третьем — слесари и кузнецы, в четвертом — медники, в пятом — парфюмеры и т. д.
Членами корпорации не могли быть бедняки, неспособные уплатить вступительный взнос властям города и коллегам по ремеслу и не обладавшие имущественным обеспечением, а также женщины, еретики, евреи (доступ в корпорации евреи получили лишь в середине XII в.), сквернословы, пьяницы и вообще неблагонадежные.
Помимо мастеров и торговцев, входивших в корпорации, было множество ремесленников, трудившихся не в мастерской, а в своем тесном жилище или по найму у более счастливого собрата по ремеслу. Мастер, нанявший специалиста или неквалифицированного мистия, стремился за ничтожную плату выжать из него все, что мог. Мистий в городе едва зарабатывал одну-две номисмы в месяц (288–576 фоллов), тогда как на полуголодное существование уходило в день до восьми-десяти фоллов. А если мистий питался у хозяина, то для семьи он получал на день не более трех фоллов. Власти запрещали мастерам сманивать мистиев друг у друга, платить им вперед более чем за 30 дней, а иногда и нанимать мистия вообще более чем на три месяца. Даже каменотес за свой каторжный труд получал около 20 фоллов в день, тогда как удачливый нищий собирал до 100.
Ремесленная техника веками оставалась неизменной. Качество и количество изделий, как и личная безопасность во время работы, зависели не столько от совершенства инструментов, сколько от профессиональной сноровки. Жития порой упоминают о стекольщике, которому брызги раскаленного стекла выжгли глаза и который просит теперь подаяние, или о потерявшем руку кузнеце, лицо которого испещрено черными уколами искр и окалины, или о грузчике, жестоко искалеченном в порту сорвавшейся тяжестью. В сравнительно хороших условиях трудились серикарии-шелкоткачи, искусство которых высоко ценилось. Шелка, сотканные ими, раскупали преимущественно богатые люди. Но и серикарии иногда бедствовали из-за перебоев в поставке шелка-сырца (метаксы) и закрывали мастерские. Подлинными аристократами среди ремесленников являлись аргиропраты-ювелиры. Их заказчиками были церковь и высшая знать. И держались они замкнутым мирком, и роднились главным образом меж собою.
Помещения под мастерские и лавки ремесленники и торговцы, как правило, арендовали у государства, церквей, монастырей и частных лиц. Размеры платы за съем были официально установленными, и власти следили, чтобы домовладельцы не нарушали порядка. При строительстве домов обычно учитывалось, что нижний этаж будет сдан под лавку или мастерскую. Сдача помещений давала, видимо, изрядный доход. В Х в. большой дом в центре стоил 2 тыс. номисм, а помещение под крупный эргастирий сдавали за 200 номисм в год. Вопреки закону, плата за аренду помещений часто повышалась и становилась непосильной для съемщиков. В одном из монастырских типиков-уставов XI в. предписывалось: если городской съемщик помещения монастыря разбогатеет от своих занятий, монахи должны увеличить плату за аренду. Просрочка уплаты за квартиру и задолженность арендаторов были заурядным явлением в столице, где проблема жилья всегда оставалась острой. Имущество таких должников порою шло с молотка, а сами они попадали в долговую яму. Иногда, в поисках популярности у столичного люда, василевс гасил квартирную задолженность как казне, так и частным домовладельцам.
*
Помимо ремесленников и торговцев, существенную прослойку городского населения в IX–XII вв. составляли две категории людей, положение которых представляет особый интерес: рабы и интеллигенция. Как и в других странах Средиземноморья, особенно Восточного и Южного, в империи использовался рабский труд. В IX столетии некая Даниэлида, несметно богатая жительница Пелопоннеса, подарила Василию I Македонянину 500 рабов и 100 рабынь-ткачих. После ее смерти из других ее рабов, отпущенных на свободу, составилась целая колония в провинции Лонгивардия в Италии, куда их переселили власти. Основным источником рабства служили войны. Рабы были по преимуществу иноплеменниками. От раба-грека хозяин старался поскорее избавиться (боясь морального осуждения общества) или превращал его в свободного слугу.
В середине Х в. в результате успешных действий против арабов немало пленных, обращенных в рабов, попало даже в собственность состоятельных крестьян. Рабов продавали также иноземные купцы. В столице торг ими шел на площади Тавра. Государство регулировало цены и на рабов: раб-писец стоил 50 номисм, врач — 60, ремесленник — 40, не обученный ремеслу — 20–30, ребенок 10. Иноплеменные подданные василевса нередко сами продавались в рабство или продавали детей.
В XI в. численность рабов резко сократилась. Их труд становился нерентабельным и почти не использовался в сельском хозяйстве. Много их оставалось в качестве слуг и дворовых холопов в домах знати. Гораздо более характерны для XI–XII вв. известия не о приобретении, а об освобождении рабов, что поддерживали и церковь и государство. Церковь обретала новых полноправных прихожан, а государство обретало новых подданных — налогоплательщиков и воинов. Однако акт освобождения должен был быть следствием доброй воли господина. Церковный писатель IX в. Петр Сицилиец писал, что он не хулит человека за его рабскую долю, ибо рабство не позорно (все — "рабы божьи"), а хулит за то, что раб вредит господину и убегает от него.
Наиболее часто рабов отпускали по завещанию. Нередко их при этом наделяли движимым и недвижимым имуществом и устраивали их личные судьбы. Закон поощрял мягкость в обращении с рабами. Однако участь их была весьма различной. Были среди них любимчики и советчики, рабы — воспитатели детей, няньки и дядьки, рабыни-наложницы. Рабы, соратники или оруженосцы, сопровождали аристократов в походах. Смерть любимого раба может сокрушить сердце скорбью, говорил Кекавмен, полководец XI в., написавший поучение детям. Однако доля большинства рабов была тяжкой и позорной. Случаи самоубийства среди рабов происходили нередко: иной рабыне, разбившей вазу, смерть казалась менее страшной, чем гнев хозяина или хозяйки. Рабы мечтали о том, чтобы стать зависимыми крестьянами париками.
Как во всякой стране старой цивилизации, в Византии имелся широкий слой людей умственного труда. В основном это были служащие государственных и церковных учреждений. Представители свободных профессий, т. е. собственно византийская интеллигенция, составляли меньшинство.
Молодой человек, выучившийся на грамматика или нотария, т. е. на писца правительственной канцелярии, если он не имел сильного покровителя, начинал карьеру с низших ступеней (для высших чинов зачастую оказывалась необязательной и элементарная грамотность), медленно поднимаясь вверх в соответствии с табелью о рангах. Можно было до старости прослужить на низших постах, в вечном страхе за место, унижаясь перед невежественным начальником. Кекавмен советовал: когда начальник, бездарь и невежда, допускает ошибки, то первейший долг подчиненного — держать язык за зубами, иначе несдобровать.[5] Если чиновнику покровительствовали крупные сановные лица или сам василевс, то тот быстро шел в гору, безнаказанно манкировал своими обязанностями, отлучался из канцелярии куда хотел и когда хотел, так как, получив чины и титулы, он приобщался к кругу сановной знати, главной обязанностью которой в столице было лишь парадное представительство да участие в торжественных церемониях.
Для достижения карьеры требовались не столько деловые качества, сколько ловкость и догадливая верность начальству как в законном, так и незаконном деле. Сознание безнаказанности росло пропорционально успехам по службе. Беззакония и произвол сановника могли возмущать весь город. Но никто не решался намекнуть на это василевсу; подобострастные улыбки недавних хулителей неизменно встречали сановника на приемах.
Начальник столичной тюрьмы при Алексее III Ангеле Лагос, договорившись с ворами, выпускал их ночами на разбой и получал определенную долю добычи. Когда Лагос незаконно арестовал одного состоятельного ремесленника, сотоварищи арестованного по ремеслу подняли бунт, поддержанный беднотой столицы. Высшего чиновника столицы — эпарха — с его отрядом забросали камнями, тюрьмы были разгромлены, заключенные выпущены, храмы разграблены. Был брошен клич о свержении василевса. Но к вечеру вызванные войска подавили мятеж. А виновник беспорядков Лагос? Он приступил к размещению по камерам новых заключенных бунтовщиков.
Среднее и высшее чиновничество жило не столько на жалованье, сколько на взятки и хищения. Неистребимый порок бюрократической машины империи взяточничество — был почти легализован. Кроме того, именно высшие и средние чиновники получали от василевсов дары, привилегии, откупа и т. п.
Зажиточной частью образованного люда столицы, помимо чиновничества правительственных ведомств, были также тавуллярии, члены привилегированной корпорации нотариев-адвокатов. Столица имела 24 нотария, но в корпорацию на положении "младших членов" входили преподаватели и учителя права, а также писцы тавулляриев (каждому из них разрешалось держать по одному писцу), не принимавшие участия в голосовании на общих собраниях корпорации. Писец, сделавший что-либо помимо воли тавуллярия, изгонялся из корпорации с документом, навсегда закрывавшим ослушнику дорогу обратно. При вступлении в корпорацию кандидат в тавуллярии подвергался экзамену, представлял рекомендации, делал взнос (30 номисм) эпарху и платил несколько номисм главе корпорации и ее членам. Имелись в столице и адвокаты, не входившие в корпорацию и жившие зачастую случайным заработком.
У Царского портика в центре города находились книжные лавки, где по вечерам по старой традиций нередко встречались библиофилы и философы. Здесь они порой вели публичные диспуты, а безработные адвокаты в присутствии подвернувшегося клиента репетировали свои речи. Некогда сюда устремлялись и риторы, преподаватели, учащаяся в столице молодежь, а также всякого рода шарлатаны от науки, знахари и астрологи. Однако такие «ученые» собрания устраивались все реже, и мы не имеем о них достоверных сведений с IX столетия. Собственно византийская интеллигенция до конца XII в. не устраивала специальных встреч. Она была разобщена глухими социальными перегородками.
Очень мало известно о положении архитекторов, художников, мозаичистов, убедительные свидетельства высокого искусства которых сохранило время. Есть все основания полагать, что их причисляли к разряду ремесленников.
*
Полушутя, полусерьезно византийские книжники завидовали чаще всего лавочникам — торговцам столицы, так как, если не служба, то только торговля гарантировала не имевшего хозяйства человека от опасности остаться без обола (фолла) ко времени обеда.
Торговля главными видами товаров в городе (хлебом, мясом, шелком, льном, обувью, скотом, рыбой) была организована по соответствующим корпорациям и строго контролировалась властями. Не случайно поэтому и лавки членов корпораций располагались поквартально, сплошными рядами. Только лавчонки пантаполов-салдамариев, торговцев хлебом, снедью и мелким товаром всякого рода, да лавки овощников и торговцев фруктами были во множестве разбросаны по всему городу. Впрочем, рачительные столичные хозяйки не ленились покупать зелень вне города, в пригородах, где она стоила дешевле.
В лавках солидных хозяев у входа выставлялся рекламируемый товар, фрукты лучшего качества укладывались на витрине в стеклянные вазы. Хлебные ряды располагались у Милия (триумфальные ворота в центре, у начала Месы). Здесь же находились овощные и торговые ряды. Пекарь был одновременно и мукомолом, а продавали готовый хлеб его жена или другие члены семьи. Государство особенно строго следило за торговлей хлебом, от цен на который зависели цены на все прочие продукты. Булочников даже освобождали от выполнения государственных повинностей. Последствия недорода, всегда весьма чувствительные для горожан, почти не отражались на булочниках: они должны были не повышать или понижать цены на хлеб в зависимости от цен на зерно, купленное ими, а менять формы, в которых выпекался хлеб. Если зерно дорожало, булочник уменьшал размеры каравая, но продавал его по старой цене. Однако какую из форм должен был употреблять булочник, определяли чуть ли не каждый день эпарх и его помощники. Поэтому во время голода спекулировали не печеным хлебом, а зерном, и даже высшие сановники не гнушались иногда махинациями такого рода.
Константинополь снабжали зерном главным образом Причерноморье (прибрежные азиатские провинции), Киликия (оттуда везли зерно и на острова), Фессалия. В 987 г., взяв Авидос, мятежный Варда Фока надеялся, что, задерживая суда с зерном, плывшие в столицу, он принудит ее к добровольной сдаче. В первой трети XI в. зерно для Константинополя закупали порой в Греции, полвека спустя — во Фракии. В Херсон зерно везли также с южного берега Черного моря, в Фессалонику — из Македонии, а иногда — и с Сицилии.
В 70-х годах XI в. государство предприняло попытку ввести монополию на торговлю зерном: крестьян Фракии (в источниках говорится только об этой провинции) силой принуждали продавать хлеб по низким ценам и лишь государству. Затем это зерно казна втридорога продавала горожанам.[6] Однако такой порядок вызвал всеобщее возмущение и продержался недолго. Тем не менее Византийское государство всегда имело запасы зерна. В IX — Х вв. они создавались за счет натуральных поставок налогоплательщиками. В XI в. после замены натуральных податей денежными казенные житницы пополнялись закупленным у крестьян хлебом. Располагая запасами зерна, государство не зависело от рыночной конъюнктуры. Кроме того, казна имела возможность поддерживать в столице стабильные цены на зерно, продавая часть государственных запасов на столичном рынке по сниженным ценам. Попытки некоторых императоров спекулировать зерном, пользуясь общим бедствием (так поступил Никифор II Фока), вели к быстрому падению их популярности.
Тщательно регулировалась также торговля мясом. Убойный скот продавали под строгим надзором властей лишь на площади Стратигии. Здесь же продавали свиней, а овец (от пасхи до троицы) — на площади Тавра. В пост всякая торговля мясом прекращалась.
Бойни располагались близ рынков. Скот забивать имели право только члены корпорации макелариев, получавшие в качестве прибыли внутренности, голову и ноги животного. Власти, взимая пошлину, клеймили скот — это и давало право на его продажу. Выезжать из Константинополя навстречу стадам свиней, которых гнали чаще всего из Пафлагонии, строжайше запрещалось, так как кто-либо из членов корпорации мог в таком случае, купив свиней подешевле, получить гораздо больший процент прибыли.
Рыбу продавали в полуподвальных лавках-складах (камарах). Беднота покупала более дешевую соленую и копченую рыбу, а состоятельные горожане покупали свежую. Рыбаки были обязаны сдавать улов рано утром оптовым закупщикам рыбы. Эпарх в зависимости от улова устанавливал на нее цену. Даже ловля рыбы регулировалась государством: пригородные прибрежные районы были разделены на рыболовецкие участки ("хозяйства") и внесены в налоговые описи. Столица сама обеспечивала себя рыбой, которая входила в постоянный рацион константинопольцев.
Никто в Константинополе не мог продать коня в обход корпорации вофров, имевших право на посредничество в торговле лошадьми. Вофры — знатоки коней и ветеринары — за определенную мзду осматривали животное и устанавливали цену.
Вином торговали главным образом в трактирах, значительная часть которых в столице принадлежала знатным лицам, но арендовалась у них трактирщиками. Трактир могла иметь и церковь, но клирику (священнослужителю) запрещалось стоять за прилавком. Профессия кабатчика вообще считалась позорной, хотя через трактиры сбывалось вино крупных владельцев пригородных виноградников. Цены на вино, размеры сосудов и время торговли также регулировались властями.
Трактирщиков часто обвиняли в том, что они доливают воду в вино, обсчитывают и обкрадывают пьяных. Сохранилась ответная жалоба трактирщика: он сетует на беспокойную жизнь и постоянную бедность — как тут не долить воды, если на дню раз десять зайдут стражи порядка разных рангов, а то и чиновные лица, которые норовят выпить бесплатно, а пьяная голытьба ежедневно растаскивает кружки и прочую посуду.
Трактирщики хорошо знали цену рекламе. Один из них предложил юродивому вместо того, чтобы слоняться без дела, торговать в кабаке бобами. Хотя юродивый не столько продавал, сколько поедал и раздавал бобы нищим, хозяин не гнал его, так как чудачества блаженного привлекали множество посетителей.
Правила торговли были зафиксированы в сборнике постановлений высшего чиновного лица столицы, ответственного за ее снабжение и за соблюдение порядка в городе, — в так называемой "Книге эпарха" (начало Х в.). К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, имели ли силу нормы, подобные нормам этого сборника, во всех крупных городах или только в Константинополе. Константинополь был столицей, и регулирование в нем ремесленной и торговой деятельности преследовало особые цели. Власти стремились обеспечить здесь более высокий уровень жизни, чем в других городах империи. Недовольство столичного населения было особенно опасно: потеряв столицу, василевс обычно терял и трон, а узурпатор, напротив, захватив только Константинополь, обретал все права законного василевса. Кроме того, столица была как бы внешней вывеской, витриной империи, ведшей дипломатическую игру на международной арене. Государственные деятели Византии заботились о том, чтобы поразить «варваров» великолепием "Второго Рима", внушить иноземцам мысль об исключительности "богом избранной" империи. Недаром правила "Книги эпарха", регулировавшие ремесло и торговлю в столице, резко отличались от норм цеховых уставов западноевропейских городов средневековья.[7]
Византийские корпорации были генетически связаны с коллегиями Поздней Римской империи, основной целью организации которых была не защита интересов производителей и торговцев, а обеспечение выполнения общественных литургий повинностей в пользу государства. Многое изменилось с тех пор в жизни коллегий-корпораций, но они по-прежнему не являлись добровольными объединениями ремесленников или купеческими гильдиями, стоявшими на страже интересов своих членов. Это были созданные по воле властей сообщества, находившиеся под строгим надзором государства, которое ни в коей мере не заботилось об обеспечении максимально выгодных условий для деятельности членов корпораций. Не случайно поэтому основное внимание в "Книге эпарха" уделено общественным обязанностям руководителей и членов корпораций и их парадно-представительным функциям, не имевшим никакого отношения к производству и торговле. Члены корпораций серикариев и вестиопратов (торговцев дорогими одеждами) украшали улицы во время празднеств и торжеств (не явившиеся в праздник к точно указанному месту платили штраф, но могли подвергнуться и более суровому наказанию). Главы корпораций участвовали в церковных и правительственных церемониях. Именно они и составляли основной штат эпарха. Хотя аргиропраты, например, не занимали официальных должностей, они гордились своим положением и пользовались, как и должностные лица, особыми именными свинцовыми печатями-моливдовулами при отсылке своей корреспонденции.
Главная задача руководителей состояла в сохранении порядка: они следили за строгим соблюдением предписании эпарха, за деятельностью сотоварищей по профессии как членов, так и не членов корпорации, за неукоснительной уплатой податей и пошлин своими подчиненными, за их поведением в обществе и в быту.
Помещение под лавкой или мастерской члена корпорации чаще всего принадлежало государству, и власти имели возможность в любой момент обуздать инициативу такого съемщика. Закон запрещал члену корпорации накапливать большие запасы сырья и нанимать более двух работников; закон устанавливал критерии качества изделий, размеры производства, цены, меры веса и длины, время торговли; готовую продукцию нередко приходилось сдавать на хранение в казенный склад: продать ее без клейма или пломбы эпарха было невозможно.
В крайне тяжелых условиях находились ремесленники, не состоявшие в корпорации: они не имели права продавать свои изделия до того, как будут проданы товары корпораций, к тому же с них взимались повышенные пошлины. Некоторые виды товаров не члены корпораций не имели права производить вообще (шелка, ювелирные изделия, парфюмерию, мыло, свечи).
Переход из одной корпорации в другую не возбранялся: макеларий мог, изучив ремесло, стать свечником, но никто не имел права заниматься двумя ремеслами сразу. Нормы "Книги эпарха" были направлены на обеспечение занятости столичного населения и на создание условий для получения членами корпораций одинаково скромного достатка. Подозрительны властям, говорил философ и писатель XI в. Михаил Пселл, все, внезапно начавшие благоденствовать.[8] Заказами ремесленников многих корпораций обеспечивали государство и церковь: корпорации изготовляли оружие, воинское снаряжение, утварь, шили дорогие одежды (каждый чин и носитель титула в империи получал соответствующее его рангу одеяние), создавали ювелирные изделия для даров или уплат за союз или мир с иноземцами.
Возможно, такая политика страховала государство от недостатка или перепроизводства некоторых изделий и продуктов; возможно, привилегии и права членов корпораций гарантировали двор от участия большинства торгового и ремесленного люда столицы в антиправительственных движениях. Но результаты существования этой системы ощущались уже в XI в., а со всею силою дали о себе знать в следующем столетии.
Ярким примером особенностей регламентации производства по "Книге эпарха" являются ее положения о шелкоткачестве и торговле шелком. Сырец-метаксу, привозимую в столицу, имели право закупать лишь метаксопраты — торговцы шелком. Закупку производили в определенном месте под надзором чиновников. Метаксопраты-оптовики продавали метаксу мелкими партиями менее состоятельным торговцам сырцом. У них метаксу покупали катартарии — ремесленники, производившие очистку и размотку коконов. Готовую пряжу катартарии продавали снова метаксопратам. Метаксопраты сбывали ее шелкоткачам-серикариям. Ткачи не имели права свободно продавать изготовленную и окрашенную ими ткань или шить из нее одежды на продажу. Они продавали ткань вестиопратам, которые, одни пользовались правом продавать шелка на рынке покупателям. На каждом из названных этапов перепродажи шелка продавцу обеспечивалась восьмипроцентная (точнее, 8,33 %) прибыль (от суммы, затраченной им на покупку). Готовая шелковая ткань стоила в несколько раз дороже израсходованной на ее изготовление метаксы, а метакса покупалась буквально по цене золота. Описанная организация не стимулировала развитие производства: она обеспечивала вовлечение в «дело» широкого круга лиц и контроль государства, взимавшего с каждой из перечисленных торговых сделок пошлину (процент с прибыли).
Независимо от того, состоял горожанин или не состоял членом какой-либо корпорации, он уплачивал в казну налоги и пошлины со всех видов своего имущества и с любого рода своей трудовой деятельности. Он платил и за владение пригородной землей, и за сад в городе, и за мула или овец в хлеву, и за помещение, сдаваемое в наем, и за мастерскую, и за лавку, и за корабль, и за лодку. Практически ни один товар на рынке не переходил из рук в руки, минуя бдительное око и руки чиновников эпарха.
Особенно высокие сборы казна делала в дни ярмарок, которые устраивались в праздники в городах, в больших селах и у стен крупных монастырей. На них съезжались купцы не только из далеких провинций, но и из других стран. Ярмарка в Эфесе приурочивалась к 27 декабря (день св. Иоанна Богослова) и давала казне до 100 литр золота (в литре 72 номисмы), т. е. сумму, равную примерно налогу с 2000–3000 крепких крестьянских хозяйств. В Фессалонике ярмарка начиналась 26 октября (день св. Димитрия), в Адрианополе — 15 августа (день успения богородицы) и т. д. В октябре в Фессалонику прибывали целые караваны из Болгарии и Руси (русские товары привозили морем в столицу, а оттуда часть их доставляли по суше в Фессалонику). Здесь продавалось и покупалось все: от овощей и изделий деревенских ремесленников до драгоценных украшений и заморских специй. Купцы этого города богатели от торговли с адриатическим поморьем, куда с римских времен вела крупная торговая артерия — Via Egnatia. Гавань города была удобна и благоустроенна, от ветров ее защищал специальный мол. Очевидец разгрома Фессалоники арабами в июле 904 г. Иоанн Камениат сообщает об огромном количестве дорогого металла, шелков, льняных и шерстяных тканей, награбленных врагами.
В IX–XII вв. византийские купцы поддерживали торговые связи со странами Восточного Средиземноморья, бассейна Черного моря, Передней и Центральной Азии. Пурпур, добывавшийся на острове Кеос, стремились приобрести не только афиняне и константинопольцы, но и арабы и венецианцы; за шелками Коринфа, Спарты и Фив приезжали купцы со всех концов империи и Италии; восточную парфюмерию, пряности и лекарственные специи из Индии, Аравии и глубин Азии везли через Феодосиуполь и Трапезунд; товары Ивирии, Авасгии, Армении и Сирии стекались в Х в. в Ардануцин (Арце) — город-крепость в Малой Азии. Херсониты торговали с печенегами, ведшими торг с русскими, и сбывали свои товары в фемах (провинциях) Пафлагония, Армениак, Вукелларий (чаще всего это были рабы, лен, мед, воск, рыба, икра и кожи). Те же товары русские сами везли в Константинополь, который в течение многих веков оставался мировым торжищем, средоточием транзитной торговли между Европой и Азией.
Ценность груза не всегда зависела от размеров и тяжести товара. Содержимое трюмов тяжело груженных кораблей стоило порой столько же, сколько небольшая поклажа ювелира, парфюмера или скупщика лекарственных трав, долго бродившего от деревеньки к деревеньке в глуши Ливана или Армении.
Время, затраченное на перевозку товара, отражалось на его цене. Поэтому основная масса товаров в Византии во все века перевозилась на судах: морской путь был обычно наиболее быстрым и дешевым.
Золотой Рог в Константинополе являлся сплошной пристанью: суда там стояли почти вплотную, носами к берегу. Поблизости располагались кварталы моряков, грузчиков, корабельных плотников, иноземных купцов, а также склады, верфи, доки. Византийские мореходы отлично знали условия плавания в "своем море" ("нашим морем" ромеи называли Средиземное, частью которого считали и Черное). Мореходным искусством и отвагой славились родоссцы, суда которых можно было увидеть во всех гаванях Средиземноморья. Недаром именно "Родосский морской закон" с VII по XIII в. был официально признанным в империи законодательным сборником. Мореходный сезон открывался в день весеннего равноденствия и продолжался до конца ноября. Если капитан брался за доставку товара в опасное зимнее время, то в случае беды его судили за безрассудство. На морских путях и в портах имелись постоянно действующие маяки: ночью в них пылал огонь, а днем дымилось сырое дерево.
Строили суда специальные подрядчики (калафаты — буквально смолильщики, или конопатчики), нанимавшие корабельных плотников. Размеры грузовых судов были различными. Преобладали суда вместимостью от полутонны до десяти тонн. Их строили для наиболее развитого каботажного плавания или для переправ. Пселл однажды переправлялся с дюжиной странников через Босфор на судне, экипаж которого состоял всего из трех моряков. От таких судов мало отличались рыболовецкие суденышки, небольшие по размеру, так как рыбу добывали преимущественно в прибрежных водах (сети при этом выбирали руками или с помощью ворота). Иногда на носовой части палубы строили выступающие над водой настилы, с которых рыбаки высматривали косяки рыбы в глубинах.
Однако для дальних заморских путешествий византийцы использовали крупные суда вместимостью до 150–200 тонн. Такое судно в Х в. брало на борт более 100 пассажиров, для его спуска на воду требовалось одновременно до 300 рабочих. Согласно "Родосскому закону", стоимость судна зависела от его вместимости: судно вместимостью около тонны оценивалось в пять-шесть номисм. Крупные торговые корабли власти иногда, в периоды острой военной опасности, реквизировали для перевозок государственных грузов или для переоборудования в военные суда.
Владельцы судов, как и капитаны, нанятые владельцами, назывались навклирами. Предполагают, что в столице существовала корпорация навклиров. Купцы и путешественники, зафрахтовав судно, заключали с навклиром договор, в котором подробно оговаривались интересы сторон и предусматривались случайности всякого рода, вплоть до такой, как порча товара крысами; если капитан не имел кошки, то был обязан возместить ущерб. Золото пассажиры сдавали капитану на хранение. Он имел право ограничить их в питье и пище, выбросить без возмещения часть товара в случае опасности. Отправлявшиеся в дальний рейс приносили взаимную присягу на евангелии. Если навклир принимал на себя ответственность за полную сохранность товара независимо от причин катастрофы, он повышал стоимость фрахта, но в случае беды целиком возмещал ущерб. Навклира, между прочим, могли судить даже за "унылый вид" во время бури, способствовавший возникновению паники на судне.
Редкая дальняя экспедиция в торговых целях обходилась без кредита. Купцы империи, в отличие от торговцев других европейских стран, издревле не переставали прибегать к ссуде под проценты и залоги. Ростовщиками были преимущественно ювелиры и менялы. Ростовщичество, впрочем, морально осуждалось. Церковь запрещала лихоимство вообще. До Х в. деятельность ростовщиков неоднократно возбранялась, но при Льве VI она была легализована окончательно. Ссудный процент, в зависимости от условий договора, устанавливался в пределах 8,33–16,67 % от занятой суммы. Однако закон обходили: ссудный процент порой достигал трети займа. Ростовщичеством занимались, несмотря на запреты канонов, также клирики и монахи. Кредитор был обязан два или три раза напомнить должнику об истечении срока возвращения ссуды, а затем обращался в суд. В присутствии властей производилась опись и распродажа имущества несостоятельного должника, чтобы погасить его долг и судебные расходы.
Что касается цен в Византии, то данные об этом крайне противоречивы, и выводы историков остаются весьма гипотетичными. Колебания в уровне цен зависели не только от общей хозяйственной конъюнктуры в стране или в данной местности, но и от государственной политики фиксированных цен и от перемен в монетной системе: в XI в. содержание золота в номисме стало падать, и ее точное соотношение с мелкой и средней монетой (нуммиями, фоллами и милиарисиями) не всегда удается установить. Сообщая, что в 766–767 гг. на номисму можно было купить 60 модиев пшеницы (модий равнялся 8-13 кг), патриарх Никифор (IX в.) поносит невежд, радовавшихся дешевизне и полагавших, что в стране царит изобилие, тогда как подлинной причиной низких цен на зерно было резкое увеличение налогов с крестьян и политика крайней экономии денежных запасов казначейства.[9]
При Василии I во время голода можно было купить на номисму два модия зерна, а через столетие, при Никифоре II, в подобной ситуации — только один модий, за десять же лет до этого — до восьми модиев. До введения упоминавшейся монополии на торговлю хлебом во Фракии при Михаиле VII Дуке на номисму продавали от 12 до 18 модиев пшеницы, а после введения монополии — сначала один модий, а затем всего одну треть его.
На развитие ремесел и торговли в империи оказывало влияние и культивировавшееся в среде знати презрение к этим видам деятельности. Император Феофил страшно разгневался, узнав, что его жена имеет грузовой корабль, извлекает торговую прибыль и покрывает императора позором, как "жалкого купчишку". Корабль был сожжен вместе с товарами. В XI в. Кекавмен советовал сбывать на рынок излишки продуктов, производимых в поместье, ни в коем случае не унижаться до систематического занятия торговлей с целью извлечения постыдной торговой прибыли.[10]
Тяжким бичом для византийских торговцев был закон о внутренней торговле между городами и провинциями. Купцы из провинции могли оставаться в Константинополе лишь в течение месяца. Если они не успевали продать товар и закупить необходимое, эпарх менял цены, ускорял распродажу и предлагал иногородним тотчас покинуть столицу. Ослушников ждали конфискация, избиение, позорящая стрижка волос и изгнание. Иноземные же, сирийские, купцы могли торговать в Константинополе три месяца, а русские — даже полгода, причем с правом на торговые льготы, на даровое питание и снабжение судов всем необходимым для обратного пути.
Правительство сурово преследовало вывоз за границу некоторых товаров (оружия, драгоценных металлов, железа, пурпура). Отечественным торговцам за нарушение таможенных правил угрожала казнь. Пошлины со своих купцов, как правило, превосходили пошлины с иноземцев. Особенно много таможенных барьеров было на Геллеспонте и Босфоре, но таможни имелись и в каждом порту, в каждом городе, даже на небольших островах. По словам путешественника XII в. Вениамина Тудельского, торговые пошлины в Константинополе давали казне ежедневно до 20 тыс. золотых монет.
В XI–XII вв., особенно со второй четверти XI в., когда владычество империи на море было основательно подорвано арабами, а затем итальянцами, условия для морской торговли постепенно ухудшались. Арабский флот грабил и топил византийские грузовые суда, уничтожая или продавая в рабство моряков и пассажиров. Усилился пиратский разбой. Немало навклиров-капитанов промышляло вместе со своими экипажами грабежом, расправляясь в глухих просторах моря с пассажирами.
В XII в. на открытый разбой в море пошел даже император Алексей III. Он узнал, что в Черном море потерпел крушение корабль, шедший от берегов Колхиды к Константинополю. Василевс отправил шесть военных кораблей якобы для поисков ценного груза, а на деле — для ограбления каравана судов, следовавших в Амис. Начальники (архонты) флота перестарались — они ограбили для василевса и прочие суда, плывшие в Константинополь. Немало купцов-греков было убито, а уцелевшие тщетно "искали правды" в столице. Пострадали и купцы иконийского султана, который использовал этот инцидент для начала войны.
Согласно "Родосскому закону", спасший что-либо с разбитого бурей судна получал пятую часть спасенного, а сохранивший выброшенное на берег — десятую часть. По договорам русских с греками, обе стороны обязывались отдавать друг другу в таких случаях все грузы без каких-либо наград. Но, видимо, к концу XII в. эти законы были начисто забыты — местные жители безнаказанно растаскивали грузы с потерпевших кораблекрушение судов. Поэтому Андроник I (1183–1185) распорядился карать смертью всех, кто будет повинен в этом. То же наказание грозило и господам тех лиц, которые решились бы на грабеж. Однако едва прошло несколько лет после свержения Андроника I, как указ этого василевса утратил силу.
В Х-XI вв. и в деревне и в городе произошли глубокие перемены. Византийское крестьянство раскололось на две основные крупные группы: свободных налогоплательщиков казны и феодально-зависимых париков, принадлежавших частным лицам. Среднее положение между этими группами занимала категория государственных крестьян, поселенных в поместьях императорской семьи и государственных учреждений. И численность и размеры владений магнатов быстро росли. Феодальная вотчина производила все больше товарной сельскохозяйственной продукции, поступавшей на городской рынок. Но продукция эта все чаще становилась предметом не внутренней, а внешней торговли. С конца XI в. крупные города империи, а через столетие — и прочие вступили в полосу упадка. Страна высоко развитого ремесла, налаженного торгового оборота и устойчивых культурных традиций, Византия стала быстро сдавать свои позиции конкурирующим городам-республикам Италии. Причины этого коренились не только в том, что василевсы из политических соображений предоставляли венецианцам и генуэзцам неслыханные торговые льготы. Более важную роль играла замедленность темпов развития ремесла в империи еще до основания иноземцами факторий в Константинополе. Товары Италии все чаще оказывались добротнее и дешевле византийских. Экономическая и политическая система бюрократического государства задушила непомерными поборами и ограничениями собственное городское хозяйство, создав условия для его загнивания и медленного вырождения.
Глава 2 ГОСУДАРСТВО
Византийская империя представляла собой единственное древнее государство в Европе и Передней Азии, аппарат власти которого уцелел в эпоху великого переселения народов. Византия была непосредственной преемницей Поздней Римской империи, но ее классовая структура претерпела в VII–XI вв. коренные изменения: из рабовладельческой державы Византия постепенно превратилась в феодальную. Однако такие позднеримские институты, как разветвленный аппарат центральной власти, налоговая система, правовая доктрина незыблемости императорского единодержавия, сохранились в ней без принципиальных изменений, и это во многом обусловило своеобразие путей ее исторического развития.[1]
Политические деятели и философы Византии не уставали повторять, что Константинополь — Новый Рим, что их страна — Романия, что они сами — ромеи, а их держава — единственная (Римская) хранимая богом империя. "По самой своей природе, — писала Анна Комнин, — империя — владычица других народов". Если они еще не христиане, то империя непременно «просветит» их и будет управлять ими, если они уже христиане, то являются членами ойкумены (цивилизованного мира), во главе которой стоит империя. Ойкумена — иерархическое сообщество христианских стран, и место каждого народа в ней может определить лишь ее глава — император.
Эта стройная концепция к IX-Х вв. мало соответствовала действительности: в 800 г. Карл I, а с 962 г. Оттон I и его преемники стали также императорами; многие христианские народы не только не признавали авторитета империи, но вели с нею борьбу; некоторые государи соседних с империей стран (Симеон болгарский, Роберт Гвискар норманнский) даже осмеливались притязать на трон василевса в Константинополе. Однако империя не меняла своей концепции. Она никогда не отказывалась от территорий, некогда принадлежавших Риму, считая их лишь временно отторгнутыми. "Поэтому, — продолжает Анна, — ее рабы враждебны к ней и при первом удобном случае одни за другим — с моря и с суши — нападают на нее". Задача состояла в утверждении идеи монолитности и единства многоплеменной державы. Един бог — един василевс — единая империя. Древние эллины, говорил аноним Х в., заполонили богами небо, поэтому и на земле у них было "раздробление власти". "Где многовластие, — поучала Анна, — там и неразбериха", которая, по мысли императора Константина VII Багрянородного, есть погибель для самих подданных.
*
Василевс — помазанник божий — обладал безграничной властью. Однако удержаться на престоле в Византии было нелегко. Самая неограниченная монархия европейского средневековья, императорская власть в Византии, оказывалась самой непрочной. Император помыкал синклитом, самовластно распоряжался войском, покупал щедротами духовенство, пренебрегал народом. Но если при коронации ставшая традицией теория "божьего выбора" не находила воплощения в формальной церемонии согласия на царство со стороны синклита, войска, церкви и народа, оппозиция могла сделать это «упущение» знаменем борьбы против «незаконного» василевса. Императора обожествляли как божьего избранника, не было страшнее преступления, чем "оскорбление величества". Но мятеж против него как личности, недостойной трона, не осуждался, если мятежники выходили победителями. Эта позиция по отношению к василевсу, характерная для византийцев, нашла яркое отражение в следующем любопытном эпизоде. Накануне решительной битвы с императорским войском один из двух братьев Мелиссинов, горячих приверженцев мятежника Варды Фоки, всячески поносил издали порфирородного Василия II, а другой умолял брата прекратить брань и, наконец, ударил святотатца, заплакав от сознания братнего греха.
За 1122 года существования империи в ней сменилось до 90 василевсов. Каждый правил в среднем не более 13 лет. Почти половина императоров была свергнута и уничтожена физически. Сами византийцы задумывались над этим и не находили ответа. Никита Хониат с грустью замечал, что Ромейская держава подобна блуднице: "Кому не отдавалась!" Захвативший без труда власть, продолжал он, побуждает и других к тому же своим примером, особенно тех, которые "с перекрестков" вознеслись в сановники. Мечтали о троне многие, разглагольствуя при этом о незыблемости прав своего государя, если он был порфирородным (или багрянородным), и, напротив, о справедливости "перста божия", если узурпатор свергал порфирородного (ибо тот помыкал ромеями, "как неким отцовским наследием"[2]).
Эпитет «порфирородный», т. е. рожденный в Порфире, особом здании дворца, означал, что родители василевса занимали тогда императорский трон, и, следовательно, у «порфирородного» имелись права, которые если не юридически, то в силу обычая, давали ему ряд преимуществ перед «непорфирородными». Из 35 императоров IX–XII вв. едва ли треть носила этот гордый титул. Но если в XI в. порфирородные составляли только пятую часть василевсов, то в XII в. — около половины, а с 1261 г. и до конца империи на престол всходили лишь двое непорфирородных. Вместе с консолидацией класса феодальной аристократии медленно и с трудом утверждался принцип наследственности императорской власти. Ее носителем мог быть только представитель этого класса — и не по положению, а по самому рождению: с 1081 г. по 1453 г. выходец из иной среды не занимал престола ни разу. В рассматриваемый здесь период (IX–XII вв.) только что отмеченный процесс еще не завершился. Каждый василевс, вступив на трон, прилагал все усилия к тому, чтобы утвердить свое право передать власть по наследству (порфирородный ребенок, потеряв отца в детстве, редко сохранял ее).
*
Быт императора, обставленный с особой пышностью, преклонение перед ним подчеркивали пропасть, отделявшую государя от прочих подданных. Василевс появлялся перед народом лишь в сопровождении блестящей свиты и вооруженной внушительной охраны, следовавших в строго определенном порядке. Вдоль всего пути процессии стояли толпы согнанного простонародья. Иногда воздвигались и особые деревянные подмостки, на которые вместе с музыкантами и исполнителями гимнов имели право взойти видные горожане, иноземные послы, знатные путешественники.
Во время коронации и важных приемов на василевса надевали столько одежд и украшений, что он с трудом выдерживал их тяжесть. Михаил V Калафат даже упал в обморок при коронации, и его едва привели в чувство. Перед василевсом простирались ниц, во время тронной речи его закрывали особыми занавесями, сидеть в его присутствии получали право единицы. К его трапезе допускались лишь высшие чины империи (приглашение к царской трапезе считалось великой честью). Его одежды и предметы быта были определенного цвета, обычно пурпурного.
Единственный из мирян, василевс, имел право входить в алтарь. В его честь слагались торжественные гимны и славословия. В своих грамотах он говорил о себе чаще всего во множественном числе: "царственность наша" (иногда: "царственность моя"). Он не уставал восхвалять собственные деяния: все его неусыпные заботы и тяжкие труды направлены лишь на благо народа, и народ, разумеется, «благоденствует» под его скипетром.
Особенно помпезно обставлялся прием иноземных послов, которых византийцы старались потрясти величием власти василевса. До середины Х в. при византийском дворе считалось унизительным дать согласие на брак близких родственниц императора с государями иных стран. Впервые порфирородная принцесса, дочь Романа II Анна, была выдана замуж за «варвара» — русского князя Владимира — в 989 г. Еще дольше соблюдался обычай не предоставлять иноземным государям каких-либо регалий императорской власти. Константин VII рекомендовал при домогательствах подобного рода ссылаться на волю божью и заветы Константина Великого.
Последовательно и неуклонно отстаиваемая византийцами концепция исключительности власти василевса, торжественность придворного ритуала, величие дворцов, блеск и слава культуры древней империи действовали порой даже на повелителей крупных и могущественных держав средневековья. Быть как-то связанным с престолом на Босфоре (через родство или через получение почетного титула) значило в какой-то степени возвыситься среди прочих государей, не удостоенных этой чести.
*
Каждый император стремился окружить себя преданными людьми. Смена царствования, как правило, вела к резким переменам в ближайшем окружении трона.
Можно было из низов вознестись на высшие ступени иерархической лестницы, можно было по мановению царской руки, скатиться оттуда вниз. Социальная структура византийского общества эпохи феодализма отличалась, как принято теперь говорить, значительной "вертикальной подвижностью".[3]
Все стремились сделать карьеру, увлекаемые мыслью о достижении успеха. Среди удачливых, томимых страхом за место, царили угодливость и раболепие, среди неудачников — зависть и жестокое соперничество, в котором любое средство оправдывало цель. Теоретически признаваемая высшей гарантией от произвола и беззакония социальная и политическая система империи на практике порождала их постоянно. Случаи наказания сановников за превышение своих полномочий были крайне редки.
*
Философы той поры, тоскуя о справедливости и законности, возлагали основные надежды не на реформы, не на перемены в структуре власти и ее аппарата, а на моральные качества государственных деятелей.
Об идеальном василевсе у византийских авторов сказано немало. Обычно при этом подчеркиваются четыре «главные» добродетели: мужество, целомудрие, мудрость и справедливость. Василевс должен быть подобен философу: не подвержен гневу, умерен, со всеми одинаково ровен, беспристрастен и милостив. Василий I был добрым семьянином, он заботился о благе подданных; Никифор II сохранял спокойствие даже под градом летевших в него камней; Василий II мог вспылить, схватив за бороду, бросить оземь лживого сановника, но был справедлив даже к врагам; Михаил IV Пафлагонянин тяжело больным сел в седло, возглавил поход и добился победы. Но главным достоинством василевса чаще всего объявлялось наличие у него "страха божия" (основы целомудрия), ибо моральная узда являлась единственным средством ограничения волеизъявления василевса. Недаром Лев VI говорил патриарху Евфимию, что если тот не вернется на патриарший трон, то василевс забудет страх божий, погубит подданных и погибнет сам.[4] Император, делящий с воинами тяготы походной жизни, мужественный и искусный в бою, вызывал уважение, но превыше всего ценились благочестие и благотворительность василевса.
Императорское благочестие старательно рекламировалось в расчете на популярность его имени. Однако даже несомненная искренность василевса не вызывала порою сочувствия, если над венценосцем тяготел смертный грех. Повинный в смерти Романа III Аргира Михаил IV должен был бы, говорит хронист XI в. Иоанн Скилица, порвать с императрицей Зоей, толкнувшей его на преступление, и отречься от престола, а не растрачивать казенные деньги на акты благотворительности.
Критика в адрес "божественных императоров" за их бездарность, самодурство и пороки звучала и ранее, в VI–IX вв.: Юстиниан II был подобен зверю в своей жестокости; Василий I в одиночестве со сладострастием расстреливал из лука отрубленную голову вождя павликиан Хрисохира; Константин VII без сострадания творил суд, а притомясь от ученых занятий, предавался пьянству. Александр погряз в разврате и недостойных забавах, как впоследствии и Роман II, и Константин VIII, и Константин IX Мономах. Хронисты XI в. пишут порой о василевсах не как о наместниках бога на земле, а как о заурядных и недалеких людях с их обычными иногда смешными слабостями: Константин IX Мономах прибегал к наивным хитростям, чтобы посетить любовницу, Никифор III Вотаниат признавался перед постригом в монахи, что более всего его пугает необходимость воздержания от мяса. Михаил Пселл, рассуждая о характере василевсов, приходит к выводу, что нрав их непостоянен, что по своим личным качествам они вообще уступают прочим людям. И философ полагает, что это естественно: человеческая психика трансформируется в буре тревог и волнений, переживаемых василевсом ежедневно. Василевсы утрачивают чувство меры. Им мало неограниченной власти, они глухи к советам, они готовы умереть, лишь бы добиться признания себя мудрейшими из мудрых, всесведущими и непогрешимыми. Изменились времена, сетует Пселл, демократия безусловно лучше монархии, но возвращение к ней нереально. Поэтому целесообразнее, по его мысли, не искать новое, а утверждать существующее. Жаль только, что правят ромеями не люди, подобные Фемистоклу и Периклу, а ничтожнейшие выскочки, еще вчера носившие кожух.[5]
*
Сомнения в праве василевса на неограниченную власть, на распоряжение землей, казной, людьми, на возвышение или унижение любого подданного по своему произволу, стали высказываться лишь с последней четверти XI столетия. Эти сомнения — результат все отчетливее формировавшегося классово-сословного самосознания консолидировавшейся феодальной аристократии, которая стремилась поставить трон под свой неослабный контроль.
Победа к потомственной феодальной аристократии пришла не сразу — стойкое сопротивление оказала сановная бюрократия, обладавшая огромным опытом господства и плотным кольцом окружавшая престол. Василевс мог менять любимцев среди ее представителей, но не был в состоянии обойтись без ее постоянной поддержки. Лев VI тяготился опекой временщика Стилиана Заутцы, но избавился от нее только после его смерти. Иоанн I Цимисхий также не сумел отстранить от управления Василия Нофа и, вероятно, пал его жертвой. В течение столетия — с конца Х до конца XI в. — удерживалось относительное равновесие сил в борьбе между провинциальной аристократией и бюрократией столицы.
Остановимся на этом несколько подробнее, так как на протяжении 120–130 лет эта борьба была стержнем политической жизни империи и причины ее обусловлены особенностями формирования господствующего класса империи.
Дело в том, что процесс консолидации классов и сословий в Византии был замедленным: со времени бурь, пережитых империей в IV–VII вв. и принесших гибель множеству римских магнатов и сановников, в систему управления силой обстоятельств непрерывно втягивались представители средних и низших сословий. Не богатство и родовитость становились условием получения власти, а власть одним из условий для приобретения богатства и статуса знатного лица. Понятия «чиновничество» и «знать» вплоть до середины XI в. оставались почти синонимами. Значительную часть господствующих верхов составляло высшее и среднее чиновничество, богатство и сила которого определялись занимаемой должностью в центральном аппарате власти или в провинциях. Положение чиновника прямо зависело от монаршей милости. Потеря места грозила не только крушением карьеры, но и резким падением материального благосостояния либо даже нищетой. "Вертикальная подвижность" проявлялась здесь особенно явственно.
Вторую группу составляла растущая в провинциях землевладельческая аристократия. Она созревала в недрах административных районов-фем, система которых стала развиваться с VII в. и распространилась на всю империю в начале Х столетия. Управление в них сосредоточивалось в руках стратигов представителей по преимуществу военной аристократии. Они постепенно превращались, в крупных землевладельцев по месту своей службы. Сознавая опасность этого процесса, центральная власть всячески стремилась ему препятствовать. Было, в частности, запрещено правителям фем приобретать недвижимость по месту службы. Но запрет не распространялся на военачальников, подчиненных стратигу, в том числе на его заместителя, который нередко впоследствии сам становился стратигом. Да и василевсы, нуждаясь в средствах, назначали порой на видные посты в фемах крупных местных магнатов, способных израсходовать часть личной казны при наборе и экипировке крестьянского ополчения.
С середины Х в. провинциальная аристократия начала борьбу за престол. Она обладала влиянием, богатствами, землями, зависимыми людьми; она организовывала военные силы и возглавляла их; она обороняла границы и расширяла владения империи. Но она стояла вдали от подножия трона. Не лишенная милостей василевса, она все-таки не имела возможности прямо воздействовать на его политический курс.
К тому же представители столичной бюрократии с конца IX-начала Х в. тоже стали превращаться в крупных землевладельцев. Сохраняя под своим контролем казну государства как основной источник доходов, чиновная знать выступала уже в качестве конкурента провинциальной аристократии в эксплуатации зависимого населения. Гражданское чиновничество оттесняло с XI в. военную аристократию и от фемного управления: падала роль крестьянского ополчения, а вместе с нею — и роль стратига. Главенство в феме переходило от ее военного распорядителя к судье фемы, вместо ополчения на арену выступало подчиненное непосредственно центру наемное войско.[6]
С обострением борьбы и приближением ее решающей стадии обе стороны прибегли к мобилизации всех своих резервов. Огромное значение в политических комбинациях и собирании сил приобрели родственные связи. Василевс опирался не только на своих приверженцев и соратников по их сословной принадлежности и политической ориентации, но и на широкий круг представителей своего родственного клана, обеспечивая ему основные материальные и должностные преимущества.
Свобода волеизъявления монарха становилась все менее бесконтрольной, а его изоляция от простых подданных — все большей. Амплитуда "вертикальной подвижности" заметно сократилась еще до 1081 г. — года окончательной победы провинциальной аристократатии, а со времени этой победы стала едва заметной. Трагедия империи состояла, однако, в том, что победа пришла слишком поздно Византия безнадежно отстала от передовых стран Запада. С одной стороны, косность изживших себя государственных традиций, а с другой — особенности внешнеполитической обстановки помешали провинциальной аристократии, пришедшей к власти, найти выход из тупика: история империи с конца XII в. стала историей ее затянувшейся агонии. Ближайшее окружение ставленников провинциальной аристократии, состоявшее из родственников и соратников, очень скоро обнаружило приверженность к традиционным методам господства, связанным с огромными расходами на содержание государственного аппарата.
*
Еще до победы провинциальной знати отдельные императоры пытались осуществить некоторые реформы, но получали то прямой, то замаскированный отпор столичной бюрократии. Пытавшийся урезать жалованье чиновникам Исаак I Комнин через два года был вынужден отречься от престола, пренебрегший интересами высших гражданских сановников Роман IV Диоген был отстранен от власти и уничтожен физически. Даже половинчатые реформы государственной системы разбивались о молчаливое сопротивление аппарата власти, саботировались, глохли; отработанный в течение веков механизм функционировал зачастую уже независимо от воли василевса.
Центральное управление концентрировалось в нескольких ведомствах-секретах: ведомстве логофета (управителя) геникона — главном налоговом ведомстве, ведомстве воинской кассы, ведомстве почты и внешних сношений, ведомстве по управлению имуществом императорской семьи и др. Помимо штата чиновников в столице, каждое ведомство имело должностных лиц, посылаемых с временными поручениями в провинции. Главную роль во внутригосударственной жизни играло первое из названных ведомств, от деятельности которого в основном зависело состояние казны империи.
Кроме того, в столице находилось ведомство эпарха, власть которого современники уподобляли царской — "только без порфиры". Он ведал снабжением Константинополя, заботился о его безопасности, благоустройстве, организации внутригородской и внешней торговли, поддержании порядка; он был также одним из главных столичных судей (его приговоры мог отменить лишь василевс), контролировал работу всех общественных учреждений, в том числе тюрем и полиции. Организация строительных государственных работ в городе, церемоний, празднеств, представлений на ипподроме, казней, похорон членов царской семьи также являлась обязанностью эпарха.
Наконец, существовали еще и дворцовые секреты, которые управляли непосредственно обслуживавшими царский двор учреждениями: продовольственными, гардеробными, конюшенными, ремонтными. Огромное количество слуг василевса сановников, прислужников и рабов — наполняло дворец, и каждый из них имел определенный круг обязанностей.
Василевс принимал сановников утром для разбора важнейших дел. Беседы удостаивались немногие, но явиться на поклон обязаны были все, кому полагалось по ритуалу. Синкелл (духовное лицо высокого ранга) Евфимий, впоследствии патриарх, тяготился этой обязанностью и испросил у Льва VI привилегию являться на поклон не чаще одного раза в месяц.
Иногда император созывал синклит, состоявший из внесенных в особый список высших светских и духовных сановников. Синклитиков были тысячи, но собирались лишь главнейшие из живущих в столице. В XI–XII вв. синклит стал по преимуществу парадным учреждением, выражавшим, как правило, восторг по поводу "мудрых решений" императора, что, однако, не мешало сановникам интриговать вне дворца, а порою и внутри него.
Назначение на должности (кроме самых низких постов) было связано с присвоением титулов-чинов. Чины делились в Х-XI вв. на четыре иерархически соподчиненных разряда; несколько чинов стояли особняком, вне разрядов, — это были высшие титулы (также иерархически соподчиненные). Присвоение титула сопровождалось особой для каждого случая церемонией с участием василевса. Обладатель титула получал точно установленные права и положенную носителю данного титула должность. Нормальным считалось постепенное восхождение по иерархической лестнице. Но все чаще в XI в., к огорчению одних и радости других, сановные персоны так же быстро возносились, как и скатывались вниз.
Должность титулоносителя бывала порой символической — он только участвовал в церемониях. Некоторые титулы присваивались как с назначением на должность, так и без назначения. В последнем случае руга была менее весомой. Для высших титулов (кесарь, новелиссим, магистр, анфипат, патрикий) не полагалось никакой особой должности, но они считались наиболее почетными.
Немало титулов и соответствующих должностей (главным образом дворцовых) предназначалось специально для евнухов. Духовные лица также имели право на получение ряда титулов.
Время от времени значение разных титулов падало или росло, некоторые из них вообще выходили из употребления, вводились новые титулы. Это была далеко не безобидная прихоть монарха: Пселл называл систему присвоения титулов одним из важнейших рычагов власти, наряду с выдачами денег из казны и содержанием войска.[7]
Особую роль в управлении, независимо от занимаемой ими должности и присвоенного им титула, играли упомянутые временщики (Заутца при Льве VI носил высокий титул «василеопатора» — "отца василевса", а Иоанн Орфанотроф при Михаиле IV был лишь попечителем сиротских домов). Такие доверенные лица после коронации василевса заново комплектовали весь или почти весь дворцовый штат, меняли сановников, распоряжались казной, владениями короны, решали судьбы армии, войны и мира. Иоанн I Цимисхий, проведший почти все свое недолгое царствование в походах, посетовал с грустью, проезжая мимо цветущих поместий на недавно отвоеванных им у арабов землях, что он лично и войско, терпят лишения, а все попадает в руки паракимомена (спальничего) Василия Нофа. Временщику донесли о высказывании василевса, и говорили, что именно за это неосторожное слово столь дорого заплатил василевс: вскоре он умер.
Всесильный советчик Михаила V Калафата, его дядя, евнух новелиссим Константин, черпал из казны полной горстью: после свержения Михаила в домашнем тайнике новелиссима было найдено около полумиллиона золотых монет. В присутствии временщика Феодора Кастамонита придворные не осмеливались садиться, будто в присутствии самого императора Исаака II Ангела.
*
Существенную эволюцию претерпело управление провинциями. До середины XI в. главную роль в феме играл ее стратиг, которому были подвластны все прочие военные и гражданские чины провинции, в том числе судья фемы и начальники более мелких административных единиц фемы: банд, турм, клисур. Фемы имели разные ранги в соответствии с их значением для государства — отличались поэтому по рангам и стратиги. Со второй половины XI в. важную роль в феме, как было упомянуто, начал играть судья. Границы самих фем стали нечеткими, фемы часто дробились или укрупнялись.[8] Стратиг укрупненной, обычно пограничной, фемы (его называли дукой, или катепаном) сохранял большие полномочия. Что же касается мелких, отдаленных и бедных фем, то назначение туда на пост стратига или судьи рассматривалось как ссылка (нередко это соответствовало действительности).
Помимо крупных собственников, обладавших в провинциях официальными должностями, существовало немало магнатов, которые не находились на постоянной службе. Тем не менее их влияние в феме порой было не меньшим, чем влияние ее официального правителя: магнаты имели множество зависимого и подвластного люда, свои укрепления и свой военный отряд. Варда Склир, когда его мятеж был подавлен, в доверительной беседе с Василием II советовал изнурять провинциальных магнатов налогами и службой, чтобы у них не оставалось времени для забот о хозяйстве, позволявшем богатеть и усиливаться.[9]
И все-таки в XI–XII вв. основное богатство даже провинциального магната заключалось не в земельных владениях, а в движимом имуществе: деньгах, благородных металлах, драгоценных камнях, дорогой утвари, ювелирных изделиях, богатых одеяниях, оружии и доспехах.[10] Земля, зависимое крестьянство, арендаторы, слуги и челядь обеспечивали магнату политический вес и влияние. Но главным источником поступлений в его личную казну были государственная руга, воинская добыча и дары василевса.
Казна же государства перманентно то наполнялась благодаря усилиям одних императоров, то почти начисто опустошалась вследствие расточительства других. Сановники соперничали друг с другом в стремлении нажиться за счет казны, вымогая у василевса дары и льготы и доходя порою до рукоприкладства в борьбе за титулы и подачки. На пасху в столицу съезжалась высшая гражданская и титулованная военная знать провинций — ругу раздавал сам василевс в исполненной торжественности обстановке: благо подданного зависело от монаршей милости.
*
В Византийской империи организация власти, хозяйства и быта была основана на писаном законе. Справедливо, однако, замечание П. Безобразова, что в истории Византии не понять ничего, если не различать теорию и практику провозглашаемые законом нормы и их соблюдение.[11] Так, закон признавал всех граждан империи (кроме рабов) свободными — а личная зависимость париков была распространенным явлением уже в конце XI в.; закон объявлял церковное имущество неприкосновенным — а оно изымалось неоднократно; закон утверждал всеобщее равенство в суде — а бедняк нигде не мог найти защиты; закон грозил лихоимцам, налоговым сборщикам, тяжкой карой, — а они процветали.
Именно здесь, в деле взимания налогов, противоречие между законодательной нормой и ее соблюдением проявлялось особенно ярко. В разные эпохи деятели империи объявляли «нервом» то деньги, то войско ("нервом" при этом называли то, в чем была недостача: в Х-XI вв. недоставало воинов, а в XII-денег). Налаженное денежное хозяйство, органически сросшееся с государственной системой, Византия унаследовала от Поздней Римской империи. Каковы бы ни были пути эволюции экономической структуры византийского общества, деньги оставались всеобщим средством обмена и выражения стоимости в империи. Это в целом прогрессивное явление, в развитии которого по понятным причинам Византия опередила прочие страны Европы, имело именно поэтому и тяжелые для нее последствия: ее денежные богатства, без запасов которых, как говорил Алексей I, "ничего нельзя сделать", непрерывно утекали в окружающие империю менее развитые, близкие и далекие страны, которые в силу пассивного торгового баланса Византии (она всегда больше покупала, чем продавала) приобретали ее монету и пускали в обращение или использовали в качестве украшений.
Василий II, который, по словам Пселла, наполнил казнохранилище до краев (пришлось даже расширять подземные галереи), запретил вывоз денег за границу, опасность чего, вероятно, хорошо понимал.
Когда Алексей I занял престол, казна была пуста. Неизвестно, однако, какая сумма в подвалах казначейства считалась минимально необходимой для удовлетворения потребностей государства. Сведения источников на этот счет крайне противоречивы.
Во время поездки Михаила IV в Фессалонику Орфанотроф послал ему из столицы 72 тыс. номисм. Много ли это? Как будто нет: эта сумма являлась лишь добавкой к расходам, которые в соответствии с целями путешествия василевса (поклонение мощам св. Димитрия) не должны были быть большими. Но это вместе с тем как будто и много: когда корабль с этими деньгами попал в руки жупана (правителя) Дукли и тот отказался их вернуть, началась война. Скромным даром германскому императору Анна называет сумму в 144 тыс. золотых и 100 шелковых одеяний. Но это был лишь залог: если бы немцы выступили против Роберта Гвискара, Алексей I послал бы еще 216 тыс. номисм в качестве руги за 20 высоких титулов, пожалованных им германскому повелителю.
При острой нехватке денег в переплавку отправлялась дорогая дворцовая утварь, а также ценности, принадлежавшие лично василевсу и его родственникам, порой — и церковные вещи, что всегда вызывало конфликты с духовенством и осложняло внутреннюю обстановку.
В XI в. денежным налогом заменяли последние натуральные подати и даже воинские повинности значительного слоя крестьянства. Еще в начале Х столетия славяне Пелопоннеса откупались от военной службы. Через полвека они, например, вместо участия в походе в Лонгивардию уплатили в казну 7,2 тыс. номисм и выставили тысячу оседланных коней.
*
Нередко, видимо, сельское и городское население (особенно — некрупных городов) уплачивало одинаковые налоги: горожане занимались и земледелием, а ремесленное производство имелось и в деревнях. Однако были и существенные отличия: ремесло, как и торговля, сосредоточивалось в основном в городах. Горожане-портные шили в порядке повинности паруса для грузовых и военных судов государства, лоротомы (кожевники) изготовляли сбрую и седла для императорских конюшен и гвардейских отрядов, серикарии ткали шелка для дворца (к этому занятию привлекались даже обитательницы гинекеев знатных семей). Некоторые ремесленники платили только налоги (булочники), другие выполняли только повинности (лоротомы), третьих обязывали платить налоги и выполнять повинности (таких было большинство).
Как правило, размеры налогов и повинностей для сельского населения были более значительными, чем для городского. Лишь в отдельные периоды в этот общий курс правительственной политики вносились некоторые коррективы: Никифор II Фока, стремясь укрепить и реформировать армию, снизил налоги с зажиточных крестьян, служивших в тяжелой коннице, заявив, что с них довольно "налога крови".
Чрезвычайная сложность подсчета, обмера и оценки имущества и невежество крестьян усугубляли тяжесть их положения. Для отдельных крестьян норма обложения могла оказаться несправедливой вследствие некоторых официальных предписаний властей. Например, анаграфевс (оценщик имущества) имел право подсчитывать площадь участка неправильной формы (на пересеченной местности такие участки встречались сплошь и рядом), основываясь на длине периметра. Длина периметра делилась на четыре (получали сторону мыслимого квадрата) и результат умножали сам на себя — произведение и принимали за площадь участка. Сохранилось несколько грамот, в которых именно так подсчитаны размеры треугольных и сильно вытянутых ленточных участков — их площадь при этом (а значит, и сумма налога) совершенно «законно» завышена в полтора-два раза.[12]
Настоящим бедствием для налогоплательщиков была система откупа налогов и продажи государством должностей, связанных со сбором налогов. Правительство то отменяло эту систему (народ восставал, требуя ее отмены), то вводило ее снова. Частное лицо — откупщик или покупатель должности налогового сборщика — вносил в казну или обязывался внести определенную сумму денег — обычно большую ранее поступившей с откупаемого налогового округа или собранной занимавшим там официальный пост сборщика государственным чиновником. Взамен это лицо получало право при сборе налогов с откупленной им территории прибегать к помощи полицейских властей. Его легальным правом признавалось получение за счет налогоплательщика определенной прибыли сверх суммы, затраченной им на откуп. Откупщик часто занимал под проценты требовавшиеся для откупа деньги у ростовщиков, и эти проценты он также погашал, взимая с налогоплательщиков намного больше официально установленного ранее налога. Кекавмен писал, что немало домов в столице выросло благодаря откупу налогов. Как и налоги, можно было откупить у фиска право на сбор казенных пошлин с купцов, своих и иноземных. Ученые давно пришли к единому мнению, что в Византии главным бедствием для населения было не количество разнообразных налогов и их размеры, а произвол практоров (налоговых чиновников).
Невообразимую путаницу в исчисление налогов вносил выпуск монет иной пробы, чем ранее. Их соотношение с прежними монетами определялось не всегда точно. Правительство пыталось установить принудительный курс новой монеты. Рынок отвергал этот курс, и налоговые сборщики были вынуждены, не имея точных указаний, каждый по-своему определять новый размер налога. В указе императора (Алексея I) сообщается, что некоторые практоры взимали при этом почти в десять раз больше, чем другие.
Иногда налог взимался практором отдельно с каждой семьи, иногда — со всей общины, которая на своей сходке распределяла общую налоговую сумму с деревни или провинциального городка. Такие сходки всегда проходили бурно. Даже местному влиятельному магнату Кекавмен советовал не соглашаться на роль арбитра в таких делах.
При взыскании налога практоры, являвшиеся в деревню со стражниками, прибегали порой к физической расправе: от XI в. сохранилось судебное дело о практоре-вымогателе, который даже пытал налогоплательщика огнем и кипятком. Обобранные практорами афиняне, сообщал брат Никиты Хониата — митрополит Афин Михаил Хониат, — не могут дождаться нового урожая ячменя — они ходят по своим полям, обрывая незрелые колосья и губя хлеб на корню; страшно смотреть на их изнуренные голодом потемневшие лица. По его словам, лишь местный судья вымогает с них до 720 номисм, а было много и других, чином пониже; кроме того, нередко является заезжее начальство и устраивает пиршества за счет поселян.
Правительство, заинтересованное в сохранении платежеспособности налогоплательщиков, иногда устраивало ревизии и карало практоров-лихоимцев, но тут же само прибегало к откупам и продаже должностей сборщиков налогов, надеясь на рост поступлений денег в казну. Никита Хониат считал, что из сумм, собранных в качестве налога, едва ли половина доставалась казне. А денег государству требовалось все больше и больше и прежде всего на военные нужды.
В IX–XI вв. вооруженные силы империи состояли в основном из крестьянского ополчения каждой фемы, периодически созываемого для учений и походов. Теоретически, как это отмечалось в трактатах о воинском искусстве стратегиконах, хорошо обученный и обеспеченный воин-соотечественник (ромей) должен был быть надежнее в бою воина-наемника — пришельца и чужеземца. Но стратиотское ополчение в империи выродилось уже к середине XI в. Сохранилась лишь его меньшая часть, комплектовавшаяся из состоятельных крестьян. В тяжелой коннице служили мелкие вотчинники. Прочие стратиоты постепенно обретали новый статус: часть их переводили в разряд военных моряков, часть зачисляли в легкую пехоту, а большинство вносили в списки простых крестьян-налогоплателыциков.
Военная служба представителей зажиточной семьи начиналась в 18 лет. Земля этой семьи находилась под контролем военного ведомства. Если отец-воин погибал или умирал до достижения сыном призывного возраста, вдова порой выставляла наемного воина; то же делала она, когда не имела сыновей, чтобы ее земля не потеряла военного статуса, дававшего ряд преимуществ.
С обнищанием стратиотов казна все чаще оказывалась вынужденной выплачивать им ситиресий (или опсоний — денежную плату и натуральное довольствие). Расходы возросли также в связи с переносом центра тяжести на наемное войско из иноземцев и свободных наемников-ромеев. В новых условиях боеспособнее оказались хорошо оплачиваемые наемные войска, как, например, русско-варяжские, франкские, итальянские и германские соединения, находившиеся в византийской армии уже с конца Х в. Однако плата не всегда удовлетворяла и своих и иноземных воинов, особенно в правление василевсов, представлявших интересы столичной знати. При Михаиле VII, например, расквартированное у Адрианополя войско направило к василевсу посланцев с жалобой, что оно не получает опсония, но жалобщиков избили и обобрали. По той же причине восстало войско на Дунае. Скудное содержание вело к падению дисциплины. Никифор Вриенний, муж Анны Комнин, рассказывает в своем сочинении, как все войско тайком от стратига (им был юный Алексей Комнин) решило бежать из лагеря — и бежало ночью, не оставив своему военачальнику даже коня. Мануил I Комнин нередко отдавал приказ верным людям стеречь ночами все выходы из лагеря, грозил воинам ослеплением за дезертирство, но стратиоты все равно покидали войско.
Особенно быстро росло число наемников в XI в. Это были и крещеные арабы, и армяне, и грузины, и печенеги, и половцы, и аланы, и пришельцы с Запада. С 70-х годов XI в. появились среди них и турки. Наемники-иноземцы прибывали в империю и поодиночке, и группами в несколько сот человек, как, например, русские и варяги. Армяне и грузины приходили иногда на зов василевса воинскими соединениями и играли крупную роль в военных действиях в Малой Азии. Изредка империя нанимала целую армию у правителей иных стран. Но это было и дорого и опасно. Болгарское войско, позванное василевсом для подавления восстания Фомы Славянина, получив плату, на обратном пути грабило местное население. Войско Святослава, приглашенное Никифором II для ведения совместной войны с болгарами, всерьез стало угрожать самой Византии.
Анна Комнин считала, что закованные в броню западные рыцари непобедимы. Глядя на сражающегося Никифора Катакалона, пишет она, его можно было принять "за уроженца Нормандии, а не ромея" — так он был могуч и искусен. Мануил I, по словам Никиты Хониата, знал, что воины-ромеи подобны "глиняным горшкам", а западные наемники — "металлическим котлам". Исаак II, несмотря на нищету отечественных воинов, отдавал захваченных на войне коней не им, а наемникам с Запада, так как они лучше действовали тяжелым копьем — вооружением конника. Обидеть иноземных наемников было гораздо опаснее, чем стратиотов-ромеев. Василевсам не раз приходилось подавлять их грозные бунты, а затем идти на серьезные уступки.
Особые отряды воинов, находившихся на службе у магната, которые появились уже в Х в., ни тогда, ни впоследствии не превратились в настоящее войско, с которым феодалы могли бы, как на Западе, участвовать в походе государя-сюзерена. Магнат шел в битву с небольшим собственным отрядом оруженосцев, полувассалов, слуг и родственников. Такие отряды не играли серьезной роли в сражениях. Вассалитет не стал в империи развитой и всеобщей системой.
Не избавила империю от необходимости содержать большое наемное войско и система так называемых проний, которая стала развиваться во второй половине XII в. Пронии — пожалования императора в пользу частных лиц, заключающиеся в передаче им права управлять определенной территорией с государственными и свободными крестьянами и собирать с них налоги в свою пользу.
Помимо сухопутных сил, империя имела также военный флот: провинциальный, используемый в основном для сторожевой службы, и центральный — царский, игравший главную роль в крупных экспедициях. Кроме того, на побережье Малой Азии и на островах находилось несколько морских фем, население которых содержало сильный военный флот и несло преимущественно морскую службу в качестве гребцов и военных моряков.
Военный флот Византии переживал эпохи взлета и падения. В середине VII в. Константин V смог послать в устье Дуная для ведения действий против болгар до 500 судов, а в 766 г. — более 2 тыс. Сильным оставался флот и в Х в. Ужас на врагов наводил "греческий огонь". Выбрасывался он из сифонов, устроенных в виде бронзовых чудищ с разинутыми пастями. Сифоны можно было поворачивать в разные стороны. Выбрасываемая жидкость самовоспламенялась и горела даже на воде.
Военные парусные суда имели и экипажи гребцов. Наиболее крупные корабли (дромоны) с тремя рядами весел были быстроходны и брали на борт до 100–150 воинов и примерно столько же гребцов.
Со второй четверти XI столетия стали проявляться первые признаки упадка военного флота. Успехи норманнского вторжения из Италии в начале 80-х годов XI в. побудили Алексея I принять срочные меры к возрождению флота. Особенно много судов строили в столице. Смолили и оснащали их главным образом на острове Самос. Но и этот наспех выстроенный флот не смог помешать высадке Роберта Гвискара, и василевс прибег к услугам венецианцев, заплатив им чрезвычайными торговыми привилегиями в империи, что губительно отразилось как было рассказано в первой главе, на развитии отечественного ремесла и торговли.
В конце XII в. византийские военные моряки пускались в бегство, едва завидев вражеские корабли. Глава царского флота Михаил Стрифн, зять императора, открыто торговал снаряжением: парусами, якорями, канатами. Ко времени подхода крестоносных флотилий к Константинополю весной 1203 г. бывшая "владычица морей" практически своего военного флота не имела.
*
Военные силы империи использовались не только для борьбы с внешними врагами, но и с внутренними: узурпаторами, посягавшими на трон василевса; угнетенными крестьянами и горожанами, поднимавшими восстания; иноплеменными подданными, стремившимися отделиться от империи. Однако не одно прямое насилие обеспечивало прочность власти василевса. Режим византийской деспотии поддерживался и с помощью постоянной идейной обработки ромейских подданных, которой ежедневно занималась не только церковь, но и вся официальная правительственная пропаганда. Императора славили всюду. Принимаемые в торгово-ремесленные корпорации должны были клясться богом и здоровьем василевса. В праздники специальные гимны в его честь распевали перед народом цирковые партии. Толпе на улицах и площадях следовало выкрикивать хором «здравицу» и «славу» василевсу. Этой церемонии придавалась даже некая «конституционная» функция: василевс в нужном случае мог сослаться на то, что он избран также народом и ему угоден.
Формулы приветствий отрабатывались во дворце и были порой исполнены тайного смысла: например, упоминание о Константине (сыне Михаила VII) и Анне Комнин сразу после имени Алексея I означало, что юные обрученные прочатся в наследники престола, а умолчание о них после рождения у василевса сына Иоанна показывало, что Константин и Анна уже не наследники. Возглашение и славословие являлись актом и признания и клятвы на верность одновременно.
Хронист, спустя много лет после смерти василевса, позволял себе хулить его, мог порицать его и ромей в тесном кругу семьи и друзей (Кекавмен строжайше запрещал это своим сыновьям), но на людях, на площадях и улицах, в реляциях и указах, громко читаемых народу на рынках и у церквей глашатаями, с церковного амвона византиец привыкал слушать лишь славословие василевсу.
Говоря о демагогии как важном средстве укрепления власти, Скилица заметил, что Михаил VI Стратиотик был на этот счет «бесталанен»: не умел «опутывать» оскорбленных и затаивших гнев в душе.[13] Василевс мог распорядиться жизнью любого подданного, но и он был вынужден мотивировать свои поступки, и демагогия обычно предшествовала аресту и ссылке видного лица, если на это не имелось законных оснований. Задумав низложить патриарха Михаила Кируллярия, Исаак I поручил Пселлу оклеветать его в обвинительной речи, а когда патриарх внезапно умер, — прославить почти как святого в официальной эпитафии-панегирике. Решив свергнуть патриарха Алексея Студита и сесть на престол, временщик Орфанотроф обвинил владыку в неканоническом избрании: Алексея действительно назначил Василий II без соблюдения должного ритуала. Но на этот раз не помогли ни каноны, ни демагогия: Алексей потребовал низложить также всех рукоположенных им митрополитов и епископов, коль скоро он сам патриарх «незаконный». План Орфанотрофа рухнул.
Победа над врагами, внешними и внутренними, сопровождалась празднествами в столице и на ипподроме — триумфом: провозили трофеи, проводили связанных пленников (они шли под градом насмешек, плевков, брани, порой ударов). Имя василевса славили непрерывно. Когда-то, в IV–VII вв., ипподром был в Византии единственным местом, где народ мог легально выразить свое отношение к политике императора. Не раз именно здесь василевс выслушивал тяжкие обвинения и брань, а иногда в него с трибун летели камни и комки грязи. Но к IX-Х вв. положение резко изменилось: цирковые партии, ранее причастные к политике и тесно связанные с массами горожан столицы, были постепенно низведены до положения особых служб при ипподроме, подчиненных эпарху, обязанных организовывать зрелища и в гимнах славить василевса в ходе каждой церемонии и каждого праздника.
Порочащие василевса слухи (о склонности к ереси, о неполадках в семье, о тайных пороках) жестоко пресекались. Алексей I, пишет Анна, терзался душой, узнав о сплетнях на свой счет. Василевс понимал, что сплетни исподволь создают атмосферу, содействующую враждебной агитации оппозиционных групп, и, уходя в поход, поручил брату Исааку охранять дворец и искоренять слухи, а по возвращении устроил в синклите разбор дела о «клеветниках».
Но не только слухи были средством тайной борьбы — появлялись и антиправительственные сочинения. Нацеленные против василевса короткие, часто иносказательные, "тайный листки" назывались фамусами. Иногда фамусы подбрасывали самому василевсу, чтобы испугать его или дезориентировать. Закон повелевал сжигать фамусы, а их сочинителей подвергать жестоким карам. За крамольные идеи был приговорен к казни, замененной ослеплением, поэт XII в. Михаил Глика, хотя он и заверял императора, что "стихов коварных не писал и выполнял повинность". Столетием раньше Константину IX весьма подозрительной показалась хроника, написанная другим поэтом, Иоанном Мавроподом: василевс повелел ее сжечь, а автора сослать.
Политическая благонадежность подданного ассоциировалась прежде всего с верностью законному василевсу, православию и державе. «Тактика» Льва VI Мудрого предписывала при назначении на пост стратига и на посты иных военачальников строго учитывать, доказали ли кандидаты свою преданность Романии. Верными людьми, видимо, никак нельзя было признать тех, кто осмеливался не только высказывать критические замечания, но даже давать правдивую информацию о подлинных причинах какой-либо неудачи. Недаром Кекавмен внушал сыновьям, что успешную карьеру делает обычно тот, кто всегда говорит василевсам лишь "к их удовольствию" или помалкивает и "смотрит вниз". Исаак II Ангел потребовал, например, отчета у полководца о ходе войны с болгарами. Тот коротко ответил и добавил, что ведущие трудную войну войска плохо снабжаются. Исаак II приказал ослепить смельчака.
Верность и моральная безупречность подданного предполагали безусловное согласие во всем с василевсом, неукоснительное законопослушание и беспрекословное повиновение властям, от высших до низших. Заподозренного в несоблюдении этого кара могла постигнуть в любой момент. Вина Мономахата лица знатного — была весьма сомнительна, но Никифор III Вотаниат покарал его, заявив предварительно в синклите: "Я подозреваю в этом Мономахате врага ромейской державы".
*
Византия сохранила римское право и основы римского судопроизводства. Суд в стране осуществлялся в основном представителями государственных учреждений. В провинциях его творили фемные судьи и другие чиновные лица в соответствии с их должностными функциями (дела, связанные с уплатой налогов, могли решать практоры; правонарушения воинов разбирали войсковые судьи; до середины XI в. суд стратига являлся высшей судебной инстанцией фемы). Множество дел, связанных с семейными неурядицами и разделами имущества, решал церковный суд (судил митрополит или епископ).
В столице, помимо суда эпарха и самого императора, действовал особый суд на ипподроме (его называли также "суд вилы"), имелся специальный суд для моряков — "суд фиалы" (у его здания находился бассейн-фиала). Как говорится в «Эклоге», законодательном кодексе VIII в., в империи столь много законов, что даже в столице мало судей, которые их хорошо знают. Поэтому в разное время для судебного разбирательства были изготовлены краткие обозрения и выборки сборники законов. Особой популярностью в IX–XII вв. пользовались сборники, называвшиеся «Василики» и «Прохирон». Судебным руководством могли служить также сборники решений по разным делам, вынесенных известным судьей ("Пира", или «Практика», Евстафия Ромея — XI в.). Незнание преступником закона, даже если правонарушитель был невежественным «варваром», т. е., иноземцем, не смягчало вины.
Константин VII в своих указах проводил мысль, что всякий закон, будучи однажды издан, должен оставаться незыблемым. Пселл утверждал, что "хорошо управлять" царством можно, лишь досконально зная все действующие законы. Он обвинял Василия II в том, что тот правил по "неписаным законам", пренебрегая знаниями ученых юристов. Однако и отец Константина VII — Лев VI — и другие василевсы умели не только вводить новые законы, но и отменять устаревшие. В частности, Лев VI, завершивший строительство здания византийской монархии, отменил среди прочих как «бесполезный» закон, приобщавший синклит к законодательству, ибо с утверждением единовластия "обо всем печется сам император".
Этот же император провозгласил право любого подданного, недовольного судебным решением, апеллировать к самому императору. Суд василевса и патриарха был последней, высшей инстанцией. Разумеется, василевсы не часто лично разбирали судебные тяжбы. Но бывали среди них и склонные к этому занятию: Константин VII, по словам Скилицы, предпочитал "самое легкое" из монарших дел — суд и судил без милосердия; любил разбирать тяжбы и Константин Х Дука, при котором тюрьмы были переполнены должниками казны, а военные с готовностью меняли меч и щит на судейские и адвокатские мантии, так как не защита ромеев на поле брани, а защита их в суде или, напротив, осуждение приносили гораздо больше выгод.
Судопроизводство включало следствие, доказательство обвинения с привлечением свидетелей, адвокатскую защиту, вынесение приговора и апелляцию к суду более высокой инстанции. Достойными веры свидетелями признавались лица, имущество которых оценивалось не менее чем в 50 номисм. Свидетели «безвестные» в целях познания истины подвергались порке или пытке. Женщинам по указу Льва VI в праве свидетельствовать было отказано (василевс "пощадил их стыдливость"). На суде в городе требовалось по закону пять-семь свидетелей, в деревне — три-пять. Большое значение придавали на суде присяге и клятвам истца и ответчика. Иногда истец прекращал дело, как только с него требовали присягу. Так поступил, например, некий Иоанн Ивирица в середине XI в., пытавшийся оттягать участок, давно проданный его предками.
В византийском суде скапливалась масса нерассмотренных дел. Алексей I говорил в своей новелле (указе), что "тяжущиеся бесперечь подают апелляции", затягивают дела и «докучают» самому императору. В 1166 г. Мануил I признавал, что многие ведут тяжбы до глубокой старости, так как не могут дождаться от суда решения дела — суд часто закрывается под предлогом праздников. Василевс резко сократил число «нерабочих» дней для судов.
При решении серьезных дел суд иногда приглашал софиста, или ритора, который, выслушав дело и решение по нему, должен был придать тексту документа ясную и четкую форму. Чем быстрее ритор диктовал судейским писцам текст приговора, тем он считался искуснее. Славился этим искусством Пселл — писцы за ним не поспевали.
Уже в «Эклоге» подчеркивалось, что только выплата из казны постоянного жалованья может уменьшить число несправедливых приговоров. Стали платить жалованье вместо взимавшегося ранее гонорара с истцов. Но случаев неправого приговора было по-прежнему много. Лев VI, упомянув об этом, даже взял судей под монаршую защиту: они выносят неверные решения не из прихоти и не из корысти, а из страха перед могущественным истцом или ответчиком. Высокая плата за документ с решением суда была причиной того, что тяжущиеся довольствовались выслушиванием приговора, и тяжба вскоре возобновлялась, так как каждая сторона трактовала воспринятое на слух в свою пользу. В "Книге эпарха" сказано, что при оформлении деловых сделок на сумму до 100 номисм адвокат-нотарий получает 12 кератиев (полномисмы, т. е. 0,5 % от суммы сделки). Такой же процент отчислялся в пользу адвоката и при сделках на 200 номисм, а со сделок на более значительную сумму адвокату полагались две номисмы. Нарушивший эти нормы лишался кафедры, но он мог получать и больше, не боясь изгнания из корпорации, однако… только в качестве дара.
Принятый законом порядок судопроизводства сплошь и рядом не соблюдался в отношении политических преступников: их сажали в тюрьму и ссылали без всякого суда, по приказу василевса или эпарха. С того момента, как был провозглашен указ Алексея I (приводить в исполнение приговор суда через 20 дней после его вынесения), простолюдин практически уже не имел возможности пожаловаться василевсу. В XII в. нельзя было надеяться на получение приема у императора без связей при дворе и без даров дворцовым служителям.
Суровость светского суда, лихоимство его чиновников сделали среди поселян весьма популярным более быстрый, дешевый и снисходительный церковный суд. Это было выгодно и церкви (она получала доход от решения дел, не совсем входивших в ее компетенцию). Митрополит Навпакта творил суд в деревне, разбираясь в том, сколько телег урожая украдено, сколько нив ослы потравили, у скольких из них были при этом отрублены хвосты. Митрополит разводил супругов, рассматривал дела о наследстве и даже об убийстве.
Разумеется, при судах имелись стражники, палачи, тюремщики. Главная тюрьма в Константинополе находилась рядом с ведомством эпарха, на Месе, между форумом Константина и Августеоном. Полицейские функции исполнялись штатными и нештатными служителями эпарха. Трапезиты (менялы — члены корпорации) хватали «диких» менял и фальшивомонетчиков (за нерадение самому трапезиту-меняле могли отрубить руку), салдамарий должен был знать, не копит ли кто продовольствие, вофр выслеживал тех, кто на рынке продавал краденых коней, аргиропрат наблюдал, не ведут ли торг драгоценностями женщины, кируллярий незаметно принюхивался, не пахнет ли от свечей коллег бараньим или иным жиром.
Кроме того, в империи был отлично налажен тайный сыск, всеми делами которого руководили непосредственно из дворца и главной целью которого было обеспечение безопасности государя. Дворец был крепостью. Никифор II обнес его прочной стеной. Мраморный вестибюль, ведший из Большого дворца на площадь Августеон, отделялся от нее сооружениями с коваными воротами (Халка). Во дворце имелись запасы оружия и продуктов на случай осады. Тайные агенты действовали не только в столице, но и в провинциях. Пселл пишет, что Орфанотроф имел всюду "многоглазную силу", от которой невозможно было укрыться. Кекавмен с детства втолковывал детям, что главное — осторожность и оглядка. Не поминай вообще имени василевса и царицы, предупреждал он сына, не ходи на пирушку, где можешь попасть в дурную компанию и быть обвиненным в заговоре, не устраивай пиров сам — легко сболтнуть лишнее слово, не рассуждай в присутствии важного лица, молчи, пока не спрашивают, не порицай поступки начальников, не то тотчас скажут, что ты "возмутитель народа". Он лично, заключает Кекавмен, видел немало виновных оправданными, а невиновных осужденными на смерть.
Даже незаподозренный сановник, сознавая, что провинился перед василевсом, иной раз не выносил напряженного ожидания разоблачения — и постригался в монахи. Сохранилась книжная миниатюра, на которой показано, как, укрывшись за занавесями в частном доме, служители тайного сыска записывают ведущуюся рядом беседу домочадцев.
Донос и клевета в таких условиях частенько торжествовали победу. Завистливый сановник сочинял от имени своего соперника письмо к врагу василевса (мятежнику, иноземному правителю) и подбрасывал в вещи хозяина. Следовали донос, обыск и обнаружение «неопровержимой» страшной улики. Либо «друга» любезно приглашали для доверительной беседы в помещение, где за ширмой сидел царский скорописец (а иногда и сам василевс), а разговор такой «приятель» умело направлял в нужное русло. Анна Комнин с восторгом рассказывает о «мудрости» отца, который сам поймал с поличным ересиарха Василия: притворясь приверженцем учения вождя богомилов и позволив старцу высказаться, василевс встал и отдернул занавес, за которым сидели его грамматики.
Ответственность за послушание подданных и спокойствие в провинции василевсы возлагали и на церковнослужителей. Константин VIII после восстания населения Навпакта против корыстолюбивого стратига приказал ослепить епископа города, мотивировав наказание тем, что епископ не сумел удержать свою паству от мятежа. Примерно через полтораста лет точно так же при подобных обстоятельствах поступил Андроник I Комнин с епископом Лопадия. Поэтому епископы иногда приказывали хватать в своей епархии заподозренных в заговоре и отправляли их в столицу. Доставляли государственных преступников по дорогам ведомства дрома, на сменных почтовых лошадях. Особо опасных заворачивали в сырую бычью шкуру. Ссыхаясь, она становилась надежнее цепей.
Следствие над государственными преступниками велось, когда они находились уже в тюрьме. Пытка в таких случаях была обычной при допросах: знатного освобождали от нее, если он совершал лишь уголовное преступление. Константин Диоген, повинный в заговоре (этот видный полководец был отцом Романа IV), не вынес пыток, которыми руководил Орфанотроф, и разбился насмерть, бросившись во время прогулки со стены Влахернской тюрьмы. Василий Петин при Романе II и Лев Ламброс при Константине IX сошли с ума от пыток, а Роман Стравороман скончался под пытками.
Наиболее мягким наказанием был запрет опальному вельможе покидать свои поместья и появляться в столице, а также домашний арест: Анна Комнин при Иоанне II и Мануиле I Комнинах (при брате и племяннике) просидела под домашним арестом более 30 лет, занимаясь науками и сочиняя «Алексиаду». Часто практикуемой мерой наказания была ссылка. Иногда она имела замаскированную форму: виновного или неугодного засылали на официальный пост в отдаленную провинцию. Но обычно сосланный томился под стражей на каком-либо острове или в захолустье, причем стражники получали право убить сосланного при попытке к бегству. Ссылка такого рода чаще всего сопровождалась конфискацией имущества в пользу казны, василевса и доносчика. Ссылали нередко также членов семьи и даже дальних родственников преступника, поэтому иные спешили укрыться в монастыре, не ставя под удар родственников и детей.
Не совсем понятным официальным видом наказания было насильственное пострижение в монахи. С одной стороны, пострижение, связанное с отрешением от мирских благ, объявлялось добровольным духовным подвигом. С другой стороны, постриг сделали карой, навсегда лишавшей виновного радостей земной жизни. Это противоречие волновало и современников: патриарх Евфимий упрекал временщика Стилиана Заутцу в том, что тот, часто прибегая к пострижению врагов в монахи, превратил "святую схиму… в наказующий меч".
Серьезной каре (ссылке, ослеплению, казни) обычно предшествовало всеобщее поругание. Преступнику остригали волосы, бороду, брови, даже ресницы, возили его затем по городу и по ипподрому на осле, верблюде или быке (лицом к хвосту). Иногда на него набрасывали мешок, надевали рубаху без рукавов, на шею вешали «ожерелья» из бычьих и овечьих кишок, на голову водружали такие же «короны». Впереди, потехи ради, шествовали жезлоносцы с глумливыми песнями и славословиями. Дочери и жены царей выходили на балконы посмотреть на такое зрелище: его организацию поручали порой скоморохам и мимам как опытным режиссерам забав.
Тюрьмы содержало государство. В тюрьму сажали политических преступников, особо опасных рецидивистов и несостоятельных должников. Дебоширов и гуляк за мелкие проступки просто пороли на месте без суда и разбирательства. Бедняка византийская бюрократия предпочитала карать смертью, отсечением носа, руки, оскоплением, каторгой, поркой, штрафом, изгнанием из города — ей было невыгодно кормить, поить и одевать вместо того, чтобы получать с простолюдина налоги.
Глика пишет, что к нему на дом явился посланец василевса и препроводил его в тюрьму по названию Нумеры — темницу, "страшнее Аида" (подземного царства), ибо заключенные не видели во мраке лиц друг друга. Попавший в тюрьму нередко навсегда оставался в ней. Андроник I морил голодом в тюрьмах даже женщин, причастных к политике. «Поумирали» в тюрьме и «апостолы» ересиарха Василия, хотя получали пищу, заверяет Анна. Разведчик Алексея I, засланный в лагерь Лжедиогена, прикинулся беглым из тюрьмы: для этого он обрезал бороду и волосы и нанес себе множество ран и ссадин.
Фальшивомонетчиков, трапезитов, плохо исполнявших полицейские функции, аргиропратов, примешивавших к золоту иные металлы, карали отсечением руки, прелюбодеев — отсечением носа, виновных в скотоложестве — оскоплением. Последнее наказание применяли и в отношении политических преступников, ему подвергали и лиц, права которых на трон (родство со свергнутым василевсом) представляли опасность.
Но наиболее распространенным из членовредительских наказаний было ослепление. Ослепляли с помощью раскаленного железного стержня, которым прожигали веко. Грубое ослепление иногда влекло за собой смерть. Вскоре после ослепления умер молодой Михаил V, а также сильный и крепкий воин Роман IV Диоген. Во время ожесточенных войн византийцы производили массовое ослепление пленных. Иногда ослепление осуществлялось без видимого повреждения глаз, путем многократного вращения перед глазами раскаленного. добела металла — зрение меркло постепенно. Иногда лишали только одного глаза или притупляли зрение это было особой милостью.
Разбойников казнили на фурке — вид колесования. Если василевс опасался, что осужденные на длительное заключение могут быть освобождены врагом, он повелевал быстро умерщвлять всех. Василий II сажал на кол участников мятежа Варды Фоки. Дука Антиохии казнил таким образом 100 участников городского восстания. Сообщников мятежника иногда распинали на деревьях, вздергивали на виселицы, установленные в ряд на видных местах. На площади Быка (Тавра), где обычно совершались публичные казни, находилась медная статуя этого животного в ней заживо сжигали важных преступников. Порой их отдавали также на растерзание львам из дворцового зверинца,
Закон запрещал хоронить труп казненного. Сначала его оставляли на поругание толпе, затем бросали во рвы Пелагия, близ площади Быка. Голову насаживали на шест, выставляли на видном месте (особенно часто на ипподроме).
Не только дети, но порой и внуки государственных преступников несли на себе печать проклятия: их долго держали под подозрением, они не получали титулов и должностей. Лишь смена царствования, особенно насильственная, могла изменить их судьбу.
У византийской полиции были и более мелкие будничные заботы, связанные с поддержанием порядка. Неустойчивость социального статуса личности обусловливала наличие множества людей, вышибленных из привычной колеи существования. Немало было и попросту декласированных элементов. В сельской местности нищие, воры и разбойники становились временами грозой путников на дорогах и перевалах. Крестьяне, отправляясь на ярмарки, собирались в большие группы. Морские пираты в XII в. терроризировали прибрежные поселения: они беспощадно грабили всех, увозили на продажу в рабство, налагали подати и выкупы, убивали на месте осмелившихся сопротивляться. Однако большая часть деклассированных отбросов общества концентрировалась в городах, особенно в столице. Увечные, прокаженные, эпилептики, слепцы, дети-сироты и бездомные старцы, опустившиеся бродяги торчали почти на каждой церковной паперти, на рынках и площадях. Они теснились в портиках и галереях; под равнодушными взглядами прохожих нищий умирал у церковной ограды, а нищенка рожала под открытым небом.
В византийских домах не было печей — они обогревались жаровнями с углями. Невыносимо мерзли зимой в сезон весенних ледяных ветров бедняки, даже имея кров. Бездомные же порой гибли на чердаках, в подворотнях и портиках. Роман I Лакапин повелел утеплить некоторые из крытых галерей, чтобы нищие спасались там от холода. Пытаясь отогреться, они разводили огон в самых неподходящих местах, что приводило к опустошительным пожарам в тесно застроенном городе.
Привычной фигурой на улицах был юродивый, нередко действительно больной человек, а порою и притворщик сделавший источником существования чувство религиозного сострадания горожан. Юродивые гасили свечи в церкви, приставали к женщинам, появлялись голыми, отчаянно сквернословили, таскали за собой на веревке трупы собак. Их иногда запирали в сумасшедший дом, но выпускали снова. Добродетелью почиталось смиренно прощать "божьему человеку" любую наглую выходку.
Ограбления и убийства в столице были обычным явлением. Ходить ночью по тесным переулкам, где даже днем горели светильники, считалось небезопасным. Полицейская стража обходила улицы, хватала подозрительных и тут же чинила расправу. Ворота города запирали на ночь. Специальная служба несла пожарный дозор. Трактиры с восьми часов вечера до восьми утра открывать запрещалось под страхом изгнания из корпорации.
Рынки были очагами, где вспыхивали бунты, перераставшие в городские восстания. Здесь орудовали воры, здесь собственность под цепким и жадным взором ее обладателей переходила из рук в руки, здесь ссора из-за обмана, обмера, обвеса, оскорбления тотчас выливалась в драку и поножовщину.
Столичный плебс был чужд по своим интересам трудовому населению города. Отнюдь не каждый погром домов знати являлся результатом классовой борьбы угнетенных, далеко не каждое ограбление чиновника на дороге — местью народных мстителей. Ни деклассированная чернь в городах, ни большинство разбойников и пиратов не пользовались симпатией трудовых масс — от их жестокости и зверств простое население плакало порой кровавыми слезами. Столичный плебс обращался к грабежу, используя каждую возможность (смена властей, пожар, драки у водопроводов в засуху, публичные казни и даже всенародные празднества) и не останавливаясь ни перед чем: ни перед поджогами, ни перед убийствами, ни перед разрушением зданий. Он примыкал к любому подлинно народному движению и причинял ему вред своим слепым хищничеством и бесчинствами.
Государство и церковь учреждали для деклассированных, нищих, больных, сирот и опустившихся приюты, богадельни, «сиротопиталища», дома призрения, лепрозории (для прокаженных), исправительные заведения для проституток, дома для умалишенных. Порой этим заведениям представители знати, пережившие какое-либо горе или тяжкий недуг, жертвовали деньги. Некоторые даже выкупали больных преступников из темниц. Приюты создавались и при монастырях. В Х в. нищим иногда выдавался хлеб из патриарших житниц по особым жетонам, за которыми они долго стояли в очереди. Патриарх Антоний Кавлей кормил до тысячи нищих, привлекая их к обслуживанию церквей и к участию в церковных хорах. В столице имелись и родильный дом для нищенок, и особое кладбище для бездомных.
Но все эти виды общественной и частной благотворительности были, разумеется, каплей в море нищеты и отчаяния, а нередко, в периоды обострения борьбы вокруг трона, использовались лишь как средство пропаганды и завоевания популярности у населения.
Итак, мы рассмотрели некоторые аспекты государственной структуры Византии и организации власти в империи. Власть как рок преследовала ромея на всем его жизненном пути. Страх перед ней, проникая в душу обывателя, заставлял его повиноваться почти автоматически. Замкнутость, недоверие даже к друзьям и близким родственникам, крайний эгоизм и неискренность были характерными чертами индивида, воспитанного деспотизмом и исполненного сознания ничтожности своей личности.
Однако тот же византиец отличался склонностью к сентиментальности, эмоциональным взрывам и порывам острого сострадания к обездоленным. Он был готов к добровольному подвижничеству; лишенный уверенности в своем благополучии, даже состоятельный ромей жил под гнетом реальной опасности оказаться среди низов общества; его томила догадка о своем затоптанном человеческом достоинстве, о неестественности рабской покорности судьбе и случаю, которые целиком зависят не от него, а от воли и каприза правящего деспота и его служителей.
Глава 3 ЦЕРКОВЬ
Религия и священнослужитель были постоянными спутниками ромея, сопровождавшими его от рождения до смерти. Однако представляется верной мысль французскою исследователя П. Лемерля о том, что современные историки нередко преувеличивают значение церкви в жизни византийцев.[1] Глубина религиозного чувства далеко не всегда обусловливала горячую приверженность к церкви и постоянную готовность прибегать к ее услугам и помощи.
В Х-XII вв. в состав Византии входило два восточных патриаршества из четырех — Константинопольское и Антиохийское. Иерусалимское было захвачено арабами в 638 г., а в Александрийском они окончательно установили свое господство в 646 г. Антиохийское патриаршество, возвращенное в Х в. после трех с половиной веков борьбы с арабами, оставалось в руках василевсов только около столетия, до второй половины XI в., а в XII в. суверенитет империи в Антиохии устанавливался лишь эпизодически. Фактически церковная власть в империи стала принадлежать с этого времени единственному патриарху, как государственная уже с V в. находилась в руках единственного василевса. Формальное равенство четырех восточных патриархов теряло практическое значение: голоса трех владык, находившихся во власти иноверцев, звучали на Босфоре очень глухо.
Вся территория империи делилась на церковные округа — епископии, которых было несколько сот. Епископии объединялись в крупные диоцезы: митрополии и архпепископии. Границы церковных округов редко вполне совпадали с границами административных областей (фем и банд).
Характерная черта византийских епископии — их малые размеры: зачастую это был заштатный городок, почти деревня с ее ближайшей округой. Епископ посвящался в сан митрополитом или архиепископом, а эти крупные церковные иерархи — самим патриархом. Впрочем, выбор кандидата на пост не только митрополита, но и епископа нередко зависел в Х-XII вв. от воли императора. Каждая епископия делилась на мелкие приходы, имевшие священников, рукополагавшихся епископом.
Патриарх Константинополя также практически назначался василевсом — иногда император сам предлагал церкви своего кандидата, иногда выбирал угодного из предложенных собранием митрополитов. Изредка дело решалось "божьим соизволением": на алтарь св. Софии клали записки с именами нескольких (чаще трех) претендентов, а утром после молитв доверенный человек брал одну из записок, вскрывал ее и прочитывал имя нового патриарха.
Вокруг выборов почти всегда завязывалась острая борьба. В ней большую роль играли митрополиты, диоцезы которых в силу признанной канонами традиции пользовались особым почетом (это были наиболее древние митрополии, как, например, Ираклия Понтийская, Кесария, Эфес).
Хотя исход выборов владыки зависел практически от императора, обычно он все-таки стремился заручиться поддержкой наиболее влиятельных митрополитов. Иной раз, не имея ее, василевс оставлял на несколько лет трон патриарха «вдовствующим», что, впрочем, считалось «аномалией».
Делами и имуществом патриархии управляли особые ведомства и канцелярии, причем некоторые посты в них могли занимать и светские лица (например, будущий василевс Роман Аргир был одно время экономом-казначеем главного храма патриархии — св. Софии).
Доходы патриархии до конца Х в. состояли из отчислений, пересылаемых диоцезами, из платы за рукоположение (хиротонию) служителей церкви, из взносов прихожан за требы (церковные обряды крещения, венчания, похорон и т. п.), из прибылей, приносимых принадлежавшими св. Софии поместьями, мастерскими, лавками, судами, из уплат за аренду церковных земель и помещений, из пожертвований прихожан. Лишь в конце Х в. специальным императорским указом был установлен особый налог с подданных в пользу церкви — каноникон, уплачивавшийся деньгами, зерном, мукой, скотом, вином и птицей подворно, каждой деревней.
Для понимания особенностей византийской церкви в X–XII вв. весьма важно учитывать, что она не располагала такими же богатствами и не обладала такой же материальной независимостью, как западная христианская церковь того времени. В отличие от папы патриарх никогда не имел столь обширных владений, какие имел римский первосвященник, никогда не пользовался светской властью над какой-либо территорией вроде Папской области в Италии и Ватикана в Риме. Различие в положении западных и византийских епископов поразило посла Оттона I Лиутпранда. На пути от Константинополя до Адриатики, останавливаясь на ночлег и отдых у епископов, он не встретил ни одного, живущего в привычной для Лиутпранда роскоши. Едят епископы, пишет он, за непокрытым столом, садятся за него в одиночестве, питаются грубой пищей, вино пьют мутное, из маленьких стаканов, сами продают и покупают, ухаживают за скотиной и обслуживают себя. Лишь некоторые из них богаты, если судить по золоту в их шкатулках. Но добрую долю и этого богатства они отдают государству, так как платят высокие налоги: епископ Кефалонии, например, вносил в казну до 100 золотых ежегодно. А что касается священников и епископов небольших городов, то первых по достатку трудно бывало порою отличить от соседей-крестьян, а вторых — от средних горожан.
Благосостояние служителей культа в империи в гораздо большей степени, чем на Западе, зависело от государственной власти, от даров и милостей императора. Поэтому церковь была здесь обычно послушным орудием политики василевсов.
Византийская церковь в отличие от западной не имела вассалов. Источники Х-XIII вв. полны жалоб провинциального духовенства на светских магнатов и самоуправство местных вельмож, отнимавших у епископов земельные владения, париков, церковную утварь. Притесняемый наместником области митрополит Навпакта Апокавк был вынужден бежать в деревню, жил в пристройке под сельской церковью, терпел лишения. Еще раньше тот же сановник обобрал охридскую церковь и распродал ее ценности. Своею волею, жаловался Апокавк, он поставил епископом в Каросе безграмотного человека, который во время службы вместо «Варфоломей» возглашал «Хартоломей». Центральной власти в подобных случаях приходилось частенько оказывать помощь церкви.
Согласно некоторым данным, в Константинополе имелось более 250 церквей и более 120 монастырей (в каждом из них также была своя церковь). Только некоторые храмы располагали крупным штатом клириков, большинство обходилось всего одним-тремя служителями. По свидетельству русского путешественника (ок. 1200 г.), св. София имела до 3000 священнослужителей, из которых 500 получали ругу, т. е. регулярную плату. Богатыми были также дворцовые храмы, претендовавшие, как и св. София, на особые милости государя.
Василевсы строили новые церкви, украшали и одаривали старые. Иногда дар в пользу церкви был откровенным подкупом. Зоя, вдова Романа III, купила, например, согласие Алексея Студита на воцарение Михаила IV с помощью 50 литр, врученных патриарху, и 50 литр — клиру св. Софии. Обобравший гробницу Зои Алексей I Комнин приказал вскоре выплачивать в пользу храма, где находилась гробница, значительную сумму из налоговых поступлений, и эта выплата продолжалась в течение нескольких десятилетий. Мануил I даровал всем священникам империи освобождение от одной обременительной подати. В XI–XII вв. церковные владения сплошь и рядом были избавлены от части или от всех налогов в силу льготы (экскуссии), дарованной императором.
Согласно каноническому праву, следовало систематически собирать церковные соборы (синоды) митрополитов и епископов империи, однако вселенские соборы перестали созываться с конца VIII в., а поместные и патриаршие созывались от случая к случаю. Тем не менее и после VIII столетия приезд в столицу (по повелению патриарха или василевса) митрополитов и епископов был обычным явлением; собрания у патриарха живущих в столице митрополитов играли роль постоянно действующего синода — эндемусы.
*
Несмотря на материальную и организационную слабость церкви в Византии, она не была простым придатком государственного аппарата. Ее сила заключалась во влиянии на широкие народные массы. Церковь не раз апеллировала к низам, стремясь с их помощью защитить свои интересы, хотя отцы церкви считали предосудительной опору на низшие социальные слои. Если вмешательство масс в ход дела оказывалось выгодным духовенству, оно объявлялось "божьим деянием", если же это вмешательство грозило церкви опасностью, его называли "бесчинством черни". Архиепископ (митрополит) Кесарии Арефа именует попытки константинопольцев повлиять на исход выборов патриарха «охлодулией» произволом толпы. Тот же Арефа говорил в лицо новому патриарху, что митрополиты откажутся признать его, так как занять престол ему помогла "беспорядочная толпа лавочников и поваришек, вооруженных палками и дубинками".
Успеху демагогии духовенства способствовало наличие в византийских крупных городах, особенно в столице, множества всякого рода религиозных фанатиков, паломников и богомольцев, прибывших из дальних провинций империи для поклонения знаменитым святыням. Немало среди них было бедного люда, который, поиздержавшись, нищенствовал и ночевал на папертях и в церквах. Немало было здесь также шарлатанов и проходимцев, ведших торг сомнительными реликвиями и мощами (поэт XI в. Христофор Митиленский высмеивал святош, собравших в свои лари по дюжине рук св. Прокопия и «ровно» четыре черепа св. Георгия). Зная о легкой возбудимости столичного плебса и о влиянии на него незамысловатых лозунгов и религиозных символов, Анна Далассина, мать мятежника Алексея Комнина, потребовала после оставления церковного убежища, чтобы от Никифора III был принесен не маленький, а большой крест: о маленьком люди могли не узнать, а большой виден всем.[2]
Церкви гораздо чаще, чем светской власти, удавалось также, не прибегая к прямому насилию, успокаивать народные волнения. Она неизменно выступала под лозунгом защиты справедливости, помощи слабым и обиженным, борьбы за мир и покой и соблюдение нравственных устоев общества. Церковь устраивала во время голода широко рекламируемые раздачи продуктов, она содержала больницы для бедняков, приюты для сирот, ночлежки для бездомных, дома призрения для престарелых. Некоторые духовные лица перед уходом в монастырь или в пустынь раздавали свое имущество бедным. Епископ Анкиры во время голода в Малой Азии в XI в. пожертвовал все, чем владел, на борьбу с нуждой и эпидемиями. Митрополит Михаил Хониат остро сочувствовал страдавшим от непомерного налогового гнета жителям Аттики, досаждая своими посланиями об этом столичным сановникам; впоследствии он был подлинным организатором обороны Афин от разбоя Льва Сгура, пелопоннесского магната. Долг пастыря, писал один из столпов церкви IX в., собирать и соединять "разрозненные члены тела церкви Христовой" и изгонять из него недуг, "рожденный ненавистью".
Иначе говоря, церковь видела свою задачу в том, чтобы ослаблять социальные противоречия и смирять политические страсти. Ее роль была по преимуществу консервативной, ибо незыблемость сложившейся системы являлась гарантией сохранения статуса самой церкви в государстве. Однако, смотря по обстоятельствам, высшее духовенство могло объявить «недугом» и мятеж против законного императора, и самый курс его политики. Столкновения между василевсами и патриархами были в IX–XI вв. не столь уж редкими и порою острыми.
*
Идея Юстиниана I Великого: василевс и патриарх в содружестве правят один телом, а другой душою подданных — давно стала пустым звуком. Василевс правил один: и «душой» и «телом». Но идея оставалась официальной доктриной, церковь трактовала ее как "законное право" на независимость от светской власти и, недовольная социальной и политической программой дворца, использовала ее в борьбе с неугодным ей василевсом. Чаще всего она при этом выступала не прямо против его политики, а поднимала шумную кампанию против личных «прегрешений» императора: он — развратник, трехбрачник, ослушник родительских заветов.
Стремясь низложить главу церкви, императоры тоже старались поразить воображение обывателя неожиданным «откровением» — сенсационным сообщением о якобы вскрытых тайных пороках уважаемого церковного владыки. Никто, разумеется, среди епископов и чиновников не мог всерьез поверить, что суровый старец Кируллярий погряз в пороках. Философ Пселл, которому было поручено написать порочащий патриарха памфлет, был способен измыслить вполне правдоподобные обвинения, но высокообразованный царедворец прибег к самым плоским и грубым нападкам на Кируллярия, ибо следовало уронить авторитет патриарха среди широких масс населения и сделать это наиболее доходчивым и понятным для них образом. Кроме того, император стремился изолировать патриарха от народа, лишив его возможности общаться с паствой в момент детронизации. Михаил V, решившись свергнуть Алексея Студита, повелел ему отправиться в пригородную патриаршую резиденцию, якобы для встречи там с василевсом. Исаак I приказал схватить Кируллярия, когда тот выехал для поклонения в загородный монастырь.
Василевсы не останавливались и перед расправой над непослушными патриархами: некоторых даже казнили, других избивали, ссылали, держали под стражей. Патриарх Константин II был низложен в 766 г. и казнен, патриарха Евфимия при низложении в 912 г. избивали до тех пор, пока он не потерял сознание, его коллега и соперник Николай Мистик, свергнутый пятью годами раньше, был лишен в ссылке теплой одежды, спал в мороз на соломе, не имел права читать книги. Однако, избавясь с помощью насилия от строптивого владыки, император должен был непременно добиться от церкви одобрения или прощения. Официально и открыто осуждаемого церковью василевса рано или поздно могла сбросить с престола оппозиционная группировка знати.
Именно поэтому столь противоречиво и драматично было поведение Льва VI Мудрого, жены которого по роковому стечению обстоятельств умирали одна за другой. Долго не получая разрешения церкви на третий, а затем — и на четвертый брак, Лев плевал патриарху в лицо, бросал его наземь, приказывал избивать до полусмерти, а потом плакал слезами ненависти и отчаяния, стоял на коленях у царских врат, валялся со стенаниями в ногах у владыки.
Именно поэтому василевсы сознательно сажали иногда на патриарший трон либо своего родственника, либо немощного старца, либо простачка, невежественного и недалекого, которого заранее заботливо прославляли как "святого подвижника". Особенно любопытной фигурой среди таких патриархов был Феофилакт, сын узурпатора Романа I Лакапина. Юнец, занявший трон в 18 лет, он впопыхах завершал литургию, чтобы поспешить к стойлу любимой кобылы, собравшейся рожать; он из своих рук кормил ячменем, изюмом и сушеными фруктами отборных коней (в его конюшнях стояло более двух тысяч лошадей); он развлекался на интимных пирушках с шутами и мимами; он и умер, разбившись при падении с коня.
Бывало, императоры ошибались в своем выборе, как ошибся Лев VI, посадив на трон вместо Николая Мистика Евфимия; бывало, властный патриарх уже занимал престол, когда новый император приходил к власти. Сменить такого патриарха оказывалось особенно трудно, если новый император был узурпатором, отнявшим трон у «законного» василевса или его наследников. Если церковный владыка отличался умом и волей, император в момент острого столкновения с патриархом мог предстать в пропаганде духовенства как клятвопреступник и убийца.
Так, например, узурпатор Никифор II Фока занял престол, когда патриархом был Полиевкт, сменивший упомянутого выше Феофилакта (оскопленный в детстве родителями, он долго был монахом, прежде чем по воле Константина VII стал патриархом). Полиевкт принудил Фоку, женившегося на вдове Романа II, снести церковное наказание (эпитимью) как второбрачника, угрожая в случае отказа отлучением от церкви. Умело использовал Полиевкт для усиления патриаршей власти слабость положения на троне и другого узурпатора — Иоанна I Цимисхия: переступивший через труп Фоки Иоанн должен был понести еще более тяжкую эпитимью, а кроме того, наказать своих друзей за убийство (в котором, впрочем, сам был повинен больше всех), и раздать свое личное имущество бедным.
Особенно сильное упорство в борьбе с императором, проводившим невыгодную церкви политику, проявил патриарх Михаил Кируллярий, сам помогавший воцариться узурпатору Исааку I Комнину. В данном случае ошибся в выборе патриарх: он организовал в столице оппозиционные Михаилу VI силы, он лично убедил василевса отречься от престола в пользу Исаака. "Что дашь ты мне взамен этого?" спросил старец-император, сбрасывая порфирные сапоги (знак царского достоинства). — "Царство небесное", — ответил Кируллярий. Когда, же Исаак I решительно разошелся с патриархом в направлении политики двора, Кируллярий открыто грозил василевсу: "Я тебя создал, печка, — я тебя и разрушу!" Патриарх умер, не доведя борьбы до конца, но его нападки на Исаака сыграли роль в последовавшем через год отречении василевса от престола.
Иначе повел себя в аналогичной ситуации умный и дальновидный узурпатор Алексей I Комнин: он сам испросил эпитимью, ибо она была не только карой, но и предоставляемым церковью средством избавления от грехов перед богом и людьми. Василевс понимал, что этот акт выбьет из рук врагов важный козырь. Анна пишет, что после 40 дней покаяния (пост, молитвы, сон на полу) василевс "уже чистыми руками коснулся государственных дел".[3] Эпитимья, наложенная патриархом, представляла собой, несомненно, политическую победу церкви, но узурпатору в конкретной ситуации оказалось выгоднее не отказываться от ее принятия, а домогаться ее получения.
Причины конфликтов между императорами и патриархами были вполне земными. Но взаимное недовольство обосновывалось, как правило, доводами, не имевшими ничего общего с существом конфликта. И это не было лишь холодно рассчитанной тактикой, искусной и лживой демагогией. И патриарх, и василевс, глубоко верующие люди, обвиняя друг друга в безнравственности и прегрешениях перед богом, начинали верить в справедливость своих претензий.
По сравнению с IX-Х вв. столкновения между патриархами и василевсами в Византии XI–XII вв. происходили значительно реже. В XI столетии, в период борьбы между столичной бюрократией и провинциальной аристократией, церковные владыки иногда становились на сторону оппозиции, но чаще маневрировали, добиваясь не столько политических, сколько материальных уступок у светской власти. К концу этого века патриархи перестали перечить императорам.
Несмотря на размолвки, о которых сказано выше, в главном — в стремлении сохранить существующий порядок вещей — церковь и государство были всегда едины. Василевс и патриарх постоянно находились в тесном личном общении. В южной пристройке к св. Софии имелся митаторий — место отдыха императора после литургии в обществе патриарха. Патриарх крестил порфирородного ребенка, он венчал его при заключении брака и при восшествии на престол, он совершал по василевсу заупокойную службу. Патриарх был своим человеком в царской семье, нередко еще до занятия им патриаршего престола. Угодного человека василевс не стыдился просить на коленях принять высший церковный пост, а затем нередко обращался к нему за советом по важнейшим делам. Однако роль церкви была тоньше и сложнее в утверждении власти и существующих порядков, чем роль императора. Боясь поставить под угрозу свой авторитет и влияние на массы, церковь не могла позволить себе достижение цели любой ценой, как сплошь и рядом поступал светский глава государства. Оберегая свой авторитет, церковь в то же время оберегала и авторитет василевса.
*
Все христиане империи делились на три чина: клириков (священнослужителей), назиреев (монахов) и мирян (светских лиц). Согрешивший мирянин оставался мирянином: отлучение от церкви было в Византии редким страшным наказанием. Согласно же канонам, допустивший грех клирик или монах должны были подвергаться более суровым карам, вплоть до исключения из своего чина, даже за незначительные проступки. Но каноны соблюдались плохо. Нравы в среде духовенства порой не отличались от нравов в среде служителей светской власти. Борьба за доходные и почетные места в церковной иерархии, за богатую епископию и высокий титул шла ожесточенная. Патриарх, севший на трон после низложения предшественника-соперника, стремился стереть в памяти прихожан даже самое имя низложенного. Никола Мистик, одолев Евфимия, повелел снять священные покровы с престола св. Софии и мыть алтарь губками, чтобы очистить его от «скверны», ослика Евфимия Никола приказал удавить (церковь не проливает крови!).
Нарушалось каноническое право самими епископами постоянно. Некоторые из них передавали свои посты сыновьям (рожденным до посвящения в епископский сан) или другим родственникам. Клирики частенько перебегали из одной эпархии в другую, на более выгодное место. Епископы сманивали их друг у друга (хотя каноны приравнивали этот грех к прелюбодеянию) и превращали некоторых из них в своих париков и личных слуг.
Мы уже говорили, что светская власть обязывала служителей церкви следить за благонадежностью своих прихожан. Еретиков церковь преследовала неотступно. Суровые гонения она устраивала порой и на приверженцев языческих обрядов, которые вплоть до XIII в. еще встречались во многих районах страны. Непременным средством борьбы с ересью было привлечение к участию в преследовании возможно большего числа людей, широкая гласность, пропаганда, сознательное разжигание религиозных страстей. При осуждении богомила Василия и его учеников патриарх и василевс так распалили страсти, что озверевшая толпа требовала массового сожжения еретиков. Еще раньше они добились того же во время предания анафеме учения философа Иоанна Итала: проклятие совершалось при огромном стечении народа, хором подхватывавшего анафему при каждом пункте. Возбужденные люди метались по св. Софии в поисках самого Итала, чтобы расправиться с ним. Философ спасся, спрятавшись на крыше.
Церковное осуждение, эпитимья, отлучение были могучим средством унижения человека и организации травли со стороны общества. В подобных случаях церковь выступала как сплоченная корпорация. Дисциплина в среде церковнослужителей бывала при этом гораздо более высокой, чем в среде светского чиновничества. Согласно канонам ни клирик без позволения епископа, ни епископ без позволения митрополита не имели права искать защиты у светских властей под страхом лишения священства.
Авторитету церкви содействовала широко распространенная в Византии и насаждаемая церковью вера, так сказать, в «подлинные», канонические чудеса, реликвии, образы и знамения. Не только невежественные простолюдины, но и образованные люди, крупные деятели и сами василевсы нередко поступали в соответствии с какими-либо предсказаниями и знамениями. Трезвый политик Алексей I при неблагоприятном знамении мог, располагая превосходящими силами, начать отступление. Особой популярностью в столице пользовался культ богородицы, которая почиталась как хранительница царственного города. Стало традицией в минуты крайней опасности устраивать торжественные процессии и обходить с ризами богородицы укрепления Константинополя. Византийцы, в частности, приписывали этим ризам спасение своей столицы от осады русского флота в 860, 941 и 1043 гг.
*
В позиции византийской церкви и императорской власти по отношению к другим государствам и народам имелось серьезное отличие. С одной стороны, и церковь и светская власть утверждали принцип превосходства империи над всеми прочими державами мира — именно деятели византийского духовенства усиленно аргументировали эту доктрину. С другой стороны, василевсы в отдельные периоды пытались толковать этот принцип лишь применительно к своей, светской власти, признавая приоритет папы, "наместника апостола Петра" (особенно во время конфликтов с главой своей церкви).
Церковь Византии оставалась в этом вопросе последовательной до конца, даже тогда, когда ее неуступчивая позиция объективно могла содействовать успехам турецкого наступления и сдержанности Запада в оказании помощи Византии. Светская власть имела больше возможностей для маневра, высшее же духовенство империи сознавало, что всякое отступление от освященных веками канонов и традиций, в особенности в обрядовой стороне культа, вызовет такую бурю негодования ортодоксальных прихожан, что церковь потеряет на них свое влияние.
Еще в 60-х годах IX в. дело близилось к схизме — официальному расколу церквей, который произошел, однако, два века спустя, в 1054 г. Схизма, впрочем, не имела важных последствий, так как не затронула интересов верующих. Она стала лишь поводом для дальнейшего углубления разногласий и взаимной враждебной агитации. С начала крестоносного движения обнаружившиеся агрессивные устремления Запада, заранее оправдываемые "прегрешениями схизматиков", заставили императорскую власть объединить с патриархами усилия в борьбе против притязаний папства. Анна Комнин уже настойчиво проводит мысль о том, что с переносом столицы в Константинополь при Константине Великом туда перешла также "высшая епископская власть". Окончательное разделение церквей правильнее относить поэтому не к 1054 г., а ко времени после Четвертого крестового похода, когда религиозные разногласия стали оправданием разгрома христианской империи.
Ортодоксия в Византии, как говорилось, отнюдь не была снисходительна, особенно в осуществлении своей официальной политики. Любопытен следующий эпизод. Священник Фемел из деревеньки в Малой Азии совершал богослужение, когда на селение и самую церковь с прихожанами напал арабский отряд. Не имея времени снять священническое облачение, Фемел отбивался от врагов тяжелым паникадилом. Нескольких арабов он убил, других обратил в бегство. Епископ отстранил Фемела от священнодействия как совершившего тяжкий грех убийства и запятнавшего кровью святые одежды. Обидевшись на такую «несправедливость», Фемел бежал к арабам, отрекся от веры и разорял с ними Каппадокию и соседние фемы.
Такая суровость в соблюдении буквы канонов как будто бы противоречила известной мягкости по отношению к иноверцам и язычникам. Но противоречия здесь нет: гибкость и веротерпимость церкви империи была либо вынужденной тактикой при недостатке сил, либо ловким политическим маневром.
Именно византийская церковь предпочитала в Х- ХП вв. распространять христианство скорее с помощью дипломатии, культурного влияния и мирной проповеди, чем огнем и мечом, как церковь Запада. Именно византийцы считали оправданной церковную службу на родном языке практически для любого новообращенного в христианство народа и даже содействовали организации такой службы, так как эта политика гарантировала от рецидивов язычества.
*
В гораздо большем отдалении от светских властей и общественной жизни находилась вторая обширная группа византийского духовенства, "второй чин" монашество. Согласно свидетельству русского странника, к началу XIII в. на одном Босфоре насчитывалось до 40 тыс. монахов и 14 тыс. монастырей. Эти цифры не столь уж фантастичны, если учесть, что в Византии было множество мелких монастырьков, имевших от трех до десяти монахов.
Помимо монахов, обитавших в келейных или общежительных монастырях, имелось немало монашествующих в быту, пилигримов и странников, одиноких аскетов и пустынников. Обычно монахи пользовались уважением как "божьи люди", отвергшие мирские радости и посвятившие себя служению богу. Однако Михаил Пселл, сам монах (хотя и сбежавший от монастырской скуки), писал, что чем больше в империи становилось монахов, тем быстрее росли подати.[4] Не было также секретом, что основным мотивом пострига являлись часто не помыслы о духовном спасении, а поиски убежища от грозящей кары властей или от беспросветной нужды.
Корыстолюбие монашества порицается в самых разных документах, от демократических (эпических) сочинений до официальных актов и императорских указов. Евстафий Фессалоникийский в трактате "Об исправлении монашеской жизни" (XII в.) говорил, что все помыслы игумена и братии сосредоточены не на служении добродетели, а на приобретении новых богатств, чаще — с помощью хитрости, обмана, подлога, насилия.
Особенно острому осуждению подвергалась в XI–XII вв. распущенность нравов среди монашества. В начале XII столетия в одном из крупнейших монашеских центров империи, на Афонской горе, разразился скандал. Дело разбирали василевс и патриарх. Оказалось, что монахи Святой горы вступали в связи с влашскими женщинам.
Особым указом влахи с их отарами были выселены с Афонского полуострова — и немало монахов ушло вместе с ними. В анонимном сочинении говорится о монахе, который на рынке прокладывает путь в толпе своей возлюбленной, и о монахине, у которой чиновник задержался столь долго, что его по приказу василевса разыскивали по всему городу. Недаром уставы монастырей того времени содержат категорические запреты женщинам, даже сестрам и матерям монахов, приближаться к монастырской ограде.
Ранее уже упоминалось, что внутри самих монастырей сохранялось социальное неравенство. Бывший богач, сделавший крупный вклад в обитель, находился на особом положении, даже став монахом: он имел отдельную келью в киновийном (общежительном) монастыре, слугу — в качестве исключения, он лучше питался, был избавлен от труда и утомительных служб. Поэт Феодор Продром приводит наставительную речь игумена — отповедь монаху, недовольному тем, что одни пользуются привилегиями, а другие нет: тот протопоп, а ты пономаренок, он хорошо поет, а ты — безгласен, он умеет считать деньги, а ты — водонос, он бегло читает писание, а ты еле знаешь азбуку, он 15 лет в монастыре, а ты полгода, он добыл добро для братии, а ты в это время пас овец, он вхож во дворец, а ты глазеешь на богатые коляски, он — в плаще, а ты — в рогоже, у него на постели четыре покрывала, а у тебя — солома, у него 10 литр взноса в казну обители, а ты не истратил при постриге ни гроша хотя бы на свечку и т. п. Посему, заключает игумен, не завидуй и оставайся служкой.
Да и руга — содержание для монахов — определялась в соответствии с их разрядом и положением в монастыре. Старец-игумен мог получать в год 36 номисм, экономы и ключники могли получать по 20 номисм, монахи высшего класса — по 15, а прочие — всего по 10. Варьировало также и натуральное довольствие: занятым управлением старцам доставалось втрое больше, чем молодым монахам, весь день занятым тяжелым физическим трудом. Феодор Продром уподоблял мышь игуменье, которая весьма далека от богословия и благочестия, но так и сыплет цитатами, хотя на уме у нее лишь коровье масло, ягнячье мясо, овечье молоко да мед.
Никифор II Фока, запрещая строить новые монастыри и расширять владения старых, прямо указывал на вопиющее несоответствие задач монашеского подвига, связанного с умерщвлением плоти, — с богатствами и жадностью монахов.[5] Попытки секуляризации монастырских владений предпринимались в Византии неоднократно. Однако все они носили крайне ограниченный и непоследовательный характер. На радикальные меры не мог решиться ни один василевс со времени иконоборчества (VII-первая половина IX в.). Гораздо более последовательны были императоры в умножении монастырских имений и в раздаче привилегий монастырям. К концу XII в. монастырские хозяйства находились в значительно лучшем состоянии, чем владения представителей белого духовенства.
Итак, церковь в Византии была огромной силой — она играла в государстве большую, но сложную и противоречивую роль.
Церковь освящала своим авторитетом правила поведения человека в быту и обществе, но одновременно оправдывала тиранию главы семьи и бесправие неимущих.
Церковь распространяла грамоту, сохраняла памятники античности, но она же жестоко преследовала инакомыслящих, пресекала всякую попытку высказать свежую мысль, превращала в застывшие догмы целые отрасли человеческого знания.
Церковь оказывала помощь обиженным, подавала надежду отчаявшимся, но она же утверждала социальную несправедливость, служила орудием господства над народными массами.
Церковь провозглашала идеалы гуманизма и братства, но сама же была жестоким эксплуататором, гонителем недовольных и сеятелем раздоров и распрей.
Именно поэтому уже тогда религиозность и уважение к официальной церкви не были равноценными понятиями: идеалы, провозглашаемые церковнослужителями, слишком часто находились в противоречии с их деятельностью.
Глава 4 ВОЙНА
Византия почти постоянно находилась в состоянии войны. В течение многих столетий война оказывала глубокое влияние на особенности социальной психологии населения империи. Крайнее напряжение сил в борьбе с внешними врагами отражалось на жизни всех провинций Византии. Почти непрерывно в IX–XII вв. империя подвергалась нападениям на всем протяжении ее сухопутных и морских границ. В IX в. главными врагами византийцев были арабы, затем — болгары и венгры. С каждым следующим столетием число неприятелей и их силы возрастали. В Х в. это были уже, помимо арабов, болгар и венгров, также русские; в XI в. турки-сельджуки, болгары, норманны, печенеги, половцы, сербы; в XII в. итальянцы, снова венгры, крестоносцы, болгары, не говоря уже о половцах и турках. Проще перечислить не годы войны, а годы мира. В среднем едва можно насчитать на столетие 20–25 лет, когда бы империя не вела тяжелой войны.
В IX-Х вв. византийское войско не уступало западноевропейскому: оно было хорошо организовано и вооружено. Превосходно было развито в Византии военное строительство, опиравшееся на богатую инженерную традицию. Возведение цепи крепостей вдоль границ считалось важнейшей оборонительной задачей, и даже императоры порой во время походов таскали камни для ремонта крепостных сооружений. Остатки мощных укреплений Константинополя, Фессалоники, Трапезунда и Никеи доныне поражают воображение путешественника своими размерами. Византийские инженеры — строители крепостей славились далеко за пределами страны, даже в далекой Хазарии.
Приморские крупные города, кроме стен, защищались подводными молами и массивными цепями, преграждавшими вход вражескому флоту в городские бухты. Такими цепями замыкался Золотой Рог в Константинополе и залив Фессалоники.
Для обороны и осады крепостей византийцы использовали различные инженерные сооружения (рвы и частоколы, подкопы и насыпи) и всевозможные орудия: в византийских памятниках постоянно упоминаются тараны, подвижные башни с перекидными мостками, камнеметные баллисты, крюки для захвата и разрушения осадных приспособлений врага, котлы, из которых кипящая смола и расплавленный свинец выливались на головы осаждающих. До XI в. византийцы в этой области опередили большинство своих врагов и тщательно берегли военные строительные секреты. Михаил II, осадив в Аркадиополе Фому Славянина, не применял сложных осадных орудий, так как боялся показать их союзным болгарам. Тяжелые механизмы ромеи изготовляли на месте, во время осады или обороны, из подручного материала, легкие же, а также лестницы, ломы, заступы, свинец, веревки и ремни возили в обозе войска. Мы уже упоминали о столь грозном оружии, как «жидкий», или «греческий», огонь. В Х в. его делали только в столице. За разглашение технологии производства грозила казнь. Однако уже тогда "греческий огонь" имели и арабы и болгары, хотя применяли его редко. "Жидкий огонь" предназначался главным образом для морского боя, но использовался и при обороне крепостей (им жгли осадные орудия врага), и при их осаде (забрасывали в крепость, чтобы вызвать пожары).
Существовали в византийском войске и саперные части, умевшие наводить и быстро разрушать мосты и переправы.
*
Войско делилось на отряды по видам вооружения: тяжелая конница катафракты (кольчуги на воинах, палицы, длинные пики, щиты, мечи), легкая конница (копья, щиты, луки), тяжелая пехота (кольчуги, щиты, мечи), легкая пехота (луки, дротики, пращи) и т. д. Многие воины были обучены владению несколькими видами оружия. С ослаблением стратиотского ополчения в Х в. воины все чаще снабжались оружием за счет казны (луками, стрелами, копьями), которая стремилась иметь его запасы в своих арсеналах. Основной ударной силой войска с последней трети этого века стали катафракты.
Но к середине XI в. византийское вооружение уже уступало по качеству вооружению воинов из развитых европейских стран. Алексей I был вынужден, например, учитывать, что турецкие стрелы легко пробивают доспехи ромеев, и маневрировал в бою так, чтобы вражеские лучники всегда оказывались с левой стороны, с которой ромейских воинов защищали щиты. Однако все чаще не хватало и таких доспехов. Тот же император перед одним из сражений прибегнул к маскараду, дабы обмануть врага: он одел воинов в однокрасочные ткани под цвет металла.
Лишь легкая кавалерия могла обойтись без обоза. Обычно же он, под охраной арьергарда, сопровождал войско во всех его походах. Там везли воинское снаряжение, продовольствие, трофеи, имущество воинов, а также раненых. Там ехали и слуги состоятельных воинов с походным скарбом господ. Особенно громоздким было снаряжение василевса: палатку Алексея I загромождали сундуки с парадными и иными одеяниями, кровати, утварь. Искусные полководцы стремились найти такое место обозу, чтобы он находился вне опасности и не мешал в сражении, особенно при отступлении: беспорядок и паника в войске, смешавшемся с обозом, возрастали вдесятеро.
С упадком хозяйства страны и уменьшением доходов казны все более тяжелой проблемой становилось снабжение войска продовольствием. Страдали от недостатка провианта и фуража не только полевые войска, но и городские гарнизоны, особенно тех крепостей и городов, которые были расположены в часто опустошаемых врагом районах.
*
Византийцы гордились тем, что они в отличие от иноземцев обладают "искусством войны". Действительно, в империи бережно хранили, переписывали и изучали древние стратегиконы — военные трактаты о воинском искусстве. На их основе составлялись и новые стратегиконы, в которые вносились поправки и дополнения в соответствии с требованиями времени. Однако войсками зачастую руководили не те, кто имел воинский опыт и необходимые знания: василевсы ставленники гражданской знати сознательно и упорно стремились отстранить от командования войском представителей военной аристократии. В XI в. крупными военачальниками становились сплошь и рядом евнухи и прочие дворцовые вельможи, никогда не державшие в руках оружия, но доказавшие личную преданность государю. Огромные затраты, усилия множества людей шли прахом из-за трусости и невежества таких полководцев. После каждого серьезного разгрома армию приходилось формировать почти заново. Императоры редко карали своих провинившихся любимцев, зато бдительно следили за искусными и популярными военачальниками, боясь мятежа, до которого порой и, доводили их своими подозрениями.
Лишь некоторые василевсы сами обладали качествами, необходимыми полководцу, как, например, Никифор II Фока, Иоанн I Цимисхий, Василий II Болгаробойца.
Но нередко и их усилия сводились на нет глухим сопротивлением столичных вельмож. Императоры-полководцы, знатоки стратегии и тактики, делившие с воинами невзгоды и тяготы походной жизни, а порою личным примером увлекавшие их в бой, были исключением. Приказы таких василевсов, как Роман III и Исаак II, когда они участвовали в походе, приносили больше вреда, чем пользу в сражении. Само спасение такого бесталанного венценосного полководца стоило иной раз б?льших жертв, чем проигранная битва. Например, попавшего в ловушку в балканском ущелье Исаака II во время похода против болгар телохранители вывели оттуда, прорубив коридор в толпе объятых паникой собственных воинов.
И все-таки воинское искусство византийцев в целом было, видимо, высоким. Его общие принципы, как и принципы византийской дипломатии, предусматривали постоянное и тщательное изучение врага: его численности, вооружения, материальных средств, воинской тактики, нравов и особенностей психологии.
Византийцы знали, в какое время лучше предпринимать походы против тех или иных стран и народов, как в каждом отдельном случае готовиться к военной кампании. Например, летние походы против арабов Сирии были заранее обречены на неудачу из-за невыносимого зноя и безводья, в условиях которого любой арабский воин сильнее ромейского. Бесперспективными представлялись и экспедиции в Сирию в декабре, когда от дождей на дорогах непролазная грязь. Василий II вторгался в Болгарию, когда враг был занят сбором урожая. Алексей I выступал против печенегов и половцев в конце осени, когда они готовились к перекочевке на зимние пастбища и были отягощены грузом и стадами. Никифор II учитывал, что походы в болгарские земли требуют особенно больших запасов провианта для войска, так как, на его взгляд, это бедная страна.
Осведомлены были византийцы и о том, в какое время наиболее вероятно нападение того или иного врага. Любопытно, что Никифор II в своей «Тактике» предлагает устраивать сборы воинов не весной, а в другое время, так как арабы обычно вторгаются из более южных районов тогда, когда ромейские воины еще не созваны; поэтому пограничные заслоны не могут удержать врага, и мобилизация проходит в условиях отступления.
Если стратиг не искушен и не находчив, пишет Анна, никакое войско, как бы велико и хорошо вооружено оно ни было, не избежит разгрома. При этом, вопреки ромейской надменности, пронизывающей дипломатические руководства, в сочинениях византийских военачальников утверждалась здравая идея о необходимости помнить, что враг всегда искусен и коварен.
*
Существенные перемены с середины XI в. произошли в характере пограничных конфликтов. До этой поры серьезную роль в отражении первого удара врага играли пограничные войска, в которых временно или постоянно служили воины-стратиоты. Границу по Дунаю, например, в феме Далмация охраняли с весны до весны (попеременно) собираемые в Салоне и отправляемые отсюда к реке крестьяне-воины. В Малой Азии такую же роль, по постоянно, выполняли акриты пограничные поселенцы, пользовавшиеся значительными льготами, имевшие крепкие хозяйства и кровно заинтересованные в обороне рубежей от врага. В их распоряжении была цепь крепостей с запасами продовольствия и оружия.
С вторжением в Византию турок-сельджуков в Азии и печенегов на Балканах пограничные столкновения с врагом утратили былое ожесточение. Изменился и характер комплектования и порядок службы войска на границе. Границу на Дунае, согласно Атталиату, теперь охраняли войска, требовавшие казенного жалованья и набранные из этнически пестрых элементов. Вряд ли это были крестьяне — военные поселенцы или стратиоты, сами обеспечивающие себя вооружением и продовольствием. Часто византийские крепости оставались глубоко в тылу наступавших полчищ кочевников. Целые провинции постоянно переходили из рук в руки. Границы теряли четкость. В меньшей степени, чем в Азии, проявилось это на Балканах, где до завоевания Болгарии Балканский хребет, а потом Дунай составляли естественную преграду, укрепленную цепью крепостей. Но и отсюда печенеги и половцы нередко прорывались почти до самых стен византийской столицы.
Огромное значение в новых условиях приобрели разведка и военный шпионаж. Обычно во время войны с норманнами, по словам Анны, император к утру знал все, что Боэмунд замыслил с вечера. Никифор II давал совет: если закралось подозрение, что в лагерь проник разведчик противника, нужно поставить охрану у выходов и построить войска по отрядам, чтобы обнаружить чужака.
*
В византийском войске соблюдались правила санитарии и гигиены: лагерь не оставался долго на одном месте, в болотистых низинах или вблизи поля недавнего сражения. Воины имели личные запасы бальзама, мазей и перевязочных средств.
Никифор II, прославившийся своими войнами с арабами и получивший прозвище "бледной смерти сарацин", еще до восшествия на престол, при осаде столицы критских арабов Хандака приказал вкладывать в баллисты камнеметных орудий отрубленные головы павших во время вылазок врагов, их тела и трупы ослов и забрасывать в город, чтобы повлиять на психику осажденных и ухудшить санитарное состояние города.
*
Перед походом или перед битвой созывался военный совет, на котором определялись сроки кампании, тактика, дислокация в бою, распределялись задания. Перед началом осады тщательно изучались укрепления врага; на расстоянии, с помощью несложных приспособлений, высчитывалась высота стен (знание этого было необходимо при конструировании осадных машин).
Особое внимание полководец должен был уделять боевым коням. Утомленные или исхудалые кони могли сорвать кампанию. Недаром за кражу коня в лагере жестоко карали — отсекали руку, тогда как за кражу оружия лишь пороли. Перед битвой Алексей I давал на несколько дней отдых людям и коням, запрещал седлать коней вообще и выезжать на охоту или прогулку.
Перед сражением нередко устраивалось общее молебствие: каждый воин, укрепив на воткнутом в землю копье светильники или свечи, молился на коленях о ниспослании победы, о спасении в бою, о прощении грехов или о благополучии семьи и пел псалмы. Тут же воины причащались у войскового священника.
Византийские полководцы заботились о том, чтобы воины во время боя соблюдали воинский строй. Стратегические руководства предлагали много видов построения войска в зависимости от строя врага и от задач битвы. Василий II карал немедля даже отличившихся в схватке воинов, если они нарушали строй. Алексей I отлично знал виды воинского строя, рекомендуемые древней «Тактикой» Элиана, он изобретал также новые способы построения войска в бою, подолгу сидя с листом бумаги и чертя на нем расположение боевых колонн. Алексей выступал и как флотоводец: он мог по памяти нарисовать карту побережий Италии и Иллирика, чтобы указать возможные пункты встречи с флотом врага и удобные бухты для морских засад.
Мануил I во время похода носил за пазухой свиток с перечнем боевых соединений и, сверяясь с ним, давал указания отрядам. При разбивке лагеря, особенно в условиях крайней тесноты (при отступлении воины в таком лагере порой проводили ночь в седле, ибо некуда было спешиться), он лично определял место каждому отряду.
Издавна в Византии утвердилась оправдавшая себя традиция соединять или сохранять в одном отряде воинов-единоплеменников или земляков, так как им в таких случаях было в большей мере свойственно чувство взаимной выручки.
Успех приносило умение быстро перестраивать войско в ходе битвы, маневрировать резервами, особенно скрытыми, находившимися в засаде и появлявшимися неожиданно для врага в нужное время.
С Х в. получает все большее распространение тактика ночного боя, к которой охотно прибегали полководцы, не имевшие крупных сил. Ночная разведка, ночной рейд с целью угона коней противника, перенесение ночью лагеря с одного места на другое позволяли увеличить шансы на победу.
Нелегко было полководцу собрать разбежавшееся после поражения или беспорядочного отступления войско. В условленных местах жгли ночами факелы или костры, посланцы военачальников рыскали окрест, но нередко безрезультатно: спасшиеся расходились по домам или укрывались в безопасном месте.
*
До недавнего времени в специальной литературе нередко утверждалось, что внешняя политика империи была агрессивной.[1] Вряд ли это верно. Применительно к IX–XII вв. об агрессивности Византии можно говорить, лишь оценивая политику Иоанна I, Василия II и Мануила I. Но время правления этих василевсов не занимает и четверти рассматриваемого периода. К тому же ни один из них в своих завоевательных кампаниях не вышел за пределы древних границ империи. Несомненным актом агрессии был захват Иоанном I и Василием II Болгарии, которая хотя и возникла на территории Византии, но насчитывала к моменту ее поглощения более трех веков самостоятельного существования; она консолидировалась как экономически, политически и этнически независимое от внешних сил единство территории, языка, управления и форм жизни. Аннексией было и подчинение Василием II армянских и грузинских земель на Востоке, и утверждение суверенитета империи на сербских территориях. Завоевательные планы лелеял Мануил I, но ему не хватило сил для их реализации. Никита Хониат пишет, что ромеи роптали, недовольные экспедициями этого императора в Италию, приведшими к растрате огромных средств. Что касается прочих войн империи, то подавляющее их большинство велось в IX–XII вв. с целью возвращения ближайших и недавно потерянных областей или имело исключительно оборонительный характер.
В связи с этим менялось и значение военной добычи, которая в средние века была немаловажным стимулом наступательных операций. Едва ли мы ошибемся, если сделаем вывод, что последний раз действительно крупные трофеи ромеи взяли при завоевании Болгарии (северовосточной в 971 г. и юго-западной в 1018 г.). Существовавшее некогда правило, согласно которому в казну шла лишь 1/6 добычи, а остальное делилось между участниками похода, плохо соблюдалось даже в Х в., не говоря уж об XI и XII вв. Василий II забрал в пользу казны 1/3 трофеев, захваченных в 1016 г. в Болгарии, а болгарскую царскую сокровищницу в Преспе целиком. Богатые трофеи во время триумфов (торжественных церемоний по случаю побед) столичные жители в XII в. видели все реже и реже. Мануил I еще раздавал деньги горожанам после похода и делал дары церкви (по две номисмы на дом горожанина, а св. Софии сразу два кентинария, т. е. 14400 монет), называя дар "второй номисмой" (он был, видимо, половиной всей доли казны). Во время похода в Италию его воины взяли так много скота, что за один статир (номисму?) продавались десять быков или 130 овец. Но победы в XII столетии вообще были редкостью. Чаще не ромеи, а враги брали добычу, вторгаясь в земли империи.
Одним из главных видов добычи были пленные (как воины, так и мирные жители). Византийцы специально захватывали с собой в поход веревки и ремни, чтобы вязать пленных. Никифор Уран, разбив войско Самуила на Сперхее в Греции, пригнал в столицу 12 тыс. пленных. Анна Комнин высказывает убеждение, что не покупной или родившийся в неволе, а раб-пленник лучше других рабов умеет повиноваться. Видимо, такой раб, не зная языка, обычаев и нравов господ, имел больше оснований бояться за свою жизнь. Он был новичок в своем рабском состоянии и жил в сплошном враждебном окружении.
Византийцы нередко уже в Х в. сохраняли жизнь пленным не только для того чтобы превратить их в рабов, но и для того чтобы обменять их на ромеев, попавших в плен. В Малой Азии обмен происходил обычно на реке Ламусе.
Участь пленных порой зависела от характера василевса. Константин V в 764 г. передал взятых им болгарских пленников для уничтожения в руки членов димов — цирковых партий. Василий II проявлял к пленным в ходе военной кампании необычайную жестокость, стремясь воздействовать на врагов устрашением. Отправив одного пленного араба к его эмиру с вестью о поражении, Василий II приказал отрубить ему руки, уши и нос. Во время завоевательных походов в Болгарию Василий Болгаробойца не брал пленных (за исключением знатных лиц) он предпочитал уничтожать или ослеплять их. После битвы у горы Беласица в 1014 г. он ослепил 14 тыс. воинов Самуила и отправил их обратно, оставив на каждую сотню ослепленных по одному одноглазому поводырю. Во время походов против арабов этот василевс сжигал заживо или душил дымом искавших спасение в пещерах разбитых арабских воинов и мирных жителей.
Анна Комнин рассказывает о страшном и странном ритуале: византийские воины варили в котлах новорожденных турецких младенцев, отобранных у взятых в плен матерей, и окропляли этой водой правую руку.
В 1091 г. в конце апреля ромеи с помощью половцев наголову разгромили орду печенегов близ Эноса. Было взято множество пленных — не только воинов, но и женщин и детей. Почти по 30 связанных пленников приходилось на каждого ромея-воина. Ночью византийцы перебили всех пленных, поразив жестокостью своих союзников-половцев, которые в ужасе, не ожидая полагающихся им наград за помощь, бежали на север, к своим кочевьям.
Жестоко расправлялись ромеи не только с язычниками и мусульманами. Василий II, как сказано выше, избивал и ослеплял христиан-болгар. Константин IX Мономах повелел ослепить 800 русских, захваченных в плен после сражения у Варны в 1043 г. Исаак II после победы над норманнами уморил пленных голодом.
Расправа с мирным населением вражеской страны была обычным явлением. Алексей I во время похода против иконийского султана сравнял с землей все селения на пути в Иконию. Иногда византийцы переселяли жителей захваченных ими городов и деревень во внутренние районы империи, а на их место водворяли ромейских поселенцев. Часто пленные оказывались далеко от родной земли. Василий II, например, перевел армян во Фракию, под Филиппополь (Пловдив), а болгар — в Армению.
Враги Византии обращались с ромеями не менее жестоко. Они берегли жизнь и здоровье, как правило, только знатных ромейских пленников, надеясь получить за них высокий выкуп. Обнаружив на поле боя тяжело раненного, но еще живого полководца, печенег старался вылечить пленного. Василевс Феофил будто бы уплатил за нескольких знатных ромеев до 200 кентинариев, т. е. около полутора миллиона номисм. Один из полководцев Алексея I был выкуплен у печенегов за 40 тыс. золотых. Критские арабы, владевшие островом с 20-х годов IX в. до 963 г., считали выгодным не только брать в плен, но и покупать рабов-ромеев для последующего их обмена на своих соотечественников, попавших в плен (из расчета один ромеи за двух пленных арабов).
В июле 904 г. арабы взяли в плен в разгромленной Фессалонике около 22 тыс. человек. Часть из них они сразу отобрали для обмена и передачи ромеям за выкуп, остальных загнали в трюмы кораблей, отправлявшихся на Крит. Много пленных, особенно детей, умерло в пути. На Крите победители разбили пленных на возрастные группы, поделили и увезли в Сирию на рынки. Отсюда фессалоникийцы в качестве невольников попали даже в Эфиопию.
Иногда государство само выкупало у врага воинов-пленников, иногда помогало родственникам, но чаще эта забота целиком ложилась на плечи семьи, попадавшей в тяжкую кабалу к ростовщикам. В поэме "Дигенис Акрит" рассказывается о старике, отправившемся в далекую страну пешком, чтобы выкупить сына.
Довольно часты сообщения источников о случаях беспощадной расправы врагов с пленными ромеями. Девушек, не уступавших врагу, иной раз уничтожали, но обычно даже пираты, боясь, чтобы на рабынь не упала после насилия цена на рынке, щадили их. Некоторые арабские эмиры, не сумев принудить пленных знатных ромеев к переходу в мусульманство, убивали их. (Узнав об этом, ромеи избивали пленных арабов.) Никита Хониат говорит, что «скифы» приводили на свои попойки пленных воинов-ромеев и рубили их на части. Византийский стратиг Михаил Докиан, взятый в плен печенегами, поняв, что у него нет надежды остаться в живых, бросился на хана и убил его случайно подвернувшимся оружием. Печенеги вспороли ему живот. Роберт Гвискар оставлял для выкупа лишь часть пленных ромеев и венецианцев (их союзников), а остальным выкалывал глаза, обрубал носы, руки или ноги.
Содержали пленных в темницах в невыносимых условиях: в оковах, без света, в сырости, на грубой пище. Иногда даже знатных ромейских воинов арабы долго томили в тюрьме, а потом вооружали и посылали в бой против врагов эмира (но не против Романии).
Стратиг Иоанн Халд, взятый в плен Самуилом, сохранил верность своему василевсу, просидев в темнице 22 года, до завоевания Болгарии Византией.
Пленников, принадлежавших к правящим домам, использовали подчас в качестве орудия шантажа. Бывали случаи, когда в плен попадало лицо, неугодное василевсу: тогда враг легко превращал пленника — недавнего врага — в своего горячего и преданного союзника.
Иногда в литературе встречается утверждение, что благодаря веротерпимости арабов и турок и малым налогам, которые ими устанавливались, бывшие ромеи якобы благоденствовали под властью новых господ. Действительно, арабы и турки нередко предоставляли населению захваченных областей налоговые льготы: в течение нескольких лет они не требовали ничего. Но так обстояло дело до тех пор, пока власть завоевателей не утверждалась достаточно прочно: их меры были рассчитаны на то, чтобы ромеи сохраняли по крайней мере нейтралитет при столкновениях с Византией.
Причиной относительного благополучия в завоеванных арабами и турками районах правильнее считать прекращение войн, приводившее к нормализации быта.
Гораздо больше свидетельств иного рода — о массовом разорении подвергшихся нашествиям врагов земель. Города и села Малой Азии приходили в запустение; в покинутых церквах и монастырях бродили дикие звери; зарастали дороги и оросительные каналы.
Когда Алексей I сознавал, что не сможет отразить очередной набег турок, он предупреждал жителей об их приближении, и потоки беженцев со скарбом устремлялись на запад, стараясь не отстать от отступающего войска, которое порой брало их под защиту — помещало в середину каре, отбивая атаки вражеской конницы.
Жители-христиане занятых арабами и турками областей оказывались (так же как и евреи) в положении униженных: они должны были носить даже внешние знаки принадлежности к гонимой религии (пояс, черный тюрбан). Церкви и монастыри арабы перестраивали в крепости: монахов и священников при этом нередко уничтожали. Терпимы к иноверцам были отнюдь не все эмиры: время от времени устраивались погромы, когда христиан вырезали целыми семьями.
Не лучше обстояло дело и в европейских владениях империи, подвергавшихся нападениям иных врагов. Спасаясь от них, сельское население уходило в города и крепости, бросая имущество на произвол судьбы. Вторгшихся в империю норманнов Роберта Гвискара и Боэмунда Анна сравнивает с саранчой и гусеницами, ничего не оставлявшими после себя. Аркадиополь, по словам Никиты Хониата, после войны с «латинянами» "был населен только ветрами". Изредка среди пожарищ тайком пробирался уцелевший местный житель, разыскивая остатки движимого имущества или зарытый клад семейных ценностей. Поредело население и прибрежных районов, подвергавшихся нападениям пиратов и флота врага, многие острова обезлюдели, пришло в упадок рыболовство.
Источники говорят не только об уничтожении материальных ценностей в пожарах войн, но и о массовом истреблении мирных жителей. При взятии Фессалоники норманнами в 1185 г. у ворот и на улицах лежали груды трупов горожан, перебитых врагом или задавленных в панике.
Но местное население страдало не только от нашествия неприятелей. Порой огромный ущерб причиняли ему недисциплинированные или оголодавшие воины-соотечественники и наемники. В качестве доказательства редких добродетелей, свойственных ее отцу, Алексею I, Анна приводит приказ василевса вернуть окрестным жителям их имущество, отобранное византийским войском у половцев. Обычно же продвижение в провинциях собственного, ромейского войска мало отличалось от нашествия врага. Воины того же Алексея во время похода против печенегов в Паристрион пасли коней в крестьянских посевах, а фуражиры реквизировали в селах продовольствие. В предвидении длительной осады или даже в ходе нее военачальники изгоняли из крепости всех небоеспособных, а также боеспособных, но не имевших запасов продуктов.
Весьма редко мирное население добровольно оказывало помощь своей армии. Об одном таком случае рассказывает Анна: крестьяне, видя, что в сражении с ордой печенегов в 1091 г. побеждают ромеи, подвозили им воду. Чаще местные крестьяне предпочитали держаться от воинов подальше. Тяжкие повинности в пользу войска, снабжение его продовольствием и тягловой силой, участие в строительстве оборонительных сооружений, бесконечные неудачи василевсов, обиды, причиняемые воинами, озлобляли жителей. Иногда они помогали врагам, а не ромеям, как, например, горожане Атталии, греки-христиане, давно общавшиеся с турками. Если враг не принимался немедленно за грабеж, население вступало с ним в торговые отношения: жители приморских районов Далмации торговали с воинами Боэмунда.
В состав империи входили провинции с иноплеменным населением, некогда имевшим свою государственную традицию (болгары, сербы, армяне, грузины и др.), и эти иноплеменники, ненавидя власть византийских завоевателей, особенно часто проявляли сочувствие к их врагам.
*
Хоронить трупы павших воинов обязано было мирное население, однако оно оставляло без погребения тела врагов, даже единоверцев, вопреки предписаниям христианской религии.
Убитых в бою соратников воины-ромеи хоронили чаще всего сами. По приказу Константина V сетями вылавливали трупы утонувших после роковой бури, настигшей флот ромеев у Варны и Анхиала. Над братскими могилами насыпали курганы. Но не всегда ромеи, особенно после поражения и бегства, могли похоронить своих мертвецов, а враги поступали с ними, видимо, так же, как ромеи с погибшими врагами. Примечательно, что византийцы, даже имея возможность похоронить перебитое турками воинство Петра Пустынника близ берега Мраморного моря, не сделали этого ни вскоре, ни впоследствии, и множество человеческих костей лежало здесь долгие годы.
*
Поскольку с середины XI в. Византия вела преимущественно оборонительные войны, ее земли были главным театром военных действий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Систематические нашествия врагов, передвижения войск, осады, переход поселений из рук в руки исключали в ряде провинций вообще ведение правильного хозяйства: сжигались посевы и деревни, вырубались сады, вытаптывались виноградники и огороды, расхищалось имущество, угонялся скот, попадало в плен, гибло или разбегалось население. Пограничные территории, как и области, до которых доходил враг, порой оказывались не в состоянии не только платить налоги, но и кормить свое поредевшее население. Силы страны постепенно истощались. Массы беженцев, нищих и бездомных, наводняли соседние районы, где быстро росли цены.
Война оказывала влияние на все стороны жизни Византии. Империя, как и Русь, принимала на себя удары бесчисленных полчищ кочевников и иных народов, обитавших в глубинах Азии. И хотя хищения государственных средств чиновной бюрократией в империи были огромны и хотя создаваемые народом богатства расточались без пользы аристократической частью общества, все-таки основные материальные ресурсы Византийского государства уходили в Х-XII вв. на военные нужды.
Стратегические концепции, трактовавшие военные действия против врага как крайнюю стратегическую меру, рождала сама действительность. Кекавмен писал, что если сравнить ущерб, причиняемый стране войной, и убытки, которые она терпит, уплачивая дань врагу по мирному договору, то не останется сомнений в том, что военные расходы и убытки в результате военных действий во много раз превышают контрибуции.[2] Но и самый мир в международной обстановке того времени стоил империи дороже, чем многим иным странам Европы.
Вопреки официальной концепции превосходства Византии над другими странами, наиболее дальновидные византийцы с Х в. все чаще выдвигали идею равенства народов как основу добрососедских отношений. Аноним Х в. говорил, что нельзя называть болгар «скифами», или «варварами», что все христианские народы "чада божьи", а мир — непременное условие благополучия и процветания. Он ссылался на пример могущественных некогда персов и мидян, которые «сгинули» именно потому, что "возлюбили войны".
Правда, в народных эпических произведениях попытки василевсов заключать мир на условиях выплаты врагам высокой дани расцениваются иногда как непростительная слабость. Действительно, вряд ли можно одобрить подобную политику тех императоров, которые прибегали к ней, почти полностью пренебрегая организацией военной обороны. Но в целом, однако, оборонительная позиция империи с середины XI до середины XII в. представляется наиболее реалистичной.
Анна Комнин, несмотря на то, что ее отец почти все свое долгое царствование провел в походах, стремится всюду как акт политической мудрости подчеркнуть его миролюбие. Она называет безумием предпочтение войны миру. Расхваливает царственная дочь Алексея I и его искусство ведения переговоров, отмечая и хитрость, и выдержку, и вежливость, которые содействовали успеху: василевс не оскорблял склонного к миру врага надменностью. Скилица с возмущением замечает, что многие василевсы сами повинны в тяжких войнах с арабами: разозлив их, они лишили Романию покоя; они не соблюдали условия договора о выплате арабам невысокой дани (11 тыс. номисм) и наживались на бедствиях арабов в голодные годы, нещадно спекулируя продовольствием.
*
Редко византийские авторы осуждают василевсов и полководцев за корыстное вероломство в ходе переговоров (оно расценивалось как дипломатическая и военная хитрость), чаще хвалят за это. Скилица одобряет поступок Константина Диогена: он дал болгарскому военачальнику Сермону клятву, что гарантирует ему безопасность, и вероломно во время встречи заколол Сермона, ликвидировав таким образом последний очаг сопротивления в Болгарии. Одобряет этот автор и действия Георгия Маниака, который, пообещав арабам сдать утром крепость Телух и угостив их вином, ночью перебил спящих и отправил носы и уши доверчивых врагов своему василевсу. Анна с восторгом рассказывает, как ее отец ловко переманивал на свою сторону, прельщая дарами, приближенных Роберта Гвискара и Боэмунда. Она пишет и об искусной «победе» отца над половцами: пригласив половецких вождей на переговоры, обласкав их, одарив, устроив им баню и напоив их вином, василевс велел ночью убить всех. Впрочем далеко не справедливы встречающиеся иногда в литературе утверждения, что такого рода приемы борьбы использовались именно византийскими политиками, дипломатами и полководцами: вероломны и коварны были в то время и враги империи.
Иначе смотрели на дело немногие современники. Никита Хониат считал, что, прибегая к названным методам, василевсы только разжигают у соседей Романии ненависть к ней, и последствия этой ненависти сводят на нет временные успехи, достигнутые с помощью коварства. Этот автор сурово осуждает Алексея III, приказавшего разграбить имущество турецких купцов в Византии в ответ на то, что турки Кай-Хосроя I захватили коней, посланных василевсу в подарок из Антиохии. Кай-Хосрой извинился и готов был возместить ущерб. Необдуманные же действия императора привели к тяжелой войне. Ложные клятвы Алексея III, арест парламентеров врага в ходе переговоров, организация тайных убийств правителей соседних стран — все это, по мнению Хониата недостойное дело ни для человека вообще, ни тем более для василевса. В заключение подчеркнем еще раз, что в историографии, как правило, говорится об огромной роли византийской цивилизации, о ее широком и плодотворном культурном влиянии, но редко отмечается одно не менее важное обстоятельство: Византия на юге, а Древняя Русь на севере стояли как форпосты Европы в борьбе с кочевниками.[3] Защищенные с запада океаном а с востока Византией и Русью, страны Западной и Центральной Европы имели, несомненно, лучшие условия для развития. Их войны друг с другом и внутренние феодальные раздоры требовали несравненно меньшей затраты сил, чем отражение непрерывного натиска восточных племен и народов.
Глава 5 ВОССТАНИЯ И МЯТЕЖИ
Переходя к проблеме социальной и политической борьбы в империи, оговоримся с самого начала, что источники зачастую не дают возможности выявить классовые корни того или иного движения. Дело в том, что в антиправительственных выступлениях участвовали одновременно самые разные социальные группировки, каждая из которых преследовала свои собственные цели.
Особенно трудно определить при этом конкретные цели и требования угнетенных — главной силы всех крупных социальных движений в Византии. Идеи социального протеста народных масс нашли наиболее полное отражение в полуэпических анонимных произведениях, созданных представителями низших слоев населения, — в сборниках пословиц и поговорок, в апокрифах (тайных книгах, излагающих или объясняющих религиозные сюжеты иначе, чем церковь), в громовниках (толковниках естественных явлений и стихийных бедствий), в гадательных книгах. Там четко противопоставляются интересы имущих и неимущих, высказывается мысль о несправедливости установившихся порядков. "Бедным счастье — богатым пагуба", — сказано в громовнике XII в.; "бедные вознесутся богатые смирятся", — говорится с надеждой в одном из апокрифов. Причина всех бед, утверждается в повести о Стефаните и Ихнилате, — корыстолюбие, а высшее благо — независимость. "Нуждающийся ничего не получит у начальников, — сказано там же, — не достигнет высокого поста, как ручеек, высыхающий на пути к морю. Бедняк смело борется с опасностью, но напрасно. Что у богатых одобряется — у бедных порицается. Если бедняк мужествен, его называют наглым, если щедр мотом, если кроток — слабым, если скромен — глупым, если образован — пустым, если молчалив — дураком". Но достаточно стать ему обладателем солидной суммы денег, как он тотчас прослывет и доблестным, и разумным, и сильным.
Нота протеста частенько проскальзывает в житиях, хотя большинство их подверглось многократной обработке служителями официальной церкви: там нередко с симпатией и уважением говорится об оскорбленных и униженных, осуждается надменность, с какой богачи и вельможи обращаются с простолюдинами.
С горечью и недоумением о социальной несправедливости писали иногда представители византийской интеллигенции. Поэт XII в. Михаил Глика, приговоренный к казни, говорил:
Не поколеблись, не хвались, не трусь и не сдавайся, Ни перед кем не гни колен и не терпи насмешек… …………………………………………………………………. Там будет сборище льстецов, толпа тюремных стражей, И тех, кто пышно пировал, и паразитов низких, Кто в роскоши и в неге жил, кто знал одни забавы, Кто без труда провел всю жизнь, без пользы и без цели. Там будет суд для всех один, для всех одна оценка. Не будет презрен там бедняк, унижен неимущий, Там богача не предпочтут, не выслушают первым, Ему на пользу не пойдет ни чин, ни сан высокий. Там правду не удастся скрыть подарками и лестью, Замолкнет там язык молвы, доносы сикофантов, Погибнут ложь и клевета, утратят силу козни, Где справедливый судия, там приговор неложен. Нет пользы в хлопотах отца и в матери заботах, И только сила добрых дел тебе спасеньем будет… …………………………………………………………… Горевший в пламени богач молил, чтоб каплей влаги Ему язык смочил бедняк, лишь пальцем прикоснувшись, Такая кара ждет людей хвастливых и надменных, Кто о себе высоко мнит, и тех, кто призирает Сирот, несчастных, бедняков и пленников, и нищих, Смиренных, слабых и рабов, пришельцев и бездомных…[1]Формы социальной борьбы были весьма разнообразны: ересь, вооруженные восстания угнетенных, народно-освободительные движения подвластных империи иноплеменников, индивидуальный протест, участие трудовых масс в оппозиционной борьбе опальной знати и т. п.
*
Наиболее распространенной формой классовой борьбы эксплуатируемых крестьян и горожан была богословская ересь.
"Божий страх", постоянно внушаемый церковью глубоко религиозному средневековому человеку, предполагал безусловное смирение перед властью, ибо "нет власти — аще не от бога". Ропот, протест, сопротивление трактовались всегда как тяжкий грех. Возникала безвыходная ситуация: тяготы и гнет невыносимы, но бороться против них — значит впасть во грех. Для богатых и сильных такой дилеммы не существовало: они законно используют труд неимущих и богатеют, не совершая греха, если не крадут, не лихоимствуют, не занимаются разбоем. Если все-таки порой не обходится и без этого, то можно добиться прощения у бога, подав нищим, уделив толику бедным, одарив монастырь либо основав новый.
Но как бедняку улучшить свое положение? И вот тут на помощь приходила ересь. Представлявшийся ранее греховным путь борьбы со светской властью и официальной церковью объявлялся подвигом во славу "истинного бога". Так учили и манихеи, и павликиане, и богомилы, отвергавшие официальную церковь со всеми ее учреждениями, служителями и обрядами и светскую власть с подвластным василевсу аппаратом насилия.
Сила ереси состояла не в конструктивной программе — ересь не сулила своим приверженцам счастья в этой жизни: она утверждала лишь суровое подвижничество; ее сила заключалась в острой критике существующих социальных порядков. Павликиане, например, доказывали, что весь материальный мир есть творение дьявола (поэтому богородица не могла родить богочеловека, и Христос никак не мог иметь телесной оболочки), лишь мир духовный — мир божий. В самих еретических трактатах обычно не содержится призывов к ниспровержению несправедливого правопорядка (материальное зло неустранимо с помощью материальных средств) — ересь звала к пассивному сопротивлению господам, правителям, иерархам.
Однако еретики в Византии, как и в странах Западной Европы, брались иногда за оружие, защищаясь от репрессий властей. В IX в. павликиане вели настоящую затяжную войну против императорских войск. Своеобразное государство павликиан с центром в городе Тефрике в Малой Азии (на востоке фемы Армениак) пало только после того, как силы его окончательно истощились в длительной и кровавой борьбе. Вслед за решительной победой правительственных войск в 872 г. началось беспощадное истребление десятков тысяч еретиков, которых рубили, топили, вешали, сжигали, распинали.
Но ересь не была уничтожена окончательно. В середине Х в. она возродилась — и прежде всего в Северной Сирии. Иоанн I Цимисхий переселил еретиков в Северную Фракию (где уже в VIII в., если не ранее, находилась армянская колония и где широко были распространены и монофиситство, и павликианство), обязав их нести военную службу на границе с болгарами. Однако еретики стали не врагами болгар, а их добрыми соседями. Это способствовало возникновению новой дуалистической ереси (в ее славянской редакции) — болгарского богомильства. Павликиане и богомилы района Филиппополя оказывали влияние на окрестное греческое население. Они имели приверженцев и на юге Фракии, и в Малой Азии, и в самом Константинополе.
Отказ от труда на господ являлся одной из главных социальных идей богомильства. Ересиарх-богомил Василий, врач по профессии, пользовался авторитетом даже в столице империи. Его 12 помощников (столько же учеников было у Христа) назывались апостолами. Около 1111 г. Василия сожгли на ипподроме, а его учеников, как и вождей филиппопольских еретиков, — сгноили в тюрьмах.
Известно, что богомилы принимали активное участие в народно-освободительных восстаниях против византийского господства на землях бывшего Болгарского царства. В 1078 г. под руководством павликианина (богомила?) Леки восставшие захватили Сердику (Софию), а ее епископа убили. В 1084 г. богомил Травл, узнав о том, что его родные под Филиппополем пострадали как еретики, организовал из павликиан отряд и присоединился к печенегам. Укрепившись в заброшенной крепости, он совершал дерзкие набеги на окрестности Филиппополя. В битве с ним и его союзниками-печенегами был разгромлен и убит крупнейший полководец империи Григорий Бакуриани.
В Константинополе время от времени возникала то та, то другая ересь, о социальном составе приверженцев которой чаще всего почти ничего не известно. Рано или поздно ересиархи подвергались репрессиям, как некий Нифонт, произносивший при Иоанне II Комнине в собраниях и на площадях столицы речи против ветхозаветного "еврейского бога". Нифонт был брошен в темницу. Официальные церковнослужители и представители светской власти стремились опорочить личность учителей ереси как носителей порока с самого их рождения, а также доказать, что истоки ереси имеют иноземное происхождение. Анна Комнин, говоря об Иоанне Итале, и ее современник Киннам, рассказывая о некоем Димитрии, подчеркивают, что те долго жили на Западе, где понахватались всяких сомнительных идей, и мудрствуют, доказывая, что один и тот же (Христос) не может одновременно и равняться богу и быть менее его… (В евангелии действительно утверждалось, что сын божий равен богу-отцу, но там же Христу приписывалось высказывание: "Отец мой более меня есть").
*
Многие византийские авторы, безусловно осуждая всякие бунты «черни», всегда или почти всегда пишут, что их причиной были непомерный налоговый гнет государства и произвол чиновников, а также стремление властей поскорее расправиться с обиженными и недовольными вместо того, чтобы лаской и демагогией погасить их гнев.
Все народные восстания в IX–XII вв. проходили под лозунгом снижения налогов. Но если в IX-Х вв. народные массы, выступая с требованием снизить налоги, хотели посадить на трон "доброго царя" (как, например, во время восстания Фомы Славянина в IX в.), то в XI–XII вв., выдвигая то же требование, они мечтали об изгнании имперских властей из своей провинции или города вообще, т. е. об отделении от Византии (или «отпадении», как любили говорить византийцы).
Особенно ярко это стремление проявилось в городских восстаниях с XI в. Перед городом в этот период возникли перспективы более быстрого развития. Настойчивое желание правительства путем налогов, штрафов, пошлин и монополий изъять в пользу казны как можно больше накоплений и прибылей горожан озлобляло их. Наиболее острым недовольство было в приморских центрах (эмпориях).
К сожалению неизвестно, как развертывались события в восставших городах: были ли восстания организованы или мятежи вспыхивали стихийно, внезапно, как бурные пожары.
Импульсивными, разражавшимися внезапно и остро были бунты в Константинополе, сопровождавшиеся погромами, разрушением домов сановников и уничтожением налоговых описей. Не обходилось при этом и без бессмысленной жестокости, на которую толкала возбужденную толпу деклассированная чернь столицы — наиболее активная, рискующая лишь жизнью участница всех восстаний. Именно эта часть столичного населения во время опасных событий в городе легко поддавалась любой демагогии и переходила то на одну сторону, то на другую.
Довольно подробно в источниках рассказано о восстании в Константинополе в апреле 1042 г. Его причиной был усилившийся налоговый гнет, а также произвол чиновников — родственников и приближенных императоров Михаила IV и Михаила V. Поводом к восстанию послужила попытка Михаила V, племянника недавно умершего Михаила IV, сослать императрицу Зою, свою названную мать. Против василевса поднялся почти весь город. Ни гибель многих сотен восставших от руки воинов императорской гвардии и дворцовой стражи, ни возвращение Зои не погасили возмущения горожан, пока они не взяли дворец и не уничтожили налоговые списки, пока Михаил V не бежал в Студийский монастырь и "законные императрицы", Зоя и ее сестра Феодора, не были водворены на престол. Михаила, схваченного в Студии, ослепили.
*
Грозными народными движениями были народно-освободительные восстания болгар, италийцев, сербов, армян, грузин, преследовавшие одну основную цель отделение от империи и восстановление (или основание) собственного государства. Вместе с тем эти движения носили и антифеодальный характер, поскольку сопровождались избиением и поголовным изгнанием феодалов-иноземцев и собственных огречившихся магнатов. На сторону восставших переходили подчас и населенные греками провинции и города. Фема Никополь (на юге Эпира), пишет Скилица, целиком присоединилась к Петру Деляну в 1040 г. "не из любви" к болгарскому вождю, а из-за тяжести налогов.[2] Поддержала Деляна и часть болгарской знати, недовольной василевсом.
*
Случаи проявления индивидуального протеста и классовой ненависти обычно не фиксировались в хрониках. Но упоминания о них имеются и в исторических сочинениях, и в деловых документах, и в письмах, и в житиях. Например, Анна Комнин, походя роняет: "раб всегда враждебен своему господину", а "подчиненные вечно ненавидят своих повелителей". Подробно об эксцессах отчаявшихся одиночек или незначительных групп людей говорилось только тогда, когда жертвой их нападения оказывались либо важная персона, либо сам василевс. Так, в "Псамафийской хронике" рассказывается, как в праздник пятидесятницы в храме св. Мокия некий Стилиан разбил до крови палкой голову Льву VI. Поднялась паника — из церкви бежали все, включая патриарха (этого потом никак не мог забыть разгневанный василевс). Остались лишь шесть человек, которые и схватили покушавшегося. Пытки ничего не прояснили — у Стилиана не было сообщников. Его сожгли. Бросали камнями и в Никифора II Фоку; Константина IX Мономаха хотели как-то схватить на улице, и он поспешил в испуге укрыться во дворце. Иногда группы горожан вступали в схватку с воинами имперской гвардии. Весьма опасными были бунты простых воинов того или иного отряда, возмущенных неуплатой жалованья, дурным содержанием, произволом военачальников. Случалось, что такой бунт сопровождался немедленным избранием воинами из своей среды кандидата на престол.
*
Обычно народными волнениями сопровождался почти каждый правительственный переворот, а некоторые мятежи аристократии рождались в самом ходе стихийных народных восстаний против налогового гнета, как, например, мятеж Феофила Эротика на Кипре в 1042–1043 гг.
Столетие с начала царствования Василия II (976) до воцарения Алексея I Комнина (1081) предельно насыщено заговорами и мятежами (их было около 50). Василевсы жили в вечном ожидании беды, подозревая всех и вся. В повести о Стефаните и Ихнилате императору дается совет никому не доверять тайну, никому не показывать своих записей, никому не позволять прикасаться к воде, которую он пьет, к пище, которую он ест, к своим благовониям, постели, одежде, оружию, верховым и вьючным животным. Анна Комнин пишет, что ее мать Ирина сопровождала своего мужа Алексея I (страдавшего ревматизмом) в военных походах не как сиделка, а как надежный и неусыпный страж.
Борьба за трон, коль скоро она завязывалась, была борьбой не на жизнь, а на смерть. Физическое уничтожение соперника способствовало быстрейшему и простейшему решению спора. Михаила III зарезали на пирушке в загородной резиденции на Босфоре. Мятежник Варда Фока умер от яда во время битвы: отраву растворили в воде, которую слуга дал ему перед сражением. Никифора II убили в собственной спальне. Иоанна I отравили. Романа III утопили в ванне. Роман IV несколько раз чудом избегал в походе гибели: то обрушивалась его палатка, то в доме, где он спал, вспыхивал пожар…
Обычно мятеж начинался с заговора группы знатных лиц, дававших клятву в преданности задуманному делу. Обстоятельства вынуждали к такой осторожности, что порой члены семьи не подозревали об участии одного из них в столь опасном предприятии.
Характер заговора, число его участников, средства к достижению цели определялись принадлежностью заговорщиков к одной из группировок господствующего класса: столичной сановной знати или провинциальной военной аристократии.
Столичная бюрократия, не располагавшая значительными силами вне Константинополя, стремилась, как правило, осуществить быстрый дворцовый переворот, привлекая к участию в заговоре узкий круг доверенных лиц. Все ее помыслы были сосредоточены на организации тайного убийства императора либо во дворце, либо за городом, где император не имел многочисленной охраны. Лишь в случае разоблачения или неудачи заговорщики — столичные вельможи — решались поднять вооруженный мятеж в самом царственном городе. С отрядами вооруженных родственников, домочадцев и слуг они прорывались к св. Софии, выпуская по пути из тюрем заключенных и принимая в свои ряды любой сброд. В св. Софии узурпатора короновали: там хранилась корона, которой венчали василевсов, а акт коронации в случае отказа патриарха мог осуществить и простой священник. После этого новый «законный» василевс рассчитывал на более активную поддержку населения столицы.
Заговоры провинциальной военной аристократии, представители которой возглавляли крупные воинские соединения в различных районах империи, влекли за собой гораздо более значительные общественные потрясения. Шансов убить императора у участников таких заговоров было мало, и основным средством достижения успеха им представлялась открытая вооруженная борьба.
Действуя с крайней осторожностью (любая переписка с заподозренными или опальными грозила тюрьмой либо ссылкой), заговорщики старались привлечь на свою сторону как можно больше видных представителей знати: военачальников гарнизона и дворцовой стражи, сановников и вельмож и даже личных слуг императора.
Весьма важно было заручиться поддержкой соратников-полководцев. Перед открытым выступлением Алексей I, например, посетил втайне наиболее крупных полководцев. Нередко, впрочем, собирая для выступления войско, стратиг-мятежник попросту лгал, ссылаясь на якобы полученный им приказ василевса. В такие моменты знатные заговорщики проявляли особую, не свойственную им ранее заботу о простых воинах. Узурпатор Варда Склир не гнушался есть с ними за одним столом и пить из одного кубка. Воины — участники мятежа ждали, естественно, награды за измену законному императору. Узурпатор опасался их недовольства и потворствовал им в грабежах. Алексей Комнин, даже заняв Константинополь, не мешал воинам грабить горожан, так как боялся, что, запрети он им это, они пойдут против него самого.
Серьезное значение для исхода мятежа имела позиция церкви: и митрополитов в провинциях, и иерархов в столице. Сами патриархи иногда были не только участниками, но и инициаторами заговоров. Лев VI принудил патриарха Николая отречься от сана, дав ему понять, что располагает документами об участии владыки в заговоре Андроника Дуки.
Некоторые мятежники искали помощи за границей. Никифор III Вотаниат, отнявший трон у Михаила VII Дуки, привел с собою войска турок-сельджуков и тем самым помог им овладеть значительными районами Малой Азии. Никифор Василаки, поднявший против этого василевса мятеж, нанял через епископа Девола воинов из Италии. У соседних правителей, враждебно относившихся к василевсу, неудачливый претендент на престол находил порою убежище после провала заговора.
Заботились заговорщики и о том, чтобы обеспечить безопасность своим родственникам в столице, которых император мог арестовать и использовать для давления на мятежников. Обычно родственники, предупрежденные заранее, либо бежали из столицы, либо спешили укрыться в церкви, чаще всего в св. Софии. В Византии сохранялась старая традиция предоставлять убежище тем, кто просил его у церкви в момент опасности: храм святителя Николая около св. Софии в народе так и называли «Убежищем». Очень часто заговорщики с помощью слуг и друзей попросту «выкрадывали» из столицы некоторых членов семьи.
Иногда против императора выступали одновременно два-три узурпатора, и расстановка сил в борьбе становилась особенно сложной. Порой такие узурпаторы пытались организовать коалицию против правящего василевса. Весьма показательно, что два мятежника — Варда Фока и Варда Склир — впервые с VII в. обсуждали проект раздела империи: Фоке в случае победы отходили европейские, более бедные провинции, но зато с великим Константинополем, Склиру малоазийские и прочие восточные области. Фока предпочел, однако, хитростью заманить Склира в ловушку и бросить его в темницу. Второй раз такой проект выдвигал через 100 лет Никифор Мелиссин, оспаривавший трон у только что его захватившего родственника — Алексея I. Но чисто феодальная концепция раздробления страны на независимые части, родившаяся в среде провинциальной военной аристократии и находившаяся в противоречии с традиционной идеей о неделимости единой и вечной империи, до начала XIII в. не нашла воплощения в жизнь.
Когда исход борьбы за престол трудно было предугадать, перед соратниками узурпатора и перед видными представителями знати, окружавшими законного василевса, вставал тяжкий вопрос о выборе. Большинство умело точно определить момент для проявления безусловной верности или сулящего выгоды предательства.
Узнав о мятеже, василевс требовал иногда клятвы на верность у каждого синклитика. Так сделал Михаил VI. Примечательно, что синклитики, уже решившись перейти на сторону более сильного (Исаака Комнина), выступили против императора лишь после того, как клятва-документ с их подписями была с помощью патриарха взята у Михаила VI и уничтожена (каждый опасался в те неустойчивые времена прослыть клятвопреступником).
Лишь незначительное меньшинство заговорщиков или сторонников василевса в случае очевидного поражения своего повелителя продолжали отчаянное и безнадежное сопротивление. Во время упомянутого выше восстания в столице в 1042 г. наперсник Михаила V, его дядя новелиссим Константин, с группой слуг и родственников сумел пробиться во дворец на помощь отчаявшемуся племяннику. Смертельный враг Враны, поднявшего мятеж, Мануил Камица, отдал почти все свое имущество нуждавшемуся в деньгах Исааку II на сбор сил против узурпатора. Прочие же в критические моменты бросали своего вождя. Всесильные некогда слуги свергнутого Никифора III, Борил и Герман, которых он считал самыми преданными, прежде чем бежать, грубо сорвали с него драгоценности.
Эпарх столицы, участвовавший в заговоре против Константина Х Дуки, догадавшись о провале, поспешил сам вооруженной рукой подавить остатки сил мятежников в столице, но был арестован тотчас после доклада василевсу о своем успехе.
Для столичного вельможи разоблачение в деятельности против василевса было равноценно гибели. Для узурпатора-полководца в момент, когда отдавался приказ о его аресте, борьба зачастую только начиналась: его главные силы находились в провинции. Надо было лишь бежать. Порой такой государственный преступник успевал перед побегом даже перебить быстроногих коней из императорских конюшен, чтобы вернее уйти от погони. Так сделал ночью Лев Торник, двинувшийся затем на столицу из Адрианополя. Так поступил и захвативший трон Алексей Комнин: с помощью слуг он сбил замки с ворот императорских конюшен близ Влахернского дворца и мечами перерубил ноги лошадям.
Обычной участью потерпевшего неудачу узурпатора, как и свергнутого василевса, было ослепление (согласно прочно установившемуся обычаю, слепец не мог занимать трон). Тот, кому удавалось избежать этой кары, постригался в монахи или становился служителем церкви. Иногда мятежников и свергнутых коронованных особ ссылали на острова, которые так и назывались «Принцевы».
Наказывали не только самого заговорщика, но и обширную группу его родственников и приверженцев. Их владения конфисковывались либо в пользу казны, либо в пользу родственников императора и полководцев, подавивших мятеж. Алексей Комнин, будучи великим доместиком, схватил в Фессалонике разгромленного им Никифора Василаки и забрал себе все богатства узурпатора. Простых воинов, как боровшихся на стороне узурпатора, так и защищавших свергнутого василевса, серьезно не наказывали. Их порой лишь проводили по городу со связанными руками. Часто они просто на время разбегались по домам и пережидали смутный период, ибо, как заметил Никита Хониат, рядовые воины "имели защитой свое ничтожество".[3] Если побеждал узурпатор, то он торжественно въезжал в столицу и с первых же дней принимался за чистку правительственного и дворцового аппарата. Высокие посты и привилегии он раздавал своим соратникам. Зачастую еще до решительной победы почти полностью комплектовалась новая сановная верхушка империи.
Мятежи узурпаторов — представителей высшей византийской знати были порождены социально-общественными и политическими процессами, протекавшими в недрах страны. И хотя к войскам мятежника порой примыкала часть угнетенного населения, мятежи не имели ничего общего с народными движениями. Лишь для того чтобы выиграть время и обеспечить лояльность населения, узурпаторы, едва подняв мятеж, распоряжались снизить налоги в том районе, в котором успевали утвердить свою власть. Но очень скоро мятежник забывал о своих указах: нуждаясь в средствах для решающих битв с законным императором, он облагал население тяжкими поборами. По словам Михаила Атталиата, тот же Никифор Вриенний, которому сначала рукоплескали жители, затем "выжимал из населения не крови, а денег потоки".[4] Никифор потерпел неудачу, но и воцарение победившего мятежника не вело к существенным переменам в жизни трудового населения страны. Налоговый гнет иногда даже усиливался.
Мятежи, как и война, были бедствием для народных масс, разоряя их, а иногда становясь причиной физической гибели множества людей. Поэтому официальные и неофициальные призывы представителей византийской интеллигенции к сохранению мира в среде знати, выступления против "гражданской бойни" и частых перемен на престоле являлись, видимо, для своего времени прогрессивными, ибо объективно были выгодны трудовому населению Византии.
Что касается собственно народных, классовых движений, то в их характере на протяжении IX–XII вв. произошли существенные изменения. Число крупных крестьянских восстаний с укреплением феодальной системы и упрочением в поместьях знати частного аппарата принуждения постепенно сокращалось. Свободное крестьянство, в IX- Х вв. бурно протестовавшее против утверждения феодальной зависимости и усиления налогового гнета, все более слабело. Усилилось крестьянское движение лишь в окраинных, пограничных провинциях империи, но оно отличалось здесь значительным своеобразием — это была народно-освободительная борьба иноплеменных народов против византийского господства. Крестьянство было главной силой восстаний болгар и сербов в середине 80-х годов XII в., когда эти народы навсегда избавились от владычества империи.
Гораздо более частыми в XI–XII вв. по сравнению с IX-Х столетиями стали городские народные восстания против налогового гнета и торговой политики двора. Но горожане не искали союза с крестьянами, и власти быстро подавляли классовые движения в городах.
Глава 6 СЕМЬЯ И БРАК
Аморфность корпоративной структуры византийского общества, неустойчивость сословных социальных связей обусловили особенно значительную роль родственных отношений в жизни ромея. Семья для него являлась в сущности единственной надежной опорой. Ее поддержка была тем более существенной, что византийская семья, и в высшей и в низшей социальной среде, представляла собой, как правило, не индивидуальную малую, а большую семью, включавшую в себя несколько индивидуальных семей. Женатые сыновья редко отделялись от своих родителей, во всяком случае — до достижения ими имущественной правоспособности (до 24–25 лет). Чрезвычайно ранние браки приводили к тому, что в одном доме нередко жили вместе с родителями и дедами даже женатые внуки. В такой семье отнюдь не молодожены — почти дети, а представители старшего (и далеко не старого) поколения определяли весь уклад и распорядок жизни.
Закон разрешал браки для юношей с 15 лет, а для девушек — с 14 либо соответственно — с 14 и 13 лет. Источники пестрят сообщениями о женитьбе зрелых мужей и даже старцев на юных девушках, почти девочках. Случаи нарушения возрастных ограничений были более характерны для состоятельных кругов, чем для простонародья. Митрополит Апокавк расторг брак между 30-летним мужчиной и 6-летней девочкой, наказал эпитимьей ее родителей и растлителя, а священника, освятившего этот акт насилия, отстранил от службы. Среди простых людей брак обычно заключался с трезвым расчетом на дополнительные рабочие руки, а не лишний рот.
Еще в VIII и IX вв. брак бедняков, не имевших средств для его «благоприличного» письменного оформления (это было сопряжено с расходами), признавался законным при одном благословении священника либо при устно высказанном взаимном согласии в присутствии нескольких друзей-свидетелей. Однако эту практику заключения брака без формальностей к началу Х столетия власти стали расценивать как юридически несостоятельную. Отныне оформление брака через официальный публичный обряд венчания в церкви считалось обязательным. Государство было заинтересовано в укреплении семьи: устойчивая семья с большим успехом справлялась с налоговыми тяготами и поставляла воинов для армии.
Устанавливая возрастные ограничения для вступавших в брак, закон исключал также браки для лиц, состоявших в родстве вплоть до шестого колена, а в XI–XII вв. — даже до седьмого. Непреодолимым препятствием признавалось духовное родство: кумовья (крестные отцы и матери) и их дети считались родственниками "по духу". Например, за брак (и за связь) крестного отца с крестницей карали, как за кровосмесительство, отсечением носа. Запрещались браки христиан с язычниками, еретиками, мусульманами, иудеями. Препятствием к браку служили душевная болезнь, заразный недуг, тяжкое увечье. Чаще всего, однако, планы молодых людей, решивших вступить в брак, рушились из-за отказа родителей дать на него свое согласие, ибо практически почти ни один брак не заключался без определенных, прежде всего материальных, расчетов старших представителей обеих вступающих в родство семей.
Именно эти расчеты обусловили широко распространенный в Византии обычай обручения малолетних (с семи лет, а для девочек- с еще более раннего возраста). Помолвка сопровождалась церковной церемонией; заключался договор, в котором оговаривались размеры приданого, величина предбрачного дара жениха, условия наследования имущества, указывалось место жительства невесты и жениха до брака и т. п. Если жених отказывался вступить в брак, его предбрачный дар, согласно закону, оставался у невесты, которая сохраняла за собою все свое приданое.
Обычай обручения был официально признан законом и контролировался властями. Расторжение помолвки (без достаточных оснований) одной из сторон влекло за собой не только уплату неустойки в пользу другой стороны, но и взыскание штрафа в казну. Сохранилось несколько детально описанных дел, связанных с расторжением помолвки. Часто упоминавшийся выше философ Михаил Пселл рано потерял дочь и взял на воспитание сироту. Когда девочке исполнилось семь лет, он обручил ее с 18-летним юношей Элпидием Кенхри. Пселл дал за удочеренной 50 литр золота в качестве приданого, причем 20 из них с согласия Элпидия засчитал за выхлопотанный им для жениха титул протоспафария, который приносил одну литру золота в год в качестве руги. Элпидий не оправдал надежд Пселла: он оказался бездельником (а должность он получил — опять-таки благодаря Пселлу — для его лет весьма почетную), кутилой и повесой; оскорблял невесту и Пселла. Философ возбудил дело о расторжении помолвки. Как инициатор разрыва Пселл должен был уплатить Элпидию неустойку в 15 литр, и отдать ему предбрачный дар невесте (5 литр), а юноша обязывался вернуть приданое. Любопытно, что суд признал законным приравнять хлопоты (!) Пселла о титуле протоспафария к реальной сумме в 20 литр. Элпидий вернул 30 литр, и философ, проигравший процесс, не потерял в сущности ничего.
В другом случае попытка расторжения помолвки не удалась вообще, несмотря на знатность возбудившего об этом дело жениха — Ильи Комнина. Его ссылка на то, что он подписал договор, будучи несовершеннолетним, принята во внимание на была.
Еще большую строгость проявлял суд при рассмотрении бракоразводных дел. Тенденция к ограничению поводов для развода в Х-XI вв. усиливалась. Огромную помощь светской власти оказывала при этом церковь: далеко не всякий и не всякая в то время были способны перенести моральное осуждение церкви и находящейся под ее влиянием среды. Уважительными причинами для расторжения брака считались: супружеская неверность, ересь, сумасшествие, покушение на жизнь супруги (или супруга) и умолчание о подобном умысле других, проказа, импотенция (со дня свадьбы до истечения трех лет).
При разборе бракоразводных дел, предупреждает законодатель, нужна крайняя осторожность: если показания о вине ответчика дают его родственники по крови, то это достойно веры, если же хула исходит от родичей истца, то чаще это клевета (за нее полагалось отсечение носа). Личная неприязнь или любовь к другой (либо к другому) менее всего могла оправдать иск о разводе в глазах и судей, и родителей супругов. Эти нравы в Х-XI вв. царили даже в семье всемогущих василевсов. Василий I, силой женивший Льва VI на "постылой Феофано", как простолюдин, избивал сына за связь с возлюбленной Зоей Карвонопсидой ("Огненноокой"). Не смог добиться развода Лев VI и тогда, когда стал самодержцем, а Феофано заявила о желании уйти в монастырь: патриарх запретил постриг и не дал согласия на развод.
Закон был все-таки более снисходительным к мужчинам: чаще всего он подчеркивал ответственность женщин за прочность брака, устанавливая для них и более суровые наказания. Застигнув на месте неверную жену, муж имел право безнаказанно убить ее вместе с любовником. Недаром один из видных чиновников, уличенный в связи с замужней женщиной, бросил все и в страхе бежал на остров Лемнос. Мог муж в подобном случае и выгнать жену из дома немедленно, а сам, оказавшись в таком положении, — отделаться двенадцатью палочными ударами. Строже карал закон мужчину, который, будучи женатым, разрушал чужую семью: тогда и он, и замужняя матрона подвергались упомянутому выше наказанию, ибо такие дела, подчеркивалось в судебнике, ведут к "разорению детей и нарушению заповедей господних". Муж, знавший об измене жены и ничего не предпринявший, подвергался публичному бичеванию и изгонялся.
Церковь и светский закон отрицательно относились уже ко второму браку, с огромным трудом и всякого рода ограничениями допускали третий и совсем запрещали четвертый. По мнению Кекавмена, второй брак не приносит счастья, а в тех случаях, когда в новой семье имеются сводные дети, даже гибелен для нее: возникают раздоры, и все идет прахом. Закон иногда обходили. Сам василевс Лев VI женился в третий раз (правда, он не сумел избежать громкого скандала). Встречались и «четверобрачники», но сожительство таких супругов не считалось законным в глазах властей. Только в конце Х в. патриарх Сисиний счел необходимым признать юридически правоспособными семьи, в которых супруги (или хотя бы один из них) вступили в брак в четвертый раз до патриаршего указа, однако он снова подтвердил, что новые случаи «четверобрачия» церковь будет считать нарушением закона.
*
Оценивая положение женщины в византийском обществе, ученые давно уже обратили внимание на одно существенное противоречие: закон препятствовал проявлению какой-либо активности женщин в общественной жизни и содействовал уравнению их имущественных прав с правами мужчин. В первой трети нашего столетия в историографии возник спор: одни историки считали, что в целом византийская женщина находилась в приниженном положении и в семье и в обществе, другие отстаивали мнение, что она пользовалась гораздо большим уважением и имела больше прав, чем женщина в странах средневекового Запада.[1]
Ближе к истине, пожалуй, первые. Закон в Византии не разрешал женщине свидетельствовать на суде, представлять перед судом других лиц, осуществлять опеку, вступать в качестве равноправного члена в большинство торгово-ремесленных корпораций, занимать какую бы то ни было официальную должность. Знатные женщины неофициально носили титул, присвоенный их мужьям (жена протоспафария — протоспафарисса), присутствовали на торжественных приемах во дворце (но только вместе с мужьями), окружая императрицу в соответствии со своим рангом. Специально для женщин предназначались в Х-XII вв. лишь два титула (без должности), правда, весьма почетных: зоста-патрикия ("патрикия опоясанная") и севаста. Обе в числе других пяти-шести высших вельмож империи допускались к трапезе за одним столом с василевсом. Но этой парадно-представительной функцией и ограничивалась роль даже севасты, если только она не пользовалась неофициальным влиянием как фаворитка императора.
Совершенно иная тенденция обнаруживается в византийском законодательстве VIII–XI вв. при определении прав женщины в семейно-имущественных отношениях. Государственная власть стремилась к обеспечению имущественных прав женщины, в особенности жены и матери, все более настойчиво подчеркивая ее равноправие с главой семьи — мужем. Хотя на практике в указанный период имущество жены и мужа объединялось и все чаще становилось общей собственностью, закон сохранял право распоряжаться приданым (в его денежной оценке) исключительно за женой. Сохранение прав женщины на приданое являлось своего рода гарантией имущественного обеспечения ее и ее детей в случае какой-либо беды. Приданое (в кругах знати оно достигало порой 100 литр золота) судебные власти не имели права отбирать для погашения долгов несостоятельного должника-мужа. Если жена умирала бездетной, муж получал четверть ее приданого, остальное отходило ее наследникам по завещанию; жена же в подобном случае наследовала половину имущества мужа, а если имела от него детей — то все его имущество.
Особенно тщательно регулировал закон имущественные права вдовы, обремененной детьми (налоги с нее устанавливались официально по более низким нормам).
Отношения супругов в семье определялись не столько законом, сколько обычаем и религиозно-нравственными правилами. Значительную самостоятельность в семейных делах проявляли порой представительницы социально полярных кругов общества. Существенной была роль жены в хозяйственной жизни бедняка. В состоятельных семьях военнообязанных крестьян жена в отсутствие мужа управляла всем хозяйством, а чем позже, тем чаще на ее долю приходилась и основная тяжесть физического груда на поле (крестьянин-воин, уходя в поход, все реже оказывался в состоянии нанять мистиев). Несмотря на наличие особых управляющих, велика была роль жены-хозяйки и в поместьях знатных вельмож, полководцев и сановников, служивших иногда в отдаленных провинциях. Например, жена Ватаца, соратника Никифора Вриенния в мятеже против Михаила VII, сумела подчинить себе весь город Редесто, где находился ее дом: она принудила горожан присоединиться к мятежникам, склонила на их сторону городской гарнизон, позаботилась об обороне и охране стен.
Социальный вес ближайших родственников женщины и размеры ее приданого оказывали, разумеется, заметное влияние на ее положение в семье мужа. Колоритную сцену супружеской ссоры нарисовал Феодор Продром, поэт XII в. Высокообразованный, но не занимавший постоянной должности, а поэтому плохо обеспеченный, он взял в жены представительницу средних городских кругов, приданое которой составляло в сущности все достояние семьи. Его жена исполнена презрения к учености и музам мужа, не стяжавшим ему славы и неспособным прокормить семью. Она обрушила на голову неудачливого поэта потоки брани и упреков: ходит она в обносках, даже рубашку ей приходится шить себе самой, не в чем выйти на улицу, стыдно сходить в баню — столь бедны ее одежды; она и сукновальщица, и портниха, и пряха, и ткачиха, кроит и шьет плащи и штаны; ест же раз в день, а два сидит впроголодь… и у мужа она, как прислуга, на побегушках, а он — нищий побродяжка, одетый в старье; спал он некогда на соломе, а она — на перине; он и ныне живет на ее подачки, кормит его она благо есть приданое, а он сидит, как курица, и ждет обеда. Не можешь содержать семью, заключает потерявшая терпение женщина, — не надо было жениться, а женился — так помалкивай и слушайся…
Как ни велика была роль беднячки-труженицы или знатной хозяйки, в большинстве полноценных семей женщина редко добивалась полного равенства с мужем. Иоанн Апокавк сообщает о многочисленных жалобах простолюдинок, просивших у него защиты от тирании мужей, от непосильного труда и побоев. Власть мужа (или тестя) была непререкаемой; она имела прочные традиции, восходя к власти pater familias ("отца семейства") эпохи Римской империи. Целиком оправдывала тиранию мужчины в семье и христианская этика: природа женщины объявлялась потенциально порочной — именно женщина была виновницей "первородного греха". Намекая на это, Кекавмен советует глаз не спускать с жены, невесток и подросших дочерей как способных на любой неожиданный поступок. Их позор, поучает он, — недосмотр мужчины, причина уныния всей родни, укус ехидны в сердце.
В средних и высших слоях общества женщины были обычно затворницами в гинекеях. Лишь изредка знатная дама или девушка решалась отправиться на богомолье или в публичную женскую баню (и то в окружении служанок). Без ведома хозяина ни один мужчина под страхом суда не имел права отворить дверь чужого дома.
Иоанн Камениат, описавший разорение арабами Фессалоники в 904 г., приводит одну деталь, которая, по его мысли, способна сама по себе дать представление о грандиозности постигшей город катастрофы. Описывая картины убийств и разбоя, автор поражается, что женщины "не желали сдерживать себя и прятаться от глаз мужчин, не испытывая смущения, носились по городу с распущенными волосами, презрев всякое приличие" и издавая вопли. И это делали, удивляется Камениат, не только матроны, но даже девушки-затворницы, "лелеемые для брака".
*
Вступив в брак, супруги с нетерпением ожидали появления детей — их отсутствие воспринималось как божья кара. В житиях нередко рассказывается о бесплодии женщины, о растущей неприязни мужа и, наконец, о чудесном «вмешательстве» свыше. Особую радость вызывало рождение мальчика — кормильца под старость. Когда в семье с небольшим достатком рождалось несколько сыновей, то родители в VIII–XI вв. нередко оскопляли одного из них. Как правило, сын-евнух отправлялся в город, чаще всего в столицу, мечтая сделать там духовную карьеру (много евнухов было среди епископов, митрополитов, диаконов крупных церквей и даже патриархов) либо устроиться в гинекее или мужских покоях вельможи, а возможно, и самого василевса. Немало евнухов занимало важнейшие дворцовые должности, а порой, и не занимая их, в качестве спальничих — доверенных лиц императора — играло значительную роль в политической жизни государства. Иногда сына оскопляли и в ожидании от него духовного подвига. По словам хрониста Х столетия, евнухов в императорском дворце было больше, чем мух в загоне для скотины.
Мер к ограничению рождаемости супруги не принимали. Попытки вытравить плод (законный или внебрачный — безразлично) расценивались как великий грех и сурово карались и властями и церковью.
В отличие от Западной Европы в Византии (с VIII столетия) все сыновья и дочери одной и той же родительской пары имели равные права на наследство. Лишить кого-либо из них законной доли можно было только в исключительных случаях (если дети бьют и оскорбляют родителей, клевещут на них, отрекаются от сидящего в тюрьме отца, вступают в связь с мачехой, заключают без согласия родителей брак, оставляют их без ухода при потере ими рассудка и т. п.). Если завещание отсутствовало, то суд поровну распределял имущество умерших родителей между их детьми.
За внебрачными детьми закон также признавал некоторые права на наследство родителя. Но в целом положение "от блуда рожденного" в обществе было тяжелым, особенно если отцом его являлось духовное лицо (греховность рождения как бы удваивалась). Если незаконнорожденный оставался на нижних ступеньках социальной лестницы, его жестоко травили, если он взбирался по ней вверх, положение дела нередко менялось: незаконный сын Романа Лакапина от «скифянки» (болгарки или русской) Василий Ноф помыкал самой законнорожденной знатью.
*
В империи имелось немало детей-сирот. Если сирота наследовал имущество, над ним устанавливалась опека. Опекуны — частные лица часто обкрадывали опекаемых, и закон поэтому рекомендовал богоугодным заведениям осуществлять опеку над сиротами. Часть сирот-нищих государство устраивало в казенные орфанотрофии ("сиротопиталища" — приюты) при церквах и монастырях; ведал ими особый дворцовый чиновник, а обслуживали их клирики и монахи. При Алексее I царские воспитанники, сироты — дети погибших видных воинов, зачислялись в особый воинский отряд, членов которого называли «бессмертными», ибо на место каждого убывшего тотчас заступал новый.
Большинство сирот не попадало, разумеется, ни под опеку, ни в приюты. В житиях частенько мелькает фигурка деревенского сироты-пастушка, который пасет коз или свиней за черствый кусок в зной и в холод, ночует в поле и едва не умирает от голода. Именно на детях в первую очередь в ту суровую пору отражались стихийные и общественные бедствия. Дети-рабы и дети-евнухи наполняли дома вельмож. Но таким сиротам, можно считать, повезло. Другие просили милостыню на папертях, принуждались к непосильному труду в эргастириях мастеров и торговцев, шныряли по рынкам под надзором взрослых воришек, а девочки-сироты стояли "на своих местах" в зловонных переулках и на площадях.
*
Спасения или помощи можно было ждать главным образом от родственников. Помни о родственниках и оказывай им благодеяния, поучал Кекавмен: не исключено, что именно для этого господь даровал тебе успех. Послушание отцу первая заповедь, почтение к матери — первейший долг. Совершив переворот, братья Комнины колебались: то ли поскорее занять дворец, то ли поторопиться к матери, чтобы засвидетельствовать ей свое сыновнее почтение. Порой, во время мятежей аристократии, василевс призывал мать мятежника, убежденную в греховности поступка сына, и отправлял ее в качестве парламентера: бывали случаи, когда ее увещевания и угроза родительского проклятия приносили василевсу бескровную победу. Умершего родителя мужчина-ромей должен был оплакивать с причитаниями (согласно семейному ритуалу, мужчина — глава семьи делал то же и при всяком ином несчастье в семье).
Естественно, что историки больше всего знают о характере родственных отношений в знатных и преимущественно в царских семьях. В семье василевса родственные чувства нередко приобретали уродливый облик. Ирина в борьбе за престол в 797 г. ослепила родного сына. Евдокия, вдова Константина X, втайне от своих сыновей обвенчалась с Романом Диогеном, и сыновья через четыре года свергли и ослепили отчима, а мать постригли в монахини. Сестра Мануила I предала мужа, донеся на него брату, а жена Константина VII, напротив, помогла мужу расправиться со своими родными братьями. Константин VII заточил в монастырь сестер и свел в могилу мать. Суровый холостяк Василий II, невзирая на мольбы и слезы единственной сестры Анны, силой отправил ее в жены далекому повелителю русских в 989 г. Но он же страстно любил племянницу Зою, дочь его брата Константина, которого мало жаловал.
С любовью и заботой чаще относились друг к другу представители «средних» слоев населения и интеллигенции. До глубокой старости сохранили чувство взаимной братской любви видные деятели и крупнейшие писатели конца XII-начала XIII в. Михаил и Никита Хониаты.
*
Помимо многочисленных родственников, проживавших в одном доме, в семье ромея, особенно богатого и знатного, жило множество людей, не связанных узами родства с хозяином (воспитатели детей, друзья, нахлебники, наемные работники, слуги, рабы и т. п.). Число таких домочадцев у столичного аристократа было порой столь велико, что он мог в случае нужды сформировать из них значительный вооруженный отряд. Богатые дома в Константинополе занимали целые кварталы и представляли собой сложный комплекс с многочисленными постройками, амбарами, помещениями для прислуги скотными дворами, конюшнями, погребами и обширным внутренним двором с портиками и галереями.
Тем не менее византиец, как правило, проявлял величайшую осторожность при допуске посторонних в свой дом. В изображении Кекавмена византийская семья предстает как тщательно отгороженный от чужих глаз мирок, постоянно готовый к осаде извне. Этот полководец, вообще крайне недоверчиво относившийся к дружбе, советовал не оставлять в своем доме иногороднего друга даже на несколько дней: друг, оказывается, может соблазнить жену, невестку или дочь, вызнать размеры доходов, изучить недостатки в домашнем распорядке, чтобы затем забавлять своих домашних рассказами. Лучше послать другу какую-нибудь вещь в знак внимания.
Слуги в доме, даже несвободные, занимали самое разное положение. Некоторые удостаивались безграничного доверия хозяина, служили управителями и телохранителями. Бывшие слуги, в особенности потомственные, получали иногда высокие официальные посты, если счастье улыбалось их господину. Слуга отца Алексея Комнина — Лев Кефала стал известным полководцем, другой слуга этого императора — первым советчиком василевса, его поверенным и духовником. Большинство слуг, однако, находилось под строгим надзором господина и его управителей. Слуги могли не только "пожрать прибыль" хозяина, как говорит Кекавмен, до принять участие в политической интриге, изменить господину и даже посягнуть на его жизнь.
*
Широкие родственные связи каждого магната и сановника, значительное число зависимых от них лиц и множество, приверженцев, превращали их семьи в серьезную политическую силу. Поэтому заключение брака в знатной среде все чаще в XI–XII вв. становилось не только средством, позволявшим упрочить экономическое положение семьи, но и важной политической акцией, укреплявшей влияние всего родственного клана. Заранее тщательно продумывали, чью поддержку себе обеспечить, какие противоречия сгладить, к какой группировке примкнуть. Опасаясь полководца Никифора Фоки Старшего, временщик Заутца предложил ему руку своей дочери Зои. Фока отклонил предложение (к Зое был неравнодушен сам василевс) и лишился поста доместика схол (главнокомандующего).
Устройство браков было для скучающих обитательниц царского гинекея своего рода развлечением и видом благотворительности: императрица и знатные дамы подыскивали женихов для девушек-сирот, для вдов и невест из некогда видных, но обедневших семей. Но подчас заключение важного брака не обходилось без вмешательства гораздо более влиятельных лиц, вплоть до самого василевса. Брак по воле самодержца являлся порой и рассчитанной карой: навязывали уродину или «безродную».
С начала правления Алексея I Комнина в среде византийской аристократии стал утверждаться западный обычай: у государя испрашивалось разрешение на брак. Этот император сделал систему брачных связей одним из важных рычагов своей политики в сложной внутренней борьбе за власть. Особую осмотрительность проявляли Комнины при заключении брачных связей членов своего рода. Некогда, еще в IX-Х вв., в царской семье поступали совсем иначе. Константин VII разрешил своему сыну, будущему императору Роману II, жениться на дочери простого харчевника — красавице Феофано (она стала матерью Анны, жены русского князя Владимира I). С тех пор ничего подобного не случалось вплоть до 1453 г. Исчез навсегда и старый обычай смотрин невест для василевса и его наследника, свозившихся в столицу из провинций и принадлежавших далеко не к одному социальному кругу. В конце XI — в XII столетии постепенно утверждался феодальный принцип наследственности «благородства» — проникнуть в среду аристократии «чужакам» становилось все труднее. Недаром с XI в. ранее редко фиксировавшееся в документах фамильное имя видного человека указывается все чаще и чаще, а к концу этого столетия при упоминании знатного лица, как правило, называется его и личное, и родовое имя.
*
Материальные расчеты, политическая игра, неравные браки — все это отнюдь не означало, что любовь была неведома византийцам. Не всегда она предшествовала браку, но нередко ему сопутствовала. В сборниках поговорок и изречений ("Пчелах") утверждается мысль, что высшее счастье для мужчины обретение любящей благонравной жены. В сказании о Стефаните и Ихнилате говорится, что "высшим благом обладает человек", для которого соединились воедино три компонента: разум, добрый советчик и любимая жена. Кекавмен полагал, что смерть хорошей жены равносильна утрате половины "или еще больше" всех жизненных благ. Любящий, писал Феодор Студит, принадлежит не себе, а предмету любви; муж, любя жену, всего себя отдает ей, ею лишь дыша и о ней лишь мечтая. "А что для мужа больше жены единоправной и единомысленной, восклицал Василий Охридский, — которую ему дано право опекать и над которой дано право властвовать — не как господину над имением, но как душе над телом? Дано право самим промыслом, связавшим душу с телом и образовавшим посредством сопряжения из жены и мужа как бы одно живое существо, заодно дышащее и заодно чувствующее".
Нарядить любимую жену, украсить драгоценностями даже ее коня было не только долгом, но и радостью для знатного супруга; да и сам он, спеша к жене после разлуки, стремился предстать перед ней во всем блеске. "Нет в мире большей радости, — говорил Дигенис Акрит, — чем радость нежной страсти". Воспевая любовь царственных супругов, Иоанна III Ватаца и Ирины, историк и поэт XIII в. Георгий Акрополит говорил от ее вмени:
И с ним я сочеталась, с юным — юная, И по любви взаимной мы в одно слились. Связало нас законное супружество, Но крепче страсть связала обоюдная: Супружество смесило нас в едину плоть, Любовь же душу нам дала единую!..[2]Супруга одного из дворцовых чиновников, избранного императрицей Зоей себе в мужья (узы старого брака в таких случаях расторгали по мановению царственной руки), предпочла отравить любимого мужа, чем отдать его Зое. Упомянутая Феофано, напротив, помогла своему возлюбленному Иоанну Цимисхию убить стареющего Никифора II, за которого она вышла после смерти Романа II. Та же Зоя, когда ее новый выбор пал опять-таки на женатого аристократа Романа Аргира, грозила ему тяжкой карой за отказ. На этот раз любящая жена добровольно ушла в монастырь, даровав мужу и трон, и зрение, а может быть, — и жизнь. Роман III сохранил чувство глубокой признательности к первой жене и, когда она умерла, сделал богатый вклад "за спасение ее души". Супружеской любовью и верностью гордились как высокой добродетелью. Анна Комнин пишет о царившем в ее отношениях с Никифором Вриеннием согласии. Его смерть она называет океаном горя, бурными волнами Адриатики, пламенем, иссушившим ее сердце и костный мозг.
Идеалом византийца была не только послушная, заботливая и богатая жена, но также красивая и образованная. Однако даже обученная риторике богатая красавица не могла надеяться на хорошую партию, если начинала ходить молва о ее нескромном поведении. Вопрос о девственности невесты считался весьма важным при заключении брачного договора. Обманутый супруг-молодожен, при соблюдении точно оговоренных условий, мог по закону уже утром расторгнуть вчера заключенный брак.
Знатные ромейки заботливо следили за своей внешностью. Бывшие в ходу в то время медицинские трактаты давали множество рецептов по уходу за кожей лица, по борьбе с морщинами, выпадением волос, дурным запахом изо рта. Некрасивость или уродство воспринимались как трагедия. Старшая дочь Константина VIII Евдокия, в детстве болевшая оспой, едва став подростком, поспешила уйти в монастырь. Полумонашескую жизнь вела и ее некрасивая младшая сестра Феодора, так и оставшаяся в девах. Зато средняя из сестер, Зоя, отличавшаяся красотой и легким нравом, сделала из своих прелестей подобие культа. Чем естественней честолюбец и корыстолюбец падал в «обморок», «сраженный» ее красотой, тем большие награды его ожидали. Зоя сама, в своих покоях, в невыносимой духоте, даже будучи старухой, варила дорогие косметические средства и, по свидетельству современников, ее лицо до 70 лет сохраняло свежесть и привлекательность. Красота возвела на трон Феофано, как некогда актрису, знаменитую Феодору, ставшую женой Юстиниана I. Красотой определялся выбор царской невесты на смотринах. Красоту как величайшее достоинство Марии, жены Михаила VII и Никифора III, прославляет Анна Комнин, прибегая к привычному сравнению с ожившей античной статуей.
В заключение остановимся коротко на явлениях, способствовавших эрозии и распаду семьи, т. е. прежде всего — на проблеме адюльтера. В последнее время в историографии высказано мнение, что к концу XII в. в Византии стали снисходительнее смотреть на адюльтер среди женатых мужчин и замужних женщин.[3] Действительно, те строгие законы, о которых говорилось выше, соблюдались, по-видимому, в этот период не всегда последовательно. Их нарушали сами императоры, призванные обеспечивать действенность официального права. И Мануил I Комнин, и Андроник I Комнин имели детей от родных племянниц. Закон же предусматривал в таких случаях не только отсечение носа, но и казнь. Однако о случаях супружеской неверности в среде знати известно немало не только от конца XII в., но и от XI в., и от начала XII столетия. Скандальные связи Константина IX Мономаха не раз вызывали волнения в столице. Едва женившись на Зое (это был ее третий брак), Мономах ввел во дворец свою фаворитку Марию Склирену. Царская спальня была устроена так, что покои василевса сообщались со смежными помещениями Зои и Склирены. Ни одна из них не входила к Константину без стука. Многочисленный дворцовый люд подражал императору, уверенный в безнаказанности. Народ бурно протестовал, требуя удаления Склирены. Анна Комнин уверяет, что со времен Мономаха до 1081 г. женская половина дворца пребывала в разврате, и только бабка Анны — Анна Далассина навела порядок, установила время для приема чиновных лиц, трапез и "божественных песнопений", так что дворец уподобился монастырю.
Любовь Склирены, кстати говоря, один из немногочисленных сохраненных источниками примеров самоотверженной женской любви. Происходившая из богатого и знатного рода, Склирена полюбила опального вдовца Константина и, продав свои владения (имущество Мономаха было, видимо, конфисковано), последовала за ним в ссылку на остров Лесбос, где они прожили вместе семь лет. Безусловный ценитель подлинной культуры, тонкий наблюдатель и психолог, Пселл много лет спустя после смерти Склирены с восторгом писал о ее уме, такте, воспитанности, образованности, скромности и умении слушать. Она не была красавицей, заключает писатель, но обаяние ее личности действовало неотразимо. Щедрый и негневливый, но недалекий и ветреный Мономах окружил Склирену роскошью, но вряд ли тем вознаградил ее за большую любовь. Когда Склирена внезапно умерла, василевс, по словам Пселла, каялся в горестном недоумении и плакал, как ребенок, жалуясь каждому встречному.
В крупных городах Византии жили богатые и образованные гетеры. Об одной из них рассказывается в сатирическом сочинении "Путешествие в ад". Ее посетителями были высокопоставленные знатные лица, но когда влюбившийся в эту красавицу некий «неразумный» чиновник хотел взять ее в жены, император запретил ему это.
Дома терпимости находились почти в каждом из многочисленных кварталов Константинополя, имея и официальный и неофициальный статус. Среди их обитательниц было немало девочек-сирот, которые в бедных кварталах едва добывали себе пропитание. Занимались они также прядением шерсти. Власти иногда превращали дома терпимости в исправительные колонии, загоняли гетер в монастыри (так поступил, например, Михаил IV), но все это давало лишь временный эффект.
В целях сохранения интересов семьи закон сурово преследовал и сожительство с рабынями и весьма распространенные в империи издавна (видимо, под влиянием Востока) разного рода пороки. Однако в источниках приводится множество примеров нарушения закона и почти отсутствуют упоминания о наказаниях. За сожительство с чужой рабыней полагались штраф и порка, за сожительство с собственной полагалась продажа ее в пользу фиска. Но рабыни находились в полной власти господ. В одном из житий нарисована яркая сценка: рабыня, удостоившаяся внимания господина, дерзит хозяйке, заносится перед домочадцами, а когда госпожа жалуется на нее мужу, он награждает плетью не рабыню, а супругу.
Почти в каждом уставе мужского монастыря содержался строжайший запрет принимать в число братии и допускать в ограду обители мальчиков, юношей и евнухов и даже содержать на монастырском дворе самок животных. Однако аномалии такого рода отнюдь не были специфически монашескими. Мальчиков-евнухов, учитывая их внешность, как уже упоминалось, охотно покупали или брали на службу самые богатые господа.
Итак, несмотря на то, что семья в империи являлась одной из наиболее прочных ячеек общества, она постоянно испытывала неблагоприятное воздействие немалого числа специфических для Византии факторов. Важнейшим из них был недостаток мужского населения вследствие непрерывных, продолжавшихся десятилетиями войн и существования множества мужских монастырей, а также распространения некоторых восточных обычаев и пороков. Проблема семьи отнюдь не безразлична для уяснения вопроса о сильных и слабых сторонах общественной структуры государства. Отмеченные факторы развития семьи в Византии оказывали отрицательное влияние прежде всего на самый процесс воспроизводства и роста населения империи. Кроме того, неполноценная семья — почти всегда экономически менее устойчивая, располагала худшими потенциальными возможностями к накоплению средств, необходимых для развития и расширения производства.
Глава 7 ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
О воспитании детей в Византии историкам известно не слишком много, так как византийская литература — это литература без детей. Занимаясь жизнеописанием своего отца, Анна Комнин исключает из «Алексиады» все детство своего героя, ибо "детские забавы не стоят повествования". Это не значит, что чадолюбие было чуждо византийцам. Скорее напротив: если ты еще не породил, пишет Кекавмен, то узнай — нет ничего в мире желаннее детей. У этого автора в его поучении имеются разделы, специально посвященные проблемам воспитания и образования (у других византийских писателей встречаются обычно на этот счет только беглые и скудные замечания).
*
Рожали ромейки у себя дома. К роженице звали повитуху-самоучку, которая, согласно медицинскому трактату, должна была обладать опытом в пеленании и в "выпрямлении лба и носа". Большинство состоятельных матрон не кормили сами своих детей грудью. Тот же трактат рекомендовал нанимать кормилицу не тучную телом, но не слишком тощую; предписывался также режим питания и состав пищи кормилицы. Продолжительный плач младенца унимали, в соответствии с «наукой», добавлением к воде, которой его поили, порошка из скорлупок фисташек.
С особой торжественностью обставлялось рождение ребенка в семье василевса. Императрица рожала в Порфирной палате, входившей в комплекс женских покоев царского дворца, — в здании с пирамидальной крышей близ пристани Вуколеон. Пол здания был выложен мрамором, стены были облицованы дорогим капнем пурпурного цвета.
*
О воспитании заботились тем меньше, чем ниже был социальный статус семьи. Мальчики обычно наследовали профессию отцов. В семьях простолюдинов мальчика к 6–7 годам уже привлекали к посильной работе в доме и в поле, в мастерской или в лавке, и труд становился его главным воспитателем. Питались дети за общим столом: с раннего детства их питание ничем существенно не отличалось от питания взрослых; членов семьи. Аристократ Георгий Акрополит с презрением говорит о неоправданно, на его взгляд, возвысившемся полководце, что этот "деревенщина был вскормлен на ячменном хлебе и отрубях". В 14–15 лет юноши обычно выполняли уже настоящую мужскую работу и становились главной опорой семьи, если в ней не было зрелого мужчины. Апокавк гневно осуждал некоего молодого клирика, которого еще мальчиком митрополит взял у многодетной вдовы, босого и нищего, взрастил и воспитал, а тот ушел, оставив мать в нужде. Обиды, побои, лишения были участью мальчиков, отданных на выучку в город, мастерам-ремесленникам: непосильный труд, к которому здесь принуждали детей, считался платой за учебу.
Совершенно иначе протекало детство мальчиков в состоятельных и знатных семьях. В раннем детстве ребенок находился на попечении обитательниц гинекея и редко видел своих родичей-мужчин. Поскольку матери зачастую были весьма молоды (14–15 лет), огромную роль в воспитании играли сначала бабки, а затем — деды. К 5–7 годам мальчика освобождали от женской опеки. В знатных семьях он попадал в этом возрасте в руки наставника-педагога (дядьки), который наблюдал за играми ребенка, развлекал воспитанника и учил его грамоте. Нередко знатный мальчик проводил свое детство попеременно то в деревне, то в городе: провинциальные магнаты, как правило, имели дома в городах и жили там значительную часть года, городские же сановники владели поместьями в пригородных деревнях, куда выезжали с семьями на время сезонных работ.
Иногда по нескольку лет мальчик из знатной семья жил или в доме невесты, обрученной с ним, или у отцовского столичного друга, проходя курс обучения, или во дворце императора, так как, по словам Никифора Вриенния, "было в обычае у василевсов" брать детей из знатнейших семей в собственную свиту и в свиту наследника. Росшие вместе с василевсом его сверстники состояли с ним и впоследствии в особых отношениях: предполагалось, что они обладают далеко не всякому сановнику предоставляемой льготой — «парисией», т. е. правом на высказывание в присутствии императора собственного мнения. Таким совоспитанником и названным братом Льва VI был Николай Мистик, ставший патриархом и испортивший много крови "другу детства" — василевсу.
Из среды отроков, окружавших василевса в детстве, выходило немало крупных гражданских сановников и видных полководцев. Характер воспитания и образ жизни наследника зависели от воли отца или определялись собственными склонностями будущего василевса. Сам наследник довольствовался нередко минимумом как образования, так и физических и воинских упражнений. Например, Лев VI и Константин VII предпочитали в отрочестве и юношестве занятия наукой тренировкам в ловкости, Василий II испытывал отвращение к книгам и был привержен к воинским забавам, а Константин VIII не любил ни того, ни другого он предавался развлечениям.
Как правило, однако, дети императоров-полководцев (Никифора II Фоки, Романа IV, Алексея I Комнина, Иоанна II и др.) проходили полный курс военных наук, читая стратегиконы и обучаясь владению оружием под присмотром особых наставников. Среди знатных юношей, занимавшихся воинскими упражнениями вместе с наследником престола, бывали и евнухи; некоторые из них становились впоследствии искусными полководцами, подобными Льву Никериту.
Помимо военных навыков, военная аристократия стремилась выработать у своих детей такие качества, как невозмутимость и сдержанность в проявлении чувств. Бурно радоваться, возмущаться, ударять себя по бедрам от удивления значило, по мнению Анны, тотчас выдать свое низкое происхождение.
С середины XI и особенно в XII столетии провинциальные магнаты стали ценить превыше всего физическую силу, выносливость, отличное владение мечом, копьем, луком, палицей, искусство верховой езды, знание стратегии и тактики, умение ладить с подчиненными и поддерживать железную дисциплину в войске. Большинство аристократов готовило своих сыновей к военной карьере и после начального курса обучения и ознакомления со стратегиконами не утруждало их изучением наук. Все чаще высказывалась мысль, что физическое и военное воспитание будущему василевсу (высшему полководцу империи) совершенно необходимо: он должен быть готов к суровым испытаниям, а нега и наслаждения делают человека с детства непригодным к ратным подвигам. Роман III, по словам Скилицы, был никчемным полководцем именно потому, что женился почти ребенком. Сходные мысли Анна Комнин приписывает и Алексею I.
Воинские упражнения для юношей отнюдь не являлись безобидной забавой: объясняя мрачный аскетизм Никифора Фоки (не ел мяса, спал на полу, носил власяницу, молился ночами), Скилица сообщает, что полководец корил себя за недосмотр — его старший сын погиб от копья, попавшего в голову во время воинской игры с юным родственником. Знатные отроки порой уже в 14–15 лет участвовали в походах. Военные подвиги юноши Алексея Комнина возвели его на пост великого доместика, когда, по уверениям Анны, у него не было "и пуха на бороде". Юного Мануила Комнина, превосходного джигита, искусно владевшего луком, отец Иоанн II выдрал однажды за безрассудную храбрость в бою с сельджуками.
Разумеется, воспитание знатных юношей, особенно в крупных городах, полных соблазнов, далеко не всегда отвечало идеалам их родителей и наставников. Юноши нередко уклонялись от занятий, ускользали от надзора воспитателей, проводили время на ипподроме и на пирушках с мимами и танцовщицами, бродили ватагами по улицам, приставали к прохожим, издевались над юродивыми. Кекавмен советует поэтому с ранних лет воспитывать у детей "страх божий" и покорность родителям.[1] "Страх божий" и послушание воле матери, как драгоценные качества, присущие с детства Алексею Комнину, на тысячи ладов воспевает Анна.
*
Еще меньше, чем о воспитании мальчиков и юношей, знают историки о воспитании в Византии девочек и девушек. Кекавмен обещал написать особый трактат на эту тему, но его сочинение либо не сохранилось, либо так и не было составлено.
С определенностью можно сказать лишь, что девочку с самых ранних лет готовили к единственной роли — роли жены и матери. Весь "курс наук" простолюдинки, как правило, неграмотные (в лучшем случае они умели с трудом читать и считать), проходили на кухне, в саду, в поле, за прялкой. Рождению девочки в те времена радовались обычно меньше, чем рождению мальчика — надежды семьи, будущего кормильца; детство девочки кончалось еще раньше, чем детство мальчика, свобода ее была резко ограничена.
Положение в знатных семьях было, конечно, иным: здесь девочки и девушки располагали некоторым досугом, могли они (если родители не запрещали) заниматься и науками, и художественным рукоделием. Иногда девочка воспитывалась не на глазах матери, а в доме жениха, слушая с ним вместе одних учителей. Анна Комнин до восьми лет жила у императрицы Марии, жены свергнутых Михаила VII и Никифора III, с сыном которой от первого брака Константином была обручена еще в младенчестве.
Обучали, видимо, знатных девиц и верховой езде: Анна Далассина, мать Алексея I, во время мятежа сына, намереваясь вывезти из столичного дома весь гинекей, приказала оседлать коней и мулов женскими седлами.
*
Отношение к грамоте в Византии, в целом положительное, не было, однако, одинаковым в разные времена и среди разных слоев населения: отличались оценки уровня необходимых знаний, по-разному определялся и круг наук, которым обучали детей и юношество.
Для большинства народа грамотность детей представлялась трудно исполнимой мечтой. Бедные люди хорошо знали, что грамотность не всегда вела к благополучию, но им известно было также, что она гарантировала от нищеты. Уровень образования и сроки обучения определяли, исходя из сугубо практических расчетов: к занятиям какой профессией предназначали ребенка, как скоро рассчитывали получить его помощь, сколь долго могли платить за его обучение. Когда Михаил Пселл достиг пяти лет, семейный совет решил дать ему лишь начальное образование, а затем обучать ремеслу. Дело поправили мольбы грамотной матери Пселла Феодоты, заметившей незаурядные способности сына. В народной побасенке речь идет о моряке, внушавшем сыну, что грамматика ему нужна, а риторика нет: первая позволяет стать писцом, а вторая не дает ничего.
Правда, труд писца-нотария (или грамматика) в канцелярии или у частного лица был далеко не легок и не всегда прибылен. Михаил Пселл пишет об одном нотарии, которого "лучше назвать фракийским бедняком". Сам Пселл в юности служил асикритом — рядовым писцом в дворцовой канцелярии. В шуточной форме в панегирике Константину IX Мономаху (с этого панегирика и началось возвышение Пселла) он описал труд писцов и нравы в канцелярии. Писец трудится от зари до зари, мерзнет в холод, обливается потом в духоту и зной, у него нет времени поднять голову или почесать за ухом. При появлении выгодного вакантного местечка писцы интригуют, наушничают, ссорятся и даже дерутся.
Удачей считалось уже поступление на службу к адвокату-тавуллярию. Однако для этого нужно было выдержать нелегкий экзамен. В сборнике решений Евстафия Ромея рассказывается о судебной волоките, возникшей потому, что писец в слове «Эллада» пропустил букву и ответчик не признал законности документа. Впрочем, и неграмотно написанных официальных актов сохранилось немало.
Простые люди иногда полагали, что обучение музыке и пению важнее обучения грамоте, так как участие в хоре какой-либо церкви города или даже дворца сулит приличное вознаграждение. Многие еретики выступали вообще против обучения грамоте — они называли грамотеев «фарисеями» и избегали их. Но такое отношение к грамотности — редкость. Оно было следствием либо жизненных неудач (грамотность не помогла), либо озлобления угнетенных против чиновников, которые использовали свою грамотность как орудие произвола и насилия. Впрочем, даже философ конца XIII — начала XIV в. Иосиф Ракендит, сам вышедший из бедной семьи, полагал, что простым людям, занятым физическим трудом, изучать науки не только не надо, но и вредно: так вреден сильный огонь для стоящего к нему слишком близко.[2] Другой писатель — Михаил Аплухир вложил в уста некоего ритора монолог о том, что нет проку от наук: каменотес, грубый сапожник и торгаш, не могущий связать двух слов, живут, не ведая нужды, а ученый мудрец в нищете, так как ум на рынке не продашь. Таких жалоб ученых людей на свою участь сохранилось немало, но несравненно больше принадлежащих им же подлинных панегириков образованию и наукам. Тот же Ракендит, уроженец Итаки, ушел пешком, "одетый в рубище", чтобы пополнить образование у эрудитов столицы.
На положении ученых людей в обществе и на судьбах образования обычно серьезно отражалось отношение к грамотности и образованности правящего василевса. Одним это отношение было при Ираклии, который нередко использовал книги как орудие для избиения провинившегося сановника, другим — при Льве VI и Константине VII, которые не только читали книги, но с охотой сочиняли их сами. Вскоре после Константина VII наступил, видимо, упадок образованности в империи. Василий II не уважал ученость, но (удивительное дело! — восклицал Пселл) множество людей подвизалось на ученом поприще, хотя о деятельности прославленной Магнаврской школы, основанной еще в середине IX в., в источниках того времени нет никаких упоминаний. При Константине IX, по словам Анны, Константинополь "не испытывал недостатка в просвещении и словесности". Михаила VII Дуку даже образованные люди обвиняли в том, что он совсем забросил государственные дела, проводя время в научных беседах с Пселлом. Сомнения вызывают поэтому слова той же Анны, что Алексей I, воцарившийся через три года после низвержения Михаила VII, едва сумел раздуть "тлеющие уголья" погибавших наук. Если это верно, то лишь по отношению к «наукам» божественным. Отец и мать, сообщает Анна, днем и ночью, вместе изучали писание, а императрица читала сочинения отцов церкви и жития даже за завтраком, не в силах оторваться от книги.
Получить хотя бы начальное образование в Византии (научиться читать, считать, немного писать и разбираться в псалтири) было непросто во все времена. Безграмотность в византийской деревне была преобладающей. Немало неграмотных имелось и в городах, встречались они даже среди сановников и полководцев, вышедших из низов и не обучившихся грамоте в детстве. Сохранились документы, под которыми вместо подписи видного представителя власти стоит крест. Константин VII сообщает, что командующий царским флотом, затем ставший императором, Роман I Лакапин (920–944 гг.) был неграмотен.[3]
Прежние начальные школы, содержавшиеся в эллинистическую эпоху в городах и крупных селениях на общественный счет, давно исчезли. Дети из состоятельных и знатных семей получали начальное образование, как упоминалось, преимущественно дома, у наемных воспитателей. Публичные школы были в основном частными и платными.
Обучение детей при церквах и монастырях осуществлялось клириками и монахами и имело целью подготовку кадров низшего духовенства лишь для собственного учреждения.
Государственных школ было мало. В одной из них, в школе для сирот при орфанотрофии св. Павла, на рубеже XI–XII вв. обучали чтению и счету, а также скорописи и началам логики. Анна пишет, что среди детей-сирот, учившихся в этой школе, было немало иноплеменников. Во время урока дети стояли или сидели вокруг учителя. Ныне же, попутно замечает Анна, нет и того: после смерти Алексея I (1118 г.) досуг будто бы убивают, играя в шашки и прочие «нечестивые» игры, а наукам юношество предпочитает ловлю перепелов.
Обучение элементарной грамоте начиналось обычно в 5–7 лет. Пселл родился в 1018 г., начал учебу в 1023 г. и окончил начальную ступень через три года. Широко было распространено убеждение, что для успехов в учебе недостаточно прилежания и способностей — необходима также помощь господня, которую усердно испрашивали. Восхищаясь познаниями Пселла, Анна Комнин пишет, что он достиг вершин науки благодаря не только природному уму, талантам и упорству, но и молитвам матери, которая, не смыкая глаз, стояла на коленях перед образом богоматери в храме Кира.
Высшее образование было уделом главным образом представителей знатных и богатых слоев общества.[4] В понятие высшего образования включалось овладение философией, которая делилась на философию теоретическую и философию практическую. К первой относили богословие, астрономию, геометрию, арифметику, медицину, музыку; ко второй — этику, политику, историю, риторику, юриспруденцию. Но деление было нечетким: под философией все чаще понимали собственно богословие, выделяя его из всех прочих наук.
Приобрести познания в этих науках самостоятельно можно было только при исключительно благоприятных условиях. Первейшее из этих условий — наличие необходимых книг. Они были дороги в то время. Редкая бедная семья оказывалась в состоянии приобрести несколько книг. Петр Сицилиец сообщает, что некий диакон, возвращаясь из плена, остановился на отдых в деревушке и сумел щедро расплатиться с гостеприимными хозяевами: он отдал им евангелие и апостол, которые ему удалось сохранить. Малоазийский землевладелец Евстафий Воила, завещав свою библиотеку церкви (в ней имелись книги и светского содержания), оговорил в документе право дочерей пользоваться этой библиотекой и впредь. Книги, особенно церковные, постоянно упоминаются в монастырских описях в числе наиболее ценных предметов. Образованные люди обменивались книгами: пересылали их для чтения или для копирования порой из одного конца империи в другой. В городе закон предусматривал условия аренды целой библиотеки. Образованный византиец не разлучался с книгой. Патриарху Николаю в ссылке страдания и лишения казались невыносимыми именно потому, что Лев VI приказал не давать ему книг, а стражниками приставить неграмотных воинов, "неспособных утешить".
Книга до XI столетия писалась преимущественно на дорогом пергамене, украшалась миниатюрами, переплеталась в кожу. Иногда к переплету крепили золотые или серебряные пластины, усыпанные драгоценными камнями и покрытые художественной чеканкой. В XI–XII вв. дорого стоила даже написанная на дешевой бумаге и скромно переплетенная книга, так как ее переписка требовала кропотливого труда. В житии Власия прославляется подвиг монаха: он годами, изо дня в день, переписывая книги, принимал пищу лишь в сумерках, когда уже нельзя было разобрать букв. Переписывали книги и патриарх Евфимий, и сам император Лев VI, подаривший владыке переписанную им самим и богато украшенную книгу.
Получить высшее образование в провинции можно было у некоторых высокообразованных епископов и митрополитов, по собственному почину обучавших молодых людей, которые избрали духовную карьеру. Но подлинным средоточием наук в IX–XII вв. оставался Константинополь, куда устремлялось юношество, уходя из отчего дома или тайком, вопреки воле родителей, или открыто, с их благословения. Многие из этих юношей — искателей знаний — устраивались в доме ученого, слушали его лекции и в свою очередь передавали свои познания детям и внукам хозяина.
Иоанн Итал прибыл в Константинополь пополнить образование из Италии. Любитель литературы отец братьев Хониатов отправил из Хон в столицу сначала старшего сына Михаила (он к тому времени получил «предобразование», изучив только грамматику), а затем — в возрасте 9 лет — и младшего Никиту, которому в чужом городе старший брат стал и отцом, и воспитателем, и учителем. Георгий Акрополит приехал учиться в Константинополь 16 лет.
Были ли в Византии, хотя бы в столице, в конце Х-первой половине XI в. высшие государственные учебные учреждения, неизвестно. Имеются известия о существовании в Константинополе Патриаршей академии и школы при храме св. Апостолов, из которых выходили иереи крупного ранга. Но мы не знаем, на каком уровне велось обучение в этих заведениях. Лишь при Константине IX около 1045 г. по специальному указу василевса были созданы высшие школы (или одна, делившаяся на два факультета: философский и юридический). Пселл в этой школе преподавал философию, а его друг Константин Лихуд, крупный юрист, затем патриарх, — юриспруденцию. Изучали воспитанники школы почти исключительно греческую науку, но юристам было предписано вновь, как несколько веков назад, овладевать основательно забытой в империи латынью.
Факультеты дробились на более мелкие подразделения, возглавлявшиеся одним из преподавателей. Особо отличившийся «студент» становился помощником преподавателя, а затем — по одобрении советом преподавателей — учителем в своем отделении. Акт этот утверждался самим василевсом. Некогда в Магнаврской школе и учителя законов, и их преподаватели (они были рангом выше учителей) избирались собранием корпорации тавулляриев и утверждались эпархом. С открытием юридической школы тавуллярии потеряли право экзаменовать юристов и избирать учителей и преподавателей права.
*
Образованные византийцы гордились своими познаниями. Они не упускали случая отметить, что тот или иной сановник, а то и философ, воспитывавшийся в деревне, так и не избавился от диалектизмов, что облик "деревенского невежды" по-прежнему проглядывает в его осанке, походке и повадках. Так философ Иоанн Итал, по словам Анны, «съедал» слоги и окончания, был груб, вспыльчив, нечетко выражал мысль, прибегал к жестикуляции, в спорах доходил до рукоприкладства, хотя потом плакал и каялся. Невнятно, «по-деревенски», пишет Пселл, говорил презиравший образованность Василий II. С презрением упоминает Скилица о некоем евнухе Пахисе, ставшем по протекции епископом Никомидии, хотя он был неучем и "быков немоты носил на языке". Анна Комнин прославляет эрудицию мужа, уверяя, что он прочитал "все книги". Как Кекавмен, она полагает, что даже дети воинов должны овладевать и светскими и божественными науками. По ее словам, западные рыцари в отличие от ромеев не знали ни наук, ни этикета, ни правил приличия.
Византийские ученые были обычно энциклопедистами (разумеется, применительно к той эпохе). Свою главную цель они видели в освоении и запоминании уже накопленных ранее знаний, а никак не в развитии наук, не в создании новых теорий и концепций. Анна Комнин пишет, что она, "укрепив разум" арифметикой, геометрией, музыкой и астрономией и изучив досконально эллинскую речь, не пренебрегла затем риторикой и перешла к философии, а потом — к сочинениям поэтов и историков, упорно работая над своим стилем. Когда смертельная болезнь отца оторвала ее от наук, она сетовала, что в эти скорбные дни забросила даже философию.
Никифор Влеммид, ученый и поэт Никейской империи, помимо всего прочего, усердно изучал медицину, как теоретическую, так и практическую, поскольку она, объясняет он, была профессией его собственного отца и давала пропитание семье.
Наука становилась для некоторых страстью, а не только средством существования, единственной отрадой и утешением в беде. Ослепленный, как и его отец Роман IV, полководец Никифор Диоген достиг больших познаний в геометрии, пользуясь специально изготовленными для него фигурами-макетами. Никифор Вриенний, муж Анны Комнин, писал свои «Записки» начерно, будучи серьезно больным, в тяжелых походных условиях. На склоне лет труд над «Алексиадой» стал для Анны Комнин смыслом существования: опальная и старая, она вновь жила, вспоминая минувшее.
Чрезвычайно много времени уделяли ученые византийцы комментированию сочинений античных авторов. В IX–XII вв. в образованном мире, даже среди деятелей церкви, высоко ценилось искусство вовремя и к месту блеснуть цитатой из сочинения классика, использовать образы древней мифологии применительно к современности. Время от времени появлялись прямолинейные ревнители православия, гневно обрушивавшиеся на приверженцев античной науки и культуры, но полной победы они никогда не одерживали. Никифор Григора высмеивал в XIV в. унылый практицизм тех, кто готов "вытолкать за дверь" величайшего Гомера, поскольку его песни приносят пользы для жнецов не больше, чем цикады в зной. Иоанн Мавропод, придворный поэт и митрополит Евхаитский, выразил в одном из своих стихотворений надежду, что Платон и Плутарх "по милосердию божию" как неповинные в своих заблуждениях (они не могли быть христианами) будут избавлены от мук ада, ибо, не ведая "истинного бога", держались все-таки его «законов».
Придворное византийское общество в XI в., по-видимому, неплохо знало античную литературу, о чем свидетельствует эпизод, рассказанный Михаилом Пселлом.
Фаворитка Константина IX Мономаха, уже упомянутая Мария Склирена, живет во дворце, бок о бок с законной женой василевса, возведшей Мономаха на престол. Склирена присутствует на торжественных приемах и шествует непосредственно за царственной парой. Ситуация остро пикантная, для нравственных понятий той эпохи — крайне скандальная. И вот однажды, в напряженной тишине, один из находчивых придворных честолюбцев вполголоса роняет всего два слова: "Нет, недаром [ахейцы]…" Неловкое напряжение исчезает, храбрец получает благодарный взгляд Склирены. Но главное — большинству присутствующих в обширном зале было ясно, что придворный процитировал обрывок стиха из «Илиады» Гомера — то место, где говорится о красоте Елены, из-за которой ахейцы затеяли кровавую и длительную войну с троянцами — Елена стоила того.
Увлекавшийся античной философией смелый мыслитель Иоанн Итал вынес споры с коллегами на константинопольские площади. Прибегая к превосходно изученной логике, при большом стечении народа он развивал свои идеи, отдавая порой предпочтение разуму перед верой. Итал, пишет Анна, вызвал смятение в народе, увлек умы некоторых вельмож и даже самого патриарха Евстафия Гариды. Конец его популярности (в то время он занимал должность ипата философов, сменив Пселла, постригшегося в монахи) положил Алексей I.
Немало сил образованные византийцы отдавали изучению риторики своеобразного искусства составления речей для торжественных случаев (победа василевса, рождение наследника, заключение мира и т. д.). Подлинные события в обширных и цветистых речах-панегириках сознательно были закамуфлированы аллегориями (образы античной мифологии переплетались с библейскими), далекими от существа дела сравнениями; подлинные имена, названия местностей и даты старательно удалялись. Угадывание за каждой аллегорией реальных событий, за каждым библейским именем подлинного лица современника превратилось в своего рода интеллектуальную игру. Риторика наложила отпечаток и на столь интимный жанр литературы, как эпистолография.
Образованные люди, точнее люди, причастные к науке и литературе, были, как правило, знакомы друг с другом. Если они не могли встречаться, то вели постоянную переписку: в письмах порой просили помощи (один преуспевал, а другой бедствовал), но чаще делились мыслями, научными сомнениями, чувствами. Ожидание письма от ученого друга было иногда томительно (в захолустье оно могло прибыть только с оказией), зато получение становилось праздником. Принято было одновременно с письмом посылать какой-нибудь подарок: книгу, лекарство, благовония, вяленую или сушеную рыбу, а порой — и коня, мула или осла. Пселл, узнав, что ему намерены подарить мула, просил учесть его рост, чтобы не нарушить «соразмерность».
Конечно, представителей высшей византийской интеллигенции не следует идеализировать. Были среди них такие, чья нравственная сила, самоотверженность, искреннее сочувствие к угнетенным, ненависть к тирании и самодовольному невежеству заслуживают глубокого уважения (таковы, например, братья Хониаты, Михаил Глика, Евстафий Фессалоникский), но были и другие: их откровенно пресмыкательские, исполненные сервилизма, слезливые и трусливые послания к василевсу и к влиятельным чиновникам, содержащие просьбы о деревеньке с крестьянами, о налоговой льготе или попросту — о деньгах, вызывают отвращение.
Показательна в этом отношении фигура Пселла. Благодаря искусству интриги, тонкой лести и легким сделкам с совестью, он оставался близким советчиком семи императоров, хотя трое из них были свергнуты их преемниками. Втайне презирая царственных благодетелей, он пресмыкался перед каждым из них. Пселл исходил из принципа: нет ни одного поступка, который при желании нельзя истолковать и в хорошую и в дурную сторону. С одинаковой легкостью и убедительностью он писал и гневный памфлет против вши и панегирик ей же. Бывал этот философ и обличителем, но только дома, в четырех стенах. Когда дело касалось самого Пселла и его друзей, он возмущался чиновным произволом, а когда насильник-откупщик был его приятелем, Пселл умолял наместника провинции о снисхождении к нарушителю закона: откупщик-де поиздержался, ему надо поправить свои дела, что стоит наместнику лишь сделать вид — слышать, мол, не слышал и видеть не видел.
Скромные же ученые, которые пренебрегли карьерой и в уединении писали книги, говорит Иосиф Ракендит, не имели возможности претворить в жизнь свои идеи.
Неумеренное самовосхваление сменяется порой у одних и тех же византийских авторов крайним самоуничижением. Написанная со спокойным достоинством, утверждающая четкие нравственные принципы «История» Хониата — редкость в византийской литературе.
Деятели ромейской науки разделяли со своими невежественными современниками веру в знамения, предсказания и чародейства, вещие сны и наговоры, не говоря уже о мощах, иконах и прочих реликвиях. Закон определял суровую кару для знахарей и колдунов, которых обвиняли в связи с демонами и приравнивали к еретикам, но знахари и колдуны не переводились.
Анна Комнин сообщает, что Алексей I изгнал из столицы астрологов как шарлатанов, но этот же василевс, когда поползли тревожные слухи в связи с появлением кометы, поинтересовался мнением эпарха Василия, который сам оказался астрологом. Константин IX готов был объявить о «святости» покойной Зои, увидев на отсыревших покровах ее гробницы выросший гриб. При похоронах Исаака I Комнина в его могиле скопилась вода — одни сочли это знаком гнева господня за дела покойного, другие — признаком раскаяния усопшего. Ученейший аристократ Михаил Атталиат глубокомысленно отметил, что оба толкования «полезны»: одно вызывает страх перед богом, а другое питает надежду на его милосердие.
Мало причастный к наукам Кекавмен высмеивал веру в вещие сны, а эрудированный Скилица слепо доверял им. Патриарх Никифор в IX в. даже составил сонник, в котором дал толкование, так сказать, «типичных» сновидений.
Итак, сколь ни трудно было в Византии получить образование, по сравнению с передовыми средневековыми странами Западной Европы Византия IX–XII вв. заметно выделялась и относительной распространенностью грамотности в широких слоях простого (особенно — городского) населения и уровнем образованности своей интеллигенции. Византийцы учили грамоте детей не только потому, что грамотный человек, как правило, с большим успехом обеспечивал себе сносные условия существования, но и потому, что образованность ценили и уважали в самых широких кругах византийского общества.
Что же касается цели всего воспитательного процесса, то она, насколько позволяет об этом судить поучение Кекавмена, состояла в том, чтобы привить воспитуемому практические навыки борьбы за существование, которые способствовали бы не только сохранению унаследованного от родителей имущественного и социального статуса, но и достижению большего успеха.
Глава 8 ВИЗАНТИЙЦЫ И ИНОСТРАНЦЫ
В течение всей своей жизни византиец постоянно слышал вокруг себя иноплеменную речь. Вплоть до конца XII столетия Византийское государство было многоплеменной державой. Иноплеменники — жители империи могли бегло говорить по-гречески, могли изъясняться с трудом, могли вовсе не знать этого языка. И тем не менее, если они жили в пределах империи, то считались такими же «ромеями», как и греки по рождению. «Ромеями» не признавались только те подданные императора, которые не были правоверными христианами, как, например, подвластные империи арабы-мусульмане в малоазийских пограничных районах, язычники (печенеги и половцы) на Балканах, евреи на Пелопоннесе и в столице, армяне-монофиситы Фракии.
Однако с конца Х в. в византийском привилегированном обществе стали все чаще обращать внимание и на этническое происхождение «ромея» — грек ли он родом, а если нет — то насколько ему удалось овладеть господствующей греческой культурой, уподобиться по мироощущению греку — представителю византийской элиты. Стать "истым ромеем" было важно иноплеменнику, чтобы сделать карьеру и завоевать прочное положение в обществе. Некий Ливелий, происходивший из Антиохии, «испытал», по словам Атталиата, воспитание «ассирийское» (сирийское) и «ромейское», но, с удовлетворением констатирует писатель, стал ромеем. Повелитель Атталии Алдебрандин, родом италиец, по воспитанию и складу ума, с похвалою замечает Никита Хониат, являлся ромеем.[1]
Именно «византинизму» — этому "интернационально-космополитическому эллинизму", полагал русский ученый А. П. Рудаков, удалось направить в русло единой культуры «общенациональные» и местные формы жизни, вызвать у жителей империи гордое сознание принадлежности к одному целому, к великой монархии, к подлинно цивилизованному миру, обеспечившему всем покой, благосостояние, правую веру и эллинское просвещение.[2]
Подавление самобытной культуры покоренных народов и внедрение культурно-этических норм господствующей народности (т. е. эллинизация, или ромеизация) далеко не всегда была сознательно направляемым властями процессом (исключением являлось лишь отношение к иноверцам). Но ромеизация вытекала из всего уклада жизни и организации власти в империи. В своих наиболее выпуклых формах она выступала в тех случаях, когда иноплеменник-индивид попадал в тесный круг ромеев-греков, связанных между собой общими служебными, профессиональными или семейными узами (церковный причт, канцелярия, корпорация, семья). Новобрачная иноплеменница, попав в греческую семью, получала даже новое имя — греческое. Архиепископ Охрида Василий хвалил Берту-Ирину (немку), жену Мануила I, за то, что она, происходя из народа "высокомерного и чванливого", быстро стала смиренницей, преданной православию. Рожденных «варваркой» детей воспитывали, разумеется, как истинных греков.
Эллинизация крупных пограничных провинций, населенных иноплеменниками (Болгария, Ивирия, Армения), происходила в иных условиях, чем ромеизация индивидов и малых этнических групп — она наталкивалась здесь на стойкое сопротивление: чрезмерное давление на обширные этнически однородные массы, сохранившие собственные культурные традиции и общественную память о не столь давней государственной самостоятельности, приводило к взрывам народно-освободительной борьбы. Результат получался обратным желаемому; убыстрялся процесс не консолидации, а этнической дезинтеграции. Усвоение элементов греческой культуры не мешало этому процессу. Недаром некоторые из образованных ромеев-греков с Х в. все чаще оценивали отрицательно сообщество разных народов в тесном единстве. Иоанн Камениат полагал, что арабы разграбили Фессалонику в 904 г. из-за «грехов» ее жителей, которые состояли из представителей различных племен и «заразили» друг друга «пороками», свойственными каждому из этих народов. Ту же мысль доказывал в XII в. Никита Хониат, а Мазарис (XV в.) считал, что справедливость ее очевидна.
Своеобразная ситуация складывалась в контактных зонах, на рубежах империи и внутри нее, в пограничных областях между компактным греческим и иноплеменным населением. Неустойчивые границы империи были «размыты» обширным поясом буферных княжеств и эмиратов.
Одни из них находились в зависимости от империи, другие — в полузависимости, третьи — в союзе, четвертые — в состоянии постоянной вражды. Население, примыкавшее к этим районам с обеих сторон, испытывало двустороннее влияние, не всегда знало и желало точно знать, каково его подданство. В поэме о Дигенисе Акрите говорится, что его отцом был арабский эмир, доблестный и благородный воин. С тактом и уважением упоминали о религии этого эмира (мусульманстве) братья-христиане, разыскивавшие плененную арабами сестру. Они говорили на арабском языке, а эмир говорил на греческом. В Северной Фракии и в Македонии, в контактной зоне, греческое население, примыкавшее к ней с юга, подвергалось серьезному славянскому влиянию, а славяне соседних с греками районов испытывали сильное воздействие греческой цивилизации. Значительным своеобразием во Фракии отличалась область, населенная армянами-монофиситами.
*
Единство византийской монархии раздиралось классовым и сословным антагонизмом, а ее культурно-религиозное единение — этнической пестротой населения и разрывами в образовательном уровне, и тем не менее "ромейское самосознание", о котором говорил А. П. Рудаков, гораздо более сложное и емкое, чем самосознание сугубо этническое, было свойственно не только греческому, но и значительному большинству ромеизированного иноплеменного населения империи, не только господствующим и привилегированным, но и самым широким демократическим кругам. Простейшая «истина» — мысль об "избранном богом" народе ромеев бессознательно усваивалась с детства как один из символов православия. Сознание безусловного превосходства над жителями других стран стало второй натурой ромея. Алексей I заявлял, что посягательства норманна Роберта Гвискара на престол империи, даже в случае его победы, обречены на неудачу, так как "ромейский народ и войско… не допустили бы до императорской власти варвара".[3]
Империя, ведшая «мировую» политику на пределе сил, сделала главной целью производства не экономическое процветание, а служение политической доктрине. Византия даже не торговала — она уделяла «варварам» свои «драгоценные» изделия и не заметила, как ее товары стали уступать по качеству западным. Военная экономика могла бы оказаться жизненной, если бы она функционировала в условиях непрерывного роста территории, компенсируя военные расходы грабежом захваченных стран и эксплуатацией новых подданных. Но военная экономика Византии со второй четверти XI в. (исключая правление Мануила I) являлась, как было сказано, следствием не столько агрессивности политики империи, сколько необходимости в глухой обороне. Новых приобретений не было, а резервы продолжали сгорать в войнах.
Поэтому параллельно с ослаблением империи возрастала роль ее дипломатии в стабилизации отношений с иноземными государствами. Византийская дипломатия была тогда весьма изощренной. Многовековой опыт владычества над народами, непрерывность государственной традиции — все это превращало ее в серьезную силу.[4]
Ее идейной основой являлась все та же теория об исключительности прав империи в цивилизованном мире. В своих отношениях с любым государством Византия никогда не хотела выступать в качестве равной стороны. Даже побежденная и униженная, она не отступала, а снисходила. И это не был сознательно разыгрываемый ее дипломатами и политиками спектакль — это была их искренняя позиция.
Византийцы рассматривали соседние страны и народы не в изоляции, а в системе их связей между собой и с империей. Поэтому союз с одной из них всегда предусматривал — в качестве гарантий его соблюдения — соглашение с враждебным союзнице соседним народом. Заключая мирный договор с Болгарией, империя одновременно домогалась союза с врагами болгар — венграми; достигая соглашения с Русью, она склоняла к дружбе печенегов.
*
Организацией приема послов занималось ведомство дрома. Оно заранее определяло чин приема. Приветливость, с какой принимались послы, или, напротив, проявляемое к ним пренебрежение должны были показать, говорит Анна Комнин, каково отношение василевса к тому, кто послов отправил. С особой пышностью обставлялся прием важных послов. Когда их представляли василевсу в первый раз, устраивалась помпезная немногословная церемония. Она описана послом Оттона I Лиутпрандом и Константином VII (он рассказывает, как принимал сам русскую княгиню Ольгу в 957 г.). Пока посол сгибался в поклоне, трон императора с помощью скрытых механизмов поднимался под потолок приемного зала, статуи львов по сторонам от трона рычали, привставая и взмахивая хвостами, искусственные птицы на золотых деревьях щебетали. Затем следовали деловые беседы — в разных помещениях дворца, в торжественной и интимной обстановке, в кругу царской семьи и за трапезой, в ходе которой пирующих развлекали музыкой, пением и зрелищами.
Когда империя была заинтересована в переговорах, посла всячески обласкивали: его одаривали, ему показывали достопримечательности столицы и спортивные игры на ипподроме, водили его в бани, брали на охоту и прогулки по морю и на конях. Алексей I говорил, что он принял знатного турка с почетом и предоставил ему возможность "насладиться роскошью" для того, чтобы тот навсегда проникся благодарностью к императору. Иногда василевс считал нужным поразить иноземных гостей видом груд золота и драгоценных изделий в казнохранилище, тут же предлагая гостям указать, что им понравилось более всего, и вручал это в качестве подарка. Никита Хониат, говоря о печальном итоге Четвертого крестового похода, упрекал Алексея I за то, что он, показав западным сеньорам и рыцарям казну империи, разжег их алчность: на Западе 100 лет не забывали об этих богатствах.
Когда же посол был неугоден или неуступчив, к нему сразу или вскоре проявляли открытое пренебрежение, «забывали» о его удобствах, плохо кормили, держали под стражей. Если империя решалась на разрыв с отправившим посольство государем, то посла порою оскорбляли и даже били по щекам.
Тщательно продумывались детали и при отправке в чужую страну собственных послов. Учитывались ранг посла, титул, пост, вес в обществе; определялись состав посольства, статус спутников посла, их число, ценность даров, вид императорской грамоты к иноземному государю, форма официального приветствия и т. п. Дипломатические дары империи в Х-XI вв. бывали действительно порою дороги. Арабские эмиры высоко ценили их. Но с ослаблением Византии ей все труднее становилось поддерживать миф о величии царства ромеев. Иногда расходы на отправку посольства брал на себя какой-нибудь вельможа-"патриот", как взял их на себя, например, в XII в. эпарх Евфимий Филокали, отправленный послом в Германию. Скромнее обставлялись и приемы иноземцев: подлинных драгоценностей и предметов роскоши, которые должны были лицезреть послы, не хватало, и их все чаще заменяли поддельными (стеклом вместо бриллиантов, позолотой вместо золота).
С конца Х в., как упоминалось, и особенно в XI в. Византия отказалась от старого принципа не выдавать за правителей иных христианских держав порфирородных родственниц императора. Система брачных связей василевса превратилась в один из рычагов дипломатии. Правда, сначала императоры предпочитали отдавать в жены иноземным повелителям своих дальних родственниц или даже просто знатных девиц, прибегая иногда к сознательному обману и неизменно пытаясь толковать брачный договор с правящим двором чужой страны как свидетельство ее зависимости от империи. Выдав за венецианского дожа сестру эпарха, Василий II полагал (так изображает дело Скилица), что ему удалось «подчинить» венецианцев.[5] "Разменной монетой" в дипломатической игре становились также побочные дети василевсов и членов его семьи.
Однако вплоть до середины XIV в. василевсы упорно отказывались от брачных союзов с иноверцами, в частности — с арабскими эмирами и турецкими султанами. Алексей I отверг предложенный иконийским султаном проект брака между его сыном и Анной Комнин, несмотря на очень выгодные условия и на большую опасность ссоры с Иконием. Анна в связи с этим проектом замечает, что участие в управлении царством мусульман она сочла бы "более злополучным, чем любая нищета".
Использовала византийская дипломатия и неудачливых родственников соседних государей: династические смуты и распри на родине постоянно забрасывали таких отщепенцев в империю, и она содержала их как всегда готовых ставленников императора на трон чужой страны (этим целям Мануила I служили, например, венгерские королевичи). Арабских эмиров-перебежчиков в империи крестили. Они получали чины, богатых жен, дома в столице. Знатных пленников император — в зависимости от степени выгоды — мог выдать врагам или отдать родичам и друзьям.
Византийские политики разработали целую систему дипломатических способов давления на нехристианские страны. Одним из наиболее зарекомендовавших себя было распространение христианства. Неофитам настойчиво внушалась мысль о греховности вооруженного выступления против василевса. Не полагаясь, однако, на мирную проповедь, Византия была готова в случае необходимости прибегнуть к силе. Архиепископ Василий писал в XII в., что «варвары» лишь до тех пор не нарушают мира, пока десница василевса держит над ними занесенный скипетр.
Каждый из «варварских» народов империя стремилась заставить служить своим интересам. Для этого на протяжении значительного времени собирались сведения об этих народах, изучалась их история, быт, нравы, обычаи, материальные ресурсы, организация власти, отношения с соседями. Подозрительность, недоверие к союзникам, чрезмерная осторожность были характерными для византийской дипломатии. Константин IX, например, по нелепому подозрению покарал преданного ему печенежского хана Кегена, и ранее дружественная большая орда печенегов перешла на сторону врагов империи.
*
Остановимся кратко на отношениях Византии с различными из окружавших ее народов. В течение IX–XII вв., за исключением лишь отдельных периодов, основное внимание византийской дипломатии было приковано к восточным границам, откуда империи грозила главная опасность. Во второй половине Х в., отразив арабский натиск, Византия перешла здесь к дипломатической борьбе как к основному средству обороны. Используя раздробленность арабского халифата и противоречия между отдельными эмиратами, империя привлекала на свою сторону одних арабов, заставляла их воевать против других. Только с середины XI в., когда на смену арабам явился гораздо, более грозный и сплоченный враг турки-сельджуки, главную роль вновь стали играть не дипломаты, а полководцы.
Чрезвычайно изменчивыми (то дружественными, то натянутыми) были отношения империи с христианскими княжествами Кавказа. Границы с ними то исчезали, то вновь строго устанавливались; их правители то сами признавали суверенитет василевса, платили ему дань и помогали ему войском, то, напротив, порывали с империей, требовали с нее уплаты дани, поддерживали узурпатора и иных врагов императора. Малейшая ошибка влекла за собой серьезные осложнения. Например, Роман I удостоил дружественного правителя Тарона Крикорика титула магистра с ругой в 20 литр. Прочие зависимые грузинские и армянские князья тотчас сочли себя обделенными. Император не имел возможности наградить всех одинаково, и империи стоило немало труда унять смуту. Кроме того, задачи византийской дипломатии осложнялись постоянными усобицами между грузинскими и армянскими князьями.
Гораздо более резкими переходами от состояния мира к состоянию войны и наоборот отличались отношения Византии со славянскими народами Балканского полуострова. Болгары дважды, в Х и в XII вв., угрожали лишить империю ее европейских владений. Царь Болгарии Симеон стремился даже к овладению константинопольским престолом.
В 1018 г. Византии удалось на 170 лет (до 1186 г.) подчинить своему господству почти всех славян на Балканах. Никита Хониат писал, что ненависть болгар к ромеям, как отчее наследие, вечна. Но в пограничных районах складывались особые отношения, отличные от официально-политических. В отдельных случаях грекоязычное население переходило на сторону болгар, а иногда наоборот — славянское — на сторону империи. В конце XII в. славянскому повелителю Просека помогал отражать атаки василевса греческий мастер по изготовлению метательных машин. Полувеком позже один из видных жителей Мелника уговаривал сограждан перейти на сторону императора, поскольку все они "чистые родом ромеи", на которых василевс имеет полное право, — и его уговоры возымели действие.[6]
Большое внимание византийская дипломатия уделяла северному Причерноморью. Хазары, русские, венгры, печенеги, половцы издавна находились в сфере интересов Константинополя, натравливавшего их друг на друга. С Русью, совершившей с 860 по 988 г. пять походов против Византии, постепенно установились особые отношения, зафиксированные в серии специальных договоров. Русские купцы получили исключительные торговые льготы в самом Константинополе. За их правителя (Владимира) была выдана, как упоминалось, первая «порфирородная» царевна. Русь приняла христианство не под военным или политическим давлением. Русско-варяжские наемники в течение почти столетия составляли наиболее боеспособные части византийской армии.
Что касается стран европейского Запада, то с ними империя наладила постоянные связи гораздо позже, чем с народами Востока, Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы. Исключение составляли Венеция, папство и княжества Италии, с которыми империя, имевшая на Апеннинском полуострове до 1071 г. владения, издавна состояла в тесных отношениях. Однако в непосредственный и постоянный контакт жители коренных греческих земель вступили с представителями европейского Запада лишь с последних десятилетий XI в., когда норманны перенесли из Италии свои военные действия против империи на Балканы, а в византийской армии появилось множество наемных западных рыцарей.
*
Итак, ромеи постоянно сталкивались с иноплеменниками: с такими же подданными василевса, как они сами, с врагами и союзниками на поле брани или во время мирных поездок за рубеж. В городах империи, особенно в Константинополе, всегда находилось множество иностранцев: купцов, богомольцев, церковных деятелей, приезжавших по делам к патриарху, монахов, подвизавшихся в греческих или своих монастырях, воздвигнутых в византийских монашеских центрах (в начале XI в. на Афоне, например, был основан русский монастырь, еще ранее, — грузинский и амальфитянский монастыри, а позже — болгарский и сербский), иноземных наемников, служивших в течение краткого или продолжительного срока в войске и расквартированных как в городах, так и в селах, постоянно поселившихся в империи лиц иностранного происхождения, дипломатов и посланцев иностранных государей, проживавших в столице в течение недель или многих месяцев и даже нескольких лет.
Колонии иноземных купцов в городах Византии, в том числе в Константинополе, возникли, видимо, уже в IX- Х вв. Издавна существовала в Константинополе арабская колония, которая в Х и XI вв. имела свои мечети, с IX в. — грузинская колония, с Х в. — русская. Однако до XI столетия для большинства иноземных торговцев был установлен точный срок их пребывания в столице: один месяц, три месяца, полгода. Лишь с XI в. стали быстро расти, занимая целые городские кварталы с пристанями, постоянные купеческие колонии иностранцев, в особенности итальянцев: венецианцев, генуэзцев, амальфитян, пизанцев. Привилегированные колонии итальянцев практически были совершенно независимыми. Спаянные единством интересов, жившие на чужбине купцы и судовладельцы дружно приходили на помощь друг другу, причиняя нередко прямой ущерб приютившей их стране. Уже к середине XII в. венецианцы имели недвижимое имущество далеко за пределами отведенной им в столице территории. Местные ремесленники и торговцы не раз во второй половине XII в. поднимали восстания, в ходе которых громили итальянские кварталы. Некоторые василевсы пытались ограничить деятельность итальянцев в столице, но делали это крайне непоследовательно. Империя нуждалась в военной помощи итальянского флота, и после погромов императоры выплачивали итальянцам компенсацию. Иноземцы упрочивали свои позиции в империи.
Сознание своего превосходства над «варварами» и озлобление, испытываемое после неудачных попыток противостоять торгово-промышленной конкуренции, порождали у ромея чувство неприязни не только к «латинянам», но и к таким же православным, как и он сам, грузинам и русским. Их монастыри на Афоне не раз терпели притеснения от монахов окружающих греческих обителей и от местных властей. В связи с этим весьма интересна оброненная Атталиатом фраза: рассказывая о голоде в столице в 70-х годах XI в., историк заметил, что стали умирать во множестве "не только иноземцы", но и горожане-ромеи.[7]
В привилегированном положении находились иностранные наемники, служившие в Константинополе, особенно — в дворцовой гвардии. Они размещались в зданиях дворца, всегда окружали василевса и пользовались его щедротами. Им доверяли и жизнь императора, и проведение наиболее важных акций (например, арест патриарха). В таком положении долго были русские и варяги. При провозглашении нового василевса вельможи и их ставленник испытывали особое беспокойство и страх, если дворцовая гвардия не торопилась его славословить. Узурпаторы более всего опасались верности наемников законному василевсу.
Кекавмен предупреждал, что наемные воины не должны получать важных титулов и должностей: они обязаны нести службу "за хлеб и одежду", как он говорит, "посматривая на длань императора"; высокая плата и почести могут развратить их, а главное — оскорбить чувства ромеев, охладить их служебное рвение; возвышение иноземцев опасно и для международного престижа империи — на родине наемника будут смеяться над ромеями, вознесшими никчемного человека, не сумевшего ничего добиться у себя дома. Мало того, по мнению Кекавмена, Романия процветала именно потому, что до середины XI в. василевсы не жаловали иноземцев.
Но этим рекомендациям императоры обычно не следовали ни до, ни после Кекавмена. Они проявляли особую щедрость по отношению к тем знатным иностранцам, которые навсегда поселялись в империи. Эти люди быстро продвигались по службе, становились сановниками, порой командовали основными военными силами государства. При Михаиле III знатный перебежчик, крещеный перс Феофов, настолько возвысился, что больной василевс, боясь за участь наследника, приказал тайно убить Феофова в его собственном доме и похоронить там же. Полутурок-полугрузин Чауш пользовался огромным доверием Алексея I. Блестящую карьеру при этом императоре сделал выходец с Кавказа Григорий Бакуриани — он стал великим доместиком, т. е. первым после василевса полководцем империи.
*
Переходя к вопросу об отношении иноплеменников к византийцам, упомянем прежде всего о том, что самим ромеям негреческого происхождения была свойственна дихотомия (раздвоение) этнического чувства. Даже знатные ромеи-иноплеменники сохраняли двуязычие, а порой, сколь ни прочны были их связи с господствующими кругами империи, в случаях опалы или взрыва народно-освободительной, борьбы против Византии на их родине многие из них тотчас «вспоминали» о своем происхождении и бежали туда в надежде на удачу и почетную роль. Весьма примечательно, что упомянутый Григорий Бакуриани, основавший в 1083 г. во Фракии крупный монастырь (Бачковский, или Петрицонский) добился у императора предоставления монастырю статуса «автокефального» (самоуправляющегося) и в написанном самим Григорием уставе запретил монахам-грузинам (а может быть — и православным армянам) допускать в обитель чиновников и монахов-греков. Необходимо это потому, аргументировал свой запрет крупнейший полководец Романии, чтобы греки, "будучи насильниками, болтливыми и жадными, не нанесли какого-либо ущерба монастырю и не оттягали игуменство или под каким-нибудь предлогом не присвоили обитель, что часто случается"…[8]
Сталкиваясь преимущественно с византийскими дипломатами и сановниками, иностранные деятели считали хитрость, спесь, льстивость и расчетливость, присущие им, характерными чертами всех жителей империи. "Греци льстивы и до сего дни", — говорится в русской летописи. Никита Хониат, осуждая вероломство, с горечью заметил: "Недаром мы прокляты всеми народами".[9]
Византийской надменности правители окружающих империю стран противопоставляли свой кодекс чести, основанный прежде всего на военном могуществе. Святослав с презрением говорил послам василевса, что ромеи ремесленники, добывающие хлеб трудом рук своих, а русские — храбрые воины, берущие добычу мечом.
При иноземных дворах зорко наблюдали за действиями византийских дипломатов, за состоянием на границе империи, собирали о ней сведения. На Руси знали о внутреннем и внешнем положении Византии накануне каждого похода против нее. Изучив нрав и слабости того или иного василевса, иноземцы умели больно уязвить его самолюбие. Во время столкновения Алексея I с венецианцами они глумились над его рыжей бородой и заставляли императора терять голову от гнева накануне битвы. Выводили этого самовлюбленного государя из себя и турки, разыгрывая целые пантомимы, в которых изображали, как передвигается страдающий ревматизмом василевс.
Вторгшиеся в империю норманнские рыцари кричали перед боем, что ромеям следует сразу же отказаться от сопротивления, так как они с детства обучены держать в руке не меч, а лишь грифель и доску для письма, так как их пороли учителя за нерадение и с тех пор ужас перед плетью остался у них в крови. Завоевав Константинополь в 1204 г., «латиняне» с насмешкой отвергли предложенные им услуги большинства византийских военных, заявив, что те «непригодны» к ратному труду.
Особенно оскорбительные отзывы о ромеях принадлежат перу Лиутпранда. Целью его приезда в Византию в качестве посла было заключение союза двух империй, предложенного Оттоном I. Поскольку незадолго перед прибытием Лиутпранда Оттон I короновался в качестве императора (962 г.), холодный прием германскому послу на Босфоре был обеспечен. Поэтому Лиутпранд далек от объективности в своих общих заключениях о нравах ромеев. Мы приведем все-таки часть его рассказа, чтобы дать представление о степени предубеждения среди иноземцев по отношению к византийцам.
Прежде всего епископ Кремонский простоял немало времени под дождем у запертых Золотых ворот города. Ему не позволили ехать верхом до дворца и следовать в торжественном облачении, подобающем его рангу. Помещение Лиутпранду и его 25 спутникам, холодное и неуютное, отвели вдали от дворца, а к дверям приставили стражу. Во дворец посол ходил пешком. Содержание было скудным, обращение грубым. С 20 по 24 июля (968 г.) ему вообще не давали продуктов. В городе все стоило страшно дорого. Лиутпранду едва хватало трех золотых в день на прокормление свиты и четырех стражников-ромеев. За столом на пиру во дворце ему отвели лишь 15-е место. Пир ему показался непристойным, пища — невкусной, запахи — дурными. Никифор II Фока во время застолья громко хвастался своим войском и флотом, оскорблял Оттона I и угрожал ему.
При торжественном выходе василевса Лиутпранд заметил, что улицы украшены дешевыми щитами и копьями, согнанные простолюдины — в большинстве босы, торжественные одеяния сановников — заношены и явно унаследованы еще от дедов. Вельможи будто бы держались с послом заносчиво, называли его страну бедной овчинной Саксонией, угрожали ей разгромом, хвастали и грубили, а при расставании вдруг стали лицемерно любезны и льстивы, расточая Лиутпранду поцелуи. С раздражением посол добавляет, что в первый свой приезд при Константине VII, 20 лет назад, он без досмотра вывез много дорогих тканей, а теперь у него отняли даже те, которые ему подарил сам император. На взгляд Лиутпранда, недавно цветущий Константинополь стал нищим, вероломным, лукавым, хищным, тщеславным (перечень подобных эпитетов занимает десятки строк).
Совершенно иную картину рисует через 200 лет арабский путешественник Идриси и купец из Испании Вениамин Тудельский. Вениамин пишет, что Константинополь подобен сказочному городу, его обитатели разодеты в шелка, шитые золотом, и ездят на конях; обильна их земля; страна их богаче всех стран мира. Жители ее образованны и счастливы, а для военных целей они нанимают иноземцев, так как нет у греков мужества и они подобны женщинам.
С восторгом и удивлением рассказывают о Константинополе и хронисты-крестоносцы, замечая здесь же, что греки исполнены неоправданной гордыни и отличаются вероломством.
Разумеется, такого рода характеристики крайне пристрастны и не могут быть восприняты без критики. Справедливо, однако, что на рубеже XII–XIII вв. на Западе получило широкое распространение представление о ромеях как о народе слабом, неспособном постоять за себя. В какой-то мере это представление соответствовало действительно быстрому закату могущества империи. Обессиленный непомерным гнетом, обнищавший и отчаявшийся житель Византии испытывал все меньше желания защищать государство василевса, которое оказалось его злейшим врагом. Легенду об исключительных достоинствах ромеев становилось все труднее внушить не только иноземцам, но и самим ромеям.
Глава 9 ПРАЗДНИКИ, ЗРЕЛИЩА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Праздники в Византии были общенародными и местными, религиозными и политическими, профессиональными и семейными, регулярными и экстраординарными, официально дозволенными и запрещенными.
Один из наиболее стойких феноменов народной культуры, праздник воспринимался каждым новым поколением как неотъемлемый элемент устоявшегося жизненного распорядка, унаследованного от предков. Наиболее древними, восходящими к античной и эллинистической эпохам, являлись языческие празднества, которые продолжали бытовать в христианском византийском обществе, медленно и трудно сходили со сцены, исчезали и возрождались, маскировались под христианские праздники или под местные обычаи, справлялись тем смелее, чем дальше от крупных центров, высших церковных и светских властей находилась та или иная местность.
Эти враждебные православию рудименты язычества в среде иноплеменного населения империи имели и древнеэллинское и свое, так сказать, отечественное происхождение. Они явственнее ощущались в тех провинциях, которые позже вошли в состав империи (например, некоторые армянские и грузинские земли, северо-западные районы Балкан) и где более замкнутый образ жизни вело население (например, влахи, албанцы). В основном, однако, в IX–XII вв. оригинальные языческие обычаи и обряды иноплеменных ромеев успели тесно переплестись и слиться с чисто эллинскими, подверглись переосмыслению и даже некой ритуальной «христианизации».
Знаменательно, что число языческих торжеств и веселий даже увеличивалось с распространением христианства: языческие праздники приютились самозванцами в лоне самой ортодоксальной веры и вместе с нею наследовались неофитами. Поэтому церковь вынуждена была идти не по пути полного искоренения языческих, обычаев, а по пути их адаптации, «обезвреживания» несовместимых с христианством идейных норм и истолкования древних игрищ в качестве обрядов, связанных, например, с циклами крестьянской трудовой деятельности.
Общенародными языческими праздниками в Византии IX–XII вв. были календы, брумалии и русалии. Календы по-латыни — вообще первое число каждого месяца, но как праздник они отмечались в начале января и стали справляться на востоке Средиземноморья со времени установления римского господства (в конце Х-XI столетии под именем «коляд» этот праздник вместе с христианством проник и на Русь).
Сначала календы праздновали с 1 по 5 января, а с утверждением христианства в качестве господствующей официальной религии начало празднования календ было приурочено к важному церковному празднику — рождеству (25 декабря), и календы стали 12-дневными. В конце VII в., на Шестом вселенском соборе, календы предали анафеме, но запрет не возымел действия: их продолжали справлять в народе, а вскоре снова стали отмечать в самом императорском дворце. Правда, василевсы старались все-таки отделить языческое веселье от церковных торжеств и основные развлечения устраивали не в ночь на 26 декабря, как и не в ночь на 1 января (день св. Василия), а только в ночь на 2 января. Да и ряженых, исполнявших строго определенные ритуальные функции, во дворце были единицы.
Народ праздновал календы, как и римляне, со времен Юлия Цезаря, в ночь на 1 января, хотя новый год в Византии IX–XII вв. начинался не с января, а с 1 сентября. Каждый наряжался как мог, чаще всего мужчины переодевались женщинами, а женщины — мужчинами. Надевали маски. Ряженые бродили от дома к дому с песнями и плясками, стучались в двери, участвовали в пиршестве у незнакомых людей, выпрашивали дары. Немало народу толклось в трактирах и кабаках и заполняло ночные улицы.
Во дворце в ночь на 2 января устраивались так называемые готские игры, во время которых приглашенные на праздник вельможи, а также члены цирковых партий «голубых» и «зеленых», певцы и музыканты, прославляли василевса и его наследников. Петь подобающие для случая песни были обязаны и сановники. Пение перемежалось плясками ряженых и нескольких «готов», вооруженных мечами и щитами. «Готы» пели особые песни, имевшие когда-то ритуальный характер, но затверженные теперь на столь неузнаваемо испорченной латыни, что смысла их уже никто не понимал.
Брумалии праздновались незадолго до календ (слово «брума» по-латыни означает "самые короткие дни в году", т. е. время зимнего солнцестояния). Они были преданы анафеме на том же Шестом вселенском соборе, но также безрезультатно. Народ праздновал брумалии и календы почти одинаково. Во дворце же для брумалий был разработан особый ритуал. Сановники плясали в хороводе и пели с горящими свечами в руках. Император одаривал их золотом, а представителей рядового населения столицы — серебром. Вечером устраивалось многолюдное пиршество (как и во время календ), на котором присутствовал василевс, сидевший с семьей за отдельным столом. Роман I Лакапин не допускал празднования брумалий во дворце, но их стали отмечать здесь снова уже при соправителе и преемнике Романа I — Константине VII: этот василевс постановил, что во время брумалий следует раздавать из казны не более 50 литр (3600 золотых).
Русалии — весенний праздник цветов — устраивались после пасхи, накануне троицы. О том, как этот праздник отмечали в сельской местности, можно составить некоторое представление по судебному решению охридского архиепископа Димитрия Хоматиана (первая треть XIII столетия), вынужденного разбирать дело об убийстве во время русалий. Сельская молодежь устроила танцы, игры, пантомимы и «скакания» — все это полагалось делать, чтобы получить дары зрителей. Пастух в овечьем загоне, у которого молодые люди потребовали сыра, отказался его дать, вспыхнула ссора, пастух был убит. Назначая эпитимьи виновникам случившегося, архиепископ замечает, что русалии, как и брумалии, воистину "бесовские игрища", соблюдаемые как обычай "в этой стороне" (Македонии).
Однако особенно торжественно все слои византийского общества без исключения отмечали религиозные праздники, официально установленные церковью. К концу Х-началу XI в. твердо определился круг так называемых престольных церковных праздников (рождество, крещение, пасха, троица и т. д.). Широко праздновались по всей империи дни таких почитаемых святых, как св. Георгий (23 апреля) и св. Димитрий (26 октября). Близ Чурула во Фракии, в Куперии, ежегодно справлялся грандиозный праздник в честь св. Георгия. Здесь устраивалась и ярмарка. Василевс с семьей в этот день отправлялся морем в Манганы (монастырь в северо-восточной части столицы) на поклонение мученику. Кроме того, отмечались праздники в честь местных святых, памятные события, связанные с данной местностью, городом, церковью, монастырем и т. п.
Религиозный праздник требовал от прихожан присутствия на церковной службе в храме, а нередко и участия в торжественной процессии. В престольные и другие праздники (дни св. Димитрия, св. Ильи) совершался выход императора. В соответствии с церемониалом процессия проходила из дворца по украшенным улицам и площадям в св. Софию, где василевс с семьей присутствовал на праздничном богослужении, совершаемом самим патриархом. Иногда процессия направлялась в иной храм, порою — на конях, порою — на судне. После официальных торжеств начинались игры, а за ними шли пиршества. К праздничной трапезе готовились задолго до наступления праздника, запасали продукты, экономили. Простолюдины нередко ограничивали себя перед праздником в течение многих недель. Накануне пасхи такое воздержание было предписано христианам самой церковью: пасха праздновалась после великого поста. Этот праздник в Константинополе отмечался по традиции особенно пышно.
Помимо церковных праздников, византийцы справляли государственные праздники, ежегодные (например, 11 мая — день основания Константинополя, день рождения императора) и экстраординарные, нерегулярные (коронация василевса, его свадьба, рождение наследника). В такие дни вновь славословили государя, несли дары ему или его детям. Василевс повелевал выдавать народу медные деньги, выставлять на площадях, на специальных длинных столах, даровое угощение, устраивать на ипподроме массовые зрелища. Народ водил на улицах хороводы, пел обрядовые песни и гимны в честь виновника торжества. Во дворце пировала высшая знать.
Государственным праздником, по крайней мере для жителей столицы и ее окрестностей, становился и день вступления в столицу победившего узурпатора. В город он въезжал на белом коне, в сопровождении пышной свиты, отряда телохранителей, отборного войска. В соответствии с определенным ритуалом, с песнопениями и славословиями его встречали сановники, высшее духовенство, руководители корпораций, толпы народа.
Поводом к объявлению всенародного праздника могло стать также возвращение василевса в столицу после победоносного похода. Справлялся триумф. С величайшей пышностью, например, обставил свое возвращение после победы над Святославом и присоединения северо-восточной Болгарии Иоанн I Цимисхий. Императорская колесница, влекомая четверкой белоснежных коней, была украшена цветами; собственными руками василевс возложил венок и на своего верхового коня. Но сам государь от Золотых ворот следовал пешком за своей колесницей, в которой лежали одеяния болгарского царя, а на них стояла икона богоматери Влахернской — заступничеству ее император смиренно приписывал свои победы. На Форуме Константина василевс снял с идущего во главе знатных пленников болгарского царя Бориса царский венец и отдал, войдя в св. Софию, в руки патриарха.[1] Примерно так же была организована встреча Василия II после окончательного завоевания всей Болгарии.
Поводом для импровизированного празднества служил также въезд в столицу иноземной принцессы — невесты императора или его наследника. Берту-Ирину, жену Мануила I Комнина, встречали с ликованием на всем протяжении ее пути от берегов Адриатики, где она сошла с корабля, до самого Константинополя. Праздничные встречи на пути и в столице устраивали также мощам известного или новоявленного святого, доставляемым из провинции, из отвоеванных районов, или дарованным василевсу иноземным государем. Так, например, при Константине VII торжественно и празднично встречали раку с рукой Иоанна Предтечи.
Помимо праздников общих для населения империи или для жителей города, справлялись праздники профессиональные, корпоративные, квартальные. Константинопольские врачи праздновали 27 июня день св. Сампсона — покровителя медиков: они совершали поклонение его останкам в храме св. Мокия, а затем собирались за общим пиршественным столом. Церковный приход совместно отмечал обычно день памяти святого своей церкви, сослуживцы канцелярии — повышение по службе чиновника, корпорация — избрание нового члена. Например, процессия тавулляриев в таком случае, выйдя из церкви, где новый коллега получал благословение, провожала его до кафедры, на которую он избирался, а затем шла пировать к нему на дом. 25 октября, в день памяти святых нотариев, подвыпившие адвокаты всей группой, в масках, ходили по городу.
На семейные торжества, которые также очень часто начинались в церкви (крестины, обручение, свадьба), приглашали тем больше народу, чем богаче была семья. Знатный хозяин стремился поразить своих гостей роскошью обстановки жилища, богатством одеяний и украшений членов семейства, разнообразием блюд. Гости также принаряжались, прибывали на лучших из своих коней и мулов, в дорогих седлах или в богато отделанных колясках. На таких семейных праздниках, даже в глухой деревне, общество услаждал специально приглашенный певец или музыкант. Свадьбу Дигениса Акрита играли сначала в его доме, затем — в доме родителей невесты. Гостей пригласили множество, их дары молодоженам трудно счесть. Пиры длились много дней подряд. В городах в подобном случае состоятельный хозяин наснимал целую труппу бродячих музыкантов, фокусников, мимов и акробатов, представителей нередко весьма низкопробного искусства.
Как уже говорилось, во время крупных общенародных или столичных празднеств для горожан устраивались разного рода зрелища и увеселения. Разумеется, своеобразными зрелищами для обывателя являлись уже праздничные процессии, крестные ходы, встречи, даже похороны знатных лиц. С полным правом к разряду зрелищ следует отнести торжественное богослужение, церковную литургию, в которой прихожанин становился участником пышно театрализованного магического действа.
Однако особенно популярными у столичного населения были специальные игрища, устраиваемые по традиции, начиная с античных времен, на ипподроме (эллипсовидном огромном сооружении, подобном современному стадиону), расположенном по соседству с Большим императорским дворцом и св. Софией. Основным видом зрелищ на ипподроме были конские ристания — соревнования в искусстве управления лошадьми. Каждой из легких колесниц, мчащихся по боковым дорожкам ипподрома и запряженных несколькими лошадьми, правил один возница. Содержание коней и ипподрома, устройство самих ристаний являлось обязанностью цирковых партий, среди которых выделялись четыре: «голубые», «зеленые», «красные» и «белые». В Х в. практически сохранились лишь две первые партий. Ведал ими эпарх столицы.
Само представление и подготавливалось и развертывалось на ипподроме по строгим правилам. Вход на ипподром был свободным. Горожане занимали места с утра. Каждый «болел» за ту или иную партию. Ристания начинались по знаку самого василевса, приходившего в свою ложу из дворца по крытой галерее. Возницы были одеты в цвета своих партий. Бег колесниц сопровождался ревом зрителей, подбадривавших, освистывавших и поносивших «своего» или «чужого» возницу. Зрители награждали победителя аплодисментами, император — литрой золота. В XI столетии цирковые партии, по всей вероятности, имелись и в некоторых других городах империи, помимо Константинополя: упоминания о представлениях на ипподромах в провинциальных центрах иногда мелькают в источниках. На конские ристания в Магнесии собиралось почти все население города. Приходили даже монахи, потом каявшиеся "во грехе". Духовенство осуждало иногда игрища на ипподроме как недостойные христиан забавы, но о прямых выступлениях священнослужителей против состязаний на ипподроме в IX–XII вв. неизвестно. Ристания были прочно укоренившимся обычаем, вошедшим в официальную церемониальную символику императорской власти и выполнявшим определенную функцию во время дипломатических приемов иноземных посольств.
В X столетии в Спарте по субботам в центре города устраивались спортивные игры — может быть, как отголосок местной древней традиции. На соревнования собиралось множество народа. Являлся сам стратиг города, забывавший о своих служебных обязанностях: в частности, он пренебрегал жалобами клириков ближайшего к месту состязаний храма, которые говорили, что гром аплодисментов зрителей заглушает голос священника, совершающего службу перед немногочисленными прихожанами (большинство предпочитало уйти на игры).
В столице после бега колесниц на ипподроме начинались обычно выступления акробатов, борцов, фигляров, фокусников, дрессировщиков животных. К концу представления близ ипподрома толпились шуты, мимы, музыканты, певцы и гетеры, участвовавшие или не участвовавшие в играх и нередко расходившиеся отсюда группами по домам знати для увеселения ее на ночных пирушках.
Иногда василевс повелевал показать на ипподроме зрелище совсем иного рода. Суровый воин Никифор II, вызвавший недовольство столичных жителей своей политикой цен, решил поразить "изнеженных горожан" видом рукопашного боя. Он забыл, однако, предупредить о том, что это всего лишь зрелище. Когда воины императорской гвардии, разделившись на два отряда и обнажив мечи, начали «сражение», трибуны охватила паника. Горожане отлично помнили, что накануне в уличной схватке было убито несколько гвардейцев василевса, и, не поняв намерений императора, решили, что настал час его мести за убитых. Народ бросился с ипподрома к выходам, насмерть давя упавших.
На ипподроме же иногда демонстрировали свое искусство джигитовки знатные воины. Оруженосец Романа I Лакапина — Мосиле, стоя в рост на мчащемся во весь опор коне, не покачнувшись, как рассказывает Скилица, размахивал мечом, показывая приемы владения оружием. С конца XII в. под западным влиянием стали вводиться в Византии и рыцарские турниры среди знати. Воинские состязания, правда, устраивались в империи задолго до этих турниров; в них издавна принимали участие даже сами василевсы, но эти соревнования не были поединками (метали копье, стреляли в цель из лука, преодолевали на конях препятствия, поражали мечом или булавой чучело "врага").
Развлекая собравшихся на ипподроме горожан, канатоходцы совершали на канате, натянутом на значительной высоте, различные акробатические трюки, ходила с завязанными глазами, стреляли из лука и т. д. Жонглеры бросали в воздух и ловили стеклянные хрупкие шары, манипулировали сосудами с водой, не проливая из них ни капли. Дрессированный медведь, изображая неудачников, выпивох и простецов, заставлял зрителей покатываться со смеху; ученая собака вытаскивала из рядов по заданию хозяина то «скупца», то «развратника», то «расточителя», то «рогоносца».
Положение «артистов» акробатических цирковых трупп (как правило, бродячих) было тяжелым: их преследовало моральное осуждение церкви и добропорядочных ханжей, суд и власти не признавали за ними гражданских прав, условия их жизни целиком зависели от степени щедрости случайных зевак. Свои представления они показывали прямо на площадях и улицах города.
Византия не знала собственно театра — такого, каким он сложился в период античности. Но своеобразный театр все-таки существовал: те же бродячие актеры, фигляры и мимы, совмещавшие нередко по нескольку «артистических» специальностей, разыгрывала остро комические сценки и фарсы собственного сочинения, в которых гротеску, сатире и клоунаде отводилась главная роль. Сюжеты выбирались простые: супружеская неверность, похождения молодого повесы, злоключения сводника или глупого скряги. Зачастую представления были грубо циничны: непристойные выражения сопровождались не менее непристойными жестами. Актрисы выступали в непривычной одежде — укороченном хитоне с большим вырезом. Церковь особенно настойчиво преследовала мимов. На ипподром их не пускали. Однако мимы пользовались популярностью, и не только у простонародья. Порой они попадали на ночные кутежи золотой молодежи, на пиршества солидных сановников и даже во дворец василевса. Известно о пристрастии к мимам Романа II, Константина VIII, Константина IX. Даже некоторых патриархов обвиняли в том, что они втайне развлекались представлениями мимов, скрытно проведенных в патриаршие палаты.
Театр жил полуофициальной жизнью и при дворе самого василевса. В "Житии патриарха Евфимия" упомянут "первый актер" «благочестивейшего» василевса Льва VI Мудрого некий Ваан, присутствовавший на трапезах императора и осмеливавшийся подавать ему советы.[2] Представления актеров Лев VI смотрел, сидя за своим обеденным столом. Никита Хониат оставил описание одного из крупных, специально организованных представлений в императорском дворце в конце XII в. Зрителями были василевс, члены его семьи, дворцовые сановники и челядь, видные титулованные особы. Среди актеров находились и знатные юноши, обладавшие каким-нибудь «талантом» и желавшие продемонстрировать свои способности. С приглашенных вельмож взимали какую-то плату (видимо, в пользу актеров-профессионалов). Представление было подобно «обозрению»: состязания и трюки атлетов сменялись танцами, фокусы и сценки перемежались песнями. В интермедиях на арену выходили клоуны, игравшие одновременно роль конферансье. Ход забавы регулировал особый распорядитель, а о начале каждого номера возвещалось громким шлепком по нижней части спины некоего молодца.
Зрелищем, привлекавшим внимание множества горожан, становилось созерцание диковинных зверей и животных из далеких стран. Константин IX приказал водить по городу для развлечения жителей столицы слона и жирафа, присланных императору в дар из Египта. При дворце василевса (во всяком случае еще в XII в.) имелся специальный зверинец, в котором содержались львы.
Кроме празднеств, пиров и зрелищ, византийцы знали развлечения и другого рода. Весной и летом, в воскресные и праздничные дни, константинопольцы верхом и на судах выезжали на лоно природы, на берега Босфора. Впрочем, эти загородные прогулки оказывались небезопасными: в IX в. болгарские легкие отряды не раз совершали быстрые набеги на эту беззаботную и безоружную публику столицы империи.
Особенно распространенным и «благородным» препровождением свободного времени в кругах византийской знати считалась охота — любимая и нередко опасная забава. Василий I погиб, получив смертельные ушибы на охоте: олень, заценив рогом за пояс, волочил императора сквозь чащобу; Исаак I Комнин тяжело заболел, простудившись во время охоты на кабанов. Любили охотиться и Александр, и Алексей I Комнин с братом Исааком, и Андроник I, который повелел художникам изобразить на фресках сцены охоты с собаками, преследующими зайца, кабана, настигаемого ими, а также зубра, пронзенного копьем.
На охоту отправлялись обычно перед рассветом и возвращались домой к завтраку. Выехав спозаранку в окрестные леса, окружавшие Константинополь еще в XII в., Алексей I успевал к утру вернуться с добычей во дворец, Полководцы и знатные воины не упускали случая поохотиться и во время военных походов, когда войско останавливалось на отдых.
Великолепные охотничьи угодья находились в Болгарии, у Анхиала и близ Дуная, а в Македонии в междуречье Струмы и Вардара, неподалеку от Фессалоники, к северу от города. Тешилась охотой фессалоникийская знать чаще всего в октябре, накануне дня св. Димитрия. В начале Х в. почти под стенами самой Фессалоники бродили иногда дикие олени, пасшиеся вместе с коровами горожан. На мелких зверей и птицу охотились с соколами: у Алексея I был специальный сокольничий. В Малой Азии во время охоты на хищников использовали подсадных домашних животных (Дигенис Акрит, например, в качестве приманки для хищного зверя привязывал к дереву козленка). После охоты притомившийся аристократ позволял слугам снять с него загрязненное платье, омыть его в ванне, одеть в легкие надушенные одежды, а близ его ложа, на котором он отдыхал, воскурить ароматические специи.
Игрой-забавой знатных ромеев, требовавшей силы и ловкости, была также конная игра в мяч. Алексей I предавался ей с придворными на малом ипподроме, в пределах территории Большого дворца. В чем состояли правила игры, неизвестно, но мяч, видимо, всадники отбирали друг у друга силой: по словам Анны Комнин, в борьбе с василевсом один из его партнеров свалился с лошади и сильно ушиб ногу императору. С тех пор-то, замечает принцесса, начались и стали усиливаться «ревматические» боли у ее отца.
Любили образованные ромеи проводить свой досуг за игрой в шашки и в «затрикий» — шахматы; знали они и другой совсем не безобидный вид игры — игру в кости на деньги. Иоанн Скилица рассказывает, как в ночь убийства заговорщиками императора Никифора II Фоки, его родной брат Лев, крупный полководец и видный сановник, доведший своими спекуляциями с зерном столицу до голода, играл в кости. Он вошел при этом в такой азарт, что не удосужился прочитать тайно переданную ему во время игры записку, в которой неизвестное лицо предупреждало о заговоре и о назначенном на предстоящую ночь убийстве василевса. Константин VIII с юности пристрастился к этой игре и проводил за ней целые ночи, уже став императором. Либо эту игру, либо какую-то ее разновидность имеет в виду, по всей вероятности, и Кекавмен, называя ее "игрой в тавли" ("тавли" — испорченное латинское «табула», т. е. "доска"): этой игре предавался в итальянских владениях империи во время отдыха византийский полководец, и заслужил суровое порицание Василия II. Кекавмен остерегает своих сыновей от увлечения азартными играми, настоятельно рекомендуя посвящать досуг чтению и душеспасительным беседам с монахами.
Итак, мы коротко рассказали о праздниках, зрелищах и развлечениях византийцев. Во всех случаях, когда эти празднества и увеселения носили массовый характер, их главными организаторами неизменно выступали церковь и государство. Первоначальный акт учреждения ежегодного праздника церковью и государством мог давно забыться — праздник становился народной традицией, но его социальная роль не исчезала. Обряд и ритуал, пышный и исполненный многозначительности, торжественно развертывавшиеся в строгом порядке церемонии воздействовали на чувства ромея, пожалуй, сильнее чем заключенная в празднике идея. Точнее говоря, эта идея проникала в сознание тем успешнее, чем более были возбуждены эмоции зрителей. Праздничные торжества и сами массовые зрелища выполняли в Византии важную социальную и политическую функцию, они также служили церкви и государству в качестве мощного средства воздействия на народные массы, которые обычно с нетерпением ожидали наступления праздничных дней, стремясь хотя бы на короткое время, отвлечься от тяжелых, неприглядных будней.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава 1
1
H. Antoniadis-Bibicou. Villages desertees en Grece. Un bilan provisoire. — "Revista di storia dellagricultura", № 1, marzio 1966.
(обратно)2
F. Miklosich, J. Muller. Acta et diplomata graeca medii aevi, v. VI. Vindobonae, 1890, p. 318.
(обратно)3
M. Я. Сюзюмов. Византийская книга Эпарха. M., 1962, стр. 67, 226.
(обратно)4
Ф. И. Успенский. Неизданное церковное слово о болгаро-византийских отношениях в первой половине Х века. — "Летопись Историко-филологического общества при Имп. Новороссийском университете", IV, 2. Одесса, 1894, стр. 86.
(обратно)5
"Советы и рассказы Кекавмена". Сочинение византийского полководца XI века. Подготовка текста, введение, перевод и комментарий Г. Г. Литаврина. М… 1972, стр. 127.
(обратно)6
"Michaelis Attaliotae historia". Bonnae, 1853, p. 202.
(обратно)7
См. А. П. Каждан. Деревня и город в Византии IX-Х вв. Очерки по истории византийского феодализма. М., 1960, стр. 316 сл.
Ср. М. Я. Сюзюмов. Рец. на указ. соч. А. П. Каждана. — "Византийский временник", 21, 1961, стр. 217.
(обратно)8
С. Sathas. Bibliotheca graeca medii aevi, v. V. Venetia-Paris, 1876, p. 215.
(обратно)9
Nicephori archiepiscopi constantinopolitani opuscula historica, ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880, p. 76.
(обратно)10
P. Lemerle. Prolegomenes a une edition critique et commentee des "Conseils et recits" de Kekaumenos. Bruxelles, 1960, p. 17, 33. Ср. Г. Г. Литаврин, А. П. Каждан. По поводу книги Л. Лемерля о "Советах и рассказах" Кекавмена. — "Византийский временник", 20, 1961, стр. 287–289.
(обратно) (обратно)Глава 2
1
О значении позднеримских институтов в истории Византии см.: К. В. Хвостова. Особенности аграрноправовых отношений в поздней Византии (XIV–XV вв.). (Историко-социологический очерк). М., 1968, стр. 49 сл., 102 сл.
(обратно)2
"Nicetae Choniatae historia". Bonnae, 1835, p. 274.
(обратно)3
H.-G. Beck. Konstantinopel. Zur Sozialgeschichte einer fruhmittelalterlichen Hauptstadt. — "Byzantinische Zeitschrift", 58, 1965.
(обратно)4
"Псамафийская хроника". Предисловие, перевод и комментарий А. П. Каждана. — "Две византийские хроники Х в." М., 1959, стр. 63.
(обратно)5
Michel Psellos. Chronographie, ed. par P. Renauld, I. Paris, 1926. p. 123, 153; II. Paris, 1928, p. 59, 74, 82, 113, 122.
(обратно)6
H. Glykatzi-Alirweiler. Recherches sur ladministration de lEmpire byzantin aux IXe-XIe siecles. — "Bulletin de correspondance hellenique", 84, 1, 1960, p. 49–50.
(обратно)7
Psellos, I, p. 19, 132; II, p. 73, 84.
(обратно)8
Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия в XI–XII вв. М… 1960. стр. 269 cл.; H. Glykatzi-Ahrweiler, Recherches… р. 68.
(обратно)9
Psellos, I, p. 17.
(обратно)10
Г. Г. Литаврин. О составе и относительных размерах имущества византийской провинциальной аристократии в XI–XII вв. — "Византийские очерки". М., 1971, стр. 152–168.
(обратно)11
П. В. Безобразов. Очерки византийской культуры. Пг., 1919, стр. 55 сл.
(обратно)12
Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия., стр. 314–343.
(обратно)13
Georgius Cedrenus. Joannis Scylitzae ope, II. Bonnae, 1839, p. 616.
(обратно) (обратно)Глава 3
1
P. Lemerle. Ргоlegomenes… p. 78, 97.
(обратно)2
Анна Комнина. Алексиада. Вступительная статья, перевод, комментарий Я. Н. Любарского. М., 1965, стр. 126.
(обратно)3
Там же, стр. 101.
(обратно)4
Psellos, I, р. 43.
(обратно)5
C. Zachariae a Lingenthal. Jus graeco-romanum, III. Lipsiae, 1857, p. 290, 1857, p. 290 sq.
(обратно) (обратно)Глава 4
1
См., например, М. В. Левченко. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956.
(обратно)2
"Советы и рассказы.", стр. 151.
(обратно)3
М. Я. Сюзюмов. Историческая роль Византии и ее место во всемирной истории (В порядке дискуссии). — "Византийский временник", 29, 1968, стр. 44.
(обратно) (обратно)Глава 5
1
"Стихи грамматика Михаила Глики". Перевод М. Е. Грабарь-Пассек. "Памятники византийской литературы IX–XIV веков". М., 1969, стр. 247–248.
(обратно)2
Cedr., II, р. 529–530.
(обратно)3
Nic. Chon., р. 508.
(обратно)4
Attal.. р. 263.
(обратно) (обратно)Глава 6
1
G. Buckler. Women in Byzantine Law about 1100 A. D. — «Byzantion», II, 1936; A. Jagoditsch. Zu den Quellen des altrussischen «Domostroj». "Wiener slavistisches Jahrbuch", 6, 1963.
(обратно)2
Георгий Акрополит. На смерть Ирины. Перевод С. С. Аверинцева. "Памятники…", стр. 329.
(обратно)3
А. П. Каждан. Византийская культура. М., 1968, стр. 205–206.
(обратно) (обратно)Глава 7
1
"Советы и рассказы.", стр. 241,
(обратно)2
Иосиф Ракендит. Краткое слово о себе самом. Перевод Т. А. Миллер. "Памятники…", стр. 344.
(обратно)3
Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Budapest, 1949, p. 72, 149.
(обратно)4
Johannis Euchaitorum. quae. Lupersunt. — "Abhandlungen der hist.-philol. Classe der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 28, 1882, р. 24.
(обратно) (обратно)Глава 8
1
Attal., p. 111; Nic. Chon., р. 842.
(обратно)2
А. П. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917, стр. 45.
(обратно)3
Анна Комнин. Алексиада, стр. 87.
(обратно)4
Dim. Obolensky. The Principles and Methodes of Byzantine Diplomacy. Oxford, 1961. Rapports, III.
(обратно)5
Cedr., II, p. 452.
(обратно)6
Georgii Acropolitae opera, ed. A. Heisenberg, I. Lipsiae,1903, р. 81, 82.
(обратно)7
Attal., р. 211.
(обратно)8
Typicon Gregorii Pacuriani, ed. S. Kauchtschischvili. Thbilisiis, 1963, p. 122.
(обратно)9
Nic. Chon., р. 847.
(обратно) (обратно)Глава 9
1
Cedr., II, р. 412 sq.
2 "Псамафийская хроника…",стр. 36.
(обратно)2
"Псамафийская хроника…",стр. 36.
(обратно) (обратно) (обратно)ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА (помимо указанной в примечаниях)
Р. М. Бартикян. Источники для изучения истории павликианского движения. Ереван, 1961.
П. В. Безобразов. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890.
История Византии, т. 1–3. М., 1967.
А. П. Каждан. Загадка Комнинов (Опыт историографии). — "Византийский временник", 25, 1964.
А. П. Каждан. О социальной природе византийского самодержавия. — "Народы Азии и Африки", № 6, 1966.
А. П. Каждан. Из экономической жизни Византии XI–XII вв. Натуральное и денежное хозяйство. — "Византийские очерки". М., 1971.
А. П. Каждан. Византийский монастырь XI–XII вв. как социальная группа. "Византийский временник", 31, 1971.
В. В. Кучма. "Тактика Льва" как исторический источник. — "Византийский временник", 33, 1972.
Е. Э. Липшиц. Очерки истории византийского общества и культуры. VIII-первая половина IX в. М.-Л., 1961.
Г. Г. Литаврин. Был ли Кекавмен, автор «Стратегикона», феодалом? "Византийские очерки". М., 1961.
Г. Г. Литаврин. Восстание в Константинополе в апреле 1042 г. "Византийский временник", 33, 1972.
Я. Н. Любарский. Михаил Пселл, личность и мировоззрение. — "Византийский временник", 30, 1969.
Я. И. Любарский. Исторический герой в «Хронографии» Михаила Пселла. "Византийский временник", 33, 1972.
Р. А. Наследова. Ремесло и торговля Фессалоники конца IX-начала Х в. "Византийский временник", 8, 1956.
К. А. Осипова. Система класм в Византии в Х-Х1 вв. — "Византийские очерки". М., 1961.
Н. Скабаланович. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 1884.
В. А. Сметанин. Эпистолография. Свердловск, 1970.
М. Я. Сюзюмов. Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии. "Византийские очерки". М., 1961.
М. Я. Сюзюмов. Дофеодальный период. — "Античная древность и средние века", 8, 1972.
3. В. Удальцова. 50 лет советского византиноведения. М., 1969.
Ф. И. Успенский. Византийский писатель Никита Акоминат из Хон. СПб., 1874.
H. Ahrweiler. Etudes sur les structures administratives et sociales de Byzance. London, 1971.
H. Ahrweiler. Byzance et la mer. Paris, 1966.
H. G. Beck. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Munchen, 1959.
H. G. Beck. Senat und Volk von Konstantinopel. Munchen, 1966.
H. G. Beck. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. Munchen, 1971.
L. Brehier. Le mond byzantin, v. 1–3. Paris, 1947–1950.
R. Browning. The Correspondance of a Tenth-Century Byzantine Scholar. «Byzantion», 24, 1956.
J. Bury. The Imperial Administrative System in the Ninth Century. New York, 1958.
F. Chalandon. Les Comnenes, v. l-2. Paris, 1900–1912.
P. Charanis. The Monastic Properties and the State in the Byzantine Empire. — "Dumbarton Oaks Papers", 4, 1948.
F. Dolger. Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung. Darmstadt, 1960.
R. Guilland. Recherches sur les institutions byzantines, I–II. Berlin, Amsterdam, 1967.
H. Hunger. Reich der neuen Mitte. Graz, Wien, Koln, 1969.
R. Janin. Constantinople byzantine. Paris, 1964.
E. Kirsten. Die byzantinische Stadt. — "Berichte zum XI. ByzantinistenKongress". Munchen, 1958.
Ph. Koukoules. Vie et civilisation byzantines, I–V Athenes, 1948–1951.
K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munchen, 1897.
P. Lemerle. Esquisse pour une histoire agraire de Byzance. — "Revue historique"; t. 219–220, 1958.
P. Lemerle. Le preneier humanisme byzantin. Paris, 1971.
P. Lemerle. Prolegomenes a une edition critique et commentee des "Conseils et Recits" de Kekaumenos. Bruxelles, 1960.
Gy. Moravcsik. Byzantinoturcica, I–II. Berlin, 1958.
D. Obolensky. The Byzantine Commonwealth. London, 1971.
G. Ostrogorsky. Geschichte des byzantinischen Staates. Munchen, 1963.
G. Ostrogorskij. Quelques problemes dhistoire de la paysannerie byzantine. Bruxelles, 1954.
G. Ostrogorskij. Pour lhistoire de la feodalite byzantine. Bruxelles, 1954.
S. Runcimen. Byzantine Civilisation. London, 1948.
B. Schilbach. Die byzantinische Metrologie. Munchen, 1970.
G. Schlumberger. Lepopee byzantine a la fin du Xe siecle, I–III. Paris, 1896, 1900, 1905.
N. Svoronos. Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalite aux XIe et XIIe siecles. Paris, 1959.
A. A. Vasiliev. History of the Byzantine Empire. Madison, 1952.
G. Walter. La vie quotidienne a Byzance au siecle des Comnenes (1081–1180). Paris, 1959.
K. Zachria von Lingenthal. Geschichte des griechisch-romischen Rechts. Berlin, 1892.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН* [*Указатели составлены В. Г. Шурыгиной. Имена, упоминаемые в примечаниях, в указателе имен не приводятся.]
Алдебрандин 68
Александр 18, 78
Алексей I Комнин 3, 22, 23, 25–29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 50–52, 56–58, 61–64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 78
Алексей III Ангел 9, 15, 46
Алексей Студит 26, 32, 34,
Андроник I Комнин 6, 15, 28, 29, 59, 78
Андроник Дука 51
Анна Далассина 33, 59, 62
Анна Комнин 3, 16, 22, 24–26, 28, 29, 35, 37, 40–46, 48–50, 59, 60, 62–67, 69, 70, 79
Анна, сестра Василия II 17, 57, 58
Антоний Кавлей 31
Арефа 33
Безобразов П. В. 22
Берта-Ирина 68, 76
Борил 51
Борис 76
Боэмунд 41, 44, 45
Ваан 78
Варда Склир 21, 50, 51
Варда Фока 10, 16, 30, 50, 51
Варфоломей, св. 32
Василий I Македонянин 8, 14, 18, 54, 78
Василий II Болгаробойца 3, 5, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 30, 40, 41–43, 50, 57, 61, 63, 65, 70, 76, 79
Василий Ноф 19, 21, 56
Василий Петин 29
Василий, архиепископ Охридский 58, 68, 70
Василий, богомил 28, 29, 36, 48
Василий, св. 74
Василий, эпарх 67
Ватац 55
Вениамин Тудельский 15, 73
Владимир 17, 58, 71
Власий, св. 64
Врана 51
Георгий Маниак 46
Георгий, св. 33, 75
Герман 51
Гомер 66
Григорий Бакуриани 3, 48, 72, 73
Даниэлида 8
Делян, см. Петр Делян
Дигенис Акрит 6, 43, 58, 68, 76, 79
Димитрий Хоматиан 75
Димитрий, еретик 48
Димитрий, св. 13, 22, 75, 78
Евдокия, дочь Константина VIII 59
Евдокия, жена Константина Х 57
Евстафий Воила 64
Евстафий Гарида 66
Евстафий Малеин 3
Евстафий Ромей 27, 63
Евстафий Фессалоникийский 37, 66
Евстафий Филокали 70
Евфимий, патриарх 18, 20, 29, 34, 36, 64, 78
Елена 66
Зоя Карвонопсида 54
Зоя, дочь Константина VIII 18, 33, 49, 57, 59, 67
Зоя, дочь Стилиана Заутцы 58
Идриси 73
Илья Комнин 54
Илья, св. 75
Иоанн I Цимисхий 19, 21, 35, 40, 42, 48, 50, 59, 76
Иоанн II Комнин 25, 29, 48, 62
Иоанн III Ватац 58
Иоанн Апокавк (Навпактский) 3, 32, 53, 55, 61
Иоанн Богослов 13
Иоанн Ивирица 27
Иоанн Итал 36, 48, 65
Иоанн Камениат 13, 56, 68
Иоанн Киннам 48
Иоанн Мавропод (Евхаитский) 26, 66
Иоанн Орфанотроф 21, 22, 26, 28, 29
Иоанн Предтеча 76
Иоанн Скилица 18, 26, 27, 46, 49, 62, 65, 67, 70, 77, 79
Иоанн Халд 44
Иосиф Ракендит 63, 67
Ираклий 63
Ирина, мать Константина VI 57
Ирина, жена Алексея I 50
Ирина, жена Иоанна III Ватаца 58
Исаак I Комнин 20, 26, 34, 35, 51, 67, 78
Исаак II Ангел 21, 24, 26, 40, 43, 51
Исаак, брат Алексея I 26, 78
Кай-Хосрой I 46
Карл Великий 16
Кеген 70
Кекавмен 9, 15, 23, 25, 26, 28, 45, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 67, 72, 79
Кир, св. 64
Комнины 57, 58
Константин I Великий 17, 28, 37
Константин II 34
Константин V 25, 43, 45,
Константин VII Багрянородный 16–18, 27, 35, 57, 58, 61, 63, 69, 73, 75, 76
Константин VIII 18, 28, 57, 59, 61, 78, 79
Константин IX Мономах 18, 26, 29, 43, 49, 59, 60, 63, 65–67, 70, 78
Константин Х Дука 27, 51, 57
Константин Диоген 29, 46
Константин Лихуд 65
Константин Пселл, см. Михаил Пселл
Константин, новелиссим 21, 51
Константин, сын Михаила VII 25, 62
Крикорик 71
Лагос (Иоанн) 9
Лев VI Мудрый 18–21, 26, 27, 34, 49, 51, 54, 61, 63, 64, 78
Лев Кефала 57
Лев Ламброс 29
Лев Никерит 61
Лев Сгур 33
Лев Торник 51
Лев, брат Никифора II 79
Лека 48
Лемерль П. 31
Лжедиоген 29
Ливелий 68
Лиутпранд, 32, 69, 73
Мазарис 68
Максимо 6
Мануил I Комнин 24, 27, 29, 33, 42, 57, 59, 62, 68–70, 76
Мануил Камица 51
Мария Склирена 59, 60, 66
Мария, жена Михаила VII и Никифора III 59, 62
Мелиссины 16
Михаил II 39
Михаил III 50, 72
Михаил IV Пафлагонянин 18, 21, 22, 33, 49, 60
Михаил V Калафат 17, 21, 29, 34, 49, 51
Михаил VI Стратиотик 26, 35, 51
Михаил VII Дука 14, 24, 25, 51, 55, 59, 62, 63
Михаил Аплухир 63
Михаил Атталиат 3, 41, 52, 67, 68, 72
Михаил Глика 26, 29, 47, 66
Михаил Докиан 43
Михаил Кируллярий 26, 34, 35
Михаил Пселл 12, 14, 18, 21, 22, 26–28, 34, 37, 53, 60, 63–67
Михаил Стрифн 25
Михаил Хониат 23, 33, 57, 65
Мокий, св. 49, 76
Мономахат 26
Мосиле 77
Никита Хониат 7, 17, 23, 24, 42–44, 46, 52, 57, 65, 67–69, 71, 73, 78
Никифор II Фока 11, 14, 18, 23, 24, 28, 35, 38, 40, 41, 49, 50, 59, 61, 62, 73, 77, 79
Никифор III Вотаниат 18, 26, 33, 51, 59, 62
Никифор Василаки 51, 52
Никифор Влеммид 65
Никифор Вриенний, мятежник 52, 55
Никифор Вриенний, писатель 24, 59, 61, 65
Никифор Григора 66
Никифор Диоген 65
Никифор Катакалон 24
Никифор Мелиссин 51
Никифор Уран 42
Никифор Фока Старший 58
Никифор, патриарх 14, 67
Николай Мистик 34, 51, 61, 64
Николай, св. 51
Нифонт 48
Ольга 69
Оттон I 16, 32, 69, 73
Пахис 65
Перикл 19
Петр Делян 49
Петр Пустынник 45
Петр Сицилиец 9, 64
Петр, апостол 36
Платон 66
Плутарх 66
Полиевкт, патриарх 35
Прокопий, св. 33
Роберт Гвискар 16, 22, 25, 44, 46, 49
Роман I Лакапин 30, 34, 56, 64, 71, 75, 77
Роман II 17, 18, 29, 35, 58, 59, 78
Роман III Аргир 18, 32, 33, 40, 50, 59, 62
Роман IV Диоген 20, 29, 50, 57, 61, 65
Роман Стравороман 29
Рудаков А. П. 68
Сампсон, св. 76
Самуил 42–44
Святослав 24, 73, 76
Сермон 46
Симеон 16, 71
Сисиний, патриарх 54
Стилиан Заутца 19, 21, 29, 58
Стилиан 49
Травл 48
Фемел 37
Фемистокл 19
Феодор Кастамонит 21
Феодор Продром 38, 55
Феодор Студит 6, 58
Феодора, жена Юстиниана I 59
Феодора, дочь Константина VIII 49, 59
Феодота 63
Феофано, жена Льва VI 54
Феофано, жена Романа II и Никифора II 58, 59
Феофил 15
Феофил Эротик 50
Феофилакт, патриарх 34, 35
Феофов 72
Филарет Милостивый 3, 6
Фома Славянин 24, 39, 49
Фотий, патриарх 4
Хониаты 65, 66
Хрисохир 18
Христофор Митиленский 33
Чауш 72
Элиан 41
Элпидий Кенхри 53
Юлий Цезарь 74
Юстиниан I Великий 34, 59
Юстиниан II 18
УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Акрит 41
Аллиленгий 5
Анаграфевс 23
Ангария 4
Анфипат 21
Апокриф 47
Аргиропрат 8, 12, 28, 29
Архонт 15
Асикрит 63
Багрянородный 17
Банда 21
Богомильство 48
Богомил 66, 83, 110, 111
Брумалии 74, 75
Василевс 5, 8, 9, 15–22, passim
Василеопатор 21
Вестиопрат 12, 31
Вила 27
Воидат 3
Вофр 11, 28
Геникон 20
Грамматик 9, 28, 63
"Греческий огонь" 7, 25, 39
Громовник 47
Дизевгарат 3
Димы 43
Доместик (великий) 52
Доместик схол 58
Дром 2, 29, 69
Дромон 25
Дука 21, 30
Жупан 22
Зевгарат 3
Зевгилатий 2
Зоста-патрикия 55
Калафат 14
Календы 74, 75
Камара 11
Каноникон 32
Катартарий 12
Катафракт 39
Катепан 21
Кентинарий 42, 43
Кератий 28
Кесарь 21
Кируллярий 28
Клирик 11, 14, 33, 35, 36, 56, 61, 64, 77;
Клисура 21
Литра 13, 33, 38, 53–55, 71, 75, 77
Логофет 20
Лоротом 23
Магистр 21, 71
Макеларий 11, 12
Мандра 4
Манихей 48
Метакса 8, 12, 13
Метаксопрат 12, 13
Метох 2
Милиарисий 14
Мим 29, 34, 76, 77, 78
Мистий 4, 5, 8, 55
Митаторий 35
Модий, сыпучий 3, 14
Модий, мера площади 3
Моливдовул 12
Монофиситство 48, 67
Монофисит 68
Навклир 14, 15
Назирей 35
Новелиссим 21, 51
Новелла 27
Номисма 3, 8, 9, 10, 13 passim
Нотарий 9, 10, 28, 63, 76
Нуммий 14
Обол 5, 10
Опсоний 24
Орфанотроф 21, 22, 26, 28, 29
Орфанотрофия 56, 64
Павликианин 48
Павликианство 48
Пантапол 10
Паракимомен 21
Парик 2, 4, 5, 9, 15, 22, 32, 36
Парисия 61
Патрикий 21
Пифос 2
Порфирородный 16, 17, 35, 71
Практор 23, 27
Проастий 2, 3
Прония 25
Проскафимен 2
Протоспафарий 53, 54
Протоспафарисса 54
Ритор 10, 27, 63
Ромей 1, 2, 3, 13, 16, 17, 18, 24 passim
Руга 21, 22, 33, 38, 53
Русалии 74, 75
Салдамарий 10, 28
Севаста 55
Секрет 20
Серикарий 8, 12, 13, 23
Синкелл 20
Синклит 16, 20, 26, 27
Синклитик 20, 51
Синод 33
Ситиресий 24
Статир 42
Стратегикон 24, 40, 61, 62
Стратиг 7, 19, 21, 24, 26–28
Стратиот 2, 5, 24, 39, 41
Тавли 79
Тавуллярий 10, 63, 65, 76
Типик 5, 8
Трапезит 28, 29
Турма 21
Фамуса 26
Фема 13, 19, 21, 24–27, 31, 37, 41, 48, 49
Фиала 27
Фолл 8, 10, 14
Фурка 30
Хиротония 32
Экскуссия 33
Эмпорий 49
Эндемуса 33
Эпарх 9, 10–13, 15, 20, 26–28, 51, 65, 67, 70, 77
Эпархия 29, 36
Эпитимья 35, 36, 53, 75
Эргастирий 7, 8, 57








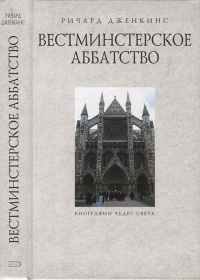
Комментарии к книге «Как жили византийцы», Геннадий Григорьевич Литаврин
Всего 0 комментариев