Нина Михайловна Молева Московские загадки
Предисловие
Писатель и город… Город, в котором довелось родиться, жить, может быть, только бывать. И всегда работать – пусть связанные с ним образы облекутся в слова и лягут на бумагу через многие, многие годы.
Мы привычно отмечаем эти вехи указаниями в биографиях, ссылками в комментариях к сочинениям, вошедшими в обиход цитатами. Связанные с ними дошедшие до наших дней дома получают мемориальные доски, когда есть возможность, превращаются в мемориальные музеи.
А если взглянуть на тот же город по-иному? Как на среду, в которой рождались произведения и без которой они были бы иными, как иным был бы и сам автор. Общение с городом как яркая нить продергивается через полотно всей жизни писателя, помогая по-новому и совершенно подчас неожиданно понять, что и почему он писал, каким в своем творчестве и жизни был.
Гоголь, начавший узнавать Москву с Арбата – великого страдного пути многих поколений русских воинов. Набеги кочевников. Сражение 1359 года, когда вмешался в изнемогавшие от ран и усталости ряды московских защитников слепец Владимир Ховрин и двоеручным мечом «проложил просеку» во вражеском стане, положив начало их бегству. Низложение Василия Шуйского. Решающий бой Дмитрия Пожарского – последний, отделявший полководца от захвата Кремля. Возвращение раненых с Бородинского поля, которых с тротуаров Арбата москвичи разбирали по своим домам, чтобы лечить и обихаживать. Пепелище великолепного, напоминавшего Биржу на стрелке Невы в Петербурге, театра, в котором в канун Отечественной войны 1812 года блистала знаменитая французская актриса мадемуазель Жорж и где спустя сто лет был воздвигнут памятник писателю. Избежавший огненного моря Соловьиный дом на углу Никитского бульвара, в котором жил А.Е. Варламов. Его наипопулярнейший в России романс «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» будет насвистывать после «Роберта-дьявола» гоголевский Хлестаков. Скрип журавля в талызинском саду напротив, где встанет памятник Н.А. Андреева, колодцы с журавлями украшали все московские дворы.
Арбат.
Крохотная, ушедшая в землю церковка Федора Студита у Никитских ворот, где крестился и венчался А.В. Суворов и возле которой в 1626 году была построена первая московская бесплатная больница. А самый Никитский бульвар – любимое место собраний московских студентов, где из боковых аллей они могли с затаенным дыханием следить за прогулками своего любимца – Гоголя.
Говоря, что жить хотел бы только в двух городах – Москве или Риме, Гоголь и в самом деле стал превосходным чичероне, бесконечно и трогательно влюбленным в каждый уголок города. Буйное цветение вишневых садов в Теплом Стане, деревянные фигуры в форме всех сражавшихся в войне 1812 года воинских частей в тянувшемся до Серебряного бора парке Всехсвятского, тонувшая в ржаных полях и веселых березовых перелесках дорога в Волынское, на берега Сетуни, – все было близко и дорого, все помогало работать, «выдумывать».
Тот же уголок города приобретает совсем иное освещение, но и смысл для Маяковского. Нынешний кинотеатр «Художественный», бывший А.А. Ханжонкова, на Арбатской площади. Открытый в ноябре 1909 года, он неотразимо притягателен для увлекающегося кинематографом подростка-Маяковского. В бывшем Морозовском особняке с его нелепой псевдоготической отделкой фасада (ул. Воздвиженка, 16) Маяковскому придется многократно выступать и участвовать в дискуссиях – здесь с мая 1918 года располагался Пролеткульт. Дома – как страницы биографии поэта. В 1923 году на углу Калашного и Среднего Кисловского переулков появляется первый «московский небоскреб» – дом Моссельпрома. Ярко-синие вставки на его фасадах будут нести рекламные лозунги Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Такими же стихами было отмечено переоборудование ресторана «Прага» в моссельпромовскую общедоступную столовую осенью 1924 года:
Здоровье и радость – высшие блага В столовой Моссельпрома – бывшая «Прага». Там весело, чисто, светло, уютно, Обеды вкусны, пиво не мутно.Наряду с Пролеткультом местом постоянных выступлений поэта становится открытый в 1920 году Дом печати (ныне – Дом журналиста, Никитский бульвар, 8-а). Снова участие в общих вечерах. Вечера авторские, проходившие в небольшом мраморном зале. Дискуссии и события тяжелые, одним из которых стало для Маяковского прощание с телом Есенина.
И соседние дома – Воздвиженка, 9, в прошлом дом деда Л.Н. Толстого, старого князя Болконского из «Войны и мира», где разместилось издательство «Красная новь». Маяковский был связан с выходившими здесь «Крестьянской газетой» и журналом «Крестьянка». Воздвиженка, 10 – ЦК ВЛКСМ в годы Маяковского. В одном из крыльев здания было общежитие членов объединения «Молодая гвардия». Наконец, особенно важная для Маяковского редакция созданного им «Лефа» – журнала «Левый фронт» на третьем этаже дома № 8 по Никитскому бульвару, рядом с Домом печати. «Леф», обязанный своим рождением и существованием прежде всего Маяковскому, функционировал, хотя и под несколько изменявшимися названиями, до 1930 года, объединяя Н. Асеева, С. Кирсанова, О. Брика, В. Шкловского, Ю. Тынянова, В. Эйхенбаума, В. Перцова, С. Третьякова и других.
Пройти знакомыми для каждого поэта или писателя адресами – значит не только получить возможность сопереживания, соучастия в их творчестве и судьбе. Здесь заключена и иная возможность нового познания города, о котором стало принято говорить: кто не знает Москвы, тот не знает России. Эти слова с полным правом могут быть отнесены к нашим дням, к сегодняшней столице.
Мы по-прежнему не представляем себе объективной картины культурного развития Москвы. Потому что возникновение подобной картины может быть только результатом общего осмысления происходивших в нашей культуре созидательных (и разрушительных!) процессов, которое никак не способна заменить сумма предлагаемых компьютерной памятью данных, простого механического накопительства. Самому видеть – не по чужой указке! Самому чувствовать – не ограничиваясь сочувственным наблюдением за чужими переживаниями. Самому осмысливать – согласно внутренней логике, опыту, представлениям. Только таким путем приобщение к Москве станет необходимой, волнующей и доброй частью нашей жизни.
«Моя княгини…»
И рече князь великий Дмитрий Иванович: «Братия, князи и бояра и дети боярские, то вам сужено место меж Доном и Днепром на поле Куликове, на речке Непрядве, и положили есте головы свои за святыя церкви, за землю Русскую, за веру христианскую. Простите мя, братие, и благословите и в сем веце и в будущем. Пойдем, брате князь Владимир Андреевич, во свою землю Залесскую, к славному граду Москве, и сядем, брате, на своем княжении. А что есми, брате, добыли и славного имяни. Богу нашему слава».
«Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича». XV векЭто был если не главный, то самый важный зал Государственного Исторического музея. Библиотечный. Или читальный. Сумрачный. С исчезающими в полной темноте высокими потолками. Грузными, неподъемными столами. Лампами под зелеными абажурами. Круговыми галереями, откуда скупо и редко просачивался дневной свет: к галереям примыкали башенки с прорезями окон, выходившие на Красную площадь. Здесь не имело значения ни время дня, ни время года. Тяжелые тома книг, первопечатных или рукописных, одинаково непонятно появлялись на руках худеньких немолодых женщин, чтобы на долгие часы раскрыться под лучами лампы. Шагов не было слышно. Голоса едва шелестели. Руки бережно перебирали страницы. И никаких фото и ксерокопий, никаких компьютерных экранов. Твой глаз. Твоя память. Твои возникавшие соображения.
То, как знала этот удивительный и завораживающий мир Марфа Вячеславовна Щепкина, отдавшая музейной библиотеке едва ли не всю свою жизнь, вызывало изумление даже у таких специалистов, как историк книги и гравюры академик Алексей Алексеевич Сидоров. Его почтительная рекомендация открыла для автора возможность пользоваться советами правнучки самого «папаши Щепкина». Семья великого актера не тяготела к театру. Сыновья предпочли издательское дело, гуманитарные знания, и Марфа Вячеславовна последовала этой традиции. Собранная, требовательная до суровости, на первый взгляд слишком педантичная, она в действительности просто придерживалась тех канонов научного подхода, без права на допуск и вымысел, которые отличают научного работника от толп искателей степеней, званий, любой формы личного пиара. Обычное ее выражение: «Знать нужно для себя – не для других. Для других колечки и сережки – снял и забыл, а то, что узнал, будет всю жизнь греть. В самые тяжелые времена».
1368 год. Постройка первых белокаменных стен Кремля при Дмитрии Донском. А. М. Васнецов.
Работать чаще приходилось не в читальном зале – на галереях, где в то время хранилась в штабелях живопись музея, фонд отдела так называемой Бытовой иллюстрации. Как-то раз, поднявшись посмотреть на занятия своей подопечной, Марфа Вячеславовна заметила, что ведь отсюда начиналась история книги – и русской, и московской. В окне башенки были видны Василий Блаженный, Спасские ворота.
«Подумайте сами, Первопечатник был дьяконом церкви Николы Гастунского вот здесь, в Кремле. Потом Печатный двор перенесли на Сретенку – ведь Никольская была началом Сретенки. На мосту через крепостной канал, у Спасских ворот, организовали первую торговлю книгами, позже и „печатными листами“. Там же стояла первая наша читальня – Киприанова. Всё здесь, всё отсюда. И вот если представить себе литературу в Москве, выбрать то, что стало в ней первым магнитом, – я назвала бы плач Евдокии Суздальской. Понимаете, это самая высокая литература, а по силе чувства, мне кажется, ничего подобного ни в одной литературе нет. Плач не по возлюбленному, не по жениху, не по мечте, а по мужу, которому уже родила десятерых детей и которого любит великая княгиня, видит как единственного желанного.
Не случайно из века в век «Плач» попадал в рукописные сборники. Потому что дивно прекрасно это чувство».
Что ж, с тех пор время еще раз изменилось до неузнаваемости. Цунами разочарования во всех и во всем растет день ото дня. О душевных ценностях стало просто неуместным вспоминать. И все же – все же, может, попробовать последовать совету настоящего ученого и обратиться для начала к тому, что было литературой для людей, живших в середине далекого уже второго тысячелетия?
Великий князь Дмитрий Иванович сочинял духовную. Не в первый раз – завещания писались перед каждой большой битвой, трудным походом, когда оказывалась на волоске княжья жизнь. Но теперь победитель Куликова поля знал – жизнь просто подходила к концу. Иные князья доживали до полувека, ему досталось 39 лет. И то немало среди сплошных междоусобиц и семейных распрей. Спасибо, было кому передать бразды правления в семье. Не старшему сыну – о нем и не думал, – только жене, только «моя княгини», – как писалось в редких и потому особенно важных документах, – Евдокии Дмитриевне.
«…А по грехом моим, которого сына моего бог от имет, и княгини моя поделит того оуделом сынов моих. Которому что дасть, то тому и есть, а дети мои из воли ее не вымутся…»
Годы не старые, а если вспомнить… Пяти лет потерял отца. Тогдашний ордынский хан Навруз не колебался: ярлык на великое княжение перешел к князю нижегородско-суздальскому Дмитрию Константиновичу. Могучему князю. Удачливому воину. Все счастье, что пошли у татар «замятни»: Навруза прикончили, на его место объявилось два хана. Тот, что за Волгой – Авдул, – поддержал сидевшего во Владимире Дмитрия Константиновича. Тот, что в Орде – Мурат, – склонился на сторону Москвы. Сумели московские бояре выхлопотать ярлык на великое княжение малолетнему княжичу. То ли в десять с небольшим лет, то ли того раньше довелось Дмитрию Ивановичу съездить на поклон к хану.
Хорошо, что получил ярлык, того лучше, что остался жив. На престол вступил в 12 лет – «покняжился» во Владимире. А год спустя и Авдул прислал ярлык – рассчитал, что с московским боярством в союзе надежнее. Только теперь восстал Мурат и от себя права передал суздальскому князю, а тот не замедлил явиться с войском во Владимир. Снова спорили, снова сражались.
Сильный духом Дмитрий Иванович был, независимый нравом, но строптивым – никогда. Вот и тут не стал своей воли творить. Держал совет с боярами, двоюродным братом Владимиром Андреевичем, согласился со словами мудрого митрополита Алексея – не тратиться на деревянный город, возвести каменные стены. «Toe и зимы князь великый Дмитрей Иванович, погадав с братом своим с князем Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe ж зимы повезоша камение к городу». А дело было совсем новое. Каменная крепость на владимиро-суздальских землях сооружалась впервые. До того времени пользовались каменными оборонными сооружениями одни новгородцы и псковичи. Надо было все разом – и камень искать, и каменщиков привозить да учить, и торопиться, прежде всего торопиться. Как оставлять город без защиты!
Какой же удачей в то время было, что через год сладилась свадьба с дочкой суздальского князя, того самого Дмитрия Константиновича, который уже дважды отнимал у Дмитрия Ивановича великое княжение. На том договорились, что московские войска помогли суздальскому князю отнять у собственного младшего брата Бориса Константиновича Нижний Новгород и сесть там на княжение. И вот под радостный перезвон колоколов вошли в белокаменную Воскресенскую церковь коломенского кремля молодые – московский князь Дмитрий Иванович и княжна Евдокия Суздольская. Церкви той давно нет, а в памяти коломенцев, кажется, все живет отблеск того удивительного торжества.
«…А даст ми бог сына, и княгини моя поделит его, возьмя по части у болшие его братьи. А у которого сына моего оубудет отчины чем есмь его благословил, и княгини моя поделит сынов моих из их суделов. А вы, дети мои, матери слушайте…»
На браках замирялись, кончали воевать, заключали союзы. Только была и любовь – что из того, что приходившая чаще всего после свадьбы, но прежде всего – верность. Великая женская верность, чтобы ни единым помыслом не предать мужа, всем сердцем отдаться новой семье. И приходила в ответ мужнина любовь, может, того дороже – почтение, которым дарил супруг свою государыню, как называли тогда каждую хозяйку в ее доме.
Она и была настоящей государыней, разумной, рассудительной, в княжеских делах понятливой. Да и как иначе, когда был Дмитрий Иванович все время в деле. Укреплял Москву. Одного Кремля по числу врагов показалось мало, послушался нового совета митрополита Алексея – охватить город и слободы земляным валом, от Москвы-реки близ старого устья Неглинной до Сретенских ворот. Это позже поднялись по валу стены Белого города, уступившие место бульварам. Так было вернее и в отношении татар, и в отношении тверичей, с которыми не переставал воевать московский князь. Трижды тверской Михаил звал на подмогу литовского князя Ольгерда идти воевать Москву, пока не удалось Дмитрию Ивановичу просватать литовскую княжну за своего двоюродного брата. Так вошла в их семью Елена Ольгердовна, Олёна, как звал ее муж Владимир Андреевич. Евдокия приняла невестку с почетом – ссор не любила. Не до ссор было, когда мужья не сходили с коня.
Собралась в Москве на радость Евдокии вся семья – отец, братья – на крестины второго их с князем сына Юрия в 1374 году, тут и напали татары на оставленный отцом Нижний Новгород, и хоть отбились и без князя нижегородцы, а все равно урон понесли большой. Спустя три года Дмитрий Иванович хотел помочь тестю, прислал против татар свое ополчение, да сротозейничали русские военачальники, были на реке Пьяне побиты. Того страшнее Евдокии было, что брат ее Иван Дмитриевич, спасаясь от врагов, кинулся на коне в реку, да так из нее и не вышел. Тогда сам ее князь в 1378 году разбил на реке Родне мурзу Бегича, посланного Мамаем. Вот и подошло Куликово поле, та страшнейшая для Евдокии битва, в которой отец ее Дмитрий Константинович не поддержал зятя и войско под его стягами не выставил.
Как тут было Бога благодарить, что остался жив и Дмитрий Иванович, ставший для потомства Донским, и Владимир Андреевич, получивший сразу два прозвища – тоже Донской и Храбрый, да еще умер на обратном пути с сечи сам Мамай. Только ни мира, ни тишины все это Москве не принесло. На следующий год после Куликова поля напал на нее ставленник Тамерлана хан Тохтамыш, взял и разорил город, и самому Донскому пришлось бежать с семьей в Кострому, хоть ненадолго, а все оставлять на произвол судьбы. Да тут еще так подошло – что ни год приносила мужу сыновей. Последнего, восьмого, успела родить за несколько дней до кончины Дмитрия Ивановича. Даже не вошел княжич Константин в отцову духовную. Как Дмитрий Иванович завещал, сама потом долгие годы наделяла да переделяла последыша, чтобы и старших не гневать, и его самого не обидеть, пока не согласился великий князь Василий Дмитриевич на Углич да не посадил брата своим наместником в псковских и новгородских землях.
«…А по грехом, отыми бог сына моего, князя Василья, а хто будет под тем сын мои, ино тому сыну моему княж Васильев оудел, а того оуделом поделит их моя княгини. A вы, дети мои, слушайте своее матери, что кому дасть, то тому и есть…»
Знал Дмитрий Иванович цену своей княгине, недаром увещевал на будущее сыновей. Ведь осталась хоть и не молодой, да с шестью младшими мал мала меньше детьми. Шестеро их пришло после Куликова поля. Сама поднимала, сама уму-разуму учила, в дружбе братней наставляла. Ни один против старшего брата голоса не поднимал, все вместе в походы ходили, «одним снопом» держались. Юрий, второй, которому достались в удел Звенигород, Галич, Руза-городок, подмосковное село Михалевское и луг Ходынский, восстал только против племянника, когда ее уж давно и в живых не было. Андрей, князь на Можайске, Верее, Медыне, Калуге да Белоозере, в подмосковном Напрудском и Дегунине, всегда руку старшего брата держал. Петр, князь в Дмитрове и Угличе, сам отдал Василию Углич. Недаром, когда Василий Дмитриевич умирал, поручил жену с сыном ему, Андрею, и тестю литовскому князю Витовту.
Иным казаться стало – не больно кручинилась Евдокия по своем князе, больно делами мирскими занималась, вдовьи одежды недолго носила. Даже слухи пошли, что и вовсе от жизни плотской отстать не хочет. Упрямые слухи, так что родные сыновья пришли просить у матери ответа: есть в них правда или нет. И тогда распахнула Евдокия Дмитриевна на груди богатое княжеское платье, и увидели князья на иссохшем материнском теле тяжелые вериги – возложила их на себя княгиня после смерти мужа и больше не сняла. Вместо монашеского пострига, принять которого из-за дел семейных и сыновних судеб не могла, монахиней в миру осталась. С невестками было иначе.
В сегодняшней Москве мало кто знает о существовании этого монастыря. Улица-дорога, проложенная к нему и носившая его название, была переименована. Стены обветшали и слились с обстроившими их домами. Собор тоже исчез за окончательно обезобразившими его поздними пристройками, покрытыми слоем цемента. И только видная с Трубной площадки колокольня напоминает о том, что здесь, на крутом берегу Неглинки, сохраняются остатки Рождественского монастыря, одного из самых древних в городе. Его основала, в нем приняла постриг и скончалась мать героя Куликова поля Владимира Андреевича серпуховская княгиня Марья Кейстутовна. А вслед за ней потянулись в девичью обитель осиротевшие матери и вдовы тех, кто полег на берегах Дона и Непрядвы. Недаром в начале XIX века был назван Рождественский монастырь «обителью материнской тоски и вдовьей печали».
Может, опередила Марья Кейстутовна княгиню Евдокию с основанием монастыря, а может, и не думала никогда о нем Евдокия Дмитриевна, только после смерти Дмитрия Ивановича задумывает она почтить его память и память самого великого сражения, которое князь Донской в своей жизни выиграл. На месте старой деревянной церкви Воскрешения Лазаря в московском Кремле решает воздвигнуть белокаменный храм Рождества Богородицы – того праздника, на который пришлось Куликово поле. Через четыре года после смерти князя закладывается храм, еще через три заканчивают его мастера, и среди них самые замечательные иконописцы тех лет Феофан Грек и Симеон Черный с учениками, написавшие образа и расписавшие стены. Феофаном Греком дорожила вся княжеская семья. В палатах Владимира Андреевича Феофан написал едва ли не первый в истории русского искусства пейзаж – вид Москвы, красоте которого не могли надивиться современники.
Другой такой же вид Феофан поместил и вовсе на стене церкви Архангела Михаила. Восторг перед родным городом разделяли все москвичи. Как писал в те годы летописец: «…Град Москва велик и чуден… кипяще богатством и славою, превзыде же вся грады в Русской земле честию многою». Церковь Рождества Богородицы должна была украсить Кремль, но предназначалась она Евдокией не для всех и каждого, а только для женской половины великокняжеской семьи. Как гласила легенда, до основания в 1386 году в Кремле Воскресенского монастыря, где стали погребать великих княгинь, а там и цариц, усыпальницей им служила старая деревянная Лазаревская церковь. Евдокия не захотела отказаться и от старого алтаря – он был воздвигнут в новом храме «близь большого алтаря». Только теперь княжны и княгини должны были из рода в род молиться за мужей и сыновей в этом памятнике Куликовской битве.
Храм Всех Святых на Кулишках.
Но памятникам битвы в Москве не повезло. Заложенный в честь ее Дмитрием Донским храм Всех Святых на Кулишках – ныне Славянской площади – многократно перестраивался и сохранил фрагменты первоначальной кладки лишь в подземной части. Основанный по тому же поводу и особенно любимый князем Высоко-Петровский монастырь в нынешнем своем виде говорит об одном XVII веке. Церковь Рождества Богородицы вообще на долгие годы исчезла, превращенная со временем в замурованный подклет построенной над ней кирпичной Рождественской церкви. Совсем недавно реставраторам удалось восстановить всю красоту постройки княгини Евдокии – кладку больших белокаменных блоков с тонкими швами, двери с перспективными порталами, круглые окна с напоминающими раковины обрамлениями. И это единственная из кремлевских построек, которая воссоздает сегодня для нас образ архитектуры XIV столетия.
Сама строила храм, сама в нем и молилась теперь уже со старшей своей невесткой, которую тоже приняла в дом по завещанию мужа. Еще во время своих поездок в западные земли решил Дмитрий Иванович породниться с воинственным и неукротимым литовским князем Витовтом. Решил, но свадьбы сыграть не успел. Евдокия не преступила его воли – через год после кончины мужа ввела в дом женой вступившего на отцовский престол сына Василия литовскую княжну Софью Витовтовну, ту, на чьи плечи на долгие годы легло правление всем Московским княжеством. А Софья Витовтовна и не отрицала, что многому научилась у свекрови: и как о государстве заботиться, и как к боярам подход искать, и как слуг верных находить, и как выше всего ценить ратный труд и военную доблесть. Одного не постигла – как беречь в семье мир. Только об этом Евдокия не могла узнать. Прожила княгиня немногим более пятидесяти лет, перед кончиной успела принять постриг, составить духовную на все, чем сама владела. И как памятник «моя княгини» остался в «Повести о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» знаменитый плач Евдокии по мужу, образ неизбывного вдовьего горя.
«Видевши же княгыни его мертва на постели лежаща, и восплакася горкым гласом, огненыя слезы изо очию испущааше, утробою распалавшеся и в перси свои руками бьющи, яко труба рать поведающи и яко орган сладко вещающи: „како умре, животе мой драгий, мене едину вдовою оставив? почто аз преже тебя не умрох? како заиде, свет очию моею? где отходиши, скровище живота моего? почто не промолвиши ко мне? цвете мой прекрасный, что рано увядаеши? винограде многоплодный, уже не подаси плода сердцу моему и сладости душе моей; чему, господине, не возриши на меня, не промолвиши ко мне, уже ли мя еси забыл? что ради не взозриши на мя и на дети своя? чему им ответа не даси, кому ли мне приказываешь? солнце мое, рано заходиши; месяць мой прекрасный, рано погыбаеши; звездо всточная, почто к западу грядеши? Царю мой! како прииму тя или послужю ти? где, господине, честь и слава твоя, где господство твое? Осподарь всей земль Русской был еси, ныне же мертв лежиши, ни кем же не владееши; многыя страны примирил еси и многыя победы показал еси, ныне же смертию побежден еси, изменися слава твоя, и зрак лица твоего применися во истление; животе мой, како повеселюся с тобою?.. аще бог услышить молитву твою, помолися о мне, княгине твоей: вкупе жих с тобою, вкупе и умру с тобою, уность не отъиде от нас, а старость не постиже нас; кому приказываеши мене и дети своя?..“
Пещное действо
При всем множестве обитающих в ней иностранцев Москва не отличается разнообразием развлечений. Вы должны быть готовы к достаточно замкнутому образу жизни, но не упускайте возможности ознакомиться с очень принятым московитами в преддверии православного Рождества театром, который разыгрывается в некоторых наиболее значительных московских храмах. Заранее обзаведитесь хорошим переводчиком, чтобы понять все тонкости этого вида московской литературы, достаточно вольной, если не скабрезной.
Из перехваченных писем польскому послу. Бумаги Посольского приказаЭто было настоящее чудо. Можно сказать иначе – именно московское чудо: первый в Русском государстве театр в далекие, допетровские времена. Любой справочник или энциклопедический словарь безапелляционно утверждали, что начало ему было положено представлениями труппы пастора Грегори, которые разыгрывались в царском дворце в Преображенском. Царь Алексей Михайлович был неистощим в выдумках, как повеселить и развлечь молодую свою супругу Наталью Кирилловну. Только многие ли, кроме Натальи Кирилловны, могли приобщиться к диковинному новшеству? Государевы приближенные в самых высоких чинах – не более. К тому же Алексей Михайлович пожил с Натальей Кирилловной недолго, ушел из жизни совсем молодым, а сменивший его на престоле сын – Федор Алексеевич к театру «не прилежал» и от спектаклей сразу же отказался. Понадобилось четверть века, чтобы в начале 1700-х годов следующий царский сын – Петр Алексеевич пожелал открыть в городе – не только во дворце! – общедоступный театр. «Комедийная хоромина» встала на Красной площади у Никольских ворот, и начала в ней выступать еще одна иноземная труппа и на чужом языке.
Так утверждают хрестоматии. Что же касается чуда, то оно скрывалось в поденных, ежедневных, записях Оружейной палаты, так называемых «столбцах». Оружейная палата была единственным в своем роде учреждением. Во времена Ивана Грозного в обязанности ее входило хранение и изготовление оружия для царского двора и для армии. Но почти сразу стали появляться в ее штате мастера всех специальностей, которые нужны были для обслуживания государева обихода, среди них и каменщики, и иконописцы, и те, кто украшал и расписывал книги, и живописцы, и… халдеи. Дьяки и подьячие день за днем записывали расходы палаты, всякое превышение положенных ассигнований, ходатайства о дополнительных средствах на самые разнообразные работы – на учете была каждая копейка. Так вот почти каждый год и притом непременно в конце декабря появлялись записи о выдаче халдеям самых дорогих кафтанов – «за искусство». Стоила одежда в те времена недешево, поэтому и награждали ею только за отменную службу. Кому доставалась шапка соболья, кому рукавицы песцовые, кому сапоги «телятинные», желтые, с щегольски загнутыми кверху носками. Боярам, как особое отличие, доставались шубы на дорогих мехах, с бархатным, парчовым или тонким суконным верхом. Дьяки радовались кафтанам. Кафтаны ждали и халдеев.
«Портище сукна жаркого»… Иначе – три аршина без четверти, столько, сколько шло на мужской кафтан среднего размера. Цена – не меньше двух рублей, чаще «два рубли четыре алтына две деньги», потому что качество сукна предполагалось «аглинское», самое дорогое, которое было доставлено на московский торг английскими купцами. Цвет же случался и вишневый, и багровый, и алый, и зеленый.
Таким ли дорогим было «награждение»? Прославленные иконописцы Оружейной палаты получали в то время 15 рублей в год, а в день – «как пишут государевы иконные дела, им дают государева жалованья поденного корму по шти <шести> денег человеку», то есть 3 копейки. Добавлялось еще к этому хлебное жалованье зерном и крупами. Столько должно было с лихвой хватать и на себя самого, и на всю семью, которая редко бывала малолюдной. Только к середине XVII века знаменитый Симон Ушаков станет получать поденного корму по гривеннику, но ведь это когда вырастут цены и подешевеют деньги, а пока… Пока никакой иконописец не мог сравниться с халдеями. Оставалось ответить на вопрос, кем халдеи были и что в их службе ценилось государем.
В народном обиходе слова «халдей» не существовало, хотя псковичи и обзывали так грубых и бесстыжих крикунов. Единственная возникавшая ассоциация приводила на память «Пещное действо», которое уже на рубеже нашего столетия пытался восстановить в своей антрепризе «Скоморох» художник Московской конторы императорских театров И.Е. Гринев. В представлении использовались сохранившиеся от XVII столетия тексты, восстановленные и доработанные профессором Московского университета В.И. Резановым. Сегодня любопытно вспомнить, что оформление сцены было первым опытом К.Ф. Юона в качестве театрального художника. И вот…
Явление 1
1-й х а л д е й (очень громко). Товарищ!
2-й х а л д е й (очень тихо). Чево?
1-й х а л д е й (нетерпеливо и так же громко). Где ты есть?
2-й х а л д е й (подозрительно). А тебе на что?
1-й х а л д е й (значительно). Дело есть.
2-й х а л д е й (спокойно и равнодушно, словно поворачиваясь на другой бок). Стало быть, меня нету.
1-й х а л д е й (нарочито удивленно). Как нету, когда шумишь?
2-й х а л д е й (внушительно). Не шумлю – только голос подаю.
1-й х а л д е й (задиристо). Нешто голос не примета?
2-й х а л д е й (рассудительно). Кака ж примета: говорю – есть, замолчал – нету.
1-й х а л д е й (разозлившись). От как бирюч царской кнутом тя вытянет, враз не заговоришь – заноешь!
2-й х а л д е й. А чего я бирючу-то сдался?
1-й х а л д е й (выходя из себя). А того, что царь кличет!
2-й х а л д е й (недоверчиво). Кого?
1-й х а л д е й (окончательно вышел из себя). Тебя!!!
2-й х а л д е й (по-прежнему не веря). Да ну! 1 – й х а л д е й. Вот те и ну! Баранки гну, а чаю не видно!
2-й х а л д е й (полон любопытства). Сам царь?
1-й х а л д е й. Сам Навуходоносор!!!
2-й х а л д е й (начинает опасаться). А не слыхал, часом, чево я ему запонадобился?
1-й х а л д е й (победоносно). Слыхал.
2-й х а л д е й (совсем испугался). А чего слыхал-то?
1-й х а л д е й (наконец-то поймал товарища). Тебе б сказал, а твому голосу не стану.
2-й х а л д е й (толкая его). Да здеся я!
1-й х а л д е й (делая вид, что не замечает). Где здеся?
2-й х а л д е й (теребя товарища за рукав). Известно где – где мое место.
1-й х а л д е й (продолжая ту же игру). А где твое место?
2-й х а л д е й (нетерпеливо, почти жалобно). Там, где стою.
1-й х а л д е й. От теперь понятно. А надобны мы Навуходоносору неслухов царских казнить.
2-й х а л д е й (успокоился). Вона! А неслухов-то много?
1-й х а л д е й. Никак трое.
2-й х а л д е й (совсем развеселившись). Только-то и делов? Да мы с ими враз управимся. Пошли, что ли?
1-й х а л д е й (доволен собой). Известно, пошли.
Существовал в Средние века по всей Европе так называемый церковный театр – представление в лицах евангельских и ветхозаветных рассказов, несложные сценки, разыгрываемые любителями и самими церковниками. Их и сегодня можно увидеть в польских, итальянских или французских деревнях. Католическая церковь ими увлекалась, русская православная оставалась равнодушной. Если не считать «Пещного действа».
Есть в Ветхом Завете рассказ о нечестивом царе Навуходоносоре, который поклонялся золотому тельцу и хотел заставить делать то же и всех своих подданных. Но нашлись три юноши – «отрока», «дети царевы», которые ему не подчинились. Разъяренный царь приказал их бросить в горящую печь, но твердо стоявшие за истинную веру отроки вышли из нее невредимыми, а насмерть перепуганный Навуходоносор отрекся от оказавшегося бессильным золотого тельца.
Принимали во всем этом участие царские слуги – «халдеи», исполнявшие волю Навуходоносора.
И вот раз в год, в канун Рождества, «Пещное действо» разыгрывалось перед толпами не зрителей – молящихся, потому что постановка осуществлялась в церквах. Это был сложный спектакль, которого с нетерпением ждали, к которому долго и обстоятельно готовились, как свидетельствуют «столбцы» той же Оружейной палаты. До того как появиться в столице, «Пещное действо» еще в XVI веке успешно утвердилось и в Новгороде, и в Смоленске, и во Владимире. Еще с тех пор оно стало частью народной жизни, иначе сказать – общедоступным театром… В Москве показывали его в Успенском и Благовещенском соборах Кремля, в церкви Григория Неокессарийского на Большой Полянке, во всех монастырях, не отставали и отдельные приходы. Но, конечно, лучшие исполнители были в Кремле, и от них требовалось незаурядное актерское мастерство.
Явление 2
1-й х а л д е й. Раздайся, народ, халдей неслухов ведет, ослушников царских, недругов боярских!
2-й х а л д е й (прерывая). Товарищ!
1-й х а л д е й (недовольно). Чево?
2-й х а л д е й (с сомнением). А эти дети царевы?
1-й х а л д е й (уверенно). Царевы.
2-й х а л д е й (удивляясь). И нашего царя не слухают?
1-й х а л д е й (радостно). Не слухают!
2-й х а л д е й (в полном изумлении). И златому тельцу не поклоняются?
1-й х а л д е й (в восторге). Не поклоняются.
2-й х а л д е й (придумал). А мы вскинем их в печь!
1-й х а л д е й (дождался!). И почнем их жечь!
2-й х а л д е й (деловито). А ну, голубчики, заходи по одному.
1-й х а л д е й. В устье не толпись, печки не сторонись. Огня не пожалеем, быстрехонько вас обогреем!
2-й х а л д е й. Скучать не дадим, добрых людей как есть удивим!
Делопроизводители в Древней Руси были настолько дотошными, что можно во всех подробностях воспроизвести давние постановки. Подготовка церкви к представлению начиналась с того, что спускалось и снималось с крюка главное паникадило – огромная центральная церковная люстра. На крюке закреплялось специальное приспособление, с помощью которого слетал из-под купола «Ангел Господен» – написанная на пергаменте в полный человеческий рост фигура. Внизу под ним располагалась ширма – высокая, большая, в сложнейшем кружеве деревянной позолоченной резьбы, со скульптурными фигурами святых, сплошь покрытая росписями – «пещь огненная». Она была делом рук художников и оставалась в имуществе церкви на долгие годы, разве что-нибудь приходилось поновить. Вокруг ширмы расставлялись таганы. На них жглись во время действия пучки вспыхивавшей ярким холодным пламенем пласун-травы. В стороне помещалось устройство, которое должно было имитировать громовые раскаты, раздававшиеся при появлении ангела. Особое внимание уделялось костюмам. У отроков они представляли длинные белые одежды и венцы, у халдеев – короткие, набранные в пышные сборки алые юпы и высокие островерхие, иногда кожаные, иногда деревянные колпаки – турики.
Юпы и турики? Но ведь именно так одевались скоморохи, которых, как принято считать, предавала анафеме и постоянно преследовала церковь! Их множество раз изображали художники на миниатюрах, гравюрах, позже в лубках. Еще в XVIII столетии будут кочевать из одной картинки в другую «Фомушка-музыкант», «Еремушка-поплюхант», обязанные им своим рождением. Но допустить появление скоморохов в церкви? Вот только общепринятая точка зрения и современные свидетельства – совпадали ли они?
Москву допетровскую можно с полным правом называть городом мастеров. Первая городская перепись 1620 года называет среди москвичей представителей 250 профессий. Здесь красильщики, пирожники, сарафанники, кузнецы, каменщики, печатники, капустники, котельники, травники, стрельцы и… потешники. И речь идет не о какой-то голытьбе, но о владельцах дворов на посаде, гражданах уважаемых, обладавших своими правами, безусловно состоятельных. Потешники – профессия, как все остальные. И в случае войны выступали они, подобно всем жителям посадов. Лукьяшка и Якутка Тимофеевы, владевшие «достаточным» – богатым двором вблизи нынешней Арбатской площади, обещались, например, выйти в 1638 году с огнестрельным оружием – пищалями. Другие брались за рогатины. У иных были и вовсе собственные холопы, которым полагалось выступать на войну вместе с хозяевами. Москва вела точный учет своим военным силам.
Вид со Швивой горки на Воспитательный дом, Зарядье и Кремль.
Жила столица тесно. Еще больше теснилась ради скота, огородов, погребов, чтобы обходиться по возможности всем своим. Так и вырастали избы обычного московского размера четыре на четыре метра, и разве что в Зарядье у особо зажиточных ремесленников побольше – пять на шесть. А на дворах и вовсе царила толчея, вроде как у «нового Печатного заводу подьячего Василия Бурцева, людей у него Степанко Михайлов, Ерошка Иванов, Терешка Онаньин да захребетники: словолитец Терешка Семенов сын Ершов, да сторож Печатного двора Якушко Григорьев, да резец Лучка Иванов, да калашник Онофрейко Васильев». А рядом у Василия Рыкунова «на дворе соседи и подсоседники живут из найму костромичи сапожные мастеры Федька Сидоров, у Федьки племянник Ондронко Герасимов, да Мишка Ондреев, да Ярославец иконник Иван Лукин сын Тюшаков, да тут же на дворе в другой избе тюремной сторож Несторка Васильев». И это при том, что избы, по утверждению археологов, представляли одну горницу – обычно даже без перегородок.
Положение потешников куда лучше. Ни в соседи, ни в подсоседники, ни тем паче в захребетники они не попадали. Потешники выступали как владельцы дворов, не сдававшие помещений своих по найму. Были зажиточнее, так и жили вольнее.
Но как же в таком случае быть с общеизвестными утверждениями о чуть ли не запретном существовании потешников, со ссылками на царские приказы, которые брали под защиту целые деревни и села от нашествий скоморохов, ватагами бродивших в поисках пропитания по дорогам. Города для них были якобы закрыты. Ничего не скажешь, веселые разбойники!
И снова документы представляют иную картину. Скорее всего, дело было не в профессии, а в уровне мастерства и умения – двух одинаковых актеров никогда не встречалось. Одних ценили и любили в столице. Другим приходилось «сбиваться» в бродячие труппы, где подчас не брезговали с голодухи ни вымогательствами, ни грабежами. Только это уж не имело отношения к искусству и его правам в Древней Руси.
Музыковеды и театроведы с уверенностью скажут, что именно в скоморошьем ремесле зарождалось мастерство и будущих вокалистов, и музыкантов-инструменталистов, и, само собой разумеется, актеров. Зарождалось… Это значит, что подобных самостоятельных видов искусства еще не было, что они находились еще у самых своих истоков – не больше, тогда как настоящее их рождение произошло много позже. И новое уверенное «нет» документов, описывавших городское хозяйство, даже попросту улицы Москвы.
Нет – потому что, оказывается, с первых лет XVII века жили в Москве, да и в других городах, независимо от потешников и профессионалы рожешники, и профессионалы гусельники, и гобоисты, и валторнисты. Было их не меньше, чем потешников, таких же вольных – независимых от феодалов и царской службы. Значит, хватало и любителей их мастерства, не было недостатка и в приглашениях на выступления, да и дворы не уступали потешникам в зажиточности.
Другое дело, что уважением их ремесло пользовалось меньшим. О музыканте достаточно было сказать – гусельник Богдашка, рожешник Ивашко. Зато потешника называли по имени и фамилии – больший почет, большее уважение не к конкретному человеку – к профессии. Вывод напрашивался сам собой: потешником можно было быть «честно», не таясь от светских и церковных властей, а тогда не такими уж невероятными становились юпы и турики халдеев. Другой вопрос, почему царские слуги оказались одетыми именно в скоморошьи костюмы.
Явление 3
1-й х а л д е й (будя заснувшего товарища). Товарищ!
2-й х а л д е й (встрепенувшись). Чево?
1-й х а л д е й (с ехидцей). Дети-то царевы не горят?
2-й х а л д е й (растерянно). Не горят?
1-й х а л д е й (издеваясь). И не занимаются!
2-й х а л д е й (горестно). Не занимаются!
1-й х а л д е й (все в том же тоне). Инда страх берет?
2-й х а л д е й (не понимая). А чево страх-то?
1-й х а л д е й (сурово). Как перед царем ответ держать.
2-й х а л д е й (озабоченно, но истово). Так и скажем: не берет, господине, их ни пламень яркий, ни огонь жаркий.
1-й х а л д е й (снова издеваясь). Ишь ты! А царю какое дело? Чай, нас как велит вскинуть в печь, ведь сгорим!
2-й х а л д е й (испуганно). Ой, как сгорим-то!
1-й х а л д е й (объясняя, с удовольствием). Потому мы слуги верные, холопы примерные.
2-й х а л д е й (прерывая). Так чево ж, товарищ, делать станем?
1-й х а л д е й (назидательно). Пока суд да дело, огоньку прибавим. Ходи веселей, сапог не жалей!
2-й х а л д е й (развеселившись). Одни сносим, другие с батюшки-царя спросим!
1-й х а л д е й (продолжая прежнюю игру). Глядишь, новые купит, а то и по шеям отлупит.
2-й х а л д е й (подхватывая). Одно слово – Навуходоносор!
Все происходило так. Устанавливались декорации, появлялись в сопровождении халдеев отроки, связанные между собой «убрусцем по выям» – полотенцем за шеи, они отказывались поклониться золотому тельцу и вводились теми же халдеями в печь. В печи, скрытые ширмами, они начинали петь, им отвечал хор. Потом гремел гром, спускалась фигура ангела, халдеи падали на землю, а освободившиеся отроки исполняли с хором заключительную часть действия.
Своего рода театрализованный концерт? Так, казалось бы, свидетельствовали современники, о том же говорили и документы. Но ни те, ни другие всего сказать не могли. В тратах на «Пещное действо» был еще один вид расходов – на постановку. «Пещное действо» при дворе каждый раз ставил другой постановщик, и в зависимости от удачного замысла его ожидала большая или меньшая награда. Бывали и такие годы, когда очередного постановщика обходили, ограничиваясь наградами халдеям и отдельным исполнителям. Значит, ничего «не измыслил» постановщик, ничем не удивил. А, собственно, что можно «измыслить»?
Славился своими постановками дьяк Пятой Филатов, тот самый, что жил на своем дворе «в Златоустом переулке на белых землях», около Чистых, а тогда называвшихся Погаными, прудов. За одно только представление 1625 года досталась ему и «камка добрая», и «сукно лундыш». Славился и певчий дьяк Юшка Букин. Отмечались в двадцатых годах и другие. Главный постановщик занимался всем «пещным действом» – не музыкой. Рядом с ним был своего рода педагог, разучивавший отдельные голосовые партии, и еще один, работавший с хором. Певческие партии принадлежали отрокам, отсюда и педагог занимался «отроческим учением». Особой сложностью отличалась партия хора, а вот о халдеях не говорилось ничего. Петь они определенно не пели.
Определить, откуда брались постановщики, не представляло труда – опытные, известные своими голосами певчие из хора. Как правило, баритоны. Этот голос особенно ценился в Древней Руси, считался самым «устойчивым», выразительным, гибким. Его обладателям уже по одному этому легче было дойти до первенствующего положения в хоре, стать так называемыми уставщиками. Отроки были из того же царского хора – дискант, баритон и бас. Халдеев в «столбцах» Оружейной палаты пришлось искать много дольше. И все-таки в конце концов и здесь можно было сказать без колебаний: их роли отдавались певчим.
Итак, церковные певчие, в скоморошьих одеждах, не поющие и тем не менее поощряемые «за искусство». Значит, речь шла об актерской игре и, соответственно, об игровой постановке. Чудо становилось реальностью: театр в Московском государстве и Москве существовал за полтора века до первых придворных представлений труппы пастора Грегори в Преображенском! И разве не о том же говорили дошедшие до наших дней и впервые публикуемые тексты?
Явление 4
1-й х а л д е й (шепотом). Товарищ!
2-й х а л д е й (подскакивая от неожиданности). Чево?
1-й х а л д е й (кивая на печь). Известно чево!
2-й х а л д е й (разводя руками). А ничево!
1-й х а л д е й (изумленно). Совсем ничево?
2-й х а л д е й (решительно). Как есть ничево!
1-й х а л д е й (в остолбенении). И не обгорают?
2-й х а л д е й (с досадой). Где там – песни поют!
1-й х а л д е й (не веря своим ушам). Поют?! (Деловито). И давно запели?
2-й х а л д е й (безнадежно). Да вон, слышь, только в силу входят!
1-й х а л д е й (вынося приговор). От беда так беда!
2-й х а л д е й (совсем понуро). Куда хуже!
1-й х а л д е й (оживляясь от неожиданно пришедшей мысли). Разве перед концом запели?
2-й х а л д е й (доволен тем, что наконец видит растерянность у слишком бойкого товарища). Чьим концом-то?
«Столбцы» подробно описывали и внешний вид певчих на каждый день. Появляться на людях им приходилось ежедневно, постоянно меняя наряды. Алые штаны, разноцветные кафтаны с серебряными пуговицами, на беличьем меху – с позолоченными, высокие суконные шапки, отороченные бобром, суконные рукавицы с песцом, сапоги сафьяновые желтые, зеленые, красные – трудно себе представить более праздничный вид. Расходные книги учитывали каждую мелочь (пуговиц могло быть по шести – не больше!), благо вся одежда царских певчих была казенной. Иначе разве «собьешься» на все «перемены» платья, которые им полагались. Даже в цветистом царском поезде на улицах Москвы таких щеголей нельзя не заметить – иностранные путешественники единодушны в своих восторгах. А к тому же сбруя с серебряным набором (это уж свое!), шитые разукрашенные седла, холеные кони. Но дело не только во внешнем виде.
Богато наряжать нужно было и челядь – простых слуг. Только певчих не сравнишь ни с какой челядью. Жили они привольно, широко, в собственных дворах, притом не пожалованных царем – купленных. После нескольких лет работы в хоре денег легко хватало на жизнь, хотя большинство певчих были родом из других городов и оказывались в Москве поначалу с пустыми руками. Хватало средств и на собственных холопов. Не каждый на Руси тех лет имел право на крепостных, но за певчими оно признавалось безоговорочно. Что там посадским людям – дворянам делало честь оказаться среди певчих дьяков: та же царская служба, только особо почетная, ценимая. Так и выходили в случае необходимости на защиту Москвы государев певчий дьяк, «славный» баритон Роман Осипов с пищалью, а рядом «человек его» Ромашко Осипов с рогатиной или «великий умелец пения» Иван Микифоров – тоже с холопом и тоже с огнестрельным оружием.
Среди всех хоров первое место принадлежало царскому – не патриаршему. Появлялись и совершенствовались в эти годы в Западной Европе многие духовые музыкальные инструменты – певчие сразу начинали петь в сопровождении каждого из них. Образовывались музыкальные ансамбли – певчие выступали и с ними. Обычно в первой половине XVII века это было несколько тромбонов, литавры, «скрипотчики» – скрипачи и орган. И еще певчие сочиняли музыку. Первые русские композиторы, чьи имена дошли до наших дней, были из их числа – Михайла Сифов, Дьяковский, Василий Титов. Они же ввели партесное – многоголосное пение, которое фиксировалось в записи при помощи нотного стана. Ему учили специально выписанные из Украины учителя, а выдержать настоящую борьбу за подобное новшество предстояло царскому хору.
На высших государственных чиновников не подействовали никакие царские приказы и пожелания. Все, как один, они наглухо закрыли ворота своих дворов перед присланными к ним от государя певчими с традиционным «славленьем». Нового пения они не собирались слушать. Царь Алексей Михайлович немедленно отозвался на немыслимое непослушание указом 1677 года: «Учинили то дуростию своею не гораздо, и такого бесстрашия никогда не бывало, что ево государевых певчих дьяков, которые от него, великого государя, славить ездят, на дворы к себе не пущать, и за такую их дерзость и бесстрашие быть им в приказах бескорыстно, и никаких почестей и поминков ни у кого ничево и не от каких дел не иметь. А буде кто, чрез сей его государев указ, объявится в самом малом взятии им корысти, и им за то быти в наказании». Кому бы могло прийти в голову, что за неприятие нового искусства лишишься основного источника доходов – права брать взятки!
Сто восемьдесят певцов – в таком огромном хоре не нуждалась ни одна православная церковная служба, попросту не была рассчитана на него, да и дворцовые церкви, кроме соборов, не отличались вместительностью. Но как раз столько певчих насчитывал во второй половине XVII столетия царский хор – около пятидесяти певчих дьяков и вспомогательный состав, годами служивший без окладов, в надежде на освобождающиеся штатные места. Для этих певцов дело обходилось поденным кормом: день пел – за день получил. При этом ни дисциплина, ни требования к ним не снижались. Но из их-то числа и выбирались халдеи, каждый год другие. Совершенно очевидно, подобного рода исполнительские возможности не были среди певчих исключением.
Явление 5
1-й х а л д е й (шепотом). Товарищ!
2-й х а л д е й (громко, равнодушно). Чево?
1-й х а л д е й (с испуганным любопытством). Поют?
2-й х а л д е й (так же нарочито громко и без выражения). Индо голосят.
1-й х а л д е й (с досадой). А прах их бери! (Смотрят друг на друга.)
2-й х а л д е й (заговорщически). Может, уговорить?
1-й х а л д е й (удивляясь). Как уговорить?
2-й х а л д е й (оживляясь и словно обращаясь к отрокам). Да, мол, вас царь Навуходоносор все едино порешит, а у нас детки малые, семеро по лавкам…
1-й х а л д е й (развеселившись). Осьмой в пути!
2-й х а л д е й (продолжая в том же тоне). Так что сжальтеся, любезные, помрите по доброй воле.
1-й х а л д е й (решительно). Не уговорить!
2-й х а л д е й (растерянно). Это почему?
1-й х а л д е й (деловито). Больно громко голосят!
2-й х а л д е й (терпеливо поясняет). Дак ведь царская воля.
1-й х а л д е й (отмахиваясь). Царская-то царская, да шкура-то свойская. (Его осеняет мысль). А ну как Навуходоносор от единого огорчения помрет – супротивства себе не потерпит?
2-й х а л д е й (подхватывая). А што? Тогда пущай громче голосят. Глядишь, и мы, грешные, целы останемся, с царским гневом не сведаемся!
1-й х а л д е й (кричит). Эй вы, покойнички-негорельцы, шуми веселей, глоток не жалей, Навуходоносору на огорчение, добрым людям на удивление.
О б а в м е с т е. Эх-ма!
Значит, певчие в роли халдеев должны были сыграть царских слуг в чем-то на манер скоморохов и все же иначе. По образу они представляли двух мужиков, хитроватых, ленивых и никогда не теряющих насмешливого отношения к происходящему, касалось ли это их хозяина – язычника Навуходоносора, праведных отроков или небесного знамения. Скоморошьи одежды давали большую свободу в поступках и особенно словах. А вот слова – частью они представляли импровизацию исполнителей, как в классической итальянской комедии масок, но в основном сочинялись безвестными литераторами, от талантливости которых во многом и зависел успех представления. Все просто: не было бы сочинителей – не было бы и дошедших до нашего времени записанных текстов.
Но времена менялись. С вступлением на престол подростка Федора Алексеевича закрылась существовавшая со времен Бориса Годунова Потешная палата в Кремле, были свезены на один из подсобных – «рабочих» – дворов декорации, реквизит, красавцы органы, запрещены всякие спектакли, инструментальная музыка и… «Пещное действо». Шли 1670-е годы.
Для очередных реформ понадобился приход очередного царя, на этот раз самого Петра Алексеевича. Известно, что Петр обладал неплохим и хорошо поставленным голосом, пел охотно сам с церковными певчими и разбирался в пении. У придворных певчих он бывает на дому, крестит детей, участвует в семейных событиях и в той же домашней обстановке «поет концерты», как утверждает придворный календарь. А еще царь привлекал своих любимцев к участию в праздничных аллегориях, посвященных различным государственным событиям, публичных зрелищах, где именно певчие исполняли драматические роли, как тогда было принято, мифологических существ. Всех античных божеств певчие изображали и в знаменитых празднествах Всешутейшего и Всепьянейшего собора. Нептуна, например, долгое время представлял прямой предок И.С. Тургенева – Семен Тургенев. До сих пор не удалось обнаружить портрет «малого Бахуса» – певчего Конона Зотова, но известно, что его на редкость выразительная игра побудила Екатерину I заказать портрет восхищавшего зрителей артиста одному из наиболее известных придворных художников – Ивану Одольскому-старшему.
И снова о московском чуде. Наш театр не только родился самостоятельно, в далеком Средневековье, но он проложил дорогу первым становившимся всенародно известными литературным сочинителям. С их произведениями знакомились тысячи и тысячи людей, в том числе не державших в руках книгу, даже не владевших грамотой, запоминавших на слух веселые, живые и выразительные тексты. Народный театр – народная литература.
Русский просветитель
Особенности просвещения московитов следует искать в делах и сочинениях не столько профессиональных учителей – их там и не так уж много, – сколько высоких придворных чинов. Сэр Энди Брайтон выяснил, что некоторые из них вполне могли бы претендовать на славу русских литераторов, как знаменитый и особо любимый боярин Ртищев.
Из перехваченных посольских бумагТаковы ти суть твоа игры, игрече, коло (колесо) житейское!
«Русский Хронограф». VI век. Из хроники МанасииСело называлось Изварино на речке Лекове. В еще более старых документах оно же поминалось как Шилбутово, Васильевское, Суково. Но для определения в нашем времени важнее было, что располагалось Изварино неподалеку от Переделкина, в двух километрах от железнодорожной станции Внуково, всеми забытое, но все равно вписавшее свои страницы в родную историю. (Хочется напомнить, что в более ранние времена существовало написание – Изворино.)
1646 год. Вот тогда-то и продал Поместный приказ ставшие семейными биркинские земли на речке Лекове теперь уже в вотчину, то есть в наследственное владение, Михайле Алексеевичу Ртищеву.
И снова речь шла о служебном поощрении. Именно в 1646 году М.А. Ртищев принял дела по Мастерской палате, обслуживавшей царский двор во многих его хозяйственных нуждах. Значение руководителей Мастерской палаты было тем большим, что находились они все время на глазах царской семьи и выполняли прямые поручения царя, царицы, царевен и царевичей. А то, что досталось Ртищеву именно Изворино, говорило о ценности этих подмосковных земель. При Алексее Михайловиче М.А. Ртищев был пожалован в постельничьи и окольничьи, управлял в начале пятидесятых годов Приказом новой чети. Заметное место при дворе заняли и его сыновья – Федор Большой и Федор Меньшой. Первый был одним из выдающихся деятелей русского просветительства. Основав в двух верстах от Москвы Спасопреображенский монастырь, Ф.М. Ртищев устроил в нем училище с преподавателями из числа киевских монахов, которые «обучали языкам славянскому и греческому, наукам словесным до риторики и философии». Ртищевское училище было затем переведено в московский Заиконоспасский монастырь и положило начало знаменитой Славяно-греко-латинской академии. Преподававшего у него в училище Епифания Славинецкого Ф.М. Ртищев убедил заниматься переводами с греческого и составить словарь славяно-греческого языка.
Увлеченный своей просветительской деятельностью, идеями справедливости в отношении крестьян и беднейших слоев населения, Федор Михайлович Большой не предъявляет никаких претензий на Изворино, которое в 1650 году переходит к его вдовой сестре Анне Вельяминовой. Как раз в этом году Ф.М. Ртищев основывает за городом гостиницу для бедных – один из способов помощи голодающим. Для того чтобы облегчить положение обреченных на голодную гибель крестьян Вологды, он расстается с дорогой утварью и одеждами, приобретая на вырученные деньги хлеб для бесплатной раздачи. Для жителей Арзамаса Ф.М. Ртищев расстается со своими лесными дачами, опять-таки бесплатно уступая их горожанам.
Проповедь никогда не расходится у Ф.М. Ртищева с делом, и это вызывает яростную ненависть к нему со стороны боярства и владык Церкви. Его пример рассматривается как «прелестный» – соблазнительный, служащий укором для других и опасным для могущества вотчинников и Церкви. В результате Ф.М. Ртищева обвиняют в подрыве основ православной веры – основанием к тому послужили его замечания по поводу неправильностей в церковной службе и уставе. Обвинение оказывается настолько серьезным, что только вмешательство всесильного боярина Б.И. Морозова и его заступничество перед лицом царя позволяют Ртищеву избежать самых серьезных последствий.
Но и дальше наветы на него продолжаются, хотя Алексей Михайлович приближает Ф.М. Ртищева к себе, делает начальником царской соколиной охоты, постоянно беседует с ним. Дело доходит до прямого покушения на «злотворна», которому, по свидетельству современников, удается спастись лишь в личных покоях царя. Среди врагов Ртищева появляется и патриарх Никон, которому просветитель открыто советует не вмешиваться в гражданские государственные дела, ограничивая поле своей деятельности одной церковью. По счастью, в этих разногласиях царь безоговорочно принимает сторону Ртищева и, чтобы окончательно укрепить его положение, назначает его воспитателем наследника престола – рано умершего царевича Алексея Алексеевича. До самой смерти Ф.М. Ртищев остается верен себе и перед кончиной завещает отпустить своих слуг на волю и не притеснять крестьян.
Улица первой русской книги
Помнится, Николай Михайлович Карамзин, живший в то время на вылете Никольской улицы на Лубянскую площадь, с каким-то особенным удовольствием подчеркивал, что тем самым присоединился к истории русской книги. Его прогулки по шумной и не Бог весть какой опрятной Никольской неизменно превращались в путешествие во времени: от первой печатной книги, Печатного двора, сочинений глубоко почитаемой им царевны Софьи до его собственных последних планов.
Из архива поэта А.Н. Креницына. 1850-е годыИстория улицы в самом деле насчитывает не менее семи столетий. Когда-то она начиналась с Ивановской площади Кремля и через Никольские ворота и Никольский мост шла на северо-восток под именем Сретенки – дороги на Ростов Великий, Владимир и Суздаль. Еще до первого летописного упоминания о Москве вокруг основного, защищенного стенами и валом города, на Боровицком холме начал разрастаться Большой Посад. К концу XIV века его границы достигли нынешнего Китайгородского проезда. В 1535–1538 годах архитектор Петрок Малый возвел стены Китай-города. Оставшаяся внутри них часть былой Сретенки стала называться Никольской.
Тогда название это было подсказано существовавшим здесь с XIV века Никольским монастырем, который в начале XVIII века был перестроен на средства семьи Кантемиров, проживавшей там, где ныне дом № 13. А по соседству, на дворе А.М. Черкасского (дом № 10), поэт А. Кантемир бывал на собраниях встречавшихся здесь представителей дворянской оппозиции, выступавшей против императрицы Анны Ивановны.
С 1553 года на Никольской начинают строить по приказу Грозного Печатный двор (ныне дом № 15), и 1 марта 1564 года выходит первая в Московском государстве датированная печатная книга – «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Здесь же с января 1703 года начнет выходить и первая русская газета – «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Ансамбль Печатного двора становится и своеобразной хрестоматией по истории русской архитектуры. В его создании участвуют многие поколения талантливых зодчих: здесь работают каменных дел подмастерья Степан Дмитриев и Иван Артемьев, художники под руководством Леонтия Иванова, архитектор-реставратор Н.А. Артлебен, мастер Левка, архитектор Иван Мичурин, Д.В. Ухтомский (строитель Красных ворот), И.Л. Мироновский.
Московский Печатный двор XVIII века.
С первой трети XVII века Никольская становится и центром просвещения. К 1630-м годам относится первое упоминание о существовании здесь «общенародной школы», школы «для грамматического учения». В 1660-х годах здесь открывается школа известного русского просветителя, поэта и драматурга Симеона Полоцкого. B 1680-х годах на ее основе учреждается первое в Московском государстве высшее учебное заведение – Московская славяно-греко-латинская академия, занявшая специально выстроенное огромное по тому времени трехэтажное здание Коллегиума. В 1719 году по приказу Петра I оно было дополнено двухэтажными «Учительскими кельями». Среди питомцев академии были и А.Д. Кантемир, и поэт В.К. Тредиаковский. Именно здесь «на денежку хлеба и на денежку кваса» с 1731 года учился и М.В. Ломоносов.
Часть ансамбля академии (дома №№ 7–9) сохранилась до наших дней. В доме № 7 помещалось в 1920-х годах Общество друзей радио. Из его студии, начиная с 1934 года, и стали вестись первые телевизионные передачи.
В конце XVIII века Никольская становится и театральным центром Москвы. Там, где сейчас дом № 10, выстроенный в начале XVIII века в стиле русского барокко, открывается Шереметевский крепостной театр. На его сцене выступают Параша Жемчугова, Татьяна Гранатова-Шлыкова. В доме живет и выдающийся композитор С.А. Дегтярев, автор первой русской оратории «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы». Ее исполнением в Колонном зале было отмечено открытие памятника Минину и Пожарскому в 1818 году. В 1872 году архитектор А.Е. Вебер строит в том месте улицы, где сейчас дом № 17, гостиницу «Славянский базар». Именно здесь начался знаменитый разговор двух основателей Художественного театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Со «Славянским базаром» связаны имена очень многих деятелей отечественной культуры. Рядом с гостиницей в конце XIX века застраивается участок земли, принадлежавший С.М. Третьякову (ныне Третьяковский проезд). Делает это архитектор, преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества А.С. Каминский, который первым перестраивал для галереи дом Третьяковых в Лаврушинском переулке.
Улица очень московская и одновременно улица будущего – такой представилась американскому писателю Джону Риду Никольская, когда он увидел ее 10 ноября 1917 года во время церемонии похорон у Кремлевской стены тех, кто погиб в семидневных боях за власть Советов: «Весь долгий день до самого вечера шла эта траурная процессия. Она входила на площадь через Иверские ворота и уходила с нее по Никольской улице. То было целое море красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества… И вдруг я понял… Этот народ строил на земле такое светлое царство, которое не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть – счастье».
Третьяковский проезд. 1880-е годы.
Иверская часовня.
Государыня-царевна
О ней говорили всегда и продолжают говорить. Спорят и расходятся во мнениях. Ученые и простые любители истории. Кто она – царевна Софья? Кем была как человек и кем стала для России как правительница? Или, точнее, кем могла стать?
Слово современникам. Граф Невиль, представитель французского двора «короля Солнца», самого Людовика XIV, явившийся в Москву под видом польского посланника: «Эта принцесса с честолюбием и жаждой властолюбия, нетерпеливая, пылкая, увлекающаяся, с твердостью и храбростью соединяла ум обширный и предприимчивый». Сильвестр Медведев, один из первых русских просветителей, справщик и книгохранитель Московского печатного двора, – для него дорог в Софье, которую хорошо и близко знал, «чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком» творить для русского народа. И еще особенность – «больше мужского ума исполненная дева».
Пройдет меньше ста лет, и в Амстердаме появится книга «Антидот», принадлежащая перу Екатерины II: «Надо отдать справедливость Софье, она управляла государством с таким благоразумием и умом, которое только можно было бы желать и от того времени, и от той страны, где она царствовала именами двух братьев». Еще более восторженно отзовется о царевне Вольтер в своей «Истории Российской империи времен Петра Великого: „Принцесса Софья ума столь же превосходного, замечательного, сколько опасного… возымела намерение стать во главе империи. Правительница имела много ума, сочиняла стихи на родном языке, писала и говорила хорошо, с прекрасною наружностию соединяла множество талантов; все они были омрачены громадным ее честолюбием“.
И, наконец, слова Н.М. Карамзина: «София занималась и литературой, писала трагедии и сама играла их в кругу приближенных. Мы читали в рукописи одну из ее драм и думаем, что царевна могла бы сравниться с лучшими писательницами всех времен…»
…Дочерей рождалось много. Так много, что царь Алексей Михайлович, которого благочестивейшая супруга Мария Ильична (так писалось тогда отчество «Ильинична») Милославская чуть не каждый год дарила ребенком, переставал их замечать. Конечно, полагались по поводу рождения царских детей благодарственные молебны, праздничные столы с богатыми подарками, пироги, которые раздавались поздравителям в знак особой царской милости. Но с дочерьми все быстро свелось к скупым пирогам. А когда родилась Софья, шестая по счету, был и вовсе нарушен порядок привычный. Имя ей не выбирали, а дали по той святой, чья память отмечалась в день рождения (и надо же – Софья Премудрость Божия!), и крестили не в Чудовом монастыре, как всех царевен, а в Успенском соборе, где венчались цари на царство (чем не предзнаменование!).
Царевна Софья.
Пресловутые теремные занятия не миновали Софьи. Показывали в кремлевском дворце Алексея Михайловича шитый ковер ее работы, разложенный на полу у царских кресел. Хранилось там и переписанное ею Евангелие с замысловатыми заставками, сложнейшими заглавными буквицами – полуписьмо, полурисунок. Впрочем, всеми этими видами мастерства владели и ее сестры, а тетка Татьяна Михайловна оставила по себе память как отличный портретист – кисти сестры царя принадлежит изображение патриарха Никона.
Но по-настоящему у Софьи другие увлечения. Как самую дорогую вещь дарит она из собственных покоев Василию Голицыну «шкатуну немецкую, под нею станок на 4-х подножках; в шкатуне 4 ящика выдвижных да цынбальцы, да клавикорды, а на верху шкатуны часы малые». Без клавесина – цимбал и клавикордов – трудно было себе представить жизнь. И еще книги. Много. Разных. Церковные – они были у всех, повести – они только появляются на Руси – и… труды по государственному устройству разных стран, разных народов. Софью не смущали иностранные языки. Она была знакома с латынью, свободно владела польским. И все эти черты широкой образованности смотрелись бы чудом, если бы не замечательный педагог-просветитель Симеон Полоцкий.
Симеон – монашеское имя. Но мирское затерялось, и так и остался для потомков монах Симеон Емельянович Ситнианович-Петровский, по месту первой своей работы в школе Полоцка получивший прозвище Полоцкого. Там его случайно встретил Алексей Михайлович при посещении города. Преподнесенные монахом торжественные стихи-вирши запомнились, и спустя восемь лет царь вызвал Симеона в Москву обучать молодых подьячих Тайного приказа, а еще через три года назначил воспитателем своих детей. И сыновей, и дочерей – Марфы, Софьи, Екатерины. Софья оказалась самой способной из всех.
Симеон Полоцкий.
Полоцкий писал вирши – Софья овладела этим искусством. Сочинял комедии – она последовала его примеру. Но главное: специально для своих царственных учеников Симеон написал своеобразную энциклопедию современных знаний от античной мифологии до астрологии, наполнил понятными, взятыми из жизни примерами. Это было ниспровержение схоластики, утверждение просветительства, за которые боролась большая, возглавляемая Полоцким группа русских культурных деятелей. Борьба эта захватила и воспитанников Симеона. Десятилетней девочкой Софья стала ученицей Полоцкого, без малого десять лет занималась с ним. Уроки сделали свое дело. Вместе с новыми горизонтами пришли новые желания, которым стало тесно в теремных стенах.
Можно было начать выходить из своих палат. Можно было, пользуясь каждым благовидным предлогом, выезжать из дворца. Ни отец, ни тем более вступивший после него ни престол молоденький брат Федор не ставили тому никаких препятствий. Характер правления Федора Алексеевича, его устремленность быстро начали забываться рядом с фантастическим размахом действий Петра. И тем не менее это именно Федор отменил местничество, вызвав целый переворот среди родовитого боярства. Он запретил членоотсечение – страшный пережиток средневековья, обрекавший жертву закона на немыслимые муки. При Федоре была основана в Москве Славяно-греко-латинская академия, первое гуманитарное учебное заведение высшего уровня, и обсуждался проект создания Академии художеств, где бы учились «на художников», и притом не кто-нибудь, а дети нищих, об устройстве которых в жизни явно следовало позаботиться. Наконец, при нем стали стричь волосы, брить бороды и носить «немецкое» платье. Федор Алексеевич и не думал становиться на пути сестер к образованию и все более широкому общению. Только вот простое нарушение обета затворничества – разве могло оно удовлетворить снедавшую Софью жажду деятельности!
Смерть царя, может быть, и не слишком неожиданная, – Федор от рождения страдал тяжелой формой цинги, – выборы нового самодержца из числа малолетних мальчишек и, значит, перспектива неизбежного регентства – вот что впервые открывало перед Софьей настоящие возможности. И как стремительно осуществляет Софья свои планы; 27 апреля 1682 года не стало Федора Алексеевича и царем провозгласили Петра. Соответственно предстояло отправить «объявительные грамоты» всем европейским правителям. Они и были заготовлены, но не посланы, придержанные уверенной рукой. 28 мая все изменилось: по требованию взбунтовавшихся стрельцов на престоле оказались два брата – Петр и Иоанн Алексеевичи.
Слов нет, можно говорить о личной неприязни Софьи и Натальи Кирилловны, матери Петра, о боязни царевны, что с провозглашением государем одного Петра вся власть достанется ненавистной мачехе. Кстати, они были почти ровесницами: Софье – двадцать пять. Наталье Кирилловне – тридцать. Но ведь действительно важно то, что Софья сумела использовать внутридворцовые распри, найти сторонников и поддержку у стрельцов, добиться переворота. На это царь-девице, как ее назовет впоследствии один из историков, понадобится всего месяц.
У Софьи появляется власть, но только фактическая. Никакого царского указа о соправительстве не существовало. Все, чего удавалось Софье добиваться, было результатом ее личных усилий и не получало формальных подтверждений. Каждый день можно было лишиться всего достигнутого за долгие месяцы и годы. Но с какой же расчетливостью и дальновидностью Софья создает видимость непреложности и законности своего правления!
Она ничем не заявляет о себе непосредственно после переворота в пользу Иоанна – надо сначала проявить себя, и возможность возникает почти сразу. Раскольники во главе с Никитой Пустосвятом добиваются открытого диспута с патриархом и церковными властями в Грановитой палате. Софья поддерживает растерявшихся священников, приходит на спор о вере сама, участвует в нем, а потом делает решительные выводы.
Пустосвят, как личность, опасная для государства, был казнен на следующий день на Лобном месте, его сообщники разосланы по дальним монастырям. У Софьи не дрогнула рука казнить и руководителей стрельцов князей Хованских, только что обеспечивших ей путь к власти. Их положение среди стрельцов – государство в государстве, связь с раскольниками – представлялись ей недопустимыми. В решительности и твердости Софья не уступала Петру. Но зато после этих первых шагов она вставляет свое имя в государственные грамоты, пока еще после братьев и только в документах, не выходящих за пределы страны.
Следующая ступень – имя, писавшееся наравне с обоими царями и притом в зарубежных грамотах. Оно приходит в 1686 году после заключения правительством Софьи Алексеевны Вечного мира с Польшей, согласно которому русское государство получало навсегда Киев, Смоленск и всю левобережную Украину. Успех правительницы был слишком велик и очевиден.
И все-таки этого было мало. Еще один переворот в свою личную пользу? Софья думала о нем, но на него было трудно решиться без предварительной подготовки общественного мнения у себя и в Европе. Тогда-то и приходит на свет «Портрет с семью добродетелями».
С монархов принято писать портреты. Монаршьи портреты принято развешивать в присутственных местах, размножать и высылать в иностранные государства – для сведения. Портрет в соответствующем одеянии, со всеми знаками сана – обязательный атрибут монаршьей власти. Софья хорошо это знала, но… на Руси не существовало портретов. Никаких.
Первые портретные изображения в начале XVII века были исключительно царскими и делались со специальной целью – их помещали над гробницами. Со временем появляются и единичные изображения самодержцев – Алексея Михайловича, Федора. Их написание – всегда целое событие для Оружейной палаты, в ведении которой находились и иконописцы, и появляющиеся живописцы. Живописцы занимаются в основном росписями помещений, картинами и отделкой предметов домашнего обихода. Тем более никогда им не приходилось писать женских портретов.
Впрочем, Софья и не думала о живописном портрете, который не представлялось возможным размножить. Царевну привлекала распространенная на Западе гравюра. Но и соответствующими граверами Москва еще не располагала. Так начинается история первого в русском искусстве женского портрета.
Внешне все выглядело простой случайностью. С Украины приехал к царскому двору полковник Иван Перекрест. Полковник явно не слишком разбирался во всех тонкостях московской ситуации, потому что прихваченные им с собою сыновья привезли «рацею» – похвальное слово царям Петру и Иоанну, забыв о существовании правительницы. Перекресту подсказали ошибку. За несколько дней «рацея» Софье была сочинена и прочитана перед царевной. Сочинение понравилось, и тогда последовала новая подсказка – издать «рацею» в виде отдельной книжки и приложив к гравированному портрету.
Чтобы выполнить это пожелание, Перекресту пришлось вернуться на родину. В Чернигове он находит гравера Леонтия Тарасевича, заказывает ему доски и вместе с досками привозит в Москву: прежде чем начать печатать, следовало получить высочайшее одобрение. На первой доске были представлены «персоны» Иоанна, Петра и Софьи, на другой одна Софья в окружении «арматуры» – воинских доспехов и медальонов с семью добродетелями. Идея семи добродетелей, как и памятные вирши на портрете, принадлежала Сильвестру Медведеву. По его собственным словам, они должны были заменить те семь курфюрстов, которые изображались вокруг портрета римского императора в соответствии с числом принадлежащих ему областей. Под стать была и подпись: «София Алексеевна Божиею милостию благочестивейшая и вседержавнейшая великая государыня царевна и великая княжна… Отечественных дедичеств [наследных владений] государыня и наследница и обладательница».
Портрет печатался на бумаге, тафте, атласе, объяри – плотной шелковой материи, и широко раздавался (сколько усилий потом понадобилось Тайному приказу, чтобы их разыскать и уничтожить!). Но и этого оказалось мало. Один экземпляр посылается в Амстердам бургомистру города, который передает его для размножения одному из местных граверов с соответствующими надписями уже на латинском языке – «чтоб ей, великой государыне, по тем листам была слава и за морем, и в иных государствах, также и в Московском государстве по листам же». Никакой стеной отгораживаться от Запада царевна не собиралась.
Софья рвалась к власти. Торопили все усиливающиеся нелады с Нарышкиными и их партией, торопила и своя неустроенная личная жизнь.
Василий Голицын.
Законы церкви и Домостроя, исконные обычаи – их Софья преступила без колебания, отдав свое сердце Василию Васильевичу Голицыну. Высокообразованный, прекрасно разбирающийся в дипломатии, но мягкий и нерешительный, Голицын не только женат, окружен большой семьей, детьми и внуками, но и – Софья сердцем чувствует это – искренно привязан к жене, княгине Авдотье. И хоть откликался он на чувство царевны, окончательного выбора в душе не делал, да и не собирался делать. Пока его могла удержать только сила царевниной страсти: «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета! А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься; тогда поверю, когда в объятиях своих тебя, света моего, увижу… Ей, всегда прошу Бога, чтобы света моего в радости увидеть».
И все-таки Софья прежде всего правительница, государственный человек.
Как ни страшно за «братца Васеньку», как ни тяжело по-бабьи одной да еще с письмами зашифрованными, писанными «цыфирью», она отправляет Голицына в Крымский поход. Борьба с турками – условие вечного мира с Польшей, и нарушать его Софья не считала возможным. К тому же лишняя победа укрепляла положение и страны, и самой царевны, приближая желанный царский венец. Вот тогда-то и можно бы было отправить постылую княгиню Авдотью в монастырь, а самой повенчаться с Васенькой. Иностранные дипломаты сообщали о таких планах царевны.
Но планы – это прежде всего исполнители. Софья искала славы именно для Голицына, никудышнего полководца. Первый Крымский поход окончился ничем из-за того, что загорелась степь. В поджоге обвинили украинского гетмана Самойловича, и на его место был избран Мазепа. Софья категорически настояла на повторении похода.
«Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй, на многие лета! Радость моя, свет очей моих! Мне не верится, сердце мое, чтобы тебя, света моего, видеть. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем поставила тебя перед собою… Брела я пеша из Воздвиженска, только подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, а от тебя отписки о боях. Я не помню, как взошла: чла, идучи!»
Теперь Голицын дошел с войсками до Перекопа, вступил в переговоры, но затянул их, не рассчитав запасов пресной воды, и уже с полным позором должен был вернуться. Софья не только закрывает глаза на провал князя, она хочет его превратить в глазах народа в победителя, осыпает наградами и, несмотря ни на что, решается на дворцовый переворот. Как же не ко времени!
Командовавший стрельцами Федор Шакловитый не сумел поднять собственных подчиненных. Многие из них перешли на сторону бежавшего в безопасный Троице-Сергиев монастырь Петра. Туда же отправились состоявшие на русской службе иностранные части, даже патриарх. Ставку своей жизни Софья проиграла – ее ждал монастырь. Новодевичий.
Но был у этой истории и другой, человеческий конец. Оказавшись в монастыре, Софья думает прежде всего о «братце Васеньке», ухитряется переслать ему в ссылку, куда Петр князя направил с семьей, письмо и большую сумму денег. Едва ли не большую часть того, чем сама располагала. Впрочем, по сравнению с другими ее приближенными Голицын отделался на редкость легко. Его не подвергли ни допросам, ни пыткам, ни тюремному заключению. Лишенный боярского сана и состояния, он был сослан со своей семьей в далекую Мезень. Скорее всего, помогла близкая Петру прозападническая ориентация князя, сказалась и выбранная им линия поведения.
Голицын не только не искал контактов с Софьей, но уверял, что не знал ни о каких планах переворота, а против ее венчания на царство и вовсе возражал. Он не устает писать Петру из ссылки челобитные о смягчении участи, отрекается от Софьи во всем. И, может, была в этом своя закономерность, что вернувшийся из ссылки, куда попал вместе с дедом, внук Василия Голицына становится шутом при дворе родной племянницы Софьи, императрицы Анны Иоанновны. Это для его «потешной» свадьбы с шутихой был воздвигнут знаменитый Ледяной дом.
С Софьей все иначе. Ни с чем она не может примириться, ни о какой милости не будет просить. Из-за монастырских стен она находит способ связаться со стрельцами, найти доходчивые и будоражащие их слова. Ее влияние чуть не стоило отправившемуся в заграничную поездку Петру власти, и на этот раз все бешенство своего гнева он обращает не только на стрельцов, но и на Софью. В 1698 году царевны Софьи не стало – «чтобы никто не желал ее на царство».
Появилась безликая и безгласная монахиня Сусанна, которой было запрещено видеться даже с ее родными сестрами. Ни одной из них Петр не доверял, неукротимый нрав всех их хорошо знал.
Пятнадцать лет в монастырских стенах. Пятнадцать лет неотвязных мыслей, несбыточных надежд, отчаяния. И все-таки она находит способ заявить о себе хоть перед смертью. Она принимает большой постриг – схиму под своим настоящим именем Софьи, чтобы имя это не затерялось, чтобы хоть на гробовой доске осталась память о дочери «тишайшего» царя, почти царице, семь лет вершившей судьбами Российского государства.
А образ царевны-правительницы?.. Мы виноваты перед ней. С легкой руки И.Е. Репина перед нами возникает обрюзгшая фигура в царском платье, одутловатое лицо с седыми растрепанными волосами и налитыми злобой глазами. Нельзя было ходить в монастыре с непокрытой головой, нельзя ссыльной носить царское платье. А портретные черты принадлежат двум использованным художником моделям – матери художника Валентина Александровича Серова и сестре композитора Н.И. Бларамберга. И как тут быть с современниками, которые, зная все недостатки характера правительницы, не могли забыть черных, как вороново крыло, волос, соболиных бровей вразлет, пушистых ресниц в полщеки и васильковой синевы глаз. Царь-девице другой и нельзя было быть. В чем бы ни винили ее потомки.
А учил его Никита Зотов
«А вы задумайтесь, – говаривал Николай Михайлович Карамзин, разве это не примечательно, что рядовой дьяк из приказов, выбранный в школьные учителя царским детям, мог дать царевичам представление не только о грамоте, но и о литературе – российской литературе, которая еще только становилась общеизвестной потомкам и узнаваемой».
Из архива поэта А.Н. Креницына. 1850-е годы Зде во велице России издавна Мудрость святая пожеланна славна: Да учатся той юнейшыя дети И собирают разумные цвети… Из виршей Кариона Истомина. 1680-е годыВ хрониках села Козьмодемьянского имя Никиты Зотова появится в 1703 году. Еще не граф – он им станет семью годами позже, – но уже «ближний советник и ближней канцелярии генерал-президент», иначе – глава личной канцелярии Петра I. Были соратники, были верные и дельные исполнители и был Никита Зотов, пусть недалекий и особым умом не блиставший, зато вернейший из верных, с которым к тому же связывали Петра и достаточно необычные чувства почти детской привязанности. Царский дядька – не воспитатель, около которого прошло детство, но человек, обучавший азам грамоты, первым развернувший перед пятилетним мальчишкой книгу, назвавший первую букву.
Так повелось в царской семье: никаких школьных учителей царевичи не знали. Обучение вели приказные, дьяки, обычно не прерывавшие для уроков основной службы. Одни справлялись с непривычной задачей лучше, другие хуже. Первые могли рассчитывать на повышение в чине, щедрые денежные дачи. В царских указах так и сообщалось: «Пожаловал великий государь подьячего Посольского приказу во дьяки Панфила Тимофеева сына Беленинова за то, что он выучил великого государя царевича и великого князя Федора Алексеевича писать: а указано ему сидеть в Устюжской четверти». Но и этой милости казалось мало: «Да ему же великий государь, Панфилу, указал свое, великого государя, жалованье давать, сверх того годовое жалованье денежное по вся годы и всякие доходы против прежнего».
Царь Петр I в детстве. Парсуна.
Шел сентябрь 1674 года, а три года спустя боярин Соковнин представляет новому царю Федору Алексеевичу другого дьяка – Н.М. Зотова – как кандидата в учителя к маленькому Петру, которого пора было сажать за науку. В отличие от Панфила Беленинова, Н.М. Зотов уже имел дьяческий чин. Документы свидетельствуют, что в 1673 году состоял он дьяком в Челобитном приказе, спустя два года был переведен в Сыскной, а одновременно с очередным переводом во Владимирский судный приказ получил назначение к младшему царевичу.
Испытание – его проводит сам Симеон Полоцкий, учивший всех старших детей Алексея Михайловича от первой жены – Марьи Ильичны Милославской. Симеон занимался и с царевичами, и с царевнами всем кругом принятых в те годы гуманитарных наук – от литературы всех народов и географии до мифологии и истории.
Экзамен кандидат в учителя прошел успешно. Взыскательный Симеон Полоцкий признал Никиту Зотова в науках твердым, во взглядах богобоязненным, а главное – хотя об этом впрямую и не говорилось – преданным царю Федору Алексеевичу, иначе сказать, партии Милославских. Любая связь с Нарышкиными отрезала бы дьяку доступ к младшему царевичу: их сторонникам путь во дворец строго-настрого заказан. Кто знает, может, поручалось Зотову «доглядывать» за беспокойной молодой царицей Натальей Кирилловной, держать открытыми глаза и уши. Должность царевичева учителя была совсем не простой.
Как случилось, что изменил в конце концов Никита Зотов всем своим так старательно проверенным взглядам? Ничего особо сложного не преподавал. Весь спрос с него – обучить младшего царевича грамоте, чтению, пройти божественные книги: Часослов, Псалтырь и Евангелие. Конечно, толковал дьяк их смысл Петру, да еще по своей воле дополнял скучные занятия «потешными книгами с кунштами» – картинками. Но недостаточно одних картинок, чтобы навсегда привлечь к себе симпатии ребенка и разбить лед недоверия его матери. И Никите Зотову все удается, сумел он избежать и каких бы то ни было подозрений со стороны царского двора, хотя рано умершего Федора Алексеевича сменяет за эти годы в качестве правительницы ненавидевшая Наталью Кирилловну царевна Софья Алексеевна. Зотов переводится из Владимирского в Московский судный приказ и сразу же после прихода Софьи к власти направляется вместе со стольником Василием Тяпкиным к крымскому хану Мурад-Гирею и участвует в заключении с ним Бахчисарайского мира. Удача переговоров позволила ему подняться до ранга думного дьяка. Но достаточно царевне лишиться власти, как Зотов оказывается едва ли не первым рядом со своим питомцем, и теперь уже до конца.
Доброе отношение Петра делало свое дело, но верно и то, что Зотов обладал определенными дипломатическими способностями, очень пригодившимися на первых порах молодому правителю. Зотов сопровождает Петра в обоих Азовских походах, причем состоит у посольских дел и за удачную службу получает по их окончании высокую награду, хотя вообще лишних трат царь не допускал. Былому учителю даются в последние дни 1696 года «золотой в четыре золотых», кубок с кровлей в 4 фунта, кафтан на соболях в двести рублей и вотчина в сорок дворов. На следующий год он сопровождает Петра в качестве думного дьяка в Воронеж, где спешно создавался русский флот.
Немецкая слобода.
Окончательно определило положение Н.М. Зотова образование «Ближней канцелярии» Петра в 1701 году. Здесь уже былой приказный становится думным дворянином, печатником, или, иначе, – «ближним советником и ближней канцелярии генерал-президентом». А ведь были еще связанные с Зотовым развлечения Петра, знаменитый всешутейший и всепьянейший собор, который так по-разному толковался исследователями.
Грубое развлечение, кончавшееся грандиозными попойками, повальным пьянством, или… Но вот альтернатива и представляла самую большую сложность. Сегодня широкий круг ставших известными историкам документов позволяет с уверенностью сказать – это была все та же продолжавшаяся борьба с властью церкви, которая побудит Петра в 1704 году вообще отменить институт патриаршества. Ни сам Петр, ни его соратники не могли быть атеистами, но старательно продуманные, рассчитанные на многочисленных зрителей собрания собора имели в виду дискредитировать бездумное подчинение постулатам и обрядам церкви, внести в них момент критического, а значит, и сознательного отношения. Не случайно поиски разумного начала в истолковании религии рождают у Петра особый интерес к лютеранству. Всешутейший собор расшатывал те проросшие глубочайшими корнями в быт привычные формы богослужения и отношения к князьям церкви, которые со времен Средневековья воспринимались как некая исходная данность и находили особенно рьяную поддержку у наиболее состоятельной части родовой знати. Для многих из них незыблемость церковных внешних форм совмещалась с представлением о незыблемости собственной власти и места в обществе.
Все непосредственные соратники Петра были участниками собора, носили особые, соборные, имена. Сам Петр – «протодиакон Питирик», Никита Зотов с 1695 года – «архиепископ Прешпургский, всея Яузы и всея Кокуя патриарх», иначе – «святейший и всешутейший Аникита». Прешпургом называлась крепостца, сооруженная для маневров потешных полков вблизи села Преображенского, Кокуй – ручей, протекавший в московской Немецкой слободе. Среди портретов так называемой Преображенской серии, написанных по распоряжению Петра с отдельных лиц его окружения и висевших в его любимом Преображенском дворце, где происходили первые ассамблеи и празднества собора, был и портрет Никиты Зотова – хитроватого, немолодого, с крупными грубоватыми чертами лица, в простом тулупе и с непокрытой головой. Сегодня вариант этого портрета хранится в одном из частных парижских собраний русского искусства.
Летучий голландец
Меня положительно захватила наша отечественная литература XVII столетия. Из какой же пестрой, но и весомой в своих удивительных качествах мозаики она складывалась: тут и первые личные письма, та повседневная переписка, которой только учились, и непременная литература о путешествиях. В моем собрании оказалось несколько рукописных книг ранних лет правления Петра. Это удивительнейшие энциклопедические сборники, где было совмещено все – от всемирной истории, образцов любовных изъяснений, до сведений о свойствах камней, соотношений бегов небесных и путевых заметок.
Из архива поэта А.Н. Креницына. 1840-е годы«Летучим голландцем» прозвали в Европе путешественника, писателя и художника Де Брюина. Он был приглашен в Россию Петром I и оставил любопытнейшие описания быта и нравов нашей страны в петровские времена.
Это оказалось совсем непросто для голландского путешественника, писателя и художника Де Брюина – определить для себя Москву. Облик города, дома, сады, улицы – все отступает перед впечатлениями городской жизни, слишком многолюдной даже для европейцев, слишком шумной и конечно же необычной.
Первое московское жилье Де Брюина – в доме одного из прижившихся в Москве голландских купцов. Нахлынувшие толпы гостей – хозяину приходится выставлять столы на триста человек. И среди них – сам Петр. Другой купеческий дом. Те же столы на сотни человек. Де Брюин ждет случая быть официально представленным царю. Зашедший в комнату человек завязывает с ним беседу по-итальянски. Князю Трубецкому – а это именно он – достаточно знаком чужой язык. Появляется Петр, и разговор переходит на голландский. Де Брюин еле успевает отвечать на вопросы спутников Петра о Египте, Каире, разливах Нила, портах Александрия и Александретта – последними особенно интересуется царская сестра Наталья Алексеевна.
Очень скоро предметом изучения и подлинного увлечения «Летучего голландца», как прозвали в Европе Де Брюина, становится повседневная жизнь москвичей, причем самого среднего достатка. Его поражает все, начиная от обычая оставлять в доме, из которого уезжаешь, хлеб и сено как пожелание благополучия новым жильцам. Поражает манера шить, надевая наперсток на указательный палец и придерживая полотнище ткани не коленями, а большими пальцами ног. Или обычай красить пасхальные яйца в самый любимый у русских «цвет голубой сливы».
К. де Брюин. Панорама Москвы в 1702 году.
Конечно, можно было сказать о Московии и так, как безымянный автор рукописной Космографии XVII века: большой здесь «достаток и много родится арбузов, яблок, грушей, вишен, дынь, огурцов, тыкв и иных всяких ягод». Но разве Де Брюину этого достаточно?! Он без устали колесит по подмосковным дорогам, заглядывает на огороды, в сады, приценивается на торгах – сколько, почем, каково на вкус. Он не прочь побывать и в погребах – что запасают русские и надолго ли хватает припасов. В чем-то он даже не путешественник, а обстоятельный и хозяйственный голландский бюргер.
Ягоды? Больше всего в подмосковных лесах костяники. Едят ее с медом, едят и с сахаром. Готовят из нее похожее на лимонад питье, которое особенно полезно при горячке – снижает жар. Много под Москвой земляники, но куда больше привозят на торги брусники. Эту ягоду готовят только впрок – заливают водой, подмешивают сахар или мед и употребляют как питье. Пожалуй, это основное, что «приносят» к столу московские леса, остальное выращивается на огородах.
Впрочем, под огородом понимался и плодовый сад. Садом же назывался только цветочный. Было таких садов мало, и лишь у богатых людей. Например, сад в голландском стиле у Данилы Черкасского в Сетуни. Таких хитро нарисованных клумб, стриженых деревьев, фонтанов Де Брюин не видел, пожалуй, больше ни у кого. Зато любовь к цветам у всех очень велика: «Для русских нет большего удовольствия, как подарить им пук цветов, который они с наслаждением несут домой».
Это как бы для души, а вот для жизни самое главное… капуста. Хотя бы потому, что ели ее все русские самое меньшее два раза в день. Столь же много потребляли, пожалуй, только яблок и огурцов. Огурцы ели и свежими, и солеными круглый год. Весь год не исчезали из московских домов и яблоки.
«Яблоки там разного рода хороши, – поясняет Де Брюин, – красивы на вид, кислые, равно как и сладкие, и я видел такие прозрачные, что насквозь видны были семечки». Вот эти «наливные» и закладывались на хранение в погребе и вылеживали до нового урожая.
Когда появились деревья плодовые в московских дворах? Де Брюин видит Москву сплошным цветущим садом, но ведь заботились о плодовых деревьях еще в XVI веке. Знаменитый Домострой устанавливал особо дорогое наказание за воровство и поломку в садах и огородах. Куда еще дороже, если за каждое испорченное – не то что сломанное! – дерево полагался штраф в три рубля.
Превосходны московские дыни, пусть чуть водянистые, зато душистые и огромные. Средний их вес достигал полупуда, и ценились они от одного до четырех алтын за штуку. Москва вообще славилась своими дынями. Первые из них вызревали к середине августа, поздние встречались со снегом. Секретарь австрийского посольства Адольф Лизек, побывавший в Московии двадцатью годами раньше Де Брюина, умудрился, кстати, разузнать их секрет: «Посадивши дыни, русские ухаживают за ними следующим образом: каждый садовник имеет две верхние одежды для себя и две покрышки для дынь. В огород он выходит в одном исподнем платье. Если чувствует холод, то надевает на себя верхнюю одежду, а покрышкою прикрывает дыни. Если стужа увеличивается, то надевает и другую одежду, и в то же время дыни прикрывает другой покрышкой. А с наступлением тепла, снимая с себя верхние одежды, поступает так же и с дынями…»
Словно предвидя недоуменные вопросы людей конца XX столетия, Де Брюин успевает отметить особенности московского климата. Так ли уж он, климат, разнится от сегодняшнего?
«Месяц Апрель начался такою теплотою резкою, что лед и снег быстро исчезли. Река от такой внезапной перемены, продолжавшейся сутки, поднялась высоко… Немецкая слобода затоплена была до того, что грязь доходила тут по брюхо лошадям. Летом особой жары не случалось, а в конце сентября выпадал первый снег. В начале октября наступали морозы, вскоре и надолго сменявшиеся дождями, так что, когда в середине ноября Яуза стала и на ней начали кататься на коньках, снега еще не было». И снова «…под исход года время настало дождливое… Но в начале Генваря, с Новым годом, погода вдруг переменилась: сделалось ясно и настали жестокие морозы». И так повторялось из года в год.
День за днем Де Брюин втягивается и в круг придворной жизни. Спустя несколько недель после прибытия – первый царский заказ. Петру срочно нужны портреты трех племянниц – дочерей его старшего брата и соправителя Иоанна Алексеевича. Иоанна давно нет в живых, но царевны при случае могут превратиться в «дипломатический капитал». Их будущими браками Петр рассчитывал укрепить политические союзы России. Слов нет, хватало и своих живописцев. Но от Де Брюина ждали полного соответствия европейским модам и вкусам – недаром он побывал при стольких дворах. Русские невесты ни в чем не должны были походить на провинциалок.
4 февраля 1702 года Меншиков везет Де Брюина в Измайлово к матери царевен, вдовой царице Прасковье Федоровне. Хоть и поглощенный сложным придворным церемониалом, Де Брюин все же успевает заметить, что Измайловский дворец совсем обветшал. Что царица Прасковья была когда-то хороша собой, а из дочерей красивее всех средняя, Анна Иоанновна, белокурая девочка с тонким румянцем на очень белом лице. Две другие сестры – черноглазые смуглянки. Отличаются «все три вообще обходительностью и приветливостью очаровательной. Подобной простоты обращения в монаршьем доме объездивший много стран путешественник и представить себе не мог.
Да, радушие и приветливость царицы и царевен поразительны. Да, простота обращения Петра I с художником невозможна для других коронованных особ в Европе. И все же ничто не может скрыть от Де Брюина сути существующей в Московии государственной системы. «Что касается величия русского двора, – приходит он к выводу, – то следует заметить, что Государь, правящий сим Государством, есть монарх неограниченный над всеми своими народами… Он все делает по своему усмотрению, может располагать имуществом и жизнью всех своих подданных, с низших до самых высших, и, наконец, что всего удивительнее, его власть простирается даже на дела духовные, устроение и изменение богослужения по своей воле».
Де Брюин не торопился покидать Россию. Только 15 марта 1703 года он решается тронуться в дальнейший путь на восток. За Коломенским, у села Мячково, где добывается камень, сделавший Москву «белокаменной», он садится на судно армянских купцов, чтобы по Оке и Волге спуститься к Астрахани. И мелькают названия – Белоомут, Щапово, Дединово, Рязань, Касимов… Одни отмечены дорожными происшествиями, другие запомнились постройками, пейзажами, иные – простым отсчетом верст. Их виды со временем оживут на великолепных огромных гравюрах «Летучего голландца». Прошло четыре года. Позади – Персия, Индия, Ява, Борнео. Летом 1707 года Де Брюин – снова в Астрахани, чтобы пройти теперь уже вверх по Волге. Но сейчас он уже не столько исследователь – от души радуется происшедшим переменам в облике Москвы. На Курьем торгу выросло здание аптеки, которая должна снабжать лекарствами всю русскую армию. Работают в ней восемь аптекарей, пятеро подмастерьев, сорок работников. Лечебные растения разводятся в двух садах в черте Москвы и к тому же собираются по всей стране вплоть до Сибири, куда готовится за ними специальная экспедиция.
На Яузе появилась городская больница, иначе – Странноприимный дом для больных и увечных, с двумя отделениями на восемьдесят шесть человек. Есть здесь своя большая аптека и, соответственно, один аптекарь, один медик и один хирург.
Рядом с больницей построена суконная фабрика с выписанными из Голландии специалистами. На берегу Москвы-реки, около Новодевичьего монастыря, начал работать стеклянный завод. Там делают всякого рода зеркала до трех аршин с четвертью в высоту – без них настоящего убранства в парадных комнатах любого дома не добьешься. Де Брюин видит, что исправлена Китайгородская стена, отремонтирован Кремль, а со слов москвичей ему становится известно, что в местном Печатном дворе появился латинский шрифт, выписанный из Голландии. В городском театре на Красной площади – Комедийной хоромине – идут регулярные, пользующиеся большим успехом у горожан спектакли.
И еще – замечания по поводу массового характера строительства по всей Московии, не говоря о самой столице: «Относительно зданий ничто не показалось мне так удивительным, как постройка домов, которые продаются на торгу совершенно готовые, так же как покои и отдельные комнаты. Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных и сплоченных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время».
В этом-то, кстати, и кроется основная причина исключительно быстрого восстановления русских городов после частых и сильных пожаров.
Вот и Де Брюин приходит к выводу: «Многие писатели полагают, что некогда город Москва был вдвое больше того, как он есть теперь. Но я, напротив, дознал по самым точным исследованиям, что теперь Москва гораздо больше и обширнее того, чем была когда-нибудь прежде, и что в ней никогда не было такого множества каменных зданий, какое находится ныне и которое увеличивается почти ежедневно».
В феврале 1708 года Де Брюин окончательно прощается с Москвой. Невольно вспоминается, что был это канун произошедшей в 1709 году Полтавской битвы. Всего несколько лет оставалось и до окончательного перенесения русской столицы на берега Невы.
Maть и сын
«Свет очей моих», «радость моя», «красавица ненаглядная» – он никому больше не напишет таких слов. Только ей. Единственной. От всего сердца любимой.
Царь Петр I – царице Наталье Кирилловне. Своей материПервой его встретила в жизни ненависть. Конечно, была безоглядная любовь юной матери – родила своего первенца Наталья Кирилловна в 18 лет. Была сердечная привязанность отца – хотя нужды в еще одном сыне у царя Алексея Михайловича не осталось. Старшего сына от первой жены уже объявили наследником, за ним стоял еще и младший – будущий царь Иван Алексеевич. Все мысли стареющего государя занимала молодая жена, столь непохожая на недавно скончавшуюся царицу Марью Ильичну.
Алексей Михайлович имел уже тринадцать детей. Они еще не подозревали в новом сводном брате соперника в борьбе за престол, но влияние на царя значило для них очень многое. Любовь обошла Алексея Михайловича стороной, хотя, казалось, он и нашел ее. На первых смотринах царских невест сам выбрал касимовскую дворяночку Всеволожскую. Прикипел, как говорилось, к ней сердцем, ввел в царский терем, готовясь к венчанию.
Только венчание не состоялось. По указке царского дядьки – воспитателя боярина Бориса Ивановича Морозова, затянули верховые девушки Всеволожской слишком туго волосы, лишилась она чувств и под предлогом утаенной от государя болезни была сослана со всей семьей в далекую Сибирь. Морозов же ради утешения предложил государю Марью Милославскую, сам поспешил жениться на ее сестре. Подчинился Алексей Михайлович, но к наставнику своему охладел. Не простил да и доверять перестал. «Сердцем осиротел», как говаривали в Москве. И вот на исходе мужского века, в 42 года, словно вернувшееся из юности, – чувство к Наталье Кирилловне.
Пётр I.
По расхожему мнению, она – бедная воспитанница знатного боярина-западника, театрала, сторонника европейского образа жизни Артамона Матвеева – выгодно отличалась от женского населения теремов. Однако факты не подтверждают подобной версии. Был Артамон Матвеев из приказной семьи. В составе наших посольств ездил на Украину к Богдану Хмельницкому, участвовал в войне с поляками, в осаде Риги. В конце концов Алексей Михайлович доверил ему ведать Малороссийским и Посольским приказами, но всего лишь в чине думного дворянина. Только по случаю рождения Петра получил Артамон Матвеев чин окольничего, двумя годами позже – боярина. Забегая вперед, можно сказать, что пробыл он боярином всего два года. После смерти Алексея Михайловича был сослан со всем семейством в Пустозерск. Обвинили его в чернокнижии, но что еще страшнее – в покушении на вступившего на престол Федора Алексеевича. Так что ни знатности, ни особого достатка в матвеевском доме не было.
А вот женат был Артамон Матвеев на Евдокии Гамильтон, наследнице семьи шотландцев-датчан, перебравшихся во времена Грозного в Московское государство. Западный обиход Евдокия Гамильтон знала, но собственной образованностью блеснуть не могла, как, впрочем, и жившая в ее доме Наталья Кирилловна. Разве сравнишь ее со старшими сводными сестрами Петра, которые изучали историю, географию, всемирную литературу, писали по-польски и по-латыни вирши, играли на клавесинах! В теремах устраивали театральные представления, сами писали пьесы. Недаром Н.М. Карамзин считал царевну Софью талантливейшим драматургом.
Меньше всего ожидала Наталья Кирилловна ранней смерти супруга. Через пять лет их совместной жизни 47-летнего Алексея Михайловича не стало. Вдовая царица остается в теремах одна, с сыном и дочкой на руках. Все ее родственники удалены от двора. И это по ее подсказке пятилетний Петр бросается в ноги сводному брату-государю с просьбой не выселять их с матерью из дворца. Каждый понимал, что в отдаленном Преображенском с ненужным царевичем куда легче расправиться. Федор проявил милосердие и даже отдал распоряжение построить вдове в Кремле особые палаты: сестрам своим – каменные, ей – деревянные.
Ни на минуту мать не расстается с сыном. Во время игр, во время уроков, за едой, в церкви – она все время рядом: долго ли до греха! Петр был прав, называя Наталью Кирилловну своим ангелом-хранителем.
Между тем умирает Федор, и ожившая «нарышкинская партия» провозглашает царем Петра. Успевает это сделать, пока не опомнились наследники Милославских. Но настоящей силы у «нарышкинской» партии еще нет. Царевны Милославские легко поднимают стрелецкий бунт. Гибнут от стрелецких рук братья Натальи Кирилловны, гибнет возвращенный из ссылки Артамон Матвеев.
Что бы ни пережила в те минуты вдовая царица, Петр остается жив во многом ее усилиями и отвагой. Правда, он становится всего лишь соправителем своего сводного брата Ивана при общем правлении царевны Софьи. У Натальи Кирилловны новая забота – уберечь сына от козней царевны и ни в чем не позволить Ивану обойти его.
«Ясынька моя», «сердешная моя», «только бы ты была покойна» – со временем будет писать в коротеньких записках сын из разных уголков Московского государства. А ведь нежностью и заботливостью Петр не грешил никогда. И как ему отказать матери в желании женить своего Петрушу, раз слабоумный Иван уже женат и того гляди сможет похвастаться наследником. Евдокия Федоровна Лопухина? Петр не станет перечить. Может, в 17 лет выбор и не так важен. Меньше чем через два года, несмотря на рождение сына Алексея, Петр дождется своей любви. На десять лет властительницей его чувств станет Анна Монс. И никакие мольбы Евдокии, никакие выговоры Натальи Кирилловны не помогут.
Впрочем, властная и умная Наталья Кирилловна умеет вовремя остановиться, не слишком «докучать» Петруше. С нарастающей тревогой следит она за развитием событий в его семье. К сыну Петр равнодушен, Евдокии просто не хочет видеть. Зато матери отовсюду присылает пусть короткие, на 2–3 строчки, записки с непременным вопросом о делах, пожеланием здравия и обещаниями обо всем подробно рассказать по приезде. Другое дело, что до рассказов не доходило. Наталья Кирилловна и не сетовала. Где уж там о ней думать за государственными заботами?
Расчетливый и прижимистый на все траты, молодой царь ничего не жалеет для матери. Никогда бы сам не потратился на новые церкви. Но Наталья Кирилловна хочет отметить победу над ненавистной Софьей строительством нескольких храмов в московском ВысокоПетровском монастыре, и отказа в деньгах ей нет.
Пять лет жизни с мужем и пять лет с вступившим на престол, ставшим царем, сыном – вот и весь ее век. В 1694 году Натальи Кирилловны не стало. Современники удивлялись, как тяжело переживал Петр ее уход. Но – почти сразу поднял вопрос о разводе с Лопухиной. Любовь не уступила материнской воле. «Светик мой утрешний», «родимая моя» – она просто не имела в душе Петра никакого отношения к другой и тоже необходимой любви.
Дневник, который мог стать бестселлером
Тетрадь была из грубой серой бумаги. С водяными знаками. Густо пожелтевшими чернилами. Пятнами затхлой сырости. И выцветшей обложкой, на которой неумело нарисованный Аполлон с кифарой и протянутой вперед рукой был закутан в плащ из наклеенного шелкового фиолетового лоскутка и увенчан криво надетым лавровым венком с остатками окончательно поблекшей зелени. Крупно написанный заголовок неуклюже сползал к низу страницы:
«КОПИЯ 3 ЖУРНАЛА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕТРА ПЕРВАГО ИМПЕРАТОРА И ВСЕРОССИЙСКОГО САМОДЕРЖЦА, когда он своею высокою особою изволил ходить при свите посолской за море 7206 от Рождества Христова 1697 году».
Первого взгляда на рукопись было достаточно, чтобы поставить предварительный «исторический диагноз». Копия, потому что титул императора Петр I получил от Сената лишь спустя четверть века после описанной поездки. Скорее всего, такой же срок отделял рукопись от оригинала. Об этом свидетельствовала бумага, близкий к полууставу ранних петровских времен почерк, отсутствие пунктуации: кое-где встречающиеся точки к синтаксическим правилам отношения не имели. И не менее важное соображение. При непосредственных преемниках Петра I культа первого императора не существовало. Он зародился только при Екатерине II, когда и устанавливаются определенные правила правописания и пунктуации. Точно воспроизводить явно, с этой точки зрения, неграмотную рукопись никто бы не стал. Появляющаяся редактура непременно исказила бы характер первоисточника. Несколько так называемых «списков» – копий журнала уже было известно науке. Все они разнились друг от друга незначительными подробностями. Передо мной был еще один вариант, но в нем присутствовал и совершенно новый текст – расширенное описание путешествия по Италии. Вот только совершал ли его Петр? Собирался побывать в этой стране, очень интересовался ею, но, согласно принятой точке зрения, в связи с получением тревожных вестей вынужден был срочно вернуться в Россию. Между тем легенда о пребывании русского царя, в частности, в Венеции упорно держится среди итальянцев и по сей день.
Для исследователей оставался открытым вопрос об авторе журнала. Одни видели в нем самого Петра – сходство с манерой вести и формулировать записи действительно можно найти. Другие – кого-либо из особенно близких царю людей, хотя вычислить автора, исходя из особенностей текста и характера записей, не удавалось. Если Петру действительно не удалось достичь Италии, то в нашем «Варианте с Аполлоном» о высоком авторстве можно было думать только в отношении первой части. Хотя кто, кроме самого царя, мог продолжить странствия по Италии с такими огромными тратами? Деньги своим приближенным Петр выдавал куда как расчетливо; если не сказать скупо. Но так или иначе, начиналось путешествие в Москве.
Текст журнала прямо продолжал заголовок:
«…когда он <Петр> своею высокою особою изволил ходить при свите посолской за море 7206 от Рождества Христова 1697 году С Москвы маия II-го дня чрез Клин тверь торжек великий нов Град оттоль в Нарву июня 2: дня из нарвы июня II дня кораблем в Любик июня 23 дня тут видел в церкви престол из мрамора резан зело изрядно и органы в которых одна труба 16: аршин а из Любика в Гамбурх.
В 25: день тут видел метальника <танцовщика> в камеди <театре> которой метался зело дивно.
Тут же видел бочку в которую входит сто двенадцать бочек <полуамбарных> из Гамбурха в бремень оттоль в геронингень в транбуль в левардинь в больварт в варизмь из варизьма морем на галиоте переплыли пять миль в четыре часа оттоль на почтовой телеге в Горнь оттоль в трехшон в перски грет в мониендам оттоль в Амстердам.
Июля II-го дня был в амстердаме в дому где собраны золотые серебряные и всякие руды и как родятся алмазы изумруды королки всякие каменья и морския всякие вещи и как золото течет от земли от великого жару.
В амстердаме видел младенца полтора года мохната всего сплошь и толсто гораздо лице его поперек две четверти привезен на ерманку <ярмарку> тут же видел слона великого которой с каменем играл и трубил по турецки и по цеcapски и стрелял из мушкета и многие вещи делал, имеет синьпатию с собакою которая непрестанно с ним пребывает. зело дивно на ярманке видел метальников которые через трех человек перескоча налету обернется головою вниз и встанет на ногах.
У доктора видел анатомию кости жилы и мозг человеческой телеса младенческия и как зачинается во чреве и родится видел сердце человеческое лехгое почки и как в почках родятся камни и вся внутренняя разнятся разно и жила та на которой лехкое живет как тряпица старой жилы те которые в мозгу живут.
Видел кожу человеческую обделана толще бараньей а кожа которая у человека на мозгу живет вся в жилах косточки малинькия будто молоточки которые в ушах живут.
Животныя многи от многих лет собраны и нетленны в спиритусах мартышка и звери индийския маленькия змеи предивныя и лягушки рыбы многия и птицы разныя зело дивны и змеи с ногами глав долгия змии о двух головах вверху.
Тут же видел которой родит чрез естество собою большую мышь без шерсти а родит от себя подобно себе сквозь спину и видели тут многих маленьких половина вышла больше 20. тут же жуки предивныя и бабочки великие собраны зело изрядные.
В амстердаме видел мужика безрукого которой делал предивные вещи – в карты играл ис пищали стрелял и набивал сам у себя бороду брил а ляжет на стол вскочит на ноги поставит и на стол на самой край стул и под стул поставит руку и сам станет на стул ногами и нагнется достает руку зубами встанет и опять поставит с шпагами танцовать в стену бросил шпагу зело прытко писал ногою.
Приехали в гагу с послами сентября 15: дня встречи было за две версты до города встречали два человека стат <от Нидерландских Штатов> а под нами было 50 корет о шести конях а сидели по два человека а сидел князь Александр Голицын как приехали в город на посолской двор приехали два человека стали поздравлять посольское величество в добром приезде ко двум приехали <…> человек стат а в них один президент потчивал за столом а приехали в коретах о шести конях мы встречали у корет послы не сошли на нижнее крыльцо.
На другой день приезжали потчивать господин вице адмирал да два человека, стат по всякой день были у стола по два человека стат а после аудиенции не было на преезде были у стат ехали в коретах по два человека о шести конях – Франц Яковлевич. <Лефорт> Федор Алексеевич <Головин> Прокофей Возницын царевич Малетинской <Александр Арчилович Имеретинский> да Александр Нянин Федор Плещеев да киозерцы наши Петр Лафорт да князь Александр Голицын лакеев было 50-т человек наших пять корет да пажей было шестнадцать человек около карет назади и напереди а на всех было алые кафтаны кружевом серебряным расшиты сплошь четыре пажа были в бархатных платьях с кружевами и как приехали к нам на двор солдат около 40 человек встречали: два человека стата а статся всех было и сидели 37 человек наших послов посадили посеред стола а мы стояли за ними прежде речь говорил большой посол потом другой послед Прокофей Возницын грамоту подали и поехали и провожали два человека стат а в ответ приезжали по семи человек к нам на посолской двор а Франц Яковлевич был в другом платье и по приезду из гаги, ездил в Лейден и был во анатомии и видел зело предивных вещей много и о всех тех вещах взята книшка на латинском языке. к нашим послам приезжали послы отдавали визиты сперва был посол свецкой <шведский> в трех коретах о шести конях все в черном платье. на другой день был бранденбургской в четырех коретах о шести конях того ж дня был посол английской в девяти коретах пяти шти и о четырех конях на третий день дацкой <датский> был в четырех коретах о шти конях.
В гаге Франц Яковлевич ездил за город в сад в своей корете которая дана тысяча восемьсот червонных у лошадей были шлеи бархатные вызолоченные сидел с ним в корете: еще были три кореты о шти конях в которых наши дворяне сидели.
А как сведали что мы поехали за город многие посолские жены нарочно выезжали за город все на шти конях.
После того ездили дважды в комедию которая нарочно для нас сделана. как поехали из камеди ночью несли перед коретою 20-ть свеч больших водяных.
У цесарского посла была первая полата обита полосатыми материями а другая шпалерами изрядными третья вся убита бархатом красным по швам все кружево золотое самыя изрядныя зело богаты гишпанской <испанский> посол в 20 коретах о шти конях.
Амстердамская ратуша в длину 50-т степеней. послов наших дарили статы Галандския большому послу цепь золотую весом десять фунтов с гербом Галандского государства другому послу 8: фунтов дьяку Прокофью Возницыну в полшеста фунта дворянам цепи по 120 золотников.
Во амстердаме октября 28 дня были огненные потехи зело нарядные перед всеми вороты во всем амстердаме огни горели великие пускали зело предивные за одну ночь чаю несколько тысяч пущено не видать было неба и стрельба была великая во всю ночь на радости что мир состоялся у всех европейских государей со французским королем. в амстердаме видел штуки разные из бумаги режет девка может персону человеческую взрезать и многие персоны королевские режет и продает за великую цену.
В амстердаме видел стекло зажигательное в малую четверть часа растопит ефимок <монету>.
В амстердаме был у жидов в церквах и видел великое богатство изрядные церкви и книги моисеевы зело украшены.
В амстердаме ж был в церкве у кватеров которые собравшись в церковь и сидят часа с три и больше с великим смирением никакова слова никто не молвит всякой ожидает на себя очищения и познавши то муж или жена встает и учит людей а в то время как молчат хотя великую досаду делает не противитца и ответу не дает.
В амстердаме на дворе на котором собраны разных родов птицы и видел птицу превеликую бес крыл и бес перьев бутто <будто> щетка также многия изрядныя индейские птицы две мыши одна желтая а другая белая как горностай гораздо малы. тут же ворон тремя языками говорит видел кита которой не рожденный выпорот из брюха пяти сажен.
Во амстердаме устроенные изрядные домы где собираютца каждой во всякой вечер девицы изрядные девиц до 20-ти и по 15-ти и музыка непрестанно и кто из охотников приходят кто которую девицу полюбит то те взявшись за руки изволил итти с нею в особую камору или к ней в дом ночевать с нею без всякого опасения потому что те домы нарочно для того устроены и пошлины платят в ратушу. а домов таких с двадцать а называют их шпилгоус или дома игральныя а нигде домы есть которые те дела исполняют только тайно а домов таких в амстердаме с двесте и зело богаты домы а кто охотники нанимают на месяц на два или на неделю и живет без всякого опасения хотя год.
В амстердаме был в доме где сидят сумасбродныя люди которые совершенно без ума всякому зделан особливой чулан и ходит напросто непрестанно смотрят поят чистят и берегут а которые дерутца просто ходят по двору а з двора не пускают.
Казнь в амстердаме была двух человек смертью казнили пытавши и как повинились в убивстве привели их пред статов и сказали им смерть за день до казни и в тот вечер был им стол потчивали все довольно и как пришло время то что казни привели их пред бургомистров и спрашивали еще о том же совершенно ли вины сказали.
Что вины. бургомистры пошли к статам и спрашивали казнитъ ли их и статы приказали еще спрашивать и спрашивали они трижды а после того сошли статы все стали кругом на коленях и винных тут же поставили и молилися богу со слезами о тех винных и о суде своем и вели на такой трон и поставили на колени и палач отсек головы обоим палашем а пасторы непрестанно были при них и одного из них отдали во анатомию и разнимали одну голову и мозг и внутреннюю всю.
На месяц смотрели в зрительную трубу и можно видеть что есть земли и горы а мерою та труба сажен десяти.
Во амстердаме видел голову человеческую сделана деревянная говорит человеческим голосом заводить как часы и заведя молвит какое слово и она молвит тут же. видел сделаны две лошади деревянные на колесе и садятца на них и ездят зело скоро и снимают кольца копием.
Всех церквей разных вер в амстердаме пятнадцать.
В амстердаме был у человека у которого собраны разные сребренники и те сребренники тут же на которые Христос от Иуды продан весом будет против осми копеек русских на одной стороне велия <большая> надпись над персоною. у того ж человека смотрели камеди как скакали и танцевали изрядно.
В амстердаме видел баба которая ходит по улицам играет на скрипице перед нею ходят три собаки как она заиграет на скрипице они перед нею затанцуют на задних ногах.
В амстердаме был у жидов в церкве и смотрел обрезывание кто обрезывает младенца прежде молитву сотворит и потом положит младенца и возьмет крайнюю плоть и щиплет щипцами серебряными и отрежет немало после возьмет в рот ренского <вина> и сосет кровь тою же кровью и вином мажет у младенца уста.
Обедали в амстердаме на большом постоялом дворе десятник <под этим именем – десятника Петра Михайлова – Петр I принимал участие в Великом посольстве> и послы трое всего было 32: человека и заплатили денег 207 ефимков.
В амстердаме был у торгового человека и видел хамелеона живого которой отменяет цвет на которой взойдет по тому цвету и сам подобен кажется.
Из амстердама ездили в ротердам а ехали на лейден в Лейдене были во академии и смотрели многих вещей, из Лейдена в Дельфт смотрели церкви большой где погребаются оранские князья из Дельфа в Ротердам в Ротердаме церковь большую смотрел тут видели славного человека ученого персону из меди отливку в подобие человека и книга медная в руках и как двенадцать ударит то милость перевернет. имя ему Еразмус <Эразм Роттердамский>.
В амстердаме был где собираютца дважды на неделе ученые люди и <толкуют> между собой о разных вещах богословских и филовских <философских>.
В амстердаме видел рыбу у которой на носу пила величиною та <рыба> с небольшую белугу тут же видел рыбку которая корабль останавливает малинькая прилипает ко дну множество от того остановятся корабли. тут же видел рыбу с крыльями и скорпиона.
Рыбу видел живую зело предлинную называют теленком морским гораздо толста зубы превеликие висят.
В амстердаме ужинал в таком доме где ставили <еду> нагие девки есть на стол и питье подносили все нагие девки было их тут пять девок, только на голове убрано а на теле никаких ноги перевязаны лентами руки флером.
Из амстердама поехал во италию апреля 1 числа а ехал на почте первой город муемиз муема в нарден из нардена в армесо фок на городе смотрели двора загородного князя аранского <Оранского>. сад и фонтан предивныя ночевали в армене на реке наренеи из армена <неразборчиво> на реке наваиле из нивергама в наренбурх оттоле в кеш. тут смотрели курфюрста бранденбургского двора его садов во одну сторону двора река воаль за рекою построен сад изрядной прешпект. на горе фонтан з гор ход зделан чрез реку в сад по одну сторону двора ево гора превеликая кругом рощи. в роще просека 12-ть дорог со всякой дороги видеть можно пологорода в рощах напущено зверей оленей лосей вкруг видел ста с три в горах построены фонтаны изрядные а величиною та роща кругом ходу четыре часа.
Смотрели церкви католицкой кругом ее высечены страсти спасителевы из алебастра на одной стороне распятие на другой стороне когда молился святый боже да мимо идет чаша сия и прочия все страсти в церкви сечены у иезуитов монастыре и в церкви предивное украшение святые иконы изрядного письма паникадило серебряное гораздо велико чеканной работы.
Был в библиотеке предивное собрание разных книг изряднoe тщание.
Тут же был в монастыре у <неразборчиво> ходят на колотках <колодках> босыми ногами головы обриты кругом оставлено на палец платье черное подпоясано веревкою. разных законов зело много… тут же в келье был в монастыре видел камень Спасителева гроба кувшин в котором Христос претворил в кане галилейской воду в вино мерою пол ведра.
Есть апостола Петра кость точеная на коже ис келена поехал водою рекою вверх лощадьми.
В Нюсене на ярмарке видел младенца о двух головах тут же видел танцевали на веревках метальники предивно тут же видел теленка о дву головах.
Тут же видел колесо <неразборчиво> дву сажен на другой стороне обретен славной цесарской город Истроенд на горах каменных зело высоко на реке на Рене тут же впала река Лорене Рене все горы каменные зело высоки на горах все винероды <виноградники>… тут города у ворот ошейник медной хто вперед приедет в город повинен положить тот ошейник на шею и с той малое время потом купать а, кто не похощет купать дает денег сколько может на ренское <неразборчиво> имя свое напишет в книгу что тут был оттоль в Менис а из Мениса ездил смотрел на натуральные колодези горячие в одном безмерно горячо неможно руке терпеть другой не так горяч.
Построен великой дом и полаты изрядные зделано место где купаютца полата каменная сажен пять с сот из досок, на котором <насланы> в своде сделаны две трубы для того что пар непрестанно идет от воды посередине зделано место где ходят в воду выкладено около изрядно глубиною по шею человеку, около перила зделаны два маленькие чердаки и ступени в воду сколько уступил и сядут поделаны лавки в воде а где кто хочет отворить другия двери зделаны в воду и плавать можна вдоль сажени три поперек полтора а вода непрестанно течет тут приведена труба великая а другою трубою вода течет а вода в колодезях солона.
Ис перси поехали водою рекою вверх на большом судне лошадей было 10: лошадей немецких, судно было великое а людей было всех 160 человек. в кранфорт приехал самою ярманкою апреля 10: дня и видел товаров столько что в амстердаме столько не видал больше всего серебра алмазов затем у жидовина была целая лавка навешана запан крестов перстней все алмазные. тут же видел жидовок в жидовском платье на шее ис полотна на плечах бархатная епанча черная с кружевом черным же.
Ис Крамфорта поехал коретою в первой город. карету наняли сам четверт <вчетвером> до Аспурха дали по 8 ефимков с человека оттоле в касварстат сие нюбарх которой построен в одну улицу одну сторону мель по другую сторону горы каменные <…> гамбурх построен на горе каменной зело высоко так круто что неможно взойти кроме тех мест где поделаны лестницы.
Девки носят на головах косы превеликие из их волосов а печальные платья у них особые.
Жены их носят шапки великия подобно горликом только белые тут же был в церкви католицкой зело великая один предел <придел> зделан великим богатством. гора зделана из мрамора в верху гор ангел святой держит сосуд в руках ниже стоит Иисус сын Божий на коленях и просит да еще возможно сия чаша мимо идет апостолы святыя по горе разной. тут же был в изрядной аптеке и видел залозного <?> натуральных вещей руды золотые и серебряные и как родятся разные каменья и многие другие благовония которые надлежат лекарствам а паче украшения аптека вся головами турецкими как была война под Веною на многих головах ран по 20: и больше рубленных палашами многие приезжают для осмотрения.
Из Ауспурха поехал коретою сам четверт нанял извощика до венеции обедал и ужинал ренского по крушке всего с человека по 12: золотых а на дороге были одиннадцать дней.
Из риму поехали июня дня в Ливорну наняли две коляски дали двадцать золотых а ехали тою же дорогою по которой ехали из Флоренции до Риму.
Приехали в Ливорну 14 дня в то время был праздник святого Иоанна по всем улицам горели огни ис пушек стреляли и процессия была город гораздо великой стоит на море на самом берегу.
<…> пристанища сделан стол каменной, на столе стоит каменной высечен князь их флоренской <флорентийский> а под столбом четыре человека медные плиты превеликие руки завязаны назад прикованы к столбу на цепях под ногами у князя чалма турецкая лук палаш а полону турецкого 3000: человек ходят днем по воле многия.
Из Ливорны поехали морем на корабле в Геную июня 17: дня ночь тою стояли на якоре поутру пошли в море на море были четыре дни и опасение имели великое от турок.
В Геную в 22: день город великой стоит на самом море порт не велик как мы были в то время кораблей было з 20-ть ис которых восемь всегда готовы стоят на стороне 32 весла… какие <гребцы> турки есть арап к тутошние люди за вину. князь у них выбираетца из сенаторов а сидят по два года токмо домы превеликия строения гораздо изрядного сенаторов и жен их носят люди по 2: человека зделан будто возок маленькой а иные ездят на мулах такие же возки.
Тут же был в саду у князя. построена на самом море фонтана превеликая 3: лошади каких мужик стоит у средней лошади из языка вода течет у тех из ноздрей. кругом тех лошадей ребятки маленькия из мрамора иссечены сидят и воду пьют. ниже тех ребят орлов 12-ть каменных в ногах у них птицы животные из них всех воду льют.
Из Генуя поехали наняли коляски по 65: червонных на три дни в гишпанских горах не с моря не пропускают в город. обедали в городе Тартоне владения гишпанского короля и ночевали в городе вагери обедали в городе гишпанском Павия. в монастыре был у бернатов <бернардинцев> церковь Благовещения… решетки медныя во всей церкви зело богаты доходы черницу по 1000 рублев. библиотека изрядная письма предивного образ Спасителев писано на камени мастерства дивного тут же образы шитые зело дивные и у них в великую диковину образ Саваофа и Рождество Спасителево. тут же сад где деревья обрезаны и животные и из них же фонтан текучий.
Июня в 27: день приехал в Милан в гишпанской город великой в рядах были и видели судов хрустальных и вазов зелейных оправлены золотом чаши лохани великие с рукомойниками кувшины великие таких нигде не видал. в церкви все было золото богато.
Из Милана поехали горою за коляску по четыре золотых в Ладву ночевали в лоди река зело быстра ночевали в городе веницейском где славное ружье делают приехали в город Пескера построение зело изрядное фортеция на озере… ворони город великой веницейской на реке Пандязи с сей реки прокопаны <каналы на> поля пускают воду как дождя нет обедали в городе ганце город великой.
Июля 4: дня приехали в Падву <Падую> славная академия город великой ездили где город горячие воды так тартан от падвии 5: верст воды безмерно горячие мясо сварить можно ключи превеликие от воды <неразборчиво> ис каменя текут где моютца палатки маленькие творило выкладено камнем белым напускают воду вода соленая купаются от болезни.
Тут же во академии где учатся всяким наукам в церкви были у святого Антония видели работу высеченную на камени предивную из мрамора <неразборчиво> где лежат тела евангелиста Луки и Матвея великого строения изрядного тут же видел арганы <орган> предивныя таких нигде не видал голосов. тут же видел в Паве <Павии> сад веницейского сенатора зело изрядно из Павы поехал водою в Венецию.
Июля в 6: день <продолжали> рейд на лошадях приехали в Венецию того ж дни к вечеру.
Июля в 24: день в Венеции поставили одного человека напротив шляхту взяли в казну в него 100000 дукатов. и в тот день в Венеции все <неразборчиво> шляхты и торговые ходят в машкарад мужчины надевают женское платье и харю а жены их мужское да харю воля такая кто какое платье хочет наденет и хари…
Августа 1: дня праздник был в Венеции мост был через канал покрыт был холстами развязан был весь тафтами и флерами зело изрядно церковь была убита <обтянута> камками красными <шелковая китайская ткань с разводами> а столбы бархатом с золотыми кружевами по швам, кувшины великие с цветами на окошках серебряные.
За церковью поставец был великий сделан наставлено было сахаров и всяких фруктов… изрядная музыка что есть в Венеции лутчих кастратов и на инструментах всяких играли пятеро органы 20-ть человек на скрипицах а всего было певчих и музыкантов 65: человек а лутчим было дано двум человекам кастрату да скрипачу по 40: червонных на один праздник.
Сентября 13 дня начинали кулачные <бои> на мостах каменных. первой один на один <неразборчиво> выбраны третия по два человека одна по 3: человека на стороне тут же стоят в красных кафтанах а бьютца наги кто первой зашибет до крови или с мосту сбросит тот и прав а заклады великие кладут промеж собою сенаторы сторона на сторону а в то время ходит в машкарад. бьютца месяц один по воскресеньям и по праздникам.
Из венеции поехали к Москве на амстердам в 18 октября ночевали в Тревезе наняли коляску дали от персоны по 8 червонцев да от пурха поклажи на персону по 70 фунтов за фунт по 8 салцов а ехали тою дорогою что ехал из амстердама в венецию.
Из крофорта поехали водою рейд наняли лодку дали 28 ефимков от персоны по четыре ефимка а ехал четыре дни обедали в кронфорте заплатили по ефимку от персону ества <еда> была гусь жареной три курицы в росоле потрох гусиной аладьи пряженые капуста с салом дрозды жаркия да фруктов блюдо обедали и ужинали по червонцу заплатили от персоны.
От гамбурха поехали в 21: наняли телегу до Берлина дали 56 афирков а ехали 7 дней первой город от Гамбурха Брендов другой Бинен. в Берлин приехали к 29 день генваря город великой столица курфюрста бранденбурска. у курфюрста были на дворе и ходили во всех ево палатах были и дочь ево видели девицу и сына ево девяти лет говорит латинским француским и немецким языком. первая полата курфюрстова обита шпалерами другая шпалерами и третья бархатом четвертая кружевами золотыми. покоевы ево палат убраны писмами изрядными. еще полата в которой стоит поставец один с хрустальными сосудами другой с стеклянными судами четвертой с алмазы. еще полата стоит персона из воску сделана так жива что неподобно верить что человек работал. сидит в креслах что ближе смотришь то болше кажет себя дива.
У курфюрстовой жены первая полата шпалерами в другой полате все убранье серебряное три паникадила великие пять зеркал великих серебряных шкаф великой серебряной чеканной кресла серебряные шендалы на стене серебряные.
И как пришли в полату сидели тут девицы играли с ковалерами тавлеи <шахматы> и мечем и с той полаты шли в спалню курфирстовой жене <неразборчиво> при нас не сидела ходила с нами постеля ее поставлена около поставса зеркалы в стенах зделаны. У него ж были и на дворе потешном где всякие звери тут же два зубра превеликие один зело велик и так злобен на человека и в конюшнях ево были.
Во Гданьске же были во оружейных палатах с той пушки и мортиры ядра и порох все пущевные инструменты.
Тут же мужики зделаны каких лат как войдешь в полату то встанет сам и шляпу поднимет и машет.
Поехали февраля 15: дня наняли две каляски дали 35 абфирков а ехали четыре дни переехали реку Вислу от Гданьска четыре мили. обедали в городе Елблюк девять миль от Гданьска город великой.
В Кролевец приехали февраля в 17 день город великой курфирста бранденбурского народ немецкой и полской а город на море.
Ис Кролевца поехали февраля 20-го дня наняли две каляски дали сто ефимков ехали 10 дней.
От Маия ехали четыре мили и поехали курляндского князя землею зело самой нужной <тяжелый> проезд и народ самой хуже наших крестьян.
Февраля 27 дня приехали в Нитов поутру столица князя Курляндского а город небольшой и строение худое того же числа приехали в Ригу.
Конец совершен.
Извольте охотники читать а неученые слушать.
Путешествие закончилось в Москве, но превратить записки в книгу не было времени и желания. Такая мысль мелькнет, когда о своей встрече с Россией и Москвой напишет знаменитый голландский путешественник и живописец Корнелис де Брюин, откликнувшийся на случайное и необязательное приглашение Петра, сделанное во время Великого посольства в мастерской модного портретиста в Лондоне. Корнелис де Брюин приехал в Архангельск в конце 1699 года, задержался в Москве до 1701-го, книгу же, богато снабженную превосходными гравюрами по собственным рисункам, сумел издать в Амстердаме лишь в 1711 году.
Панорама Кремля и Китай-города из Замоскворечья. 1707 год.
Четырнадцать лет в жизни Петра – целая эпоха. Пока же предстояла казнь стрельцов, расправа с их командирами – Иваном Циклером и братом боярыни Морозовой, Соковниным, постриг царевны Софьи, Северная война и перенесение столицы на берега Невы. Для Москвы же впечатления первого царского путешествия обернулись огнями победных викторий, когда по венецианскому образцу стали украшаться мосты и башни, выставляться на улицы «оказы» – картины, зажигаться на окнах домов в праздничные дни обязательные плошки и фонари, играть оркестры, выступать актеры и певцы.
Расчетливый и далеко не скорый на траты Петр счел возможным повсюду закладывать новомодные сады, устраивать фонтаны, приглашать скульпторов и мраморщиков, закупать по всей Италии статуи. Появляется в России водолечение и забота об Олонецких марциальных водах, которыми пользовался и сам царь. Изменился характер убранства жилых покоев. Был приобретен у того самого доктора-анатома, которого довелось лично узнать Петру, – Ф. Рюйша, его уникальный музей анатомических препаратов, заложивший основу Петербургской Кунсткамеры. В Москве открывается государственный госпиталь в Лефортове, аптеки, новые учебные заведения вроде Школы математических и навигацких наук, для которой надстраивается Сухарева башня. Путешествовать явно стоило. Даже царю, который умел и хотел учиться.
Высокочтимая госпожа президент
В последнее время имя ее стало появляться все чаще – на радио, телевидении, в печати. По разным поводам – юбилеев Академии наук, истории русского XVIII века, женской эмансипации, очередного выхода ее «Записок». Стало невозможным не знать Екатерину Романовну Дашкову – по имени. А вот по существу… Кто вспоминает о том, что в стенах старой части московского Дома ученых (Пречистенка, 16) прошли первые годы ее семейной жизни? Кто оглядывается на дом ее отца и деда – Воронцовский дворец на Знаменке, 12, что напротив Министерства обороны? Наконец, кто заговорил о самой мемориальной памятке на каждому знакомом здании Московской консерватории? Его Екатерина Романовна сама заложила, сама строила, другой вопрос – что так любимые Москвой последующие перестройки изменили внешний облик дома, оставив, впрочем, нетронутой общую планировку. Дашкова говорила, что обретала в Москве покой и то семейное счастье, на которое так поскупилась для нее судьба.
Едва ли можно сказать о ней лучше и точнее, чем это сделал впервые прочитавший «Записки» княгини А.И. Герцен. «Дашкова родилась женщиной и женщиной осталась всю жизнь. Сторона сердца, нежности, преданности была в ней необыкновенно развита. Дашкова русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России – и смело становится рядом с Екатериной». Но вот этого последнего ради душевного спокойствия, скорее всего, и не следовало делать.
Одиночество… Если б дано было знать, что она встретится с ним четырехлетней осиротевшей девочкой и вернется к нему на шестидесятом году жизни. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова! Ее принимали все коронованные особы Европы, и о беседах с ней хлопотали все выдающиеся умы своего времени. Суждения княгини повторяли, мыслям удивлялись, научным трудам отдавали дань уважения. Любящая и горячо любимая жена, мать троих детей, одна из многолюдной и прочно устроившейся при дворе семьи Воронцовых, блестящая светская дама и… деревенская глушь без единой родной души, со случайными гостями, которых никакая сила не могла надолго удержать.
Екатерина Дашкова.
Одна из этих гостий, ирландка Катрин Вильмот, будет восторженно писать родным: «Очень бы мне хотелось, чтобы вы смогли взглянуть на самую княгиню. В ней все, язык и платье, – все оригинально; но что б она ни делала, она решительно ни на кого не похожа. Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник; она всякий день делает самые противоположные вещи на свете – ведет переписку с братом <А.Р. Воронцовым>, занимающим одно из первых мест в империи, с учеными, с литераторами, с жидами, со своим сыном, со всеми родственниками. Ее разговор, увлекательный по своей простоте, доходит иногда до детской наивности. Она, нисколько не думая, говорит разом по-французски, по-итальянски, по-русски, по-английски, путая все языки вместе.
Она родилась министром или полководцем, ее место во главе государства».
Так думали все знакомые. А жизнь? Жизнь складывалась совсем по-другому.
Двор цесаревны Елизаветы Петровны, младшей дочери Петра I. Двор по названию, потому что средств к его существованию, тем более при пышнейшем дворе своей двоюродной сестры, императрицы Анны Иоанновны, просто не хватало. Не было денег на лишнюю пару бальных атласных башмачков, а ведь снашивались они куда как быстро. На туалеты – приходилось перешивать старые. На простыни – обходилась цесаревна четырьмя штуками, да и то чиненными-перечиненными. На салфетки для гостей – спасибо, кто-то из фабрикантов, в память отца, мог подбросить лишних полдюжины. На лошадей – лихая наездница, цесаревна располагала единственным иноходцем, с которого, кажется, не сводила глаз. Все доставшееся Елизавете Петровне после смерти матери, Екатерины I, наследство сводилось к мызе – хутору под Петербургом да к дому в Александровой слободе (город Александров), на Торговой площади – низ каменный, верх деревянный.
Поэтому и штат двора состоял из одних полунищих родственников со стороны матери да нескольких молодых людей, которые могли сами содержать себя, надеясь на будущее возвышение или выгодный брак цесаревны. Среди них состоял в должности камер-пажа и Михайла Ларионович Воронцов, и бывал время от времени его старший брат Роман. Ни богатством, ни знатностью Воронцовы не отличались, пока не посчастливилось Роману жениться на сибирской богачке Марфе Ивановне Сурминой. Сам зажил раздольно, мог и цесаревне ссужать немало. С появлением Марфы Ивановны словно вздохнул с облегчением полунищий цесаревнин двор.
Хоть и обвиняли младшую дочь Петра в легкомыслии, но помнить добро Елизавета Петровна умела. А когда при участии братьев захватила власть – арестовала правившую свою племянницу Анну Леопольдовну, то сумела доказать это на деле. Обоих Воронцовых возвела в графское достоинство, щедро наградила землями и крепостными душами. Михайлу Ларионовича женила на любимой своей двоюродной сестре графине Анне Карловне Скавронской. Сама крестила их детей. Когда в 1743 году родилась у Романа Ларионовича третья по счету дочь, названная в честь матери императрицы Екатериной, крестила ее вместе со своим племянником – наследником российского престола, будущим императором Петром III Федоровичем. При таких крестных родителях будущее маленькой графини Воронцовой казалось обеспеченным, но – так только казалось.
Умирает от очередных родов Марфа Ивановна. Отец же, Роман Ларионович, не испытывает желания заниматься семейными делами. Двух старших его девочек императрица назначает фрейлинами и забирает во дворец, мальчики оказываются у старшего графа Воронцова-деда. Катю решает воспитывать вместе со своей единственной дочерью Михайла Ларионович.
Он и на самом деле заботится о племяннице, как о собственной дочери Аннушке, – те же платья, учителя, прислуга. Но слишком разнились между собой маленькие графини. Для Аннушки вся жизнь в нарядах и дворцовых сплетнях, благо мать не выходит от императрицы. Для Екатерины Романовны единственный интерес представляли книги… Она проводит за чтением все дни, получает отменные похвалы от учителей, зато «неглижирует» – пренебрегает «куафером» – парикмахером, портнихами, обязательными уроками танцев. Тетке чуть не насильно приходится заставлять ее менять платья.
Об удивительной девочке начинают говорить. Она обращает на себя внимание одного из образованнейших людей тех лет, основателя Московского университета и Петербургской Академии трех знатнейших художеств Ивана Ивановича Шувалова и через него – М.В. Ломоносова. Шувалов сам заботится о выборе для маленькой графини книг для чтения, делится с ней новинками, которые получает из Парижа, европейскими журналами. И это вполне оценит Екатерина Романовна, когда заболеет тринадцати лет от роду оспой.
Страх перед «прилипчивой» болезнью был так велик при дворе, что тетушка Анна Карловна спешно отправляет племянницу в жару и бреду, зимой в загородное поместье. С ней едет прислуга, и никого из близких. Слуги получают строжайший наказ заботиться о больной, исполнять все ее прихоти, но и они избегают лишний раз входить в ее комнату, находиться рядом. «Со мной было мое одиночество», – напишет со временем княгиня. Эта встреча была горькой – она раскрыла глаза девочке на действительные чувства родных, – но и благотворной. Предоставленная самой себе, она смогла погрузиться в чтение и музыку: Екатерина Романовна отлично играла на клавесине и арфе. В тринадцать лет перечитывает французских философов-энциклопедистов, спорит в своих записках с Гельвецием и не замечает, как умело и ненавязчиво руководит ее развитием И.И. Шувалов. Он не забывает присылать в деревню все новые и новые книги. Екатерина Романовна не таит обиды на родных, но былая близость с теткой и кузиной уже не восстановится никогда. Они станут жаловаться на ее несносный характер, она – молчать. Впрочем, причиной охлаждения могла стать и разница в устремлениях двоюродных сестер: теперь Екатерине Романовне становятся скучны домашние разговоры. Она тяготится общей с сестрой спальней, зато все возможное время проводит в кабинете дяди, ставшего канцлером и принимавшего у себя всех иностранных дипломатов. Гости канцлера станут вспоминать, как настойчиво расспрашивала их девочка о государственном устройстве их стран, дипломатических тонкостях внешних сношений. Михаил Ларионович только сожалеет, что подобные способности проявляются не у мальчика, хотя и откровенно гордится племянницей. К тому же у Екатерины Романовны обнаруживаются блестящие лингвистические способности – она на лету схватывает иностранные языки, безо всяких учителей начинает пользоваться ими. Мисс Катрин Вильмот забыла в своей характеристике упомянуть, что Екатерине Романовне не представляли никаких трудностей и немецкий, и польский языки.
Но в то же время никто не заботится о том, чтобы вывозить, как положено, подрастающую невесту в свет. Все еще прекрасная собой, по признанию современников, тетушка занята собственными романами. Да теперь она и не находит нужным скрывать, что предпочитает племяннице мужа родную дочь. Катенька кажется ей «утенком», которого она, как наседка, высидела вместе со своим родным цыпленком. И вот наступает день, который решает судьбу девушки и безо всяких родных.
Екатерина Романовна возвращается вечером от одной из своих родственниц. Чудесная летняя погода вызывает у хозяйки и у гостьи желание пройтись по опустевшим петербургским улицам. Женщины выходят из кареты, которая тянется за ними, когда из-за угла появляется двухметрового роста красавец-гвардеец. Он здоровается со старшей родственницей, а та, в свою очередь, представляет его Катеньке: князь Михайла Иванович Дашков.
Нет, у него не было ни одного из тех качеств ума и образованности, которые до сих пор только и умела ценить Катенька. Пятнадцать девичьих лет не могут не сказать своего слова: юная графиня безоглядно влюбляется в гвардейца, которому тоже трудно устоять перед очарованием «крохотной волшебницы», как он станет ее называть. Это была любовь с первого взгляда, которой никто не мешал и которая стремилась только к скорейшему браку. Катенька безоговорочно одобряет все поступки жениха, даже срочный отъезд в Москву, чтобы испросить благословение на брак у своей матери, к которой он очень привязан. Она не знает ревности к его родным и заранее готова поступаться своим самолюбием, чтобы найти с ними общий язык, чтобы войти в мужнин дом желанной и любимой невесткой. Это позже Катенька узнает, что в прошлом мужа была сомнительная связь, которая бы, конечно, стала непреодолимым препятствием для их брака. Но – суровая к себе во всем, что касалось нравственности, она благодарит Бога за собственное неведение. Слава Богу, что их брак состоялся.
Молодые Дашковы постоянные посетители дворца. Не проходит дня, чтобы они там не побывали. И здесь Екатерина Романовна оказывается втянутой в мир и вихрь придворных интриг. Великий князь Петр Федорович плохо ладит со своей теткой-императрицей и откровенно ненавидит жену – будущую Екатерину II. Его сердце принадлежит старшей сестре Катеньки – «Романовне», как ее зовут шепотом при дворе, иначе – графине Елизавете Романовне Воронцовой. С ней великий князь устраивает веселые пирушки, ее забирает с собой на всяческие маневры и плац-парады, которые одни занимают его воображение. Между тем Екатерина Романовна делает прямо противоположный выбор – она предпочитает своему крестному отцу всеми отвергаемую великую княгиню. Екатерина Романовна увлекается учеными разговорами с будущей Екатериной II, делится с ней своими мыслями. Разница в десять лет позволяет ей буквально влюбиться в будущую императрицу как в свой идеал просвещенной, разумной и добродетельной монархини. Между тем великую княгиню не переносит и императрица Елизавета Петровна. В ее окружении возникают разговоры даже о высылке Екатерины Алексеевны из России. Елизавета Петровна склоняется к тому, чтобы передать престол своему внуку – будущему Павлу I, лишь бы отделаться от обоих его родителей.
Предпочтение, которое отдает Екатерина Романовна великой княгине, так очевидно, что не остается незамеченным и великим князем. В один из вечеров он откровенно предупреждает свою крестницу о двуличности жены и о том, что ей свойственно «отбрасывать апельсин, выжав его до последней капли». Намек достаточно прозрачен, но не способен остановить Дашкову.
И вот умирает императрица Елизавета Петровна. На престоле – Петр III. Его отношения с женой доходят до критической черты. Император откровенно всюду появляется с «Романовной», одергивает княгиню Дашкову за то, что она недостаточно почтительна с сестрой, не скрывает своего намерения разорвать брак с Екатериной Алексеевной и обвенчаться с «Романовной». Все придворные должны видеть в ней будущую императрицу.
В благожелательности императора Дашкова никогда не сомневалась – он относился к ней с неизменной симпатией, прощая и злой язык, и дерзкие выходки. Отношения с сестрой у нее также оставались хорошими. Все это сулило блестящую карьеру и ее любимому князю Михаилу, и превосходное положение ей самой. Тем не менее княгиня умоляет свое божество – великую, как она уже тогда ее называла, Екатерину – собрать все свое мужество и свергнуть мужа с престола. Дашкова уверена, что правление Екатерины принесет благоденствие стране и положит конец душившему Россию деспотизму. Ей кажется, что она одна сумеет в конце концов убедить Екатерину, и в своей романтической восторженности не замечает, какие интриги велись одновременно братьями Орловыми. Она и в самом деле одна поедет в карете с Екатериной Алексеевной в гвардейские полки, где новой императрице предстояло принимать присягу солдат на верность, но по возвращении во дворец потрясенно увидит Григория Орлова, лежащего в вольной позе на софе в покоях императрицы, и стол, накрытый для них троих. Екатерина II не собиралась скрывать ни своих отношений с Орловым, ни его важных, в представлении императрицы, заслуг.
Переворот совершился слишком легко. Дашкова впоследствии напишет: «И когда я думаю, какими несоразмерно малыми средствами сделался этот переворот, без обдуманного плана, людьми, вовсе не согласными между собою, имевшими разные цели, нисколько не похожими ни образованием, ни характером, то участие перста Божия мне становится ясно».
Казалось, что все, что происходит после вступления Екатерины II на престол, теперь разделяет двух женщин. Первое и самое сильное потрясение для княгини – известие о задушенном Орловыми низвергнутом императоре. Екатерина Романовна слишком хорошо знала своего крестного отца – он спокойно отрекся от власти – и читала его письма, в искренность которых безусловно верила: Петр III просил у жены для своего частного житья-бытья всего-навсего запас бургундского вина, табака, скрипку, Библию и разные романы. Зверское убийство служило самым дурным предзнаменованием для начинавшегося царствования.
Екатерина Романовна и в самом деле говорит при дворе слишком громко и откровенно: требует от императрицы верности тем принципам, о которых они столько говорили когда-то вдвоем. А чего стоили ее знаменитые слова о смерти Петра III, сказанные Екатерине II: «Да, ваше величество, смерть эта слишком скоро пришла для вашей и для моей славы».
Разочарование в императрице усугубляется личной трагедией. Княгине было дано прожить с горячо любимым князем Михайлой всего пять лет. Сначала она теряет своего первенца сына, затем мужа. Князь Дашков сгорел, находясь в армии в Польше, от простудной горячки. Екатерина Романовна не видит больше причин оставаться при дворе и просит императрицу об отпуске от двора. Со временем она скажет: «Я впрочем могла ехать без спросу, но мое звание статс-дамы клало на меня обязанность спросить высочайшее разрешение». Предлогом для поездки за границу послужила необходимость образования для дочери и сына. Екатерина благословила отъезд неудобной княгини с явным удовольствием.
Эта первая заграничная поездка становится началом европейского триумфа княгини. В Париже ее окружают все знаменитости, но она предпочитает им ежедневное общество Дидро. В Женеве Дашкова – гостья Вольтера. В Спа близко сходится с мистрис Гамильтон, которая становится на многие годы ее ближайшим другом. Во всяком случае, в по-прежнему восторженном воображении княгини.
Русские переживания оказываются для Дашковой настолько тяжелыми, что в свои двадцать семь лет она, по словам Дидро, выглядит на все сорок. Впрочем, внешний вид не волнует княгиню. Со смертью мужа для нее кончилась личная жизнь. Она пройдет весь остальной жизненный путь без любви, увлечений, даже простого флирта.
Возвращение в Россию не принесло никакой радости. Отслужившим свой срок Орловым пришли на смену новые фавориты, афишировавшие свое положение при дворе и влияние на государственные дела. Она находит родственное отношение только у одной «Романовны», вышедшей замуж и носившей скромную фамилию Полянская. Княгиня не хочет возвращаться в Зимний дворец и придумывает новый предлог для отъезда, на этот раз в Англию. Она хочет дать своему сыну образование в Эдинбургском университете.
И снова Екатерина II не имеет ничего против.
Но Дашкова действительно ищет возможности дать сыну самое блестящее образование и даже сама составляет план его занятий, который должны осуществить профессора за два с половиной года. Столько она отводит четырнадцатилетнему мальчику на занятия, чтобы потом провезти его с образовательными целями по всей Европе и доставить в Петербург на службу. Шотландия, Ирландия, Англия, Голландия, Париж, Италия, Вена, где состоялась встреча Дашковой с императором Иосифом II, спор с Кауницем о роли Петра I в русской истории, Берлин, где ее не отпускает император Фридрих II, – везде происходят знаменательные беседы, приносящие княгине славу самой образованной и умной женщины своего времени. С этой славой Екатерина II уже не может не считаться.
По приезде в Петербург Дашкова получает назначение президентом Академии наук. Ее первое побуждение – отказаться. Г.А. Потемкину-Таврическому приходится применить все свое красноречие, чтобы удержать Дашкову от этого шага. Главный довод «светлейшего» – отчаянное положение Академии, которую раскрадывает ее руководство, и – возможность влияния на императрицу. Если второе представляется Екатерине Романовне крайне сомнительным – и она оказывается права, – то первое побуждает приняться за дело. Княгиня деятельно и умело начинает искоренять финансовые злоупотребления. Она увеличивает число воспитанников Академии наук, существенно улучшает деятельность академической типографии, выпускавшей так необходимую для России научную и учебную литературу. Наконец, Дашкова высказывает мысль о необходимости основания Российской Академии, занятой вопросами языка. Екатерина II поддерживает княгиню, назначает ее президентом и этой Академии. Во вступительной речи Дашкова заявляет: «Вам известны, господа, богатство и обилие нашего языка… но нам недостает точных правил, пределы и значения слов не определены, в наш язык вошло много иностранных оборотов». Отсюда следует предложение начать работать над русской грамматикой и русским академическим словарем. В этом последнем Дашкова и сама принимает самое деятельное участие, собирает слова, классифицирует их, находит необходимые объяснения.
Одновременно Дашкова занимается изданием географических карт разных губерний. В ее периодическом литературном обозрении – журнале – участвуют сама Екатерина II, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин. Но это не означало восстановления былых доверительных отношений с императрицей. Дашкова по-прежнему не собирается мириться с толпой неграмотных и самовлюбленных фаворитов: Екатерина II, далеко отойдя от идеалов своей молодости, одинаково пугается сочинения А.Н. Радищева и последней трагедии скончавшегося Я.Б. Княжнина, которую княгиня разрешает напечатать в академической типографии. К тому же, и это едва ли не самое главное для Екатерины Романовны, наступает полоса семейных неурядиц. Проматывает вместе с мужем свое приданое, не вылезает из долгов и постоянно болеет дочь. Сын, на образование которого потрачено столько душевных сил, едва освободившись от опеки матери, женится без ее ведома и согласия на полуграмотной неумной девушке, дочери тюремного смотрителя. Мир Дашковой рушится, и она не находит в себе сил сопротивляться этому крушению. Она решает отказаться от всех должностей, уехать в деревню, заняться сельским хозяйством. Прощание с императрицей окончательно лишило княгиню сил: Екатерина найдет для нее всего несколько сухих, раздраженных слов.
Но и в деревне покой не наступает. Императрица вскоре умирает, а вступивший на престол Павел I ссылает Дашкову в дальний уезд Новгородской губернии, где ей предстоит жить в крестьянской избе в ожидании дальнейших высочайших распоряжений. Удачное вмешательство супруги Павла императрицы Марии Федоровны позволяет Дашковой поселиться в любимом ее имении Троицком, а вступление на престол Александра I и вовсе возвращает княгиню в Москву на время коронационных торжеств. Ее окружает поклонение. Она – живая легенда, но и только. Между тем семейный разлад продолжает угнетать княгиню. Дашкова отдает себе отчет в том, как бесконечно далеки от нее дети, и находит утешение в племянницах мистрис Гамильтон, которых приглашает к себе в Россию, вывозит в свет, представляет при дворе, живет с ними в Троицком. Это одна из них, Мэри Вильмот, убедит княгиню начать писать свои знаменитые «Записки».
Заканчивая «Записки», Екатерина Романовна отзовется: «С честным сердцем и чистыми намерениями, мне пришлось вынести много бедствий; я сломилась бы под ними, если бы моя совесть не была чиста… Теперь я гляжу без страха и беспокойства на приближающееся разрушение мое». Это были слова эпитафии, составленной княгиней Дашковой за пять лет до кончины. Ее не стало в 1810 году.
Гнездо поэзии высокой
«Это истинный ваш род; наконец вы нашли это» – слова нового знакомца звучали приговором и надеждой. Слова известного поэта и баснописца о первом опыте не слишком удачливого собрата по перу: Ивана Ивановича Дмитриева о двух первых баснях Крылова. Наконец… Пережито и в самом деле было немало.
Попытки заниматься издательским делом – «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Сатирические выпады этих журналов не оставили безразличным читателя. Но самое решительное вмешательство императрицы – достаточно с нее историй с Н.И. Новиковым и А.Н. Радищевым! И обыск в типографии «г. Крылова с товарищи», полицейский надзор, установленный над издателем, и единственный способ избежать нарастающего гнева Екатерины II – отъезд из Петербурга.
Попытки печатать стихи – отобранные самим Н.М. Карамзиным и все же не имевшие никакого успеха. Писать комедии – встречавшие похвалы, но не постановщиков и не издателей, хотя знакомств в театральном мире у соискателя достаточно. Переехав в Москву, свой первый приют Крылов находит в крохотном домике на задворках Петровского театра, у прославленной актерской четы Силы и Лизаньки Сандуновых. Кому из исполнителей не запомнился успех крыловской «Кофейницы»!
Попытки обрести род службы, которая бы не лишала возможности литературных занятий, – и встреча с Сергеем Федоровичем Голицыным. На первый взгляд положение то ли домашнего секретаря, то ли домашнего учителя многочисленных сыновей в просвещенном голицынском семействе не сулило особых огорчений. Князь был известен любовью к охоте, но и к театру, своими несомненными способностями актера-любителя. Княгиня Варвара Васильевна, «Златовласая Пленира», как называл ее Г.Р. Державин, не оставалась равнодушной к литературе. Изданный ею в Тамбове перевод «Писем Финелии и Мильфорта» не говорил о тонкости вкуса, но не был лишен стилистических достоинств. В своем дворце на Никитском бульваре (№ 8), в то время как муж принимал Василия Львовича Пушкина и спорил о тонкостях сценических постановок с будущим директором московской казенной сцены Ф.Ф. Кокошкиным, княгиня радовалась визиту К.Ф. Рылеева, отдавая должное его первым прочитанным в голицынском салоне одам. Крылов как нельзя более приходился здесь ко двору.
Правда, время не замедлило внести свои поправки. Увлечение С.Ф. Голицына театром не шло дальше минутных капризов. Назначенный губернатором в Ригу, он предпочитает, не вникая в дела службы, переложить все возможные и невозможные обязанности на плечи правителя канцелярии – им назначается Крылов. «Пленира» за дверями своего гостеприимного литературного салона превращается в жесткую и расчетливую хозяйку. В саратовских краях устраивает свою знаменитую Зубриловку, в Москве прикупает дом за домом, оказавшись в итоге владелицей половины Никитского бульвара, Крылову надо было вырываться из показавшейся дружелюбной среды, пока внешне все выглядело благополучно.
Все началось снова. Неустроенность. Безденежье. Одиночество. Гостеприимство Татищевых в их подмосковной усадьбе носило все те же черты снисходительно-равнодушного меценатства. Зато знакомство с Бенкендорфами смогло изменить в жизни многое.
В доме жившего на покое суворовского сподвижника собиралась вся литературная Москва. С хозяйкой, Елизаветой Ивановной, были одинаково дружны и Н.М. Карамзин, и И.И. Дмитриев, и их крестный отец М.М. Херасков. Дом с мезонином у Страстного монастыря (Страстной бульвар, 6) приютил Крылова так же радушно, как и любимое семьей подмосковное Виноградово (ныне – город Долгопрудный).
В конце концов, это была всего лишь шутка – переведенные для маленькой дочери Бенкендорфов Сони басни француза Лафонтена «Дуб и Трость» и «Разборчивая невеста». Но И.И. Дмитриев оценил их литературные достоинства и помог опубликовать в № 1 «Московского зрителя» за 1806 год:
…Хоть я и гнусь, но не ломаюсь; Так бури мало мне вредят; Едва ль не более тебе они грозят! То правда, что доселе их свирепость Твою не одолела крепость, И от ударов их ты не склонял лица; Но подождем конца!.. Едва лишь это трость сказала, Вдруг мчится с северных сторон И с градом, и с дождем шумящий аквилон. Дуб держится – к земле тростиночка припала. Бушует ветр, удвоил силы он, Взревел и вырвал с корнем вон Того, кто небесам главой своей касался И в области теней пятою упирался.Крылов заторопился в Петербург. Дом с мезонином оставался самым дорогим воспоминанием, местом рождения бессмертного «дедушки Крылова». «Я не могу вспомнить тех минут, которые случалось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве, как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке», – напишет он со временем Е.И. Бенкендорф.
Дом с мезонином был несравним с голицынским дворцом. Окна выходили на тесный монастырский проезд. Рядом, на площади Тверских ворот, торговали дровами и углем, а по воскресным дням торг сеном кипел у самых дверей. Но зато дом уцелел в пожаре 1812 года, одним из первых услышал благовест Страстного монастыря, возвестивший о бегстве Наполеона, и даже на некоторое время стал пристанищем Английского клуба, который лишился первого своего великолепного дворца у Петровских ворот, бывшего дома Гагариных, сожженного и разграбленного французами (Страстной бульвар, 15). В нем когда-то Крылов решился на первое публичное чтение своих басен.
Но и на площади у Тверских ворот все дышало литературой, напоминало о привычных знакомствах и связях. Престарелый М.М. Херасков, в то время уже «патриарх русской поэзии», как называл его И.И. Дмитриев, давно обосновался на живописном берегу Яузы, за Сыромятниками, но всегда с радостью возвращался к Сретенскому монастырю – в свою молодость.
1750 год. Вступление, несмотря на сопротивление родных, на службу в Московский университет – Хераскову сызмальства предназначалась военная карьера. Первые университетские реформы. Впервые созданный студенческий театр. И кружок литераторов, который складывается в херасковском доме. Ипполит Богданович, постоянно в нем живший А.П. Сумароков, юный Д.И. Фонвизин, первый актер российский Федор Волков. Вместе с Федором Волковым Херасков ставил грандиозный маскарад «Торжествующая Минерва», отметивший коронационные торжества Екатерины II и стоивший Волкову жизни. Понятия литературного салона еще по-настоящему не существовало, и все же это был первый настоящий русский литературный салон, сложившийся в доме на углу Малой Дмитровки и нынешней Пушкинской площади (Малая Дмитровка, 1/10). Пятнадцать лет жизни М.М. Хераскова – пятнадцать лет истории салона, во многом предрешившего пути развития русской литературы.
Современники были единодушны: большая роль принадлежала в этом хозяйке дома, одной из первых русских поэтесс. В своем «Опыте исторического словаря» Н.И. Новиков писал о ней: «Хераскова Елизавета Васильевна – любительница наук, одаренная острым и проницательным разумом и великими способностями к стихотворству. Слог ее чист, текуч, приятен и заключает в себе особливые красоты». Не случайно посвящал ее творчеству свои строки А.П. Сумароков.
Гости Херасковых сходились в их доме раз в неделю для чтения своих произведений. Многие из них показывались потом в литературно-сатирическом журнале «Вечера», который издавался хозяевами. «Дом их, – вспоминает один из современников, – всегда был открыт для всякого, кто имел стремление к просвещению и литературе, и все молодые люди, преданные этим высоким интересам, составляли как бы семейство их».
С отъездом Херасковых в 1770 году в Петербург – императрица предпочла положить конец влиянию писателя на литературную жизнь Москвы, дав ему назначение в столицу, – история дома как будто завершилась. Между тем спустя сто с небольшим лет она снова коснется некогда превосходно отделанного, всегда переполненного гостями особняка. В восьмидесятых годах XIX века здесь располагается известная типография В.В. Давыдова и редакция журнала «Зритель», в котором сотрудничали трое братьев Чеховых – Антон, Александр и Николай. Будет занимать дом и Общество любителей художеств, устраивавшее так называемые «периодические выставки» для посетителей и «пятницы», где ставилась натура, для художников. Бывали на «пятницах» Н.Н. Ге, В.Д. Поленов, братья Владимир и Константин Маковские, часто заходил П.М. Третьяков.
Тверская, дом № 14.
В херасковском доме и сегодня проглядывают черты XVIII столетия. Их гораздо труднее угадать в доме с мезонином: надстройка 1930-х годов превратила всю южную сторону Пушкинской площади в единую по высоте фасадную стену, а недавно пробитый именно в этом особняке выход из метро и вовсе стер черты прошлого. Также на наших глазах исчезли все следы былого особняка Бекетовых, проект которого, со скругленным, выходящим на Тверскую углом, принадлежал самому В.И. Баженову (Тверская, 16). Херасков мог вспоминать в этих местах о первой поре своей московской жизни, для И.И. Дмитриева она неизменно оставалась действительно родным уголком.
У своего дяди по матери, П.А. Бекетова, поэт останавливался все свои молодые годы. Из многочисленных выраставших в бекетовской семье двоюродных братьев ему был особенно близок просветитель и книгоиздатель Платон, вместе с которым поэт учился в пансионе в Казани, П.П. Бекетову обязаны превосходным изданием своих сочинений М.М. Херасков, А.Н. Радищев, И.Ф. Богданович, В.А. Жуковский. Он первым серьезно занялся русской иконографией и немало сделал для «Общества истории и древностей российских», первым и многолетним председателем которого состоял.
Близким свойственникам И.И. Дмитриева принадлежал и соседний с бекетовским дом на Тверской, сильно изменивший с годами свой первоначальный облик (Тверская, 14). По сравнению с баженовской постройкой возведенный М.Ф. Казаковым дворец отличался редким великолепием. От Козицких, давших свое имя соседнему переулку, он перешел в составе приданого к князьям Белосельским-Белозерским. С 1824 до 1829 года в доме процветал салон знаменитой «царицы муз и красоты», княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белосельской-Белозерской. Здесь охотно бывали, читали свои произведения, слушали музыку и превосходное пение хозяйки А.С. Пушкин, Адам Мицкевич, А.А. Дельвиг, П.А. Вяземский, Д.В. Веневитинов, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, братья И.В. и П.В Киреевские, С.А. Соболевский. Первое появление в салоне А.С. Пушкина хозяйка приветствовала исполнением его элегии «Погасло дневное светило», бесконечно тронув своим вниманием поэта. Пушкин ответил З.А. Волконской строками, посланными ей вместе с поэмой «Цыгане»:
Рукою нежной держишь ты Волшебный скипетр вдохновений, И над задумчивым челом, Двойным увенчанным венком, И вьется, и пылает гений.И был в истории этого казаковского дворца вечер 26 декабря 1826 года, когда Москва прощалась с первой уезжавшей в Сибирь «русской женщиной» – М.Н. Волконской. И юная Мария Николаевна, «утаенная», по мнению многих современников, любовь Пушкина, слушала и не могла наслушаться музыки и стихов, которых ей должно было хватить на все бесконечно долгие и безнадежные годы жизни в Сибири. «Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь, – вспоминала она. – Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения, он хотел мне передать свое „Послание узникам“ для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой». Гнездо поэтов, наши московские литературные мостки…
Дворец «Златовласой Плениры»
Так называл Гаврила Романович Державин очаровательную племянницу всемогущего Потемкина-Таврического Вареньку Энгельгардт, так отзывался о ее московском доме в начале Никитского бульвара, близ Арбатской площади (№ 8). Все, кто сколько-нибудь знал юную красавицу, блиставшую при дворе Екатерины Великой, ни минуты не сомневался, что Варвара Васильевна никому не даст распорядиться своей судьбой. Даже дядюшке, не обходившему вниманием своих племянниц, не родственным, зато приносившим вполне ощутимые материальные результаты. Варенька была любимицей – современники откровенно говорили, что «сиятельнейший» терял от нее голову, – и неизбежное расставание с ней в виде замужества, на котором настаивала императрица для соблюдения необходимых приличий, давалось Григорию Александровичу куда как не легко.
Женихи племянниц могли рассчитывать на богатейшее приданое, почему отбою от них не было. Но для Варвары Васильевны Потемкин наметил в жертву именно князя Волконского из ближайшего окружения императрицы – они вместе ее сопровождали во время Таврической поездки во вновь присоединенный Крым. Блестящий придворный был окончательно разорен, даже не мог рассчитывать ни на какое наследство и потому просто не решился бы отказаться от такого подарка судьбы. Но «сиятельнейший» просчитался. Волконский вспылил, наговорил дядюшке неслыханных дерзостей и наотрез отказался от позорного, по его выражению, предложения.
Варвара Васильевна Энгельгардт (Голицына).
Это его характер Лев Толстой воссоздаст в образе сурового старика-князя Болконского.
Матримониальные планы расстроились. Потемкин уехал воевать в Молдавию, а Варенька кинулась в ноги императрице испросить благословение на брак с ее избранником – вовсе не представительным, может быть, даже в чем-то смешным князем Сергеем Федоровичем Голицыным. Невеста не собиралась оставаться в Петербурге. Князь Голицын тем более предпочитал Москву, где начал строительство великолепного дворца. В жизни он имел две слабости – любительский театр и псовую охоту.
Сергей Федорович Голицын.
Варенька Энгельгардт – Г.Д. Потемкину
«Дивитесъ, сударик, что вчера ввечеру невесела была. Что за диво! Сами изволите знать, каков несносен для меня холод – никогда б с лежанки не сходила. А на софах отовсюду сквозные ветры. Да и то сказать, кабы такую шубку, как ваша, что из черных лисиц, тогда и холод не страшен, и веселиться можно, а то одна докука.
Никак изволили, душка моя, погневаться, што весело с графом толковали. Так ведь и вам – все приметили – за столом ваша соседушка куда как по мыслям пришлась. Оно верно, надобно иногда и старость утешать. Дама в летах преклонных, сказывают, весьма на выдумки способна бывает, а вы, батюшко, до новинок, известно, великий охотник.
Соскучилась, сердечушко мое, до тебе непомерно. Другой день глаз не кажешь и вестей не шлешь. Что за дела такие, чтоб и парой словечек не порадовал. Напиши, утешь, душа моя, о здравии, да пришли с руки тот перстенек с алмазом – ништо, што велик, зато по тебе дорогая память.
Котеночка, что изволили прислать, держу в постели. Больно утешен да ласков. Всё скуки меньше. На бале не была – куафёр не потрафил, да и туалеты не показались. Нy и бог с ними! Жду вас нынче ввечеру и спать нипочем не пойду, пока к крыльцу не подъедете. Тот-то будет веселье!»
Характеристика С.Ф. Голицына современником:
«Небольшого роста, он был сложения плотного, чрезвычайно полнокровный; один глаз был косой, и он имел обыкновение его прищуривать, что придавало ему вид несколько насмешливый; улыбка выражала всегда добродушие. Кажется, кроме военной истории и стратегических книг, другого чтения не было; в хозяйственные дела не мешался. Играл в шахматы и всегда побеждал; осень и начало зимы было для него лучшее время: по целым он дням гонялся за зайцами. Склонности его были молодецкие. Смолоду был отчаянный игрок и часто проигрывался до последней копейки; выиграв несколько сот тысяч, он победил свою страсть и перестал играть; страсть к женщинам превратилась в постоянную любовь к одной. Благородство души неимоверное, оно не дозволяло зависти ее коснуться, несправедливость царя не изменила его чувства к России, и он сердечно радовался вестям из Италии и горевал о Цюрихе…
Впрочем, слабости века не были чужды и Сергею Федоровичу Голицыну. Не миновал он и своего рода моды просить у светлейшего лишних земель в Саратовском наместничестве, где находилось его богатейшее имение Зубриловка. Просил он Потемкина «яко благодетеля, всех оною землею награждающего, пошарить по планам и побольше и получше ему отвести, коли можно – с рыбными ловлями, ибо, по болезни своей, сделал обещание по постам не есть мяса, то, следственно, только должен буду есть, коли своей не будет рыбы, один хлеб».
Вчерашняя «мэтресса» Потемкина оказывается превосходной, рачительной, но подчас и прижимистой хозяйкой. Она быстро справляется с нешуточными долгами мужа, достраивает свой московский дворец и докупает к нему соседние участки по Никитскому бульвару (№№ 6 и 10). Наводит идеальный порядок в поместье – богатейшей пензенской Зубриловке. Успевает одновременно каждый год рожать, вести хозяйство и устраивать хороший литературный салон, в котором руководствуется не чужими мнениями и подсказками, а собственным вкусом и судом. Княгиня не прочь и сама уделять время литературным опытам, которые свидетельствуют об определенных ее способностях. Среди близких друзей Варвары Васильевны оказывается Державин со своей первой супругой Екатериной Яковлевной.
Оба приезжают в московский дворец Голицыных, а когда в дом Державиных приходит беда – Державин оказывается под судом и следствием, – он находит приют и защиту у «Златовласой Плениры». Как говорит она сама, в ее дворце никакой арест поэту угрожать не может.
Дело в том, что в апреле 1785 года появилась в печати державинская ода «Бог». Буквально сразу он получает назначение губернатором в Петрозаводск, но через полгода его переводят в Тамбов из-за неумения ладить с высоким начальством. Мало того – в 1788 году Державин предается суду Сената. Варвара Васильевна укрывает незадачливого администратора на Никитском бульваре и сама едет в Петербург к дядюшке просить о защите, прихватив с собой жену поэта. Сохранилось письмо Варвары Васильевны Державину из Зубриловки: «Много благодарна за приятное о мне ваше напоминовение: Екатерина Яковлевна, делав всегда прибытием своим совершенное мое удовольствие, слава богу, здорова, я зла как собака на своего князя, что не писал ко мне нынешнюю почту, и в письме своем его разругала… Пожалуйте, пишите к нам чаще, что с вами делаться будет; курьер мой от дядюшки еще не бывал, и не знаю, что с ним случилося; боже дай, чтобы вы поехали в Петербург, откуда бы вы возвратились к нам в Тамбов!
Мы свое время проводим изрядно: в день работаем, а вечер читаем книги попеременно; приятно мне очень читать было описание ваше о моем замке [дом на Никитском бульваре], тем более что вы его таковым находите, и признаюсь, что очень мне по нем грустно; ежели вы так им прельщаетесь, то постарайтесь, чтобы и у вас был такой же. Затем желаю вам от бога всей милости, от царицы всего удовольствия и от всех добрых людей того же хорошего мнения, каковое ныне все о вас имеют и с каковым я вечно к вам буду».
Хлопоты «Златовласой Плениры» увенчались успехом. Благодаря заступничеству Потемкина Державин был принят в штат императрицы к «принятию прошений». В 1793 году он назначен сенатором и в 1794-м, кроме того, президентом Коммерц-коллегии.
Среди подопечных и друзей княгини оказываются ближайшие друзья Державина – Николай Львов и Василий Капнист, женатые на родных сестрах Дьяковых. Когда скончается супруга Державина, во второй брак он вступит с третьей сестрой – Дарьей Алексеевной.
Друг мой единственный…
Нет! Конечно же нет! О таком женихе для своей Машеньки родители и слышать не хотели. Дворянин? Но из немыслимой тверской глухомани. Единственный сын у отца? Но от этого их родовые Черенчицы, что в 16 верстах от Торжка, не становились ни больше, ни богаче. Прекрасно образован? Но с каких это пор образование обеспечивало служебные успехи! Принят в домах самых блестящих вельмож? Так ведь и живет на гостеприимных хлебах у одного из них. Его покровитель, восходящая государственная звезда А.А. Безбородко, действительно докладывал Екатерине Великой все поступавшие на высочайшее имя частные письма. Но ведь с Николаем Александровичем Львовым его связывала всего лишь симпатия – не родство.
И разве не вправе родители красавиц-дочерей, составлявших кадриль наследника престола, Великого князя Павла Петровича, рассчитывать на куда более высокую и связанную со двором партию для каждой из них? Удалось же старшую, Катеньку, выдать за графа Якоба Стейнбока! А вокруг младшей, только что выпущенной из Смольного института Сашеньки, увивался богатейший малороссийский помещик Василий Капнист. При его землях и усадьбах можно себе позволить даже сочинять и печатать стихи. О Николае же Львове поговаривали, будто он и литературой подрабатывал на жизнь. И в который уже раз супруги Дьяковы начинали сетовать на театральные представления и литературные опыты, которыми увлекался высший свет. В доме их влиятельнейшего родственника, дипломата П.В. Бакунина, где дня не проходило без любительских спектаклей, концертов или шарад, Машенька Дьякова была предметом всеобщего поклонения.
Николай Александрович Львов.
Современники сравнивали Машеньку с итальянскими певицами – у нее был красивый, хорошо поставленный голос. И с французскими драматическими актрисами – у нее превосходный сценический темперамент. «Мария Алексеевна, – напишет в декабре 1777 года М.Н. Муравьев, отец братьев-декабристов, – много жару и страсти полагает в своей игре». И никто не остается равнодушным к ее стихотворным экспромтам. Безнадежно влюбленный И. Хемницер посвящает Машеньке первое издание своих басен и тут же получает ответ:
По языку и мыслям я узнала, Кто басни новые И сказки сочинял: Их истина располагала, Природа рассказала, Хемницер написал.Дьякова не посвящает себя поэзии, как жившие в те же годы Александра Каменская-Ржевская или знаменитая Елизавета Хераскова. Но у нее есть ясность мысли, простота слога и тот разговорный, без искусственных оборотов, язык, который введут в обиход русской литературы непосредственно перед Пушкиным поэты окружения Николая Львова.
В 1778 году замечательный портретист Левицкий напишет ее портрет, на обороте которого граф Сегюр оставит восторженные строки:
Как нежна ее улыбка, как прелестны ее уста, Ничто не сравнится с изяществом ее вида. Так все говорят, но что в ней любят больше всего — Это сердце, во сто крат Более прекрасное, чем синева ее глаз. (Перевод с французского)Со временем автор посвящения, состоявший французским послом в Петербурге, завоюет особое расположение Екатерины II и даже напишет для нее сборник пьес «Эрмитажный театр». Но при первой встрече с Дьяковой граф еще полон идей освободительной войны в Америке, в которой принимал участие, и вольные мысли делают его особенно желанным гостем в бакунинском доме.
На портрете Левицкого она кажется совсем юной: мечтательная красавица в пышных волнах искусной прически в духе королевы Марии Антуанетты, в свечении шелковых тканей, лент и кружев легкого платья – «полонеза». Художник сумел уловить, как нарочитость моды подчеркивает естественность манер девушки. Ее очарование не в правильности черт, но во внутренней мягкости и теплоте облика. Сегюр прав, продолжая свое посвящение:
В ней больше очарования, чем смогла передать кисть, И в сердце больше добродетели, чем красоты в лице.Все так. Но Машеньке уже 23 года, и она все еще под родительским кровом. Есть от чего приходить в отчаяние любящим родителям, не располагающим к тому же достаточным приданым для дочерей. А ведь отец Машеньки – Алексей Афанасьевич, занимает должность обер-прокурора и очень тщеславен в душе. И дело не столько в родословной Дьяковых, заслуженных служилых дворян, ведущих свою историю от полулегендарного Федора Дьякова, основавшего на рубеже XVI–XVII веков города Енисейск и Мангазею. И не в происхождении матери, Марии Алексеевны, – она из древнего рода князей Мышецких. Для родителей гораздо важнее свойство с Бакуниными, открывавшее дорогу в петербургский высший свет, в том числе к Льву Кирилловичу Нарышкину, где нередкой гостьей, «по свойству», бывала императрица.
Но первый соискатель Машенькиной руки – всего-навсего сын штаб-лекаря из Саксонии, без роду и состояния, служащий горного ведомства Иван Хемницер. (Со временем, правда, его имя войдет в историю русской литературы.) Слава Богу, Машеньке он безразличен! Зато со следующим, Николаем Львовым, ее связывает действительно настоящее чувство. И родители как можно скорее отказывают ему и в руке дочери, и в праве посещать их дом. На всякий случай.
Однако это не препятствие для влюбленных. Львов каждый день прогуливается под окнами дома Дьяковых. Ухитряется пересылать Машеньке записочки, книги для чтения и в одной из них пишет, обращаясь к ее родителям:
Нет, не дождаться вам конца, Чтоб мы друг друга не любили, Вы говорить нам запретили, Но знать вы это позабыли, Что наши говорят сердца.Стихи так и назывались: «Завистникам нашего счастья».
На помощь приходят друзья. Их план прост и решителен. На правах официального жениха Василий Капнист везет на бал свою невесту, Сашеньку Дьякову, и ее сестру Машеньку. По дороге карета неожиданно сворачивает в глубь Васильевского острова, где в бедной, едва освещенной церковке все приготовлено к обряду венчания. Священник скороговоркой совершает обряд, и молодые, теперь уже супруги, разъезжаются. Машенька Львова с сестрой и Капнистом отправляются на бал, где давно удивляются их опозданию братья Дьяковы, Львов – на свою квартиру во дворце князя Безбородко. Тайну они будут хранить долгих четыре года. Бесспорно, Машенька была вправе уехать к мужу. Львов не думал ни о каком приданом и ни о каких последствиях своего решительного шага. Зато молодая жена думала иначе. Со временем Львов признается в одном из писем: «Сколько труда и огорчений скрывать от людей под видом дружества и содержать в предосудительной тайне такую связь, которой обнародование разве бы только противу одной моды нас не извинило. Не достало бы, конечно, ни средств, ни терпения моего, если бы не был я подкрепляем такою женщиною, которая верует в РЕЗОН, как во единого Бога». «Резон» Машеньки – это простой здравый смысл. И думает она не о себе – о своем «Львовиньке», как будет всю жизнь называть мужа.
Его творческие возможности, служебные успехи, доброе имя для нее важнее всего…
Впервые Львов приезжает в Петербург записываться на военную службу в 1769 году. Он родился и безвыездно провел первые 18 лет своей жизни в родных Черенчицах. Ни о каком серьезном образовании не приходится и говорить. По словам первого его биографа, он «объявился в столице в тогдашней славе дворянского сына, то есть лепетал несколько слов по-французски, по-русски писать почти не умел и тем только не дополнил славы сей, что, к счастью, не был богат и, следовательно, разными прихотями избалован». Дальше все зависело от него самого, и Львов может сполна удовлетворить свою неистребимую жажду знаний.
В доме родственников – Соймоновых – определяются первые увлечения, которым Львов не изменит до конца жизни. Соймоновы были известны своими научными занятиями. Отец тогдашних владельцев петербургского дома, Федор Иванович – талантливый навигатор, картограф и гидрограф времен Петра I, – при императрице Анне Иоанновне поплатился жизнью за свои политические убеждения. Вот что рассказывает в семейных записках дочь Львовых Елизавета Николаевна:
«При императрице Анне Иоанновне Бирон был всемогущ, и все его боялись. Федор Иванович Соймонов был тогда уже александровский кавалер, ему приходят сказать в одно утро:
– Не езди в Сенат, потому что там будут читать дело Бирона и ты пойдешь против.
– Поеду, – отвечал Федор Иванович, – и буду говорить против: дело беззаконное.
– Тебя сошлют в Сибирь.
– И там люди живут, – отвечал Соймонов.
Поехал в Сенат, говорил против Бирона и от этого четыре раза был ударен кнутом на площади, лишен всего и сослан в Сибирь».
Судьбой Львова занялись сыновья Федора Ивановича. Старший занимался горным делом, младший – строительным и архитектурой. В историю русской техники войдут открытия и усовершенствования Львова по горнорудному делу и работы по технологии строительства. Но это – в будущем. Сначала же Львова ждут гвардейский Измайловский полк и полковая школа – очень необычное для наших представлений учебное заведение, где начинали с азов грамоты и через несколько лет выпускали блестяще образованных разносторонних специалистов.
Учили всему. Российской грамматике, математике, рисованию, фортификационному и артиллерийскому делу, танцам, географии, верховой езде и иностранным языкам… Львов к тому же увлекается литературой, организует с товарищами кружок, где читаются и обсуждаются произведения русских и иностранных авторов, выпускается рукописный журнал «Труды четырех разумных общников». О множестве своих занятий он напишет в автоэпиграмме:
Итак, сегодня день немало я трудился: На острове я был, в полку теперь явился. И в школе пошалил, ландшафтик сделал я; Харламова побил; праздна ль рука моя? Я Сумарокова сегодня ж посетил, Что каменным избам фасад мне начертил. И Навакщенову велел портрет отдать, У Ермолаева что брал я срисовать…В 1776 году предоставляется возможность увидеть всю Европу. Львова берет с собой в служебную поездку ставший директором Горного департамента и Горного училища М.Ф. Соймонов. Дрезден, Лейпциг, Амстердам, Антверпен, Брюссель, Париж… Говоря впоследствии об особенностях Львова-архитектора, М.Н. Муравьев заметит: «Много способствовали к образованию вкуса его и распространению знаний путешествия, совершенные им в лучшие годы жизни, когда чувствительность его могла быть управляема свойственным ему духом наблюдения. В Дрезденской галерее, в колоннаде Лувра, в затворах Эскуриала и, наконец, в Риме, отечестве искусств и древностей, почерпал он сии величественные формы, сие понятие простоты, сию неподражаемую соразмерность, которые дышат в превосходных трудах Паладиев и Мишель Анжев (Микеланджело)».
Западный фасад собора Св. Иакова в Могилеве (проектный чертеж Н.А. Львова. 1780 год).
В августе 1777 года Львов возвращается в Петербург. А.А. Безбородко предлагает ему принять участие в конкурсе на проект собора в Могилеве, который предполагалось построить в ознаменование встречи здесь Екатерины II с австрийским императором Иосифом II, скрепившей их союз против Турции. Предложение это последовало сразу после тайного венчания; не забота ли о будущем вдохновляет Львова и дает ему силы выиграть конкурс у опытных профессиональных архитекторов! Императрица одобрила строгий и скромный собор, который стал первым словом нового направления в русской архитектуре – классицизма. Почти одновременно Львову поручается оформление Невских ворот Петропавловской крепости.
Сегодня трудно себе представить ответственность такого задания. Необходимо вспомнить, чем были эти крепостные ворота для России. В XVIII же веке с ними связывались самые торжественные церемонии. Из них выносили и спускали на воду хранящийся в крепости ботик Петра I. Впервые «дедушку русского флота» вынесли из Невских ворот 30 августа 1724 года по случаю заключения мира со Швецией. В дальнейшем это стало традицией. Под гром пушечных залпов и медь военного оркестра ботик помещали на большое судно и отвозили к Александро-Невской лавре, где служился торжественный молебен. С такими же почестями ботик возвращали и обратно.
«Резон» Машеньки полностью оправдался. Свободный от забот о семье и заработке, «Львовинька» самозабвенно работал дни и ночи, приобретая имя и одновременно готовя их с Машенькой гнездо. Очередной ступенью стало строительство Львовым в самом центре Петербурга здания центрального российского почтамта. Заказ исходил от А.А. Безбородко, назначенного в марте 1782 года генерал-почтдиректором. Ну а Львов проявил чудеса работоспособности. К лету того же года проект был завершен.
Невские ворота Петропавловской крепости. Проектный чертеж.
Во вновь отстроенном архитектурном ансамбле Львов получает первую в своей жизни (и какую же великолепную!) казенную квартиру, где начинает собираться многолюдный кружок его друзей. Здесь и Василий Капнист, и композиторы Е.И. Фомин, и Н.П. Яхонтов; и Г.Р. Державин, и Д.Г. Левицкий. А когда хлопотами Львова в столицу на Неве приезжает В.Л. Боровиковский, участвовавший в росписи Могилевского собора, он и вовсе поселяется у архитектора. Львов, по словам биографа, «…содеялся, так сказать, пристанищем художникам разного рода, занимаясь с ними беспрестанно. Мастер клавикордный просит его мнения на новую механику своего инструмента. Балетмейстер говорит с ним о живописном расположении групп своих. Там г-н Львов устраивает картинную галерею. Тут, на чугунном заводе, занимается он огненной машиной. Во многих местах возвышаются здания по его проектам. Академия ставит его в почетные свои члены. Вольное Экономическое общество приглашает его к себе… Будучи свойств отличных, малейшее отличие в какой-либо способности привязывало г-на Львова к человеку и заставляло любить его, служить ему и давать ему все способы к усовершенствованию его искусства».
Только теперь Машенькин «резон» позволяет ей согласиться на объявление их брака. Но необычным путем. В 1784 году Львов официально повторяет предложение родителям жены и на этот раз оказывается принятым с распростертыми объятиями.
Здание Правления петербургского почтамта.
Все просто. За прошедшие четыре года кадриль Великого князя Павла Петровича распалась. Сестра Сашенька навсегда перебралась в украинское поместье Капнистов. Сестра Катенька попала в тяжелое материальное положение. Граф Стейнбок взялся поставить на строительство Исаакиевского собора понравившийся производителю работ инженеру Бетанкуру пудожский камень, вложил в поставки свое состояние, но камень не понравился автору проекта собора Монферрану. Немалые трудности переживают сами Дьяковы, а главное – Машеньке 28 лет, и родители теряют надежду на устройство ее будущего. Дьяковы дают согласие на брак с заваленным множеством выгодных заказов Львовым. И даже на непонятное желание молодых венчаться в Риге у Стейнбоков.
Впрочем, в день свадьбы все разъясняется. В узком семейном кругу, вдалеке от любопытных ушей и глаз, молодые заявляют о своем давно состоявшемся браке. Мария Алексеевна наконец-то входит полновластной хозяйкой в их с «Львовинькой» почтамтский дом, ничего не меняя в заведенных мужем порядках хлебосольства и гостеприимства.
Семейная жизнь требует талантливости от супруга и тем более от супруги. От женщин и почти всегда только от женщин зависит – состоится эта жизнь или нет. Самоутверждение и самоуничижение, способность уступать и разумное умение настаивать на своем, разрядка эмоций и самодисциплина – сколько граней повседневной жизни требуют принятия решений, мгновенных и зачастую роковых! Роковых и для судьбы семьи, и для собственного чувства, и для того ощущения внутреннего равновесия, покоя, без которого в доме не живет счастье.
Мария Алексеевна талантлива во всем. Рядом с ней «Львовинька» обретает еще большую работоспособность. Он в постоянных разъездах – приходится вести авторский надзор за десятками строящихся по его проектам усадебных домов и церквей. А Мария Алексеевна занимается хозяйством, воспитывает детей. В год свадьбы приходит на свет первенец, Леонид, спустя четыре года – ставшая потом историографом семьи – Елизавета, в 1790-м – Александр, будущий камергер, в 1792-м – Вера, родная бабушка замечательного нашего живописца В.Д. Поленова, в 1793-м – Прасковья.
Много времени уходит на устройство собственного поместья под Торжком – Никольского и Черенчиц, где Львов строит для своей семьи настоящий дворцовый ансамбль с множеством архитектурных и пейзажных затей. Мария Алексеевна придумывает и выполняет совсем особенные обои – из расшитой шерстью соломы, которыми обтягиваются отдельные комнаты. И при всем при том былая Машенька остается все той же интересной собеседницей, изящной красавицей.
Невестам и подругам пишут множество стихов. Женам стихи достаются редко. Свою, посвященную Машеньке, «Песню» Львов напишет после рождения последнего ребенка.
Уж любовью оживился, Обновлен весною мир, И ко Флоре возвратился Ветреный ее Зефир. Он не любит и не в скуке; Справедлив ли жребий сей. Справедлив ли рок такой. Я влюблен и я в разлуке С милою женой моей, С милою моей женой. Красотою привлекают Ветреность одну цветы, На оных изображают Страшной связи красоты. Их любовь живет весною, С ветром улетит она. А для нас, мой друг, с тобою Будет целый век весна.Эти строки появляются еще до рождения Пушкина. Одновременно «Львовинька» просит Д.Г. Левицкого написать новый портрет любимой.
Историки искусств спорят, в каком именно году создан этот второй портрет. Стертая в подписи цифра заставляет гадать – был ли это 1781, 1785 или 1789 год. Перемены, произошедшие с Марией Алексеевной, склоняют нас к последнему. Теперь на холсте – светская дама, уверенная в себе, знающая свои обязанности, привыкшая их выполнять. Ни капризов, ни мимолетных настроений. Искусно уложенная прическа с большим шиньоном, крупные кольца локонов на шее, тот же «полонез», но с еще более глубоким вырезом. Мода изменилась, и на смену бесчисленным оттенкам светлых цветов пришли интенсивные краски, звучные сочетания. Густой лиловый шелк платья, ложащиеся глубокой тенью черные кружева помогают рассказу о произошедшей перемене. Отяжелели веки. В уголках рта за привычной полуулыбкой затаилась горчинка. В чем-то все-таки наступило разочарование, исчезла былая поэзия, может быть, несмотря на «резон», померкло романтическое восприятие мира. Все труднее становится совмещать множество обязанностей с литературными и музыкальными занятиями. Но в супружеской жизни неизбежно кто-то должен поступаться своими интересами ради другого. Для Марии Алексеевны вопроса не существовало – этим единственным оставался ее всегда увлеченный, всегда перегруженный «Львовинька».
Ему мало проектирования и строительства зданий – его начинает занимать совершенствование отопительных систем. Научный труд Николая Александровича «Русская пиростатика» заключает интересное решение воздушного отопления жилых и общественных зданий, храмов и русских бань, основным недостатком которых архитектор считал мерзлые полы. Сущность «воздушных печей» Львова заключалась в том, что благодаря вмонтированным в стены каналам помещения обогревались и проветривались одновременно.
Львову мы обязаны и началом разработки в России каменного угля. Его мечта – обеспечить Россию отечественным каменным углем, и в 1797 году «Львовинька» назначается «директором угольных приисков и разработок оных в империи». В своей книге «О пользе и употреблении русского каменного угля» Львов напишет: «Ни о славе, ни о труде я действительно не мыслил, посвятив себя с лишком десять лет… на обретение в России на выгодном месте минерального угля, нашел уголь, и много».
Забота о варварски истребляемом русском лесе подсказывает Львову интереснейшее строительное новшество – глинобитные дома, из «битой», иначе – прессованной и скрепляемой известковым раствором – земли. Он обучает новой технике собственных крепостных, которые возводят опытные строения в Павловске под Петербургом и домик в деревне Аропокази, вблизи Гатчины, принадлежавшей близкому другу Павла I фрейлине Е.И. Нелидовой. Павел I поддерживает идею открытия соответствующего училища для строителей. Одно из них, под руководством самого Н.А. Львова, открывается в Черенчицах, другое – в Тюфелевой роще в Москве. Император дает архитектору заказ на возведение в Павловске замка в новой технике – сохранившегося до наших дней Приората.
Львов придумывает и новый вид кровельных материалов – род рубероида, мягкой кровли, более легкой и более стойкой, чем все традиционные покрытия. «Свинец дорог, – пишет Львов, – железо на земле ржавеет, дерево гниет и горит, черепицею бьет еще больше людей, нежели самим ядром; кровле сей крепостной, следовательно, должно быть мягкой, негниющей и несгораемой».
Но, как гласит народная мудрость, нет такого доброго дела, за которое не пришлось бы поплатиться. Судьба Львова – не исключение. Со смертью в 1797 году А.А. Безбородко против него тут же возбуждается дело по поводу расходов на землебитные постройки. В результате нервных перегрузок Львов оказывается на 9 месяцев прикованным к постели. Но достаточно вступить на престол Александру I, как едва оправившегося архитектора направляют на Кавказ «для устроения и описания разных необходимостей при тамошних теплых водах». Не подчиниться невозможно. Между тем надорванное здоровье сразу же дает о себе знать. На обратном пути с Кавказа Львов успевает доехать только до Москвы. В Черенчицы Марии Алексеевне доставляют уже его тело. Смерть настигла архитектора 21 декабря 1803 года. Львову исполнилось 52 года.
О чем думает осиротевшая Мария Алексеевна? То, что она испытывает, трудно назвать горем. Это отчаяние. Машенька выдержит только четыре года и доживет до тех же, что и ее «Львовинька», 52 лет. Достигшая шестнадцатилетия младшая дочь, кажется, развязала матери руки. В храме села Никольское-Черенчицы, рядом с надгробием Николая Александровича, появилась новая плита: «При вратах храма сего почиет прах освятившей оный Марьи Львовой, родившейся в 1755 году, скончавшейся 1807 г., 14 июня, на 52-м году от рождения». Храм был построен по проекту Львова.
Г.Р. Державин, женившийся к тому времени на младшей сестре Дьяковой – Дарье Алексеевне, отозвался на смерть старого друга стихотворением «Поминки».
Победительница смертных, Не имея сил терпеть Красоты побед несметных, Поразила Майну – смерть…Майна – так звали Машеньку друзья. И от себя поэт добавил, что супругам было подарено высшее человеческое счастье – единственной в жизни взаимной любви. Многим ли удается его испытать!
Герой Вальтера Скотта
О нем ходили легенды. Множество легенд. О его отваге. Неколебимом мужестве. Лихой бойцовской удали. Способности пренебрегать опасностью для себя и беречь каждого солдата. «Я бы стыдился, – скажет он П.И. Багратиону, – предложить опасное предприятие и уступить исполнение другому». Офицер по призванию, семейной традиции, влюбленности в ратное дело, он ненавидит смерть и не терпит жестокости даже по отношению к врагу.
Денис Васильевич Давыдов.
Для Вальтера Скотта он тот легендарный Черный Капитан, о подвигах которого говорит вся Европа. В его существование трудно было бы поверить, если бы не вполне реальный портрет, который украсит кабинет писателя и останется со Скоттом до конца его дней. И еще – переписка. В ответ на письма романиста станут приходить написанные великолепным французским языком очерки Отечественной войны, позже подарок – старинное кавказское оружие. «Человек знаменитый, чьи подвиги в минуты величайшей опасности для его отечества вполне достойны удивления», – отзовется Вальтер Скотт и почтет за честь послать своему необычному адресату собственный портрет с дарственной надписью. Писатель в восторге от бесстрашного и благородного героя, Россия восхищается поэтом и воином. Литературная слава пришла к Черному Капитану много раньше воинской. А вообще жизнь Дениса Васильевича Давыдова была ярче и невероятнее любых легенд.
Детство… Село Бородино и «страна Пречистенка». На углу Всеволжского переулка и Пречистенки – городская родительская усадьба, где он родился, куда постоянно возвращался мыслями (домовладение – Пречистенка, 13). Бородино – родовая отцовская деревня, где проходят все ранние годы. Вспоминая начало Бородинского сражения, Давыдов напишет: «Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностью читывал известии о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции, – там закладывали редут Раевского… Слезы воспоминания брызнули из глаз моих…»
Только тихой помещичьей жизни здесь никогда не было. Отец не расставался со своим полком. Сын рос, по собственным словам, «под солдатской палаткой».
Конец очередных маневров Полтавского легкоконного полка. В лагерь влетает на саврасом коне калмыцком Суворов. Без мундира и знаков отличия. В солдатской каске и распахнутой на груди белой рубашке. Он хочет сам поблагодарить солдат и офицеров, но не может не заметить девятилетнего мальчонку, рвущегося к его стремени. «Кто он таков?» – «Сын командира полка». И знаменитый разговор:
– Любишь ли ты солдат, друг мой?
– Я люблю Суворова; в нем все: и солдаты, и победа, и слава.
– О, помилуй Бог, какой удалой! Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет!..
Сражение при Бородине 1812 года Августа 26 дня. Литография по рисунку А.И. Дмитриева-Мамонова.
Суворовское напутствие – разве не с него, собственно, и начиналась жизнь Дениса Давыдова? Но сам он считал иначе. Первые строки давыдовской автобиографии отмечают совпадение дней рождения «двух Денисов» – французского просветителя философа Дидро и русского гусара, которые, по ироническому замечанию автора, почему-то оставили свой след в литературе.
Отдельным исследователям хотелось бы приписать Д. Давыдову превосходное домашнее образование. Но действительность выглядела иначе. Как в жизни Суворова. Французский язык, танцы, самые поверхностные представления обо всем и ни о чем. Образованнейший человек своего времени, тонкий ценитель литературы, знаток истории и естественных наук, не чуждавшийся и философии, Д. Давыдов всем был обязан самому себе. Просто надо было находить свободные от военной службы и друзей часы. Он одинаково скрывал свои занятия, свое трудолюбие и даже ту серьезность, с которой относился и к военному делу, и к литературному труду.
«Между порошами и брызгами, живя в Москве без занятий, – напишет Д. Давыдов о себе, – он познакомился с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися тогда в университетском пансионе. Они доставили ему случай прочитать „Аониды“, полупериодическое собрание стихов, издаваемое тогда Н.М. Карамзиным. Имена знакомых своих, напечатанные под некоторыми стансами и песенками, воспламенили его честолюбие: он стал писать…»
Выбор службы не вызывал сомнений: конечно, армия! Семнадцати лет Д. Давыдов едет в Петербург для поступления в полк. Но на пути его желания стать кавалергардом два препятствия: небольшой рост и недостаток материальных средств. Первое он преодолеет упорством, второе будет ощущать постоянно. Юнкером ему придется месяцами сидеть на одном картофеле – на разносолы денег нет. Впрочем, существовало еще и третье, самое главное препятствие – вольнолюбивый дух, который подскажет Д. Давыдову его первые поэтические произведения.
Всего три – стихотворение «Сон» и две басни. Девятнадцатилетний поэт не искал литературных связей, не пытался печататься. Да в этом и не было нужды: современники на лету подхватывают его строки. Кто в гвардии, Петербурге, Москве не знал их наизусть? «Сон» – иронический пересчет влиятельных особ. «Голова и ноги» – бунт ног против бессмысленно командующей ими головы:
Коль ты имеешь право управлять, Так мы имеем право спотыкаться И можем иногда, споткнувшись, — как же быть? — Твое величество о камень расшибить.Угроза царствующим особам! Но в «Реке и зеркале» баснописец высказывается еще откровеннее.
Старик доказывает монарху, что винить надо не тех, кто его бранит, а лишь самого себя – за ошибки. Результат?
Монарха речь сия так сильно убедила, Что он велел ему и жизнь и волю дать… Постойте, виноват! – велел в Сибирь сослать, А то бы эта быль на басню походила.Расплата не заставила себя ждать. «За правду колкую, за истину святую, За сих врагов царей» едва начавший службу Д. Давыдов был переведен из гвардии и Петербурга в захолустный гусарский полк. За ним всегда останется клеймо неблагонадежного свободолюбца, которое будет одинаково мешать продвижению по службе и литературной деятельности. Отныне поэт-гусар под постоянным подозрительным наблюдением царского двора и высшего военного начальства.
Что ж, «враг царей» – он сам определил свое место в басне. И хотя на квартирах Белорусского гусарского полка ротмистр Д. Давыдов сочиняет уже не басни, а знаменитые гусарские послания, их смысл одинаково неприемлем для двора.
Биваки. Переходы. Пыл сражений. Веселье дружеских пирушек. Снова походы. А за ними тот дух «гусарской вольницы», который так досаждал Александру I. Это от суворовских орлов унаследовала она независимость суждений, чувство собственного достоинства, гордость солдата, умеющего рисковать собой, но не подчиняться бессмыслице прусской муштры. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», – скажет словами Чацкого друг Д. Давыдова А.С. Грибоедов. Д. Давыдов служит, и не императору – России.
Давыдовские стихи – новая страница русской поэзии. Еще никто до него не писал так открыто и откровенно о своих мыслях, чувствах, о том, что его окружает. Это род поэтического дневника, рассказа о самом себе, который рождал и новую, свободную форму стиха, и почти разговорный в своей непринужденности язык. Кто только из нового поколения стихотворцев не испытал на себе его влияния! «Он дал мне почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным», – писал о Д. Давыдове Пушкин, не скрывая, что «приноравливался к его слогу», бал уроки «в кручении стиха» и «усвоил его манеру навсегда».
Друзья помогут Д. Давыдову вернуться в Петербург. Но теперь он уже сам воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить столицу на поля сражений, и почувствует себя счастливым вполне, оказавшись рядом с боготворимым им П.И. Багратионом. Он не преувеличивал, сказав через двадцать лет: «Я, который оставляю в покое и кресты, и ленты, и чины, словом, ничего не желаю, кроме команды и неприятеля…»
Участник почти всех боевых кампаний начала XIX века, Д. Давыдов «врубил имя свое в 1812 год». Первым в русской армии он понял значение и возможности партизанского движения, первым выдвинул его идею – «имел честь предложить партизанскую войну… Кутузову еще 22-го августа при Колоцком монастыре, произвел первый набег мой в селе Токареве 1-го, а второй набег в селе Цареве-займище 2-го сентября, в день вступления неприятельской армии в Москву». Никто по-настоящему не мог себе представить, к чему приведут действия 130 отданных под командование Д. Давыдова казаков и гусаров. Существенные потери наполеоновской армии в людях, дезорганизованные тылы, пленные, отбитые обозы и оружие, но главное – начало всенародного движения, которое объединило в борьбе с захватчиками весь народ и всех крестьян. Поэт-партизан был прав: «Пусть грянет Русь военною грозой, – Я в этой песне запевало!»
Дальше шла Европа, действия в составе регулярной армии. Военная хроника того времени пестрела упоминаниями о давыдовских победах: «1 февраля 1813 года в деле под Калишем был взят в плен Саксонский генерал Ностиц с 2 батальонами, двумя пушками и 1 знаменем. Делом командовал полковник Давыдов». Продолжающиеся военные успехи поэта-партизана начинают беспокоить командование, тем более вокруг него собирается все та же «гусарская вольница». И наконец наступает неизбежный взрыв.
В марте 1813 года Давыдов со своими частями превосходным маневром занял Дрезден, но тем самым нарушил приказ командования. Ему было предписано всего лишь подготовить торжественное взятие города генералом Винценгероде. За испорченное торжество придворного любимца Д. Давыдов лишается командования. «50 человек рыдало, провожая меня, – напишет он в автобиографии. – Алябьев поехал со мною: служба при партии предоставляла ему случай и отличие к награждениям, езда со мною – одну душевную благодарность мою; он избрал последнее». Речь шла о близком друге поэта композиторе А.А. Алябьеве, чья воинская храбрость не уступала его собственной.
Между тем продолжалась и «жизнь сердца», также, по словам Д. Давыдова, питавшая его поэзию. 1816 год. Страстное увлечение Елизаветой Антоновной Золотницкой. Немедленное сватовство, на первых порах успешное. На первых порах – потому что в одну из отлучек счастливого жениха, торопившегося устроить свои служебные дела, невеста отдает свое чувство князю П.А. Голицыну. И блистательные строки поэта:
Неужто думаете вы, Что я слезами обливаюсь, Как бешеный кричу «увы» И от измены изменяюсь?1819 год. Очередная московская новость, которую спешит сообщить в Варшаву П.А. Вяземскому Василий Львович Пушкин: «Денис Давыдов женится на Чирковой. Она мила – и у нее 1000 душ. Я радуюсь за нее и за него». Скрытый намек понятен: невесте уже 24 года, жених, как всегда, нуждается в средствах. 16 марта того же года: «Денис Давыдов точно женится на Чирковой, и я недавно был у невесты, которая мне показалась очень любезною». 29 апреля: «Денис Давыдов разъезжает со своею молодою женою в четвероместной карете и кажется важен и счастлив».
Как долго продолжалось увлечение семейным счастьем? Очень скоро Д. Давыдов возвращается к своим гусарским друзьям и привычкам. Но вместе с А.А. Алябьевым ему приходится, вопреки собственному желанию, оставить армию. В ноябре 1823 года одним приказом увольняются в отставку «за болезнию» никогда не хворавший генерал Денис Давыдов и «за ранами» не знавший ни одного серьезного ранения подполковник Александр Алябьев. Для обоих отставка была одинаково неожиданной и болезненной.
Давыдов во власти противоречивых чувств. Он не мыслит себя вне армии, но в условиях аракчеевского режима не может не сказать: «Благодарю Провидение за избавление меня от наплечных кандалов генеральства». Наконец-то у него появляется возможность специально заняться литературой, записками о партизанском движении, начать собирать материалы для фундаментального труда о Суворове. И дело здесь не в увлечении историей, а в утверждении принципов, на которых строится русское военное дело, в борьбе за бережное и уважительное отношение к солдату: «Я теперь пустился в записки свои военные, пишу, пишу и пишу. Не дозволяют драться, я принялся описывать, как дрались».
А.А. Алябьев.
Из дома, который они снимали в Трубниковском переулке (№ 26), Давыдовы перебираются в собственное городское поместье в Знаменском переулке (№ 17). Д. Давыдов признается, что сам не замечает, как все большие права заявляет на него литература. Он член литературного общества «Арзамас». Дружеские отношения связывают его с А.С. Грибоедовым, А.С. Пушкиным, П.А. Вяземским, Е.А. Баратынским, Н.М. Языковым, В.А. Жуковским, Н.В. Гоголем. Д. Давыдов много печатается в журналах, но до сих пор не удалось составить полный список напечатанного им – так мало придавал сам автор значения своим произведениям. Мог публиковаться без подписи. Радовался похвалам и не испытывал обиды, если оставался незамеченным. У него редкая способность увлекаться чужими произведениями и быть постоянно неудовлетворенным своими.
Впрочем, поэтические строки Д. Давыдова по-прежнему как всплеск бурно охватывающего поэта чувства, как неожиданно для него самого вырвавшиеся слова душевной исповеди. Годы не старят поэта:
Я каюсь! Я гусар, давно, всегда гусар, И с проседью усов – все раб младой привычки: Люблю разгульный шум умов, речей пожар… Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах, Где благосклонности передаются весом, Где откровенность в кандалах, Где тело и душа под прессом…Даже близкие друзья порой не догадываются, как сложно все складывается в его жизни. Вышедшая в 1832 году книжка стихов останется единственной изданной при жизни. Материальные обстоятельства вынуждают жить вдали от литературной Москвы и Петербурга, в симбирском селе Верхняя Маза. Тридцать девять стихотворений после двадцати девяти лет работы. Небрежно набранные. Напечатанные на плохой бумаге. Надо бы проследить самому, но Давыдова все нет в Москве, – за Знаменским переулком незаметно промелькнул дом на Смоленском бульваре. Стали привычными долгие месяцы в Верхней Мазе. Помощь друзей? Но у каждого из них свои заботы, а поэт-гусар не умеет ни просить, ни быть навязчивым.
Верхняя Маза, иначе «Новая деревня», с ее похожим на сарай деревянным домом, мезонином в три окна, круговой дощатой галереей и единственным, заменявшим и парк, и лес украшением – копаным прудом, вокруг которого Денис Васильевич сам посадит ветлы. К тому же не утихает семейный разлад. Д. Давыдов бунтует против жестокостей крепостного права – жена придерживается прямо противоположных взглядов. Верный себе, отставной генерал оказывает покровительство и помощь беглым крестьянам, с которыми сражался когда-то в партизанских частях, но это одинаково раздражает и жену, и местное начальство. Его глубоко волнует и возмущает распространившийся в 1830-х годах либерализм на словах. Строки последнего стихотворения, написанного в 1836 году, станут крылатыми в политической борьбе последующих лет:
А глядишь: наш Мирабо Старого Гаврилу За измятое жабо Хлещет в ус да в рыло. А глядишь: наш Лафайет, Брут или Фабриций Мужиков под пресс кладет Вместе с свекловицей.И вдруг среди этих мыслей, душевной подавленности – новый московский адрес, как обещание перерождения, почти новой жизни.
Дом значился под № 201 Пречистенской части, почти рядом с былым отцовским двором, и составлял собственность генерал-майора Гаврилы Бибикова, отца двух декабристов.
Пречистенка, дом № 17.
Двухэтажный, каменный, в глубине окруженного флигелями двора, он рисовался одной из тех городских усадеб, которыми была так богата допожарная Москва (Пречистенка, 17). Приносит дому немалую известность и крепостной музыкант Бибиковых – Данила Кашин, композитор и дирижер крепостной капеллы. Кашин первым введет в Москве практику авторских концертов. «Где после нашего 12-го года, где не гремел хор его „Защитники Петрова града“, – напишет один из современников Кашина. – Где не гремели и другие тогдашние его русские напевы?» Печать тех лет не называла его иначе как «любимцем граждан московских». Его узнавали на улицах, с ним раскланивались, зазывали на частные вечера. В 1831 году в доме на Пречистенке побывает на балу Пушкин. Еще через четыре года дом перейдет к Денису Давыдову. Он будет приобретен на имя его жены «генерал-лейтенантши» Софьи Николаевны. «Что это за дом наш, мой друг, – пишет Д. Давыдов П.А. Вяземскому. – Всякий раз, как еду мимо него, любуюсь им: это Отель или дворец, а не дом».
«Пречистенский дворец» назовет его Д. Давыдов. Здесь будут написаны им знаменитая «Современная песня», стихотворения «Листок», «Я помню». Здесь побывают Е.А. Баратынский, П.А Вяземский, Н.М. Языков, историк М.П. Погодин, герой Кульма и Бородина двоюродный брат хозяина А.П. Ермолов. Д. Давыдов мечтает увидеть своим гостем Пушкина. Но этой встрече не суждено было состояться. Всего через несколько месяцев после новоселья Д. Давыдов посылает Пушкину в Петербург стихотворную челобитную, опубликованную в мартовском номере журнала «Современник» за 1836 год. В шутливой форме поэт просит своего старого знакомца сенатора А.А. Башилова, ведавшего Московской комиссией по строениям, помочь ему срочно продать «Пречистенский дворец» в казну:
О мой давний покровитель, Сохрани меня, отец, От соседства шумной тучи Полицейской саранчи, И торчащей каланчи, И пожарных труб и крючий. То есть, попросту сказать: Помоги в казну продать За сто тысяч дом богатый, Величавые палаты, Мой Пречистенский дворец. Тесен он для партизана: Сотоварищ урагана, Я люблю, казак-боец, Дом без окон, без крылец. Без дверей и стен кирпичных, Дом разгулов безграничных И налетов удалых, Где могу гостей моих Принимать картечью в ухо, Пулей в лоб иль пикой в брюхо, Друг, вот истинный мой дом!Но вряд ли дело было только в том, что дом не отвечал привычкам поэта-партизана. Денис Давыдов не доволен близостью пожарного депо и располагавшейся через улицу Пречистенской полицейской части. По всей вероятности, возникают и какие-то разногласия между супругами. Софья Николаевна с первых же дней принимается за перестройку дома; поэт остается к этим работам совершенно равнодушным. В последнем письме из «Пречистенского дворца» П.А. Вяземскому в мае 1837 года Денис Давыдов пишет: «Что мне про Москву тебе сказать? Она все та же, я не тот…»
Состояние меланхолии было усилено смертью Пушкина, глубоко пережитой Денисом Давыдовым. В письмах с Пречистенки рождается своеобразная эпитафия поэта: «Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина… Какая потеря для всей России!»
Дениса Давыдова не стало в 1839 году в той же Верхней Мазе. Половодье размыло дороги, до ближайшего врача было 25 верст. Впрочем, Софья Николаевна, жалея лошадей, за ним и не подумала вовремя послать. Только через шесть недель сошла вода, и тело поэта стало возможным перевезти в Москву на кладбище Новодевичьего монастыря.
А между тем легенды продолжали множиться. История литературы едва ли знает другой пример такого множества стихов, посвященных поэту его современниками – от самых знаменитых до безымянных. Денис Давыдов был «отцом и командиром» не одного Пушкина. Прав Е.А. Баратынский, назвавший его «певцом-наездником, именем которого справедливо гордятся поэты и воины». И еще один памятник поэту-партизану – висевший в избах по всей России лубочный портрет с надписью: «Храбрый партизан Денис Васильевич Давыдов». История же дома продолжалась. Уже в 1841 году «Пречистенский дворец» числится собственностью баронессы Е.Д. Розен. Новая владелица распорядилась им по-своему: левый флигель сдается под хлебную лавку, правый – под слесарное, седельное и портновское заведения. В 1861 году в том же правом флигеле располагается одна из первых в Москве фотографий – «художника императорской Академии фотографа И.Я. Красницкого». В течение 1870—1880-х годов, при очередной владелице, архитектор Г.-Т. Обер переделывает фасады обоих флигелей и придает им сохранившийся до наших дней вид.
Великие тени
Свершилось! Перед ней был Пушкин. Юная Додо никому не признавалась, как ждала этой минуты, как готовилась к ней. Она знала на память едва ли не все, что становилось известным из его стихов. И обстоятельств жизни. Поэт оставил Москву в год ее рождения, направляясь в Царскосельский лицей, и впервые вернулся на родину с фельдъегерем, отбыв ссылку на юге и в Михайловском, когда ей едва исполнилось пятнадцать. Кто бы стал представлять девочку знаменитому поэту, и все же их знакомство должно было состояться. Пушкин знался со всей ее родней и разве что случайно еще не успел побывать в их доме. 8 апреля 1827 года – она запишет для себя этот день и будет его помнить до конца жизни. Ничто не предвещало чуда. Все семейство Сушковых собиралось на модное гуляние под Новинским. Не побывать там на Рождество, Святки или Масленую настоящие москвичи не могли себе позволить. От Садово-Кудринской площади в сторону Смоленской-Сенной по правую сторону выстраивались ресторации и палатки со всяческими лакомствами. Воздвигался шатер с зеленой елкой наверху – знак, что в нем продавалась водка. По другую сторону раскидывались балаганы с циркачами, фокусниками, дрессированными животными, кукольными театрами, пантомимами. Простой народ развлекался «самокатами» – каруселями с колясками, качелями, простыми каруселями. Посередине проезда пробирался бесконечный ряд экипажей. И вот среди этого шума, веселья, беспорядочной толчеи, взрывов смеха Додо Сушкова увидела:
Вдруг все стеснилось, и с волненьем Одним стремительным движеньем Толпа рванулася вперед… И мне сказали: «Он идет»… Он – наш поэт, он – наша слава, Любимец общий! Величавый В своей особе небольшой, Но смелый, ловкий и живой, Прошел он быстро предо мной…Будущая известная поэтесса Евдокия Ростопчина и в детстве не могла не заниматься литературой. В семье дань этому виду искусства отдавали все. Бабушка Мария Васильевна Сушкова получила известность как переводчица на русский язык Мармонтеля и с русского на французский произведений М.М. Хераскова. Она сотрудничала в первых литературных журналах екатерининского времени, и Д.Л. Мордовцев причислил ее к замечательным женщинам второй половины XVIII века.
Евдокия Ростопчина.
Сын Марии Васильевны, родной дядя Додо, Н.В. Сушков, учился и дружил с А.С. Грибоедовым, познакомился еще с совсем маленьким Пушкиным, видался с ним в Лицее и даже передал ему поэму М.М. Хераскова «Бахариану», которой пользовался поэт, работая над «Русланом и Людмилой». Если его собственные литературные опыты и не отличались талантливостью, он благоговел перед Пушкиным и 1 февраля 1837 года оказался у его гроба. Современникам нравились сочинения и переводы другого дяди Додо – М.В. Сушкова, в том числе «Российский Вертер». Писали стихи и братья поэтессы. Другое дело, что родственная критика подчас бывала такой беспощадной, что девочка старалась ее избегать и прятать свои сочинения, но к пятнадцати годам она уже заслужила признание.
Когда на следующую зиму юную Евдокию Сушкову родные начинают вывозить в свет и на одном из декабрьских балов в доме Д.В. Голицына ей представят Пушкина, поэт забудет о бале. Разговор пойдет о стихах Додо, которые Пушкин знал не один год. Известия о событиях на Сенатской площади, о выступлении декабристов, вызовут к жизни строки поэтессы, созвучные пушкинским:
Соотчичи мои, заступники свободы, О вы, изгнанники за правду и закон, Нет, вас не оскорбят проклятием народы, Вы не услышите укор земных племен!.. Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести И цепи рабства снять с России молодой, Но вы страдаете для родины и чести, И мы признания вам платим долг святой.Она была очаровательна, романтична, но не только эти черты собирали вокруг Евдокии Петровны толпы поклонников. Не о юной светской красавице думал Николай Огарев, едва не каждый день приезжавший в сушковский дом на Чистых прудах. Общность взглядов, мыслей, литературных увлечений казалась дороже всего остального. И насмешливый Пушкин ни разу не позволит себе тени легкомыслия или иронии в отношении «прелестной поэтессы». Во-первых, и прежде всего, поэтесса.
Как разгадать, что занимает в эти недели воображение поэта? Он приезжает в Москву в первых числах декабря 1828 года всего лишь на месяц, на который и приходится знакомство с Сушковой. В это время Пушкин частый гость Зинаиды Волконской, сестер Ушаковых, одной из которых – Екатериной он начинает всерьез увлекаться. Марии Ивановны Римской-Корсаковой с ее созвездием красавиц-дочерей – многие из москвичей помнят еще недавно украшавший Пушкинскую площадь их дом, иначе называвшийся «Домом Фамусова».
Он ездит к цыганам в Тишинские переулки и – не может обрести душевного равновесия.
На это обращает внимание близкий приятель поэта П.А. Вяземский в одном из своих писем: «Он что-то во все время был не совсем по себе, не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, но он не был в ударе… (я) все не узнавал прежнего Пушкина». О том же записывает в своем дневнике и, казалось бы, только что узнавшая поэта Евдокия Петровна. Впрочем, секрета в подобной проницательности не было, но даже самой себе юная поэтесса не признавалась в том, насколько сильное впечатление произвел на нее Пушкин. Впечатление на всю жизнь. Только в строках, написанных после гибели поэта, она приоткроет завесу своей жизненной тайны:
Слова его в душу свою принимая, Ему благодарна всем сердцем была я… И много минуло годов с того дня, И много узнала, изведала я, — Но живо и ныне О НЕМ вспоминанье; Но речи поэта, его предвещанье Я в памяти сердца храню как завет И ими горжусь… хоть его уже нет!..Перед глазами Евдокии Петровны проходят увлечения поэта. Их немало, но ни разу она не сделает попытки обратить на себя внимание своего кумира. Она уверена: любовь, чувство зарождаются сами и, если они настоящие, не терпят насилия. В разгуле страстей чистое спокойное пламя ее привязанности не находит себе места, даже по признанию самой поэтессы, не ищет его.
В жизни поэта появляется Натали Гончарова. Любящим сердцем Евдокия Петровна угадывает, насколько нелегким будет это чувство.
Может быть, лучше других понимает характеры и особенности душевные участников будущей драмы. Никого не обвиняет, никого не разоблачает. Ее выдержке и такту могут позавидовать умудренные жизненным опытом люди. У Евдокии Петровны нет опыта – есть чувство. 31 марта 1831 года она видится с супругами Пушкиными – они вместе участвуют в санном масленичном катании и блинах, которые устраивает ее близкий родственник С.И. Пашков, женатый на княжне Надежде Сергеевне Долгоруковой, ровеснице поэтессы.
Это все молодые пары. Недавно поженившиеся. И очень счастливые. Свадьба Пашковых состоялась в 1830 году. Брат княжны, А.С. Долгоруков, участвующий в том же катании, обвенчался со своей женой, Ольгой Александровной Булгаковой, всего лишь два месяца назад, и Пушкину довелось быть на первом балу молодоженов. И это Ольга Александровна поразила Пушкина своим замечанием, когда он заявил о желании ехать в Персию: «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». Молодая княгиня Долгорукова не скрывала, что Пушкин был ее любимым поэтом.
Но именно потому, что Ростопчину окружает среда поклонников и друзей поэта, Евдокия Петровна не может не знать больно ранящих ее подробностей пушкинской жизни. Того, как много проиграл Пушкин в Москве записным игрокам и как не сумел расплатиться с чудовищным для него долгом в 12 с лишним тысяч. Того, что ему пришлось заложить свою деревеньку и полученные деньги почти полностью раздать за долги и за приданое своей невесты. Теща откровенно заявила соискателю руки прекрасной Натали, что никакими средствами не располагает, а без приличного приданого выдать дочь замуж не согласится. Даже в день венчания она готова была его отложить, требуя с Пушкина все новых и новых сумм, так что у поэта не хватило средств сшить к свадьбе фрак. В результате ему пришлось надеть фрак Нащокина, в котором, по утверждению друзей, его позже положили в гроб.
А потом еще была необходимость иметь дело с ростовщиками. Один заем у пользовавшегося дурной славой Никиты Андреевича Вейера, который жил у Никитских ворот, в бывшем доме А.В. Суворова, Пушкин взял непосредственно перед свадьбой. Второй – сразу после венчания под залог бриллиантов Натали. И множество дурных примет, сопровождавших самый обряд венчания в церкви Большого Вознесения, через проулок от усадьбы Н.А. Вейера. Друзья шепотом передавали друг другу, как упали случайно задетые поэтом крест и Евангелие с налоя, как при обмене колец одно из них скатилось на пол и в довершение всех бед у жениха погасла свеча. «Одни дурные предзнаменования», – прошептал побледневший поэт. Разговор об этом как-то происходил и в присутствии Евдокии Петровны, и Пушкин был искренне удивлен безмятежным выражением ее лица. «Хотя сердце у меня сжималось в эту минуту от боли», – признавалась Евдокия Петровна. Можно пренебречь одной приметой, но когда их так много!..
Евдокия Петровна не только не выдает своих чувств, но и с удивительным добросердечием относится к Натали. Не завидует, не ненавидит – стремится ободрить, помочь. «Ее чувства были не по нашим меркам», – признается брат графини, Сергей Сушков. Евдокия Петровна старается пренебречь даже такими неприятностями для поэта, как отрицательное отношение читателей и критиков к «Борису Годунову». Вышедший отдельным изданием, «Годунов» расходится плохо, не давая надежды ни на материальную поддержку, ни на поддержку самолюбия. Кажется, все дурное сходится воедино, вплоть до мелькающих повсюду в Москве фигур в глубоком трауре – слишком много жизней унесла холера, продержавшая поэта в болдинском затворничестве и карантине.
Но наступает время перемен и для самой поэтессы. Биографы склоняются к тому, что не Евдокия Петровна, но заботливые родственники находят для нее блестящую партию. Сын бывшего московского генерал-губернатора Ф.В. Ростопчина, деятельного участника событий 1812 года в Москве, граф Андрей давно свободен от отцовской опеки: генерал-губернатора не стало в 1826 году. Правда, ему всего 19 лет и он на три года моложе своей невесты. Зато граф богат, знатен, широко известен в Москве и – очень хорош собой. Но согласие невесты последовало скорее всего из-за литературных интересов жениха. Со временем А.Ф. Ростопчин станет известным библиографом, книжным знатоком и даже почетным членом Петербургской Публичной библиотеки. Он занимается литературой и относится к числу поклонников поэтического таланта будущей жены. 28 мая 1833 года в Москве появляется поэтесса Евдокия Ростопчина. Под этим именем Сушкова и войдет в историю нашей литературы. Закончилась пора ее жизни, о которой она писала в своем стихотворении «Три поры жизни»:
Была пора: во мне тревожное волненье, Как перед пламенем в вулкане гул глухой, Кипело день и ночь; я вся была в стремленье… Я вторила судьбе улыбкой и слезой. Удел таинственный мне что-то предвещало; Я волю замыслам, простор мечтам звала… Я все высокое душою принимала, Всему прекрасному платила дань любви, — Жила я сердцем в оны дни!Новую пору своей жизни Евдокия Ростопчина назовет порой тщеславия, «которым она жила». Светские успехи словно должны отвлечь ее от мыслей и чувств, у которых нет будущего. «Я вдохновенья луч тушила без пощады для света бальных свеч… я женщиной была», – скажет поэтесса о себе. Но в канун этой нелегкой для нее поры, весной 1832 года, Ростопчина напишет своего рода эпитафию Пушкину – стихотворение «Отринутому поэту». Речь в нем шла не о литературе – о личной жизни. Карточный долг Пушкина продолжал существовать и обрастать немыслимыми процентами – его сумеют погасить только опекуны Натальи Николаевны и пушкинских детей после смерти поэта. Мысли о заработке, постоянно растущей семье, о связях с двором не оставляли Пушкина ни на минуту. Сведения о петербургской жизни Пушкиных были неутешительными. Но самое удивительное – Ростопчина не принимает сторону одного Пушкина, она искренне симпатизирует Наталье Николаевне, считая ее обреченной на семейные неурядицы.
После трех лет семейной жизни Ростопчины переезжают в Петербург. Имя графини окружено громкой славой. Журналы охотно предоставляют свои страницы ее поэзии, критики не скупятся на восторженные похвалы. Ее особенно поддерживают В.А. Жуковский и – Пушкин. Наконец-то у них завязываются более тесные и постоянные отношения. Ростопчина не претендовала на обычный столичный салон. У нее превосходная кухня, и ростопчинские обеды собирают всех самых знаменитых литераторов. Впрочем, Пушкин замечает, что насколько Ростопчина превосходно пишет, настолько же неинтересно она говорит. Поэту не приходит на ум, что все дело в растерянности, которую испытывает перед ним графиня. Быть в его обществе просто светской женщиной она не умеет, а литературные беседы ее, так привлекавшие и Николая Огарева, и Жуковского, и впоследствии Лермонтова, были для Ростопчиной невозможными именно с Пушкиным. Недаром она напишет в одном из своих стихотворений:
Боюсь двусмысленных вопросов и речей! Боюсь участия, обмана… и друзей.Ее чувство к Пушкину слишком трепетно и благоговейно, чтобы позволить набросить на него хоть малейшую тень.
Кого только нельзя было встретить в петербургском доме Ростопчиных! Здесь и известные приезжие итальянские певцы, и великолепные музыканты братья Виельгорские, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Круг литературных друзей расширяется за счет Вяземского, А.И. Тургенева, Владимира Одоевского, П.А. Плетнева, С.А. Соболевского, Владимира Соллогуба. Для Ростопчиной наступает третья и самая счастливая, по ее собственному признанию, пора ее жизни:
Но третия пора теперь мне наступила, — Но демон суеты из сердца изженен, Но светлая мечта Поэзии сменила Тщеславья гордого опасно-сладкий сон. Воскресло, ожило святое вдохновенье!.. Дышу свободнее; дум царственный полет Витает в небесах, и Божий мир берет Себе в минутное, но полное владенье; Не сердцем – головой, не в грезах – наяву, Я мыслию теперь живу!Пушкин настолько дорожит домом Ростопчиных, что даже за день до дуэли приезжает обедать к графине. «Обычный гость», как отзываются о нем современники. Привычная сдержанность Евдокии Петровны не позволит тем же современникам увидеть всю глубину трагедии, которой стала для нее гибель поэта. Один Жуковский, сердцем проникший в тайну графини, делает ей необыкновенный подарок – последнюю черновую тетрадь Пушкина, в которую тот еще ничего не успел вписать. Тетрадь сопровождалась запиской, в которой Жуковский благословлял Ростопчину «докончить книгу».
И какими стихами, посвященными памяти великого поэта, откликнется на нее графиня:
Смотрю с волнением, с тоскою умиленной На книгу – сироту, на белые листы, Куда усопший наш рукою вдохновенной Сбирался вписывать и песни и мечты; Куда фантазии созревшей, в полной силе Созданья дивные он собирать хотел… …И мне, и мне сей дар! Мне, слабой, недостойной. Мой сердца духовник пришел ее вручить, Мне песнью робкою, неопытной, нестройной Стих чудный Пушкина велел он заменить!..Но в действительности тетрадь не была полностью чистой. В ней уже находились черновые наброски самого Жуковского, к которым Ростопчина начала добавлять ходившие в списках, «потаенные» стихи Пушкина. Здесь же оказались эпиграммы на Аракчеева, Булгарина и других и около полутораста стихотворений самой графини. Откуда было Ростопчиной знать, какой сложный путь придется проделать ее рукописному сборнику. Дочь поэтессы предпочла продать его собирателю рукописей и предметов пушкинского времени А.Ф. Онегину-Отто. Сборник оказался в парижском музее. И лишь счастливый случай помог ему, вместе со всем онегинским собранием, вернуться в конце 1920-х годов на берега Невы, в Пушкинский Дом.
«Она, без сомнения, первый поэт теперь на Руси», – отзовется о Ростопчиной в это время сменивший Пушкина в руководстве журналом «Современник» П.А. Плетнев. И почему-то так высоко оцененная поэтесса не хочет оставаться в Петербурге. Графиня уезжает в воронежское имение «Анна», чтобы написать две повести – «Чины и деньги» и «Поединок», объединенные в сборнике «Очерки большого света». Она готовит к изданию первый сборник своих стихов. Он достаточно необычен. Тема Ростопчиной – тема неразделенной женской любви, любви скрытой, робкой в своих проявлениях, но глубокой и поглощающей всю жизнь. Графиня и здесь не дает угадать, кому принадлежало ее сердце, хотя, может быть, теперь еще одна поэтическая тень ложится на ее жизнь.
Знакомство с Лермонтовым, который был всего на три года моложе Ростопчиной, относилось еще к годам ее «московского житья». Но с тех пор произошло слишком многое в жизни обоих. Лермонтов поплатился за свои строки на гибель Пушкина, успел побывать на Кавказе и снова стать причиной императорского гнева. В эти дни он начинает часто бывать у графини. Их связывает общность литературных увлечений и преклонение перед Пушкиным. Литературоведы до сих пор не могут с уверенностью сказать, познакомился ли Лермонтов при жизни со своим великим современником. Пушкин как будто читал лермонтовские строки и высоко их оценил, но даже в этом предположении трудно отделить желаемое от действительного. Вероятнее всего, Лермонтов простился с телом поэта. Воспоминания и рассказы Ростопчиной об их общем кумире особенно трогали его.
«Отпуск его подходил к концу, – вспоминала впоследствии Ростопчина. – Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку… Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце». Поэты обменялись посвященными друг другу посланиями. Стихотворение Ростопчиной называлось «На дорогу», лермонтовское начиналось строками:
Я верю, под одной звездою Мы с вами были рождены; Мы шли дорогою одною. Нас обманули те же сны… Предвидя вечную разлуку, Боюсь я сердцу волю дать, Боюсь предательскому звуку Мечту напрасную вверять…Стихотворение «Графине Ростопчиной» было датировано 27 марта 1841 года. 15 июня того же года Лермонтова не стало. Ростопчина отзовется на эту новую потерю строками:
Поэты русские свершают жребий свой, Не кончив песни лебединой…Ростопчиной всего тридцать лет. Но груз потерь и разочарований так велик, что, кажется, ей уже не удастся оправиться. Бесследно исчезает романтика юности, и она повторяет для себя лермонтовские строки: «Мы жадно бережем в груди остаток чувства,/Зарытый скупостью и бесполезный клад…» Этот остаток был связан с двумя великими поэтами, к которым присоединится еще одно имя.
М.Ю. Лермонтов.
В 1845 году Ростопчина с мужем и тремя детьми уезжает за границу. Перед ней проходят Германия, Австрия, Италия и Франция. Франция, в которой поэтесса знакомится с великим романистом, автором «Трех мушкетеров» Александром Дюма-отцом. Дюма недавно выпустил в свет «Записки учителя фехтования», посвященные русским декабристам и резко осужденные Николаем I. Въезд в Россию для писателя закрыт, между тем рассказы Ростопчиной, сам ее образ вызывают живейший интерес Дюма. Особенно волнует его история Лермонтова. Поэтесса кажется ему последней любовью героя Кавказа.
Встреча в Риме с Гоголем побуждает Ростопчину направить для публикации в Россию свое стихотворение «Насильный брак», аллегорически представлявшее присоединение к России Польши. Гоголь был прав – цензура пропустила в печать недопонятое сочинение, зато Николай I тут же разгадал его смысл. По возвращении в Россию Ростопчина была лишена права жить и появляться в Петербурге. Для жизни ей определялась Москва, которую она время от времени меняла на свое подмосковное Вороново. Зато в доме на Садовой-Кудринской Ростопчины устраиваются с полным комфортом. Их дом располагает великолепной библиотекой и редким собранием картин и скульптуры – коллекционированием увлекается муж поэтессы. Дом-музей гостеприимно распахивает двери для всех желающих. Никаких ограничений для посетителей не существовало.
Вместе с тем в литературном салоне Ростопчиных собирается вся литературная Москва. Здесь можно встретить М.Н. Загоскина, Д.В. Григоровича, А.Ф. Писемского, Е.В. Тур – сестру драматурга Сухово-Кобылина, поэта Я.П. Полонского, актеров М.С. Щепкина и И.В. Самарина. В этих стенах Лев Толстой знакомится с А.Н. Островским, живописец П.А. Федотов с Гоголем. В мае 1850 года Ростопчины устроили выставку Федотова, пользовавшуюся совершенно исключительным успехом. «Что заставляло стоять перед ними <картинами> на выставках такую большую толпу посетителей, что привлекало приходивших к ним в ростопчинскую галерею, – писал журнал „Москвитянин“, где сотрудничала Ростопчина, – это верность действительности, иногда удивительная, разительная верность». Федотовым же был написан превосходный портрет графини.
Но память – ею поэтесса дорожит больше всего. Она много пишет, много работает. Сердце ее по-прежнему принадлежит пушкинским годам. Она сама признается в 1850-х годах профессору-историку М.П. Погодину: «Принадлежу и сердцем и направлением не нашему времени, а другому, благороднейшему – пишущему не из видов каких, а прямо и просто от избытка мысли и чувства, я вспоминала, что жила в короткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратынского, Карамзина, что эти чистые славы наши любили, хвалили, благословляли меня на путь по следам их – и я отрешилась… от своей эпохи, своих сверстников и современников, сближаясь все больше и больше с моими старшими, с другими образцами и наставниками моими…»
Такое отчуждение оказывается недолгим. Ростопчина уходит из жизни сорока шести лет. Ее уносит тяжелый, неизлечимый недуг. Но на пороге смерти судьба дарит ей встречу с Дюма-отцом, который после смерти Николая I наконец-то получает разрешение посетить, хотя и под негласным надзором, Россию. По его просьбе Евдокия Петровна возвращается и к первым двум великим теням в своей жизни. Она пишет воспоминания о Лермонтове и передает французскому романисту список стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд». «Я выполнила свои обязательства в отношении всех, кого сердцем любила», – скажет Ростопчина перед смертью.
Создатель «Ледяного дома»
«…26-го июня нынешнего года, в 3 часа утра, уснул вечным сном один из последних остававшихся в живых представителей славного пушкинского периода нашей литературы, главный у нас деятель исторического романа, писатель, в свое цветущее время пользовавшийся огромной популярностью и даже горячим энтузиазмом в нашей публике, следы которого не совсем еще охладели и в настоящее время. Писатель этот Иван Иванович Лажечников. Он умер на семьдесят пятом году жизни, окруженный литературным поколением, во всем отличным от того, которое тридцать лет назад с восторгом приветствовало и прочитывало его романы». Этими словами почтил журнал «Русский вестник» в 1869 году память автора «Ледяного дома» и «Последнего Новика». В трудной и богатой событиями жизни тогда уже полузабытого писателя едва ли не самые счастливые года были связаны с Троекуровом, с теми четырнадцатью десятинами земли, которые он купил здесь для себя и на которых построил свой любовно вымечтанный в каждой мельчайшей подробности дом.
И.И. Лажечников был сыном коломенского купца и воспитанником высокообразованного, рекомендованного отцу самим Н.И. Новиковым гувернера, эмигранта Болье. Мальчишка, переживший в павловские годы арест Тайной канцелярией отца «за смелые выражения о разных важных предметах и лицах», и чиновник, начавший с 12 лет свою службу в Московском архиве Иностранной коллегии. Служба не мешала И.И. Лажечникову благодаря постоянной поддержке родителей брать «приватные уроки» у Мерзлякова и выступать с первыми публикациями в «русском вестнике» и карамзинской «Аглае». Восемнадцати лет вопреки воле родителей он поступает на военную службу, становится адъютантом сначала принца Карла Мекленбургского, затем Полуектова и А.И. Остермана-Толстого. Ходили слухи, что с последним своим начальником И.И. Лажечников породнился, женившись на его замечательно красивой воспитаннице Авдотье Васильевне.
И.И. Лажечников.
Рано начав публиковаться, И.И. Лажечников в 1817 году выпускает свои «Первые опыты в прозе и стихах», но, подобно Гоголю с его первой поэмой «Ганс Кюхельгартен», скупает и уничтожает по возможности экземпляры этого издания. Двадцатипятилетний писатель был прав в суровости своей оценки. Зато следующая его работа, изданная в Петербурге в 1820 году, – «Походные записки русского офицера», основанные на живых впечатлениях непосредственного участника событий Отечественной войны и взятия Парижа, принесли И.И. Лажечникову вполне заслуженный успех. Сменив военную службу на гражданскую, писатель выходит в отставку в 1826 году и поселяется в Москве, увлеченный мыслью о создании исторического романа. Для него это кропотливейшая работа по собиранию подлинных и тщательно выверенных сведений.
Задуманный И.И. Лажечниковым «Последний Новик» возрождает сложнейшую эпоху Петра I: «Я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главных исторических лиц, которых изображал. Чего не перечитал я для своего „Новика“! Все, что сказано мною о многих лицах моего романа, взято из старинных немецких исторических книг и словарей, драгоценных рукописей и, наконец, из устных преданий на самих местах, где происходили главные действия моего романа. Самую местность, нравы и обычаи страны описывал я во время моего двухмесячного путешествия, которые сделал, проехав Лифляндию вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам». И предметом особой гордости писателя было то, что в столкновениях новой эпохи русской истории со старой, как и с Западной Европой, «везде родное имя торжествует, без унижения, однако ж, неприятелей наших!».
Но самый роман был закончен И.И. Лажечниковым уже на новой его службе директором училищ Тверской губернии – должность, на которую он поступил в 1831 году. В Твери же был написан в 1835 году и знаменитый «Ледяной дом». Служба, на которую возвращался писатель, сменялась очередной отставкой, попыткой целиком отдаться литературному творчеству, чему неизменно препятствовали материальные затруднения. Так после пятилетнего перерыва И.И. Лажечников возвращается в ту же Тверь, на этот раз вице-губернатором. На той же должности работал в Витебске. Женитьба вынуждает его поступить в 1856 году в Петербургский цензурный комитет, откуда он вырывается через два года, чтобы окончательно переехать в Москву и приобрести землю в Троекурове.
Это не самый плодотворный период в творчестве писателя, и все же именно в Троекурове он создал в 1858 году своего «Горбуна», годом позже – «Заметки для биографии г. Белинского» и «Ответ г. Надеждину по поводу его набега на мою статью о Белинском». С В.Г. Белинским писателя связывали особенно теплые, сердечные отношения. Он обращает внимание на Белинского-мальчика, когда будущий критик сдает переходный экзамен из первого во второй класс Чембарского народного училища, наблюдает за ним во время занятий в Московском университете, ведет с ним переписку. Это И.И. Лажечникову мы обязаны описанием тех невыразимо тяжелых условий жизни В.Г. Белинского в Москве, которые привели к чахотке и ранней смерти критика.
«Приехав однажды в тридцатых годах в Москву, я хотел посетить Белинского и узнать его домашнее житье-бытье, – писал И.И. Лажечников. – Он квартировал в бельэтаже в каком-то переулке между Трубной и Петровкой (Рахмановский переулок, 4. – Н.М.). Каков же был его бельэтаж! Внизу жили и работали кузнецы. Пробираться к нему надо было по грязной лестнице, рядом с его каморкой была прачечная, из которой постоянно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью. Каково было слышать за дверьми упоительную беседу прачек и под собою стукотню от молотов… Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты… этом убогом жилище литератора, заявившего России уже свое имя». Сочувствие И.И. Лажечникова всегда было деятельным. Так и здесь: он находит Белинскому должность литературного секретаря, помогает деньгами. Поэтому так дорога писателю его статья о «Неистовом Виссарионе», потому так резко выступил он против Надеждина.
Воздвиженка.
В 1862 году в Троекурове писатель заканчивает свою автобиографическую работу «Немного лет назад». Но это был и последний год его пребывания в собственном доме. Троекуровский участок пришлось продать и ограничиться жизнью в Москве.
…Сегодня этого дома не видно. Он – во дворе, тесно окруженный строениями, под номером 6 по Воздвиженке, – здание Городской думы Москвы 1860-х годов. Это здесь вскоре после разлуки с Троекуровом переживает И.И. Лажечников свой самый волнующий день. По инициативе А.Н. Островского Артистический кружок проводит здесь 3 мая 1869 года чествование писателя по поводу пятидесятилетия его литературной деятельности. Когда-то Пушкин писал о «Ледяном доме»: «Многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Речь А.Ф. Писемского вторила пушкинским словам: «Перед вашими товарищами романистами вы имели огромное преимущество: добродушного Загоскина вы превосходили своим образованием и уж, разумеется, как светоч ничем не запятнанной честности, горели над темною деятельностью газетчика Булгарина; в ваших произведениях никогда не было бесстрастных страстей Марлинского и его фосфорического блеска, который только светил, но не грел; ваша теплота была сообщающаяся и согревающая. Вы ни разу не прозвучали тем притворным и фабрикованным патриотизмом, которым запятнал свое имя Полевой, и никогда не рисовали, подобно Кукольнику, риторически ходульно-величавых фигур. Всех их вы были истиннее, искреннее и ближе стояли к вашему великому современнику Пушкину, будя вместе с ним в душах русских читателей настоящую и неподдельную поэзию».
Герой 1812 года
От вас отторгнутый судьбою, Один средь родины моей, Один – с стесненною душою Скитаться буду меж людей. Н.Н. Оржицкий. Прощание гусара. 1819Это был один из тех браков, которые так любили устраивать при дворе обязательно с участием царствующих особ. Деньги к деньгам, титулы к титулам: граф Алексей Кириллович Разумовский – княжна Варвара Петровна Шереметева. С обеих сторон несметные богатства, знатность, хотя… Шереметевы и в самом деле относились к древнейшим боярским родам, славились службой, высокими государственными должностями, летописи пестрели их именами. Зато Разумовским – их родословная легко умещалась в нескольких строчках – о государственных же заслугах и вовсе не приходилось говорить.
Граф-пастух, неграмотный голосистый парень из украинского села, приглянувшийся будущей императрице Елизавете Петровне, Алексей Григорьевич Разумовский положил основу процветания своего семейства. На выставке начала XIX века «Ломоносов и Елизаветинское время» среди экспонатов I отдела числился под № 54 оттиск на шелке гравюры Е.П. Чемесова: А.Г. Разумовский и Елизавета с многозначительной надписью: «Се тайна благословенна».
Обычная связь? Церковный брак? Историки строили домыслы, современники не знали ничего определенного. Сам виновник и после держался на редкость осторожно. Хранил верность Елизавете и после того, как уступил свои дворцовые покои другому фавориту, и после того, как не стало императрицы: никакой женитьбы, никаких сплетен о личной жизни. Какие-то связывающие его с Елизаветой документы сжег на глазах присланного к нему от Екатерины II посланника. Заботился только о семейном благосостоянии и в этом преуспевал чрезвычайно. Все сестры с мужьями-казаками стали сановными дамам, единственный младший брат Кирилл – вельможей, в девятнадцать лет президентом Академии наук, меценатом и чудаком – непременное условие большого состояния в XVIII веке. Богатство обязывало, состояние Разумовских тем более. По высокомерию, спеси, презрению к окружающим все пять племянников бывшего фаворита не знали себе равных. Когда их тщеславие показалось несуразным даже родному отцу, один из сыновей на его упрек заметил: «Ничего удивительного: вы – сын простого пастуха, а мы – фельдмаршала». Кирилл Разумовский удостоился вместе с десятками сел, деревень, домов и этого отличия. Императрица Елизавета Петровна сама позаботилась и о его женитьбе, чтобы приобщить брата фаворита и по крови, и по богатствам к царствующему дому. Его женой стала одна из богатейших невест России, троюродная сестра самой Елизаветы – Екатерина Нарышкина. Брак не был счастливым, зато принес многочисленное потомство. Теперь сыну Алексею предстояло повторить опыт отца.
И опыт действительно повторился. Но то ли слишком долго зажилась по сравнению со своей рано умершей свекровью Варвара Разумовская-Шереметева, то ли более нетерпеливым оказался Разумовский-младший, только через десять лет семейной жизни Алексей Кириллович предложил своей супруге поселиться вместе с детьми отдельно от него – «в разделе». Тридцати шести лет от роду граф решил посвятить себя целиком государственной службе, на которую вступил двумя годами раньше, – предлог, чтобы избавиться от надоевшей половины и неудавшегося семейного очага. Не помогло ни вмешательство старого графа, ни высокое положение отца Варвары Петровны. Впрочем, П.Б. Шереметева не занимало ничто, кроме искусства и исторических розысков. Ему принадлежала публикация переписки его отца-фельдмаршала с Петром I, осуществленная в 1770-х годах.
Предоставленная самой себе, В.П. Разумовская отстраивает в начале Маросейки дом по образцу дома отца на Воздвиженке, где поселяется вместе с детьми. В 1791 году родной брат M.В. Долгорукова Василий продает ей Акулово. В купчей крепости так и указывалось: «Жене графа Ал. Кир. Разумовского Варваре Петровне, урожденной Шереметевой». Всеми способами «отрешенная» графиня ищет возможности поддерживать отношения с родственниками мужа, тем более что ни для кого не остается секретом существование у него новой, «незаконной» семьи. Четырем своим сыновьям от дочери берейтора Марьи Соболевской А.К. Разумовский даст фамилию Перовские, превосходное образование, дворянство и конечно же состояние. При всей законности своих прав дети графини Варвары отходили на задний план даже в общественном мнении. За их положение приходилось бороться.
Вот только и с родными мужа далеко не все было в порядке. Андрей Кириллович после слишком шумной истории, связавшей его имя с именем первой жены Павла I, устраивает свою семейную жизнь за рубежом. Лев Кириллович принимает в дом ушедшую от мужа княгиню Голицыну, и «развод по договоренности» многие годы смущает Москву, пока не получает признания не со стороны церкви – это было невозможно, – но со стороны Александра I. Семья Григория Кирилловича, образовавшаяся в Австрии, исключена из российского подданства. Петр Кириллович… Но в отношении него хозяйка Акулова готова была закрыть глаза на многое. Он не женат, но открыто занимается судьбой своего побочного сына Николая Оржицкого, которого и делает единственным наследником.
Николай Оржицкий – частый гость Акулова. К нему благоволит и известная своим независимым нравом тетка, также постоянная посетительница этой подмосковной усадьбы, Н.К. Загряжская, разговоры с которой так подробно и увлеченно записывал Пушкин. Наталья Кирилловна не имеет детей и готова, по московскому обычаю, заниматься племянниками.
Не обязательно открыто признаваться в родстве с юным Оржицким – его можно принимать как знакомого. Отец добился для своего первенца дворянства, дал ему превосходное домашнее воспитание, знание языков, знакомство с музыкой. Правда, Оржицкий предпочел тот род службы, которого избегали первые Разумовские. События Отечественной войны 1812 года приводят его в армию.
1813 год. Ахтырский полк. Тот самый, в котором служил А.А. Алябьев, ставший близким другом юного корнета. «Весьма милый и достойный человек» – так отзывался об Оржицком Н.А. Муханов. «Весельчак и хлебосол», по словам Н.И. Греча, легко становится любимцем полка. К тому же он отважен, не смущается неудобствами походной жизни и на поле боя такой же сумасброд, как и в веселом гусарском кругу. Ему одинаково послушны пистолеты, конь и неразлучная спутница-гитара. А формулярному списку корнета Оржицкого мог позавидовать не один видавший виды ветеран. Здесь и сражение на реке Кацбах в Силезии, и знаменитая битва народов под Лейпцигом, а во Франции бои под Бриенн-ле-Шато, Ларотьер, Лаферте-сюр-Жуар, Монмирай, Шато-Тьерри, Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз… Оржицкий пишет стихи, но не хранит их. Зачем? Друзья запоминают их и так, а литературная слава не прельщает гусара. Стихи – часть их общей жизни. В них удаль, отвага, мужское братство, реже – воспоминания о мирной жизни, об Акулове.
Об акуловском доме сегодня не скажешь уже ничего: его не стало к двадцатым годам девятнадцатого столетия. Только незадолго до 1812 года законченный Покровский храм напоминал о былом размахе усадьбы. У него необычный вид, напоминающий соседнюю с московским домом В.П. Разумовской церковь Козьмы и Дамиана на углу Старосадского переулка, которую строил М.Ф. Казаков. Это сходство – в круглой ротонде, венчающей основной куб храма и завершенной островерхим шпилем, в двух круглых колокольнях, размещенных по краям западного фасада и обрамляющих портик из шести пилястр со свободным фронтоном. Портик повторится в скромном домике для причта, также окруженном кирпичной, с металлическими решетками оградой. Оржицкий навестит Покровскую церковь, отправляясь с частями на Запад; она расположилась на Можайской дороге.
Но о прошлом Акулова говорила не церковная архитектура – внутреннее убранство. Рядом с росписью начала XIX века – иконы XVII и XVIII веков, помещенные здесь Долгоруковыми ткани конца екатерининских лет, деревянная скульптура. Даже домик причта хранит изразцовую печь предшествующего столетия.
Оржицкий побывал в Акулове и на обратном пути в Москву. Правда, встретиться там уже было не с кем – поместье перешло в чужие руки, как в будущем и московский дом тетки Варвары Петровны. Вместе со всеми своими богатствами она завещала его, в обход собственных детей и родных, послушнику Чудова монастыря, которого сделала своим управляющим.
Новые порядки, которые вводятся в армии с окончанием Отечественной войны, побуждают Оржицкого выйти в отставку в достаточно скромном чине штабс-майора. Это было время отставки и А.А. Алябьева, и легендарного Дениса Давыдова, и дружного с ними Степана Бегичева. Едва ли не единственный раз – во время походов – интересы императора сошлись с интересами столь беспокоившей Александра I гусарской вольницы с ее независимым нравом, чувством собственного достоинства, свободолюбивыми мечтами. Принадлежность собственного отца к той же фронде побуждает Л.Н. Толстого попытаться разобраться в существовавшем конфликте. Он напишет об отце: «Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14 и 15-го годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае… Даже все друзья его были люди такие же свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство».
Но «немного фрондирующий» – это не об Оржицком. Убеждения Оржицкого совершенно определенны и носят чисто политический характер. Он принадлежит к декабристскому движению. Среди его ближайших друзей – К.Ф. Рылеев и А.А. Бестужев. В архивном фонде управления коменданта Петропавловской крепости есть дело от 22 декабря 1825 года об очной ставке П.Г. Каховского со слугой К.Ф. Рылеева в Петропавловской крепости для установления адреса Оржицкого, к которому послал его Рылеев. Оржицкий не был арестован в числе первых, и сам Рылеев сделал все, чтобы не упоминать имени друга.
Лихой гусар следует его примеру. Он не выдает никого из товарищей. Ответы Оржицкого на Следственной комиссии исполнены внутреннего достоинства, и ни разу в них не проскальзывает страх за собственную участь. На вопрос, кем подсказан ему «свободный образ мыслей», былой гусар отвечает: «Понимая под свободным образом мыслей привычку не руководствоваться мнением других, а рассуждать по собственному своему рассудку, не мог я оный позаимствовать от кого другого, как от самой природы, давшей мне способность рассуждать».
На этот раз никакие родственные связи не могли облегчить участи Оржицкого. За арестом последовало лишение чинов и дворянства, и только меньшая по сравнению с другими участниками восстания «вина», с точки зрения Следственной комиссии, определила его ссылку не в Сибирь, а рядовым на Кавказ, на театр военных действий. В том же архиве управления коменданта Петропавловской крепости есть другое дело – о разрешении Оржицкому увидеться с сестрой, которой он оставляет доверенность на управление имением. Это потребовало трех встреч – 20 июня, 9-го и 12 июля 1826 года.
Бывший герой 1812 года определяется солдатом в Кизлярский гарнизонный батальон, затем в Нижегородский драгунский полк, где становится унтер-офицером. По всей вероятности, у командира полка Н.Н. Раевского-младшего летом 1829 года Оржицкий встречается с Пушкиным. Недолгое знакомство пробуждает у обоих дружеские чувства, так что поэт думает ввести своего нового знакомца в первую главу «Путешествие в Арзрум». Во всяком случае, Оржицкого можно угадать в одной из фраз пушкинского черновика: «15 пар тощих и малорослых быков, окруженных полунагими осетинцами, тащили легонькую венскую коляску моего приятеля Ор… Это зрелище разрешило все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую коляску обратно во Владикавказ и верхом доехать до Тифлиса».
Спустя три года прапорщик Оржицкий выходит в отставку и становится соседом Пушкина по Михайловскому. Былой гусар окончательно поселился в своем находившемся недалеко от Порхова поместье. К этому времени он оставляет поэзию или, если быть точным, отказывается от каких бы то ни было публикаций, хотя когда-то его строки появлялись на страницах «Сына отечества», перечитывались вместе со стихами Дениса Давыдова. Появившееся в печати в 1819 году стихотворение «Прощание гусара» стало настолько популярным, что имя автора в конце концов забылось. О поэте и вовсе перестали вспоминать, когда «Прощание гусара» было переложено на музыку А.А. Алябьевым. Родившийся романс стал памятью об Отечественной войне, сражениях, о гусарской вольнице.
Товарищи, на ратном поле, Среди врагов, в чужих краях Встречать уже не будем боле Мы смерть, столь славную в боях… От вас отторгнутый судьбою, Один средь родины моей, Один – с стесненною душою Скитаться буду меж людей. Мой конь покинут; невеселый, Меня, главой поникнув, ждет, Но тщетно ждет, осиротелый; Товарищ рати не придет. Увы, уже не будет боле, Со мной на брань летя стрелой, Топтать врага на бранном поле, Прощай, – о друг, соратник мой. Так говорил в кругу соратных Гусар разлуки в скорбный час. Вздохнул, и на очах бесстрашных Слеза блеснула в первый раз.Позабытое имя
Но ты слился душой с народом воедино. Родную старину с любовью воплощал… Б.Н. Алмазов – П.М. СадовскомуМожет быть, и не позабытое, но известное сегодня едва ли не одним только литературоведам имя – Борис Алмазов.
Сначала он не думал о литературе, не занимался поэзией. Его мечтой был театр. Борис Алмазов воображал себя актером. Только актером. Детство в глухом отцовском имении под Вязьмой давало достаточно времени для фантазий. И только переезд в Москву изменил направление его устремлений. Вернее, рядом с театром появилась поэзия. Да и не могло быть иначе – отданный во второй класс 1-й Московской гимназии, Алмазов поселился в соседнем с ней доме, выходившем на Пречистенский бульвар, в семье М.А. Окулова. Участник Отечественной войны 1812 года, М.А. Окулов с 1830 года занимал должность директора училищ Московской губернии. Три года, проведенных подростком в окуловской семье, ввели будущего поэта и критика в круг литературных интересов.
Для Окуловых добрый знакомый Пушкин – частый гость их дома во время своих приездов в Москву. Поэт пишет Наталье Николаевне о всех подробностях их жизни. Здесь и рождение многочисленных детей, и перипетии с сестрами хозяина, и свадьба одной из них – «долгоносой певицы» Елизаветы с «вдовцом Дьяковым», на которой Пушкин, по-видимому, присутствовал, и помешательство другой – Варвары, и подробности обеда, который Окуловы дают в 1836 году в честь Карла Брюллова. Связь с окуловской семьей оказывается тем более тесной, что женат Окулов на сестре любимого Пушкиным П.В. Нащокина.
Мальчик Алмазов невольно втягивается в достаточно сложные здесь семейные отношения. Это Пушкин помог в свое время П.В. Нащокину принять решение о женитьбе на побочной дочери одного из его родственников, В.А. Нарской, вопреки воле Анастасии Воиновны Окуловой, прочившей брату иную невесту. Весной 1834 года мать молодой Нащокиной будет спрашивать в письме: «Не пишет ли вам Анастасия Воиновна с мужем? К барину (отцу В.А. Нарской. – Н.М.) не ездят и к себе не принимают. Возможна ли этакая злость…» Добрые отношения с Пушкиным невольно приводят Алмазова к увлечению поэзией, которое не ослабят ни последующее пребывание в частном пансионе, ни занятия в Московском университете.
Борис Алмазов.
В университете, где он начинает изучать право, Алмазов дает волю и былым детским увлечениям. Он много занимается литературой, входит в кружок А.Н. Островского, где встречается с поэтом и переводчиком Н.В. Бергом, писателем и блестящим рассказчиком И.Ф. Горбуновым, поэтами Аполлоном Григорьевым и Львом Меем, композитором А.И. Дюбюком, актерами Н.А. Рамазановым и недавно обосновавшимся в столице Провом Михайловичем Ермиловым, по сцене Садовским. П.М. Садовский впервые появляется перед московскими зрителями в 1839 году, приглашенный из Казани заметившим его там во время гастролей М.С. Щепкиным. Ему Алмазов посвятит восторженные строки:
Всем сердцем, всей душой любил простолюдина И сердце русское узнал и разгадал… И беспощадною могучею сатирой Народа злых врагов пред всеми ты карал, И доблесть возвышал, и часто сильных мира По меньшей братии ты плакать заставлял. Хвала ж тебе! Из области искусства Отчизне ты служил как верный нежный сын, В своих согражданах будил святые чувства… Хвала тебе, художник-гражданин!Театр привлекает Алмазова даже в таком необычном аспекте, когда в качестве актеров выступают литераторы. О редком драматическом даровании А.Ф. Писемского он рассказывает в своих воспоминаниях о студенческих годах: «В 1844 году наше, тогда еще младшее, поколение прослышало, что в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах – в тех самых, которые потом описаны с таким юмором в одном из романов нашего автора („Люди сороковых годов“ – Н.М.) – живет какой-то студент Московского университета… который читает своим приятелям Гоголя, и читает так, как никто еще до того времени не читывал… и потому мы сильно волновались, услышав эту новость, и рвались послушать, как Писемский читает Гоголя… Вдруг доходит до нас слух, что на одном, так называемом благородном, театре будет даваться „Женитьба“ Гоголя и что в ней роль Подколесина будет играть Писемский. С трудом мы пробрались на этот спектакль. Конечно, не мы были судьями над Писемским, но мы были свидетелями того изумления, с каким избранное московское общество смотрело на игру Писемского. В то время Подколесина играл на императорском театре великий наш комик Щепкин; но кто ни взглянул на Писемского, всякий сказал, что он лучше истолковал этот характер, чем сам Щепкин».
Если в словах Алмазова и была доля преувеличения, то оно, во всяком случае, способствовало той дружбе, которая с тех пор завязывается между ним и А.Ф. Писемским и продолжается всю их жизнь. Тесно сдружившийся кружок А.Н. Островского, а теперь уже вместе с ними и Писемский часто навещает уютные Вешки, благо дорога до них не требовала слишком значительных трат. Состоятельностью никто из них не отличался. Увлечение театром у Алмазова, теперь уже под прямым влиянием Писемского и П.М. Садовского, вспыхивает с новой силой. Будущий юрист колеблется с выбором профессии, который за него делает жизнь. Изменившиеся материальные обстоятельства в семье приводят к тому, что продолжать университетские занятия он не может – его отчисляют за невзнос платы за обучение. Попытки поступить на сцену проваливаются. Остается единственный источник существования – литература. Сближение с молодой редакцией журнала «Москвитянин» облегчает начало новой профессиональной деятельности.
Его бедой было то, что ему все давалось одинаково легко: литературные обозрения, фельетоны, переводы, оригинальные стихи. Эраст Благонравов, как он подписывает свои журнальные материалы, завоевывает популярность, хотя и у вполне определенного, «среднего», круга читателей. Алмазову чужды увлечения шестидесятых годов. Их «умственные брожения» – предмет его откровенной иронии, юмористических выпадов. Но если живые меткие литературные пародии Алмазова вроде «Похорон русской речи» или «Учено-литературного маскарада» вызывали общий интерес, взгляды Эраста Благонравова не могли завоевать ему единомышленников среди читающей молодежи.
Другое дело – поэзия. Здесь и очень удачный перевод белыми стихами «Песни о Роланде», многих литературных произведений западноевропейского Средневековья, и собственные алмазовские строки, легкие, непринужденные, особенно часто использовавшиеся для вошедшей впоследствии в моду мелодекламации. Поэт словно не утруждал себя поисками точных сравнений, сложных рифм. Его стихи незатейливы и привычны и все же подчас могут передать определенное настроение, картину природы, душевную радость или смятение, особенно ранние стихи, связанные с бездумными и радостными днями в Вешках:
Блистает день томительный и душный, Но туча за горой угрюмая взошла, И грозно двинулась громадою воздушной, И черной мглой все небо облегла, И тень и мрак на землю опустились. Замолкнул лес, недвижно лоно вод, И ветер стих, и птицы притаились, И вся земля благоговейно ждет.Листы пушкинианы
Содержание документа было достаточно необычным, как и обстоятельства его появления.
10 февраля 1927 года на 310-м заседании Пушкинской комиссии при секции «Старая Москва» Общества изучения Московской области состоялся доклад Л.А. Виноградова о семье А.С. Пушкина в Москве, в детские годы поэта.
На основании доклада было решено организовать Особое совещание по увековечению места рождения поэта – из представителей научных и административных учреждений, ученых обществ и пушкиноведов. Первое же совещание новоорганизованного объединения, состоявшееся уже 21 февраля того же самого года, закончилось принятием необычного документа, точнее – постановления:
1) признать доказанным, что А.С. Пушкин родился на нынешней Баумановской улице во владении под № 10;
2) днем рождения его следует считать, согласно показаниям его отца и лицейской метрической выписи, не 27, а 26 мая или по новому стилю 6 июня 1799 г.;
3) на владении № 10 по Баумановской улице надлежит укрепить памятную доску и удалить ошибочно помещенную на владении № 27 по той же улице;
4) двор владения № 10, а также прилегающие к нему смежные владения целесообразно по местным бытовым и санитарным соображениям и по историческому воспоминанию обратить в сад общественного пользования имени А.С. Пушкина с постановкой в саду обелиска или памятника;
5) организовать в праздничный день 5 июня 1927 г. торжественное открытие памятной доски во владении № 10 по Баумановской улице».
События развивались стремительно и в точном соответствии с намеченным планом. Спустя три дня после торжественного открытия памятного знака, 8 июня, вновь собравшаяся Комиссия пришла к перспективному выводу, что ее существование и деятельность должны стать постоянными, имея в виду «обнаружение и обследование домов и т. п., где жил или бывал Пушкин, и в увековечении и популяризации мест пребывания поэта, прикреплением мемориальных досок, устройством комнат Пушкина и т. п.» Все понимали: объем поисков был огромен. Время показало: поиски не могли не возобновиться и по, казалось, окончательно установленным фактам – дню и месту рождения поэта. Загадки оставались загадками независимо от единогласно и почти восторженно принятых решений.
Тогда, 80 лет назад, существовало девять предположений о месте рождения поэта.
При жизни А.С. Пушкина, во время его южной ссылки, «Опыт краткой истории русской литературы», изданный известным литератором Н.И. Гречем, утверждал, что родился поэт именно 26 мая, но в Петербурге. Могло ли издание остаться незамеченным самим поэтом, тем более его близкими и родными? Конечно нет. Но по какой-то причине опровержения не последовало.
В конце концов подобная неточность могла забавлять или даже льстить молодому поэту. Выберет же он местом рождения своего любимого героя именно столицу на Неве: «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или гуляли, мой читатель…»
Со своей стороны, у Н.И. Греча существовала уверенность, что в 1799 году, осенью, семья Пушкиных вместе с новорожденным находилась в Петербурге. Известен случай с его нянькой, когда, гуляя по улице с ребенком, она не сняла с малыша картузика при проезде императорского поезда, за что получила нагоняй от самого Павла I. Пушкин пересказывал сам этот случай, гордясь тем, что ему пришлось пережить столкновения с тремя императорами: Павлом I, Александром I и Николаем I.
Второе предположение основывается на опубликованной в «Москвитянине» статье двоюродного дяди поэта Александра Юрьевича Пушкина. Дядя вспоминает, что «в 1798 году Сергей Львович вышел в отставку, переехал с семейством своим в Москву и нанял дом княжон Щербатовых, близ Немецкой слободы, где в 1799 году родился у них сын Александр; наш полк в то время был уже в походе, где я и получил об рождении Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память мою назван Александром, а я заочно был его восприемником. В конце того же года, возвратясь из похода в Москву, я уже Сергея Львовича с семейством не застал; они уехали к отцу своему Осипу Абрамовичу в Псковскую губернию в сельцо Михайловское». Трудно предположить, что 24-летний офицер, добрый приятель детства Надежды Осиповны, постоянно к тому же бывавший в их доме, мог ошибиться с адресом. Отсутствие семьи Пушкиных в исповедных церковных росписях по этому домовладению легко объяснить недолгим сроком, который молодая семья пробыла у княжон.
Третье предположение правильнее назвать свидительством самого поэта. Сергей Александрович, очень близкий и высокоценимый А.С. Пушкиным его друг, рассказывал, что, проезжая по Молчановке, поэт всегда повторял, что именно здесь он родился, хотя собственно дома не помнит. Соболевский – не посторонний наблюдатель. Он еще до южной ссылки Пушкина выполняет различные его поручения, готовит к печати «Руслана и Людмилу», по возвращении Александра Сергеевича в Москву улаживает грозившую дуэлью его ссору с Ф.И. Толстым-Американцем, знакомит со многими интересными людьми, в том числе с Адамом Мицкевичем, на квартире у Соболевского Пушкин читает в сентябре 1826 года «Бориса Годунова». По возвращении из Михайловского Пушкин и вовсе поселяется в декабре 1826 года на квартире у Соболевского на углу Борисоглебского переулка и Собачьей площадки. Привязанность поэта к этим местам и заинтересовывает, и трогает Соболевского.
Что самое удивительное – именно свидетельства современников безоговорочно отбрасываются исследователями даже без попытки их архивной разработки. Но ведь слова Соболевского могли и должны были встретить возражения со стороны членов семьи поэта. Возражений не было. Исследователи же от них просто сочли нужным отмахнуться, как и от слов поэта о том, что он хотел бы быть похороненным в Захарове, в том самом бабушкином поместье, где прошло его детство. И среди наших современников один Вадим Кожинов упрямо настаивал на необходимости поисков именно в районе Молчановки, взяв слово с автора, что она приложит усилия оправдать и утвердить эту единственно верную версию. Говорить обо всех остальных – это разбираться в домах района Немецкой слободы, к которой поэт никогда не тянулся. Архивные розыски последних лет мало что изменили: в ход идут по-прежнему косвенные доказательства, но не прямые свидетельства.
Какие бы договора о сдаче внаймы квартир не поднимали исследователи, для потомков важнее, что «страна Молчановка» оставалась в душе и воображении поэта. И еще – привязанность к московским корням, которыми он очень дорожил.
Судя по переписям XVII века, Пушкиных в Москве множество. Воображение поэта особенно занимал Гаврила Григорьевич, думный дворянин, сторонник Лжедмитрия I: «Г.Г. Пушкин принадлежал к числу самых замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими характерами». Для него найдутся строки и в «Моей родословной»:
Водились Пушкины с царями; Из них был славен не один, Когда тягался с поляками Нижегородский мещанин.Герою «Бориса Годунова», причастному к смерти царевича Федора Борисовича, принадлежал двор на месте современного дома № 2 по Воздвиженке, бывшей приемной «всесоюзного старосты» М.И. Калинина. Ему наследовал младший сын Степан Гаврилович, потомки которого, по выражению поэта, состояли «в оппозиции» к Петру I. Внук Степана Григорьевича принял участие в заговоре против царя вместе с полковником Цыклером и братом боярыни Морозовой окольничим Соковниным, все трое были казнены, а отец – Матвей Степанович – лишен боярства и сослан в вечную ссылку в Енисейск. И снова строки «Моей родословной»:
Упрямства дух нам всем подгадил: В родню свою неукротим, С Петром мой пращур не поладил И был за то повешен им. Его пример – другим наука: Не любит споров властелин…И небольшая подробность. Старший сын «бунташного» Гаврилы Григорьевича – Григорий Гаврилович – был любимцем царя Алексея Михайловича, наместником Нижегородским, в 1650 году послом в Польшу, боярином и оружничим. Каждый из членов семьи решал свою судьбу по собственному усмотрению. Но по-настоящему всю эту ветвь Пушкиных поэт не мог называть своими прямыми пращурами, зато к числу их потомков относилась его будущая супруга – Наталья Николаевна Гончарова. Поэт принадлежал к младшей ветви семьи, члены которой не поднимались выше звания стольника. Именно стольник Петр Петрович Пушкин, прямой пращур Александра Сергеевича, упоминается в Росписном списке Москвы 1638 года, где указано, что владеет он домом в Армянском переулке, на церковной земле «Николы Чудотворца у столпа». Соседствует с ним Василий Никонович Бутурлин и несколько иностранцев. Этот район Москвы был настолько густо заселен иностранцами, главным образом английскими купцами, что причты соседних церквей обращались с жалобой к царю Алексею Михайловичу: из-за засилья иноземцев совсем обезлюдели православные приходы.
Стольник был человеком достаточно состоятельным, чтобы к владению на Маросейке прикупить еще и большой двор на Рождественке, в приходе Николая Чудотворца что на Божедомке (домовладение № 15). В 1660 году стольника не стало, ему наследовали вдова и дети, из которых Петр Петрович-младший продолжал здесь жить до своей смерти в 1692 году.
Прямой прадед поэта Александр и дед Лев владели обширными землями по Божедомскому переулку (бывш. Делегатская ул.) и Самотечному переулку. Всего им принадлежало 5 участков, с которыми поспешила расстаться бабка поэта, Ольга Васильевна Пушкина, отдавшая предпочтение Огородной слободе.
Зато былые пушкинские земли у Самотеки приобрели самую широкую известность. Они перешли после Нелидова и московского генерал-губернатора Тормасова в 1824 году к Ивану Николаевичу Римскому-Корсакову. Впрочем, надо отдать должное Тормасову, он многое сделал для преображения пушкинского сада. Он значительно расширил его за счет соседнего владения, вырыл новый пруд, за средним прудом построил круглую беседку со статуей Екатерины Великой в память о посещении императрицей его владений. Сад наполнили цветники и статуи, была высажена большая дубовая аллея. Как это было принято, московская публика могла посещать сад бесплатно, смотреть иллюминации, полеты воздушных шаров, слушать выступления заезжих знаменитостей и песельников, разъезжавших на шлюпках. «Корсаковские вечера» по возвращении Пушкина из ссылки входят в моду, но вскоре после его отъезда в Петербург начинают приходить в упадок. Судьба сада переходит в руки антрепренеров.
Трубная площадь.
С 1853 года он оживает под именем «Эрмитажа». Здесь проходит, в частности, антреприза Лентовского, но уже в последней четверти XIX века сад начинают вырубать, застраивая доходными домами.
Служило ли это свидетельством хозяйственных талантов деда или простым следованием московским обычаям, но Лев Александрович не упускал возможности «прикупить землицы» по всему городу. В 1746 году 1 июня он купил у И.И. Головина «белое место» в приходе Николы что в Хлынове за 10 рублей. По купчей l751 года к нему перешли строения на дворцовой земле размером в 440 сажен в приходе «Николы в Плотниках», бок о бок с первой семейной квартирой внука на Арбате. Но уже отец поэта собственного дома в Москве не имел и всю жизнь довольствовался «съемными» квартирами, которые постоянно менял. Состоятельные москвичи постоянно покупали и перекупали дворы, тем более не задерживались на «съемных» квартирах.
В 1927 году комиссия постановила отметить мемориальной доской дом № 10 вместо дома № 27 по той же Немецкой улице. Как удалось выяснить архивистам, из этого последнего семья Пушкиных выехала за несколько недель до рождения своего первенца. Причину внезапного и столь несвоевременного, учитывая состояние Надежды Осиповны, переезда установить не удалось.
Сад «Эрмитаж».
Единственное, представляющееся достаточно убедительным предположение – смерть при каких-то особых обстоятельствах дворового человека Пушкиных Михайлы Степанова, которая могла испугать будущую мать. Впечатлительность и даже склонность к галлюцинациям «Прекрасной креолки» не была секретом для окружающих. Об особых обстоятельствах в данном случае свидетельствовал факт, что кончина была зарегистрирована в церковно-приходских книгах дважды: два разных дня, два разных порядковых номера. Опасность морового поветрия – эпидемии?
Немецкая улица, в настоящее время носит имя Баумана.
Положим, подобная разгадка выглядела не слишком убедительной. Церковную документацию всегда отличала исключительная скрупулезность, особенно в части смертей и рождений. А главное – почему здесь имело место именно повторение: «Умре по христианской должности маиа 3 дня во дворе графини Екатерины Александровны Головкиной у жильца ее коллежского асессора Сергея Львовича Пушкина дворовый человек его Михайла Степанов, коему от роду 48 лет, погребен 5 дня на Семеновском кладбище». Запись под № 58. И дальше запись под № 64, автор которой просто не мог не видеть предшествующей записи: повторяя имена домовладелицы и Сергея Львовича Пушкина, она свидетельствовала о смерти дворового человека Михайлы Степанова, от роду имевшего 47 лет и погребенного 6 мая. Две смерти разделяло два дня.
Общепризнанная ошибка. А если предположить другое решение? Тезки с одинаковыми отчествами не были редкостью. Следовательно, речь могла идти о двух разных людях, погибших от одной и той же возникшей в перенаселенном дворе заразы. Тогда становится объяснимым поспешный переезд семьи, готовой согласиться на любую крышу над головой.
Как принято было считать, убежищем стал ветхий домишко во дворе, бывшего сослуживца Сергея Львовича Скворцова (Немецкая ул., 10). Дом был бедным, остро нуждавшимся в ремонте, но Пушкины и не собирались в нем задерживаться. Сразу после родов они выехали в Михайловское, а оттуда и вовсе в Петербург. Поэт буквально с приходом на свет стал странником.
Это отвечало интересам Пушкиных. Но ведь еще существовал владелец дома, который вряд ли бы согласился на подобный переезд без оформления соответствующих документов, которое требовало времени. А что, если именно отсюда дорога вела в дорогую сердцу поэта «страну Молчановку»? Там жила одна из близких подруг Надежды Осиповны, там она могла найти временный приют безо всякой регистрации в церковных исповедных росписях. Отсюда и задержка с обрядом крещения младенца на целых двенадцать дней. Впрочем, загадке позднего крещения предшествовала загадка дня рождения.
И опять перед архивистами возникал злосчастный дьячок Александров, ошибавшийся каждый раз, когда дело касалось именно Александра Сергеевича Пушкина. Он записывает рождение поэта 27 мая, а дальше все исследователи начинают доказывать правоту отца, уже после смерти сына назвавшего 26-е. Впрочем, так считал и сам поэт, и в данном случае его слово было принято как решающее. Независимо от того, ошибся дьячок Александров или нет, 26 мая было куда более торжественным и символическим днем: церковь праздновала Вознесение, мирские власти – рождение первой и единственной дочери будущего Александра I великой княжны Марии Александровны. Вслед за Иваном Великим гудели колокола во всех городских церквях, и народные гуляния продолжались до поздней ночи. Это была пора белых московских ночей.
В Москве начала XXI века память о Пушкине сосредоточивается на Арбате, или, точнее, – от Арбата до Остоженки. Так удобней для соответствующих учреждений, но так не было в действительности. Раннее детство поэта – самое для него дорогое, перенесенное в его поэзию, – это Чистые пруды, Огородники, Покровка.
Но ведь все было совсем не просто и с крещением мальчика. Надежда Осиповна сообщила кузену Александру Юрьевичу, что именно он будет записан крестным отцом новорожденного. А в церковных записях стоит другое имя – графа Артемия Ивановича Воронцова, мужа троюродной сестры бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, отца ближайшей подруги «Прекрасной креолки» графини А.А. Бутурлиной. Вряд ли граф присутствовал при крещении. Подобно кузену Александру Юрьевичу, он находился в отъезде с января 1799 года, оставив старую столицу ради столицы на Неве. Кумой была приглашена другая бабушка поэта – Ольга Васильевна Пушкина. Но даже с ее именем возникает путаница. В записи о крещении она названа просто вдовой, в выписке, сделанной для Консистории спустя три месяца, графиней. Другое дело, что с таким почтением ее воспринимали собственные дети, хотя и бунтовали против материнской воли. Ведь женился же Сергей Львович на «Прекрасной креолке, бесприданнице и дочери арапа-двоеженца», по выражению возмущенной свекрови.
Детство – оно было разным. Большая семья. Множество родственников. Того больше знакомых. Постоянные переезды. Увлеченные светской жизнью родители. И судьба не любимого матерью ребенка, как бы ни старались этому противостоять бабушка-«Ганнибальша» и няня. Пушкин начинает свою программу записок для автобиографии со слов: «Бабушка и мать – их бедность. Иван Абрамович. Свадьба отца. Смерть Екатерины. Рождение Ольги. Отец выходит в отставку. Едет в Москву. Рождение мое. Первые впечатления. Юсупов сад. Землетрясение. Няня».
Бедность давала о себе знать во всем. Не потому ли торопится с отставкой Сергей Львович, что слишком дорога петербургская служебная жизнь? Возвращаясь в Москву уже с маленькой Ольгой (в честь бабушки!) на руках, он выбирает жилье поближе к ней. Все надежды – на ее доброжелательность и щедрость, хотя невестку она и не терпит. Ольга Васильевна покупает себе дом в Малом Харитоньевском переулке, 7. Первый московский адрес пушкинской семьи – угол Большого Харитоньевского и Чистых прудов, владение подпоручика Волкова. Площадь дома всего-то 35 кв. сажен, а ведь поместиться в нем приходится родителям с двумя младенцами в ожидании появления третьего – здесь придет на свет сын Николай – и шестерым дворовым. Тут и Николай Павлов 50 лет с женой, Авдей Родионов 17 лет, Федот Ефимов 40 лет, девицы Прасковья Федорова 13 лет и Авдотья Андреянова 18 лет. Почти целые дни будет проводить у дочери и бабушка-«Ганнибальша», снявшая отдельное жилье в том же приходе Харитония в Огородниках, в доме некоего Силина, вместе со своей сестрой Екатериной 56 лет и шестью собственными дворовыми.
Это 1801 год, а уже в феврале 1802-го есть свидетельство, что Пушкины снимают квартиру во владении князя Николая Борисовича Юсупова (Б. Харитоньевский, 7). Но первую плату Сергей Львович внес за юсуповскую квартиру в ноябре 1801-го – 500 рублей авансом за полгода. Расход оказался явно непосильным. За вторую половину года отцу семейства удалось расплатиться только 24 ноября. Пушкиных, по-видимому, очень устраивает это жилье, но в середине 1803 года они перебираются по соседству в дом № 8, принадлежавший графу П.Л. Санти. Пушкиноведы связывают этот переезд со смертью Ольги Васильевны Пушкиной в январе 1803 года. Якобы кончина матери дала Сергею Львовичу желанную свободу. Вот только остается непонятным, почему вымечтанная свобода выразилась в переезде в гораздо худшие условия. Но так или иначе вторым московским адресом стали юсуповские владения.
Чистые пруды.
Дом Юсуповых окружен легендами. Считалось, что когда-то на его месте находился один из загородных домов Ивана Грозного, что не подтверждено никакими документами. В XVII веке это было владение Волкова. Главный сохранившийся до наших дней дом – палаты Волкова, построеные в конце XVII века, а в конце правления Петра Великого подаренные царем Г.Д. Юсупову. Григорий Дмитриевич начал государственную службу стольником, участвовал в боях под Нарвой, Полтавой, Выборгом. При Екатерине I стал сенатором, при Петре II – первым членом Государственной Военной коллегии. Сын Григория Юсупова – Борис Григорьевич (1696–1759) все царствование Анны Иоанновны и правительницы Анны Леопольдовны был московским губернатором, при Елизавете Петровне стал сенатором, президентом Коммерц-коллегии и главным директором Кадетского корпуса. Пушкины столкнулись с представителем следующего поколения – Николаем Борисовичем, который успел к этому времени побывать посланником в Турине, сенатором и при Павле I стал министром уделов. Александр I сделал одного из богатейших людей России членом Государственного совета. Знакомец Вольтера и Бомарше, коллекционер, меценат, к тому же главноуправляющий в свое время Московской экспедицией кремлевского строения, Николай Борисович во всех своих резиденциях имел полный штат прислуги, похожий на штат придворных служителей. В Москве у него был дом на углу Большой Никитской и Леонтьевского переулка с великолепно отделанным театральным залом. Он много времени проводил в принадлежавшем ему Архангельском. В Огородниках в юсуповском владении числилось 104 человека дворни, кроме того, чиновник средней руки, один мещанин, жена портного и… семья Пушкиных с шестью своими дворовыми. Это были Иван Федоров 20 лет, вдова Ульяна Яковлева 35 лет, Николай Матвеев, две женщины и Никита Тимофеев Козлов 26 лет, неотлучный дядька поэта.
Квартира Пушкиных, согласно документам, помещалась в «среднем желтом доме» – деревянном, стоявшем параллельно каменным палатам. Дом этот был снесен в 1860 году. Двадцатью годами позже подверглись варварской реконструкции и самые палаты. Была изменена внутренняя планировка, сделана новая роспись стен. Даже кованые решетки были заменены новоделами.
Остается загадкой, по какой причине Н.Б. Юсупов решил принять у себя обремененных большой семьей и к тому же небогатых постояльцев. Пушкиноведами высказывалось предположение об общих интересах Юсупова и отца поэта, увлеченных театром. Но тогда становится непонятным, почему Пушкины так скоро покинули юсуповские владения, сохранив при этом самые добрые отношения с хозяином. Сам поэт много раз был гостем Николая Борисовича в Архангельском и Москве. Последняя встреча произошла 27 февраля 1831 года на вечере, устроенном Пушкиным и его молодой супругой.
Пушкинское послание «К вельможе» – Н.Б. Юсупову – вызвало много острых нападок на поэта. Ряд литераторов открыто обвинил поэта в низкопоклонстве, и только В.Г. Белинский выступил в защиту позиции Пушкина: «Некоторые крикливые глупцы, не поняв этого стихотворения, осмеливались в своих полемических выходках бросать тень на характер великого поэта, думая видеть лесть там, где должно видеть только в высшей степени художественное обобщение и изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее представителей».
Наконец, и после переезда на другую квартиру за мальчиком Пушкиным сохранилось право проводить целые дни в знаменитом Юсуповом саду (Б. Харитоньевский пер., 24). До приобретения в 1810 году Архангельского Н.Б. Юсупов много занимался этой московской диковинкой. Сад повторял в плане Версальский парк. Он имел правильные аллеи, круглый пруд, к которому вели ступени двух лестниц. Здесь были и беседка, и грот, и искусственные руины, и статуи. Со стороны переулка в сад вели нарядные парадные ворота. Юсупов сад остался в строках автобиографического пушкинского стихотворения «В начале жизни школу помню я…»:
…И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада, Под свод искусственных порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада; Я предавал мечтам свой слабый ум, И праздно мыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, И белые в тени дерев кумиры, И в ликах их печать недвижных дум. Все – мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в мраморных руках, На главах лавры, на плечах порфиры. Все наводило сладкий некий страх Мне на сердце; и слезы вдохновенья При виде их рождались на глазах. Другие два чудесные творенья Влекли меня волшебною красой: То были двух богов изображенья. Один (Дельфийский идол) лик младой — Был гневен, полон гордости ужасной, И весь дышал он силой неземной. Другой – женоподобный, сладострастный, Сомнительный и лживый идеал — Волшебный демон – лживый, но прекрасный…Но если Юсупов сад как обстановку своих первых вдохновений называет сам Пушкин, то и поныне остается загадкой «школа», с которой начинаются стихи. Среди всей пышности и шума бесконечных связанных с именем поэта торжеств, конференций, юбилейных празднеств, невыясненным остается главное – имена его первых учителей и обстоятельства начального обучения. Согласно свидетельству одной из современниц, впрочем, далекой от пушкинской семьи, после смерти своей соперницы в семейных делах – второй бабушки поэта – «Ганнибальша», как женщина «очень умная, деятельная и рассудительная, стала заведовать всем пушкинским домом и детьми, принимая к ним мамзелей и учителей, да и сама учила».
Имена учителей домашних остаются неизвестными, зато пушкиноведы в 1920-х годах высказывают немало предположений о реальном учебном заведении, в котором мог оказаться маленький Пушкин. В Москве было множество иностранных пансионов. Рядом с Большим Харитоньевским переулком, у Красных ворот, существовало в те же годы и «Частное народное двухклассное училище». Кому-то из исследователей представлялся вероятным даже иезуитский пансион. Но по-настоящему ни одно из предположений не совпадает с образом учительницы в пушкинских стихах, написанных в 1830 году. И если был точен образ Юсупова сада, тем более должен был быть взят из действительности образ первой учительницы, от которой маленький Пушкин убегал в тень Юсупова сада:
Смиренная, одетая убого, Но видом величавая жена Над школою надзор хранила строго, Толпою нашею окружена, Приятным, сладким голосом, бывало, С младенцами беседует она. Ее чела я помню покрывало И очи светлые, как небеса. Но я вникал в ее беседы мало. Меня смущала строгая краса Ее чела, спокойных уст и взоров, И полные святыни словеса. Дичась ее советов и укоров, Я про себя превратно толковал Понятный смысл правдивых разговоров, И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада…И все-таки переезд в домовладение графа Петра Львовича Санти можно объяснить все той же тенью бедности, которая не оставляет семьи Пушкиных. Маленькое домовладение, маленький двор, без сада и какой бы то ни было зелени, весь застроенный деревянными постройками, тесными и неудобными. Основной дом имел по фасаду всего 13 метров, а в глубину десять. Среди жильцов здесь ютились некий чиновник Петров, уездный землемер, отец знаменитого живописца Федотов, дворовый портной графа Березинский, согласно объявлениям в «Московских ведомостях», «производивший женское портновское мастерство» и притом имевший нескольких учеников. У Пушкиных, кроме членов семьи, было еще не меньше шести человек дворовых. В этой московской квартире Пушкин будет оставаться до 1807 года. И это в ней Сергея Львовича будет посещать Н.М. Карамзин, к которому на редкость серьезно отнесется мальчик.
В биографической заметке о погибшем сыне Сергей Львович расскажет: «В самом младенчестве он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин – не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго: во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год».
Теснота и неудобства явно не угнетали ребенка. Огородники оставят в его душе ощущение подлинной Москвы. Радушной. Многолюдной. Всегда гостеприимной. Не умевшей и дня прожить без толпы гостей, какого бы ущерба ни наносили такие гостеванья. Ведь это не куда-нибудь, а к «Харитонью в переулке» старушка Ларина привозит в Москву на ярмарку невест свою Таню. После долгой поездки по Тверской и главным улицам.
У Харитонья в переулке Возок пред домом у ворот Остановился. К старой тетке, Четвертый год больной в чахотке, Они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь В очках, в изорванном кафтане, С чулком в руке, седой калмык, Встречает их в гостиной крик Княжны, простертой на диване, Старушки с плачем обнялись, И восклицанья полились… Больной и ласки и веселье Татьяну трогают; но ей Нехорошо на новоселье, Привыкшей к горнице своей. Под занавескою шелковой Не спится ей в постели новой, И ранний звон колоколов, Предтеча утренних трудов, Ее с постели подымает. Садится Таня у окна. Редеет сумрак; но она Своих полей не различает: Пред нею незнакомый двор, Конюшня, кухня и забор. И вот: по родственным обедам Развозят Таню каждый день…У Огородников было и еще одно чисто московское преимущество – близкое соседство и родных, и друзей. Селиться старались рядом, видеться по несколько раз на неделе. Здесь кругом свои и можно, по выражению современника, «наносить друг другу визиты совсем по-домашнему, разве что не в халате и туфлях на босу ногу».
В Малом Харитоньевском переулке (№ 2) живет дядюшка Василий Львович Пушкин. Правда, в 1803 году, после бракоразводного процесса с Капитолиной Михайловной Вышеславцевой, уже признанный поэт уезжает в длительное путешествие по Западной Европе, составляет там библиотеку и в Париже берет уроки театрального искусства, учится, по его собственному признанию, «простоте и живости разговорной речи вместо той выспренности, которая еще царила на театральных подмостках».
В Малом Козловском переулке под № 12 поселяется поэт и баснописец Иван Иванович Дмитриев, «патриарх русской поэзии», как его будет со временем называть Гоголь. В 1799 году Дмитриев вышел в отставку и переехал из Петербурга в Москву, где, как он сам пишет в книге «Взгляд на мою жизнь», купил «деревянный домик с маленьким садом, близ Красных ворот, в приходе Харитония в Огородниках, переделал его снаружи и внутри, сколько можно было получше; украсил небольшим числом эстампов, достаточною для меня библиотекою и возобновил авторскую жизнь». Началась эта жизнь «между строев и караулов, или в коротком промежутке свободы между отставкою из гражданской службы и вступлением опять в оную».
В своем крошечном садике Дмитриев мог днями возиться с грядками и там же принимать своих литературных друзей. Для устроенных поэтом солнечных часов В.А. Жуковский составил надпись:
И час, и день, и жизнь мелькают быстрой тенью! Прошла моя весна с минутной красотой! Прости, любовь! Конец мечтам и заблужденью! Лишь дружба мирная с улыбкой предо мной!По Большому Харитоньевскому переулку, 14 устраивает литературные вечера вдова Е.П. Хераскова, а в доме № 12 живет начинающий поэт Иван Иванович Козлов, в будущем автор пользовавшейся известностью у современников поэмы «Чернец».
Но эта жизнь в Огородниках продолжается только до 1807 года. Хозяином дома П.Л. Санти становится С.В. Шереметев, а в следующем году братья и сестры Пушкины продают доставшийся им после смерти матери О.В. Пушкиной дом в Малом Харитоньевском переулке. Впрочем, значительные изменения вносит в нее и приобретение бабушкой-«Ганнибальшей» в конце 1804 года сельца Захарова, близ Больших Вязем. На лето, начиная со следующего года, туда отправляется вся семья, а главным образом дети. Пушкин впервые по-настоящему встречается с русской деревней. С Москвой же его знакомит его верный дядька. С Никитой Козловым мальчик бродит по Огородникам, поднимается на Меншикову башню, гуляет у Чистых прудов, с берега которых только что был перенесен строительный лесной склад. Драматург и поэт Н.В. Сушков напишет уже после гибели поэта:
«Старый дядька Никита Козлов, можно сказать, не покидал своего питомца от колыбели до могилы. Он был, помнится, при нем и в Москве, где шаловливый и острый ребенок уже набирался разных впечатлений, резвясь и бегая на колокольню Ивана Великого и знакомясь со всеми закоулками и окрестностями златоглавой столицы».
Существует предположение, что в 1807 году Пушкины успели недолго пожить и в Малом Козловском переулке, в доме Одоевских, на углу Фурманного переулка. В 1809 году литературная жизнь в Огородниках окончательно замирает: Иван Иванович Дмитриев получает назначение министром и переезжает в Петербург. Говорили, что больше всего он жалел, что приходится оставлять тишину и покой «у Харитонья» и свои цветочные грядки.
Сегодня большинство названных адресов условны. Исчезли и продолжают исчезать по всей Москве дома пушкинских лет, уступая место не столько новым жилым домам, сколько всякого вида торгово-развлекательным центрам, борьба с которыми на деле становится вопросом обеспечения государственной безопасности. И все же даже условные адреса нужно знать и запоминать, как уголок пустой комнаты в далекой польской деревушке Желязовой Воле с короткой надписью: «Здесь родился Шопен». Следы прошлого, великих людей, истории, культуры, их недостаточно перечислять – гораздо важнее почувствовать как живой пульс в огромном мегаполисе, захлестываемом страстями наживы, поисков легкой жизни под единым, повсюду рекламируемым лозунгом: «Бери от жизни все!» И памятка, пусть даже на новых зданиях, о вехах прошлого всегда остается вехой нашего собственного, очень личного пути, нашей собственной связи с историей.
А какой интерес представлял бы сегодня домик Лариной, как его называли в Москве, «у Харитонья в переулке» (в прошлом № 11/14) – деревянный, одноэтажный, обитый горизонтальными досками «рустами» в подражание каменной кладке, с его ставнями на окнах и небольшим навесом над входными дверями! Пушкин не вдавался в житейские подробности остававшихся милыми его сердцу московских владений. Зато М.Н. Загоскин дал полное описание одного из них: «Тетушка жила в своих наследственных деревянных хоромах на Чистых прудах. Я не знаю, что меня больше поразило, наружная ли форма этого дома, построенного в два этажа каким-то узким, но чрезвычайно длинным ящиком, или огромный двор, на котором наставлено было столько флигелей, клетушек, хлевушек, амбаров и кладовых, что мы въехали в него, точно как будто в какую-нибудь деревню…» Зато хорошо сохранившийся и представляющий один из интереснейших архитектурных памятников Москвы дом Трубецких на соседней Покровке (дом № 22) не несет никаких отметок пребывания здесь маленького Пушкина. Между тем это сюда «возили», по словам сестры поэта, маленьких Пушкиных не только в гости, но и на знаменитые детские балы. Детские балы бывали и у танцмейстера Иогеля на Тверском бульваре, но у Трубецких они казались интересней, теплее, тем более что маленький Сашка ловкостью в танцах не отличался. Необычный по архитектурному решению «дом-комод» на Покровке окружен издавна легендами. По одним, он был построен императрицей Елизаветой Петровной в подарок своему фавориту Алексею Григорьевичу Разумовскому. По другим, она провела в нем ночь после венчания в соседней церкви. Но приходится огорчить любителей романтических версий: никаких доказательств церковного брака дочери Петра I не существует, не говоря о том, что в узаконении подобного союза после вступления Елизаветы на престол не было смысла. Вся семья фаворита была обласкана и осыпана царскими милостями, но отношения с самим Алексеем Григорьевичем стали куда более спокойными и не задевали воображения тридцатидвухлетней женщины. Простоватость Разумовского в новом положении Елизаветы Петровны все больше начинала докучать, как и его трусоватость – разочаровывать. Арестовывать правительницу Анну Леопольдовну, собственную двоюродную племянницу, вместе с уже признанным императором Иоанном VI Антоновичем, дочь Петра поедет, по существу, со случайными людьми. Разумовский не только будет уговаривать цесаревну отказаться от подобной затеи, но и вообще останется дома. На всякий случай. Единственная наперсница императрицы Мавра Шувалова будет тратить немало усилий, чтобы поддерживать явно слабеющую привязанность царственной подруги.
Но в отношении дома на Покровке важно другое. Он был выстроен при Екатерине II, между 1766 и 1772 годами, и только стилистически относился к более ранней эпохе, представляя образец барокко в московской архитектуре. Дом не имеет обычного для Москвы того времени сада, но полностью захватывает всю принадлежащую ему землю внутренним двором, окруженным со всех сторон в едином стиле с главным корпусом решенными флигелями. Своеобразная внутренняя планировка дополняется необычным решением главного зала, превращенного в деревянную резную беседку, раздвинутую по его периметру. Скорее всего, именно в нем и происходили детские праздники и уроки танцев.
Покровка, 22. Дом Трубецких.
Первоначально дом принадлежал графу М.Ф. Апраксину и перешел к Трубецким в 1772 году в связи с тем, что последним пришлось лишиться своего двора в Кремле из-за строительства здания Сената. В пушкинском детстве в доме жила семья троюродного брата Сергея Львовича – камергера князя Ивана Дмитриевича Трубецкого с супругой Екатериной Александровной, урожденной Мансуровой, и пятью детьми примерно такого же возраста, как поэт. Это Юрий, Николай, Аграфена, Александра и Софья, вышедшая впоследствии замуж за пушкинского приятеля Александра Всеволодовича Всеволожского. Домашний учитель маленьких Трубецких «с Покровки», историк М.П. Погодин вспоминал, с каким пиететом все они относились к поэтическому дару их дальнего родственника. Сохранились слова княжны Александры Ивановны, сказанные в сентябре 1826 года на балу у французского посла, что она стала лучше относиться к Николаю I – «потому что он возвратил Пушкина». Эти слова очень тронули поэта.
В годы жизни во дворе Санти у маленького Сашки появляется добрый гений, который не оставит его до последних дней, – Александр Иванович Тургенев, восторженный поклонник «Прекрасной креолки», перенесший все свои добрые чувства на ее нелюбимого сына. Положение Александра Ивановича в доме Пушкиных было достаточно сложным. Он на целых девять лет моложе дамы своего сердца. Его молодость льстит «Прекрасной креолке», как и его внешность, черты которой поэт сохранит в портрете Владимира Ленского:
С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь И кудри черные до плеч.А.И. Тургенев был воспитанником Благородного пансиона при Московском университете, где началась его дружба с В.А. Жуковским, а затем Геттингенского университета, где Александр Иванович выбрал историко-политические науки. Он рано выделяется на гражданской службе, сопровождает Александра I за границу. Двадцати пяти лет он назначается директором департамента главного управления духовных дел иностранных исповеданий и будет соединять с этой должностью звания помощника статс-секретаря в Государственном совете и старшего члена Комиссии составления законов. С таким знакомцем Пушкины не могли не считаться. Его предложение о помещении будущего поэта в Царскосельский лицей было для них вымечтанным, но и осуществиться смогло только благодаря деятельному содействию Александра Ивановича, даже став молодым человеком, поэт не вполне оценил покровительство Тургенева. Имя «доброго гения» он даст ему уже в связи с южной ссылкой. Сразу после гибели поэта отец его напишет А.И. Тургеневу: «Александр Иванович Тургенев был главным, единственным орудием помещения его в царско-сельский императорский лицей и ровно через 25 лет он же проводил тело на вечное последнее жилище… Да узнает Россия, что Вам она обязана любимым ею поэтом, а я, как отец, поставляю за утешительную обязанность изъявить Вам все, чем исполнено мое сердце. Неблагодарность никогда не была моим пороком. Простите, будьте везде счастливы, как будете везде любимы. Не узнаю, увижу ли вас, но покуда жив, буду любить и вспоминать о вас с благодарностью. Искренне почитающий Вас Сергей Пушкин. Июня 4-го 1837 г. Москва».
Но эта оценка придет задним числом. При жизни поэта все выглядело иначе. Теперь же А.И. Тургенев оказался единственным человеком, поехавшим с гробом поэта в Святые горы. Если не считать дядьки Никиты Козлова. Тургенев ехал в кибитке, дядька – на дровнях, рядом с гробом, обняв его из последних сил. Никто из родных, начиная с жены, этого пути проделать не захотел.
Менялись адреса, менялись и самые квартиры в их внутреннем устройстве. Надежда Осиповна не терпела однообразия, нуждалась в постоянных переменах, и страсть к переездам дополнялась у «Прекрасной креолки» страстью к изменению меблировки. В результате вчерашняя гостиная становилась спальней, спальня – кабинетом, людская превращалась в детскую, независимо oт того, какие привычки уже успели сложиться у членов семьи и особенно у детей. Беспокойный дух Надежды Осиповны непонятным образом уживался со способностью прекращать разговаривать с тем или иным членом семьи, месяцами словом не отзываться к нашалившему или досадившему ей ребенку. Это редко касалось любимицы – дочери Ольги, в дальнейшем и Льва, но почти всегда выпадало на долю нелюбимого Сашки, тоже молчаливого, замкнутого, как матери казалось, нестерпимо неуклюжего. Вмешательство бабушки Ганнибал одно несло с собой тепло и беззаботную радость детства. К ней можно и нужно прибавить имя няни Арины Родионовны, но здесь возникает еще одна и опять-таки непреодоленная трудность.
Арина Родионовна, сама родом из ганнибаловской вотчины Суйды, близ Гатчины, была крепостной Марии Алексеевны. Во всяком случае, в исповедных росписях семьи Пушкиных в Огородной слободе упоминаний о ней нет. В 1803 году она числится среди дворовых «Ганнибальши» на ее съемной квартире как вдова Ирина Родионовна 45 лет. И это один-единственный раз до переезда семьи в Лефортово. Между тем известно, что поэт называл няню мамой, что занимала она в семье Пушкиных совершенно особое положение, да и до конца своих дней прожила у сестры поэта, которая и подумать не могла с ней расстаться. Арина Родионовна была будто единственным хранителем скудного на человеческое тепло семейного пушкинского очага. Ведь кроме трудного характера матери, поэт сталкивался и с особенностями характера отца, человека несомненно просвещенного, превосходно владевшего французским языком, склонного к театральным увлечениям, но предельно скупого, попрекавшего грошовыми тратами всех домашних и способного ворчать целый день из-за разбитой рюмки, доказывая, что стоила она не двадцать, а целых тридцать пять копеек. Свободу маленький Сашка обретал только в Захарове.
М.А. Ганнибал приобретает сельцо в конце 1804 года. По утверждению М.А. Цявловского, Пушкин начинает там бывать не с 1806-го, а с 1805 года вплоть до своего отъезда в Петербург, в лицей. Прощаясь с Москвой, Пушкин прощался тогда с детством, с Захаровом.
Его родное Подмосковье
«Прекрасная креолка» недоумевала; Александр собрался в Захарово! В канун свадьбы! В то самое Захарово, в котором никто из семьи не был уже двадцать лет. Откуда сын уехал мальчишкой. И где нет никого близких. «Сентиментальное путешествие», – не сможет удержаться Надежда Осиповна от иронии в письме дочери.
И она права о сумятице чувств, вызванной предстоящей переменой в жизни – желанной и… нежеланной. Чего стоит одна мысль поэта о том, что ему не хватало счастья на одного – откуда же возьмется оно на двоих! Во всех сложностях материальных расчетов и взаимоотношений с будущими родственниками. Кажется, Захарово – страна детства возникает как вымечтанная пристань простых человеческих радостей, беззаботности, семейного тепла. Не был ли захаровский дом единственным настоящим домом по сравнению с вихрем постоянно сменявшихся московских квартир? И не случайно хочет поэт найти здесь и свое последнее пристанище – лечь в эту землю.
Пусть «сентиментальное путешествие» не удалось: слишком многое изменилось в усадьбе, слишком постарели былые сверстники из числа деревенских мальчишек и девчонок, нашедшие и самого поэта куда как постаревшим – «нехорошим» – и не ставшие обрывать сочувствия. Зато сколько тепла подарила ему приветившая гостя дочка няни Марьюшка, наспех спроворившая яишенку, сердцем отозвавшаяся на сетования поэта. А былые захаровские впечатления – они все равно останутся на всю жизнь, пронижут все пушкинское творчество. Природа, усадебный обиход, близость исторических событий и – люди. Те самые соседи, которые «шумной толпой» входят в захаровский дом в «Послании к Юдину». Спешат к обеду, толкуют между собой.
И кстати – кто они?
Конечно, большинство из них составляли московские знакомые. Но в деревне круг знакомых неизбежно сужался, теснее сходился, а деревенская скука заставляла чаще ездить в гости и принимать соседей у себя. Оказывается, захаровское окружение – это литературные мостки старой столицы, перекинутые из Огородной слободы и Лефортова.
В год появления Пушкиных в Захарове соседнее Таганьково составляло собственность семейства Бекетовых. По документам владелицей числилась Ирина Ивановна Бекетова, одна из четырех дочерей и наследниц сказочных богатств Мясниковых-Твердышевых на Урале. Десятки душ крепостных, заводы, несчитаные капиталы – все это стерло всякие преграды на пути появления невест-миллионщиц при екатерининском дворе, где они получают полную свободу действий. По словам современника, «состояние сестриц было таково, что перед его лицом естественно забывалось и незнатное происхождение, и недостаточное воспитание, любой промах вчерашних девиц рассматривался как милая странность, проявление оригинальности и никогда не подвергался порицанию».
Между тем Ирина Ивановна становится супругой полковника Петра Афанасьевича Бекетова, родного брата неудавшегося фаворита императрицы Елизаветы Петровны, Никиты Афанасьевича, и Екатерины Афанасьевны, матери поэта и баснописца Ивана Ивановича Дмитриева, долголетнего покровителя и юного Пушкина, и Гоголя.
Увидев заснувшего за кулисами придворного театра дежурного корнета Никиту Бекетова, Елизавета Петровна пришла в такой восторг, что тут же вызвала музыкантов и распорядилась, чтобы они «самой сладостной мелодией» хранили его сон. Никита Бекетов проснулся без пяти минут фаворитом и грозным соперником графа Алексея Григорьевича Разумовского, долгие годы занимавшего это место. В партии старого фаворита начался отчаянный переполох, и любимая подруга императрицы графиня Мавра Шувалова нашла способ «уладить недоразумение». Она посоветовала молодому претенденту мазь, чтобы сохранить так понравившийся государыне цвет лица. Бекетов последовал совету почтенной дамы и на следующее утро проснулся с лицом, покрытым ярко-красной сыпью, которая была немедленно истолкована как признак «дурной болезни». И тем не менее императрица продолжала колебаться. Только дружный хор ближайшего окружения вынудил ее отправить Бекетова в ссылку – на должность губернатора Астрахани, где Никита Афанасьевич, несмотря на молодость, сумел завоевать всеобщую любовь и уважение. Он прославился не только редким хлебосольством, но и изобретенным лично им рецептом приготовления знаменитой «бекетовской» икры.
Рассказам о Никите Афанасьевиче в московском доме Петра Бекетова не было конца. И это с его внуками Всеволожскими – Никитой, Александром и Марией, в замужестве Сипягиной, близко сойдется Пушкин. Их дом он собирался изобразить в своем оставшемся неоконченным романе «Русский Пелам». В октябре 1824 года поэт напишет Никите Всеволожскому: «Ты помнишь Пушкина, проведшего с тобой столько веселых часов – Пушкина, которого ты видел и пьяного, и влюбленного, но всегда верного твоим Субботам».
Никите Афанасьевичу Бекетову напишет эпитафию его племянник Иван Иванович Дмитриев:
Воспитанник любви и счастия богини, Он сердца своего от них не развратил; Других обогащал, а сам как стоик жил И умер посреди безмолвия пустыни.Но главный гость в Семенкове – любимец Ирины Ивановны, убежденный холостяк Платон Петрович Бекетов, издатель-меценат, коллекционер, воспитывавшийся в пансионе Шед Шадена вместе с Н.М. Карамзиным. С 1776 года он служил в Петербурге, а с 1789-го вышел в отставку и поселился на Кузнецком мосту в Москве, где в 1801 году во флигеле своего дома открыл типографию и книжную лавку. Типография очень скоро признается лучшей в старой столице. Бекетовские издания отличались совершенством оформления, красотой шрифтов и конечно же подбором авторов, среди которых находятся И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский. Сама же лавка становится первым московским писательским клубом. Платон Бекетов выпускает в общей сложности около ста названий. В 1807–1811 годах он издает «Собрание оставшихся сочинений» А.Н. Радищева в шести частях.
На его средства выходят журналы «Друг просвещения» и «Русский вестник». Круг интересов Бекетова отличается исключительной широтой. Он состоит членом обществ: любителей российской словесности, испытателей природы, в 1811–1823 годах председательствует в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Его отца Пушкины в свои захаровские годы уже не застали: он умер в июле 1796 года, Ирина Ивановна до конца оставалась их соседкой – она скончалась в 1812 году. Семейное захоронение Бекетовых находилось в Новоспасском монастыре, где над могилой отца установлен превосходный памятник работы И.П. Витали.
Таким же небольшим, как Таганьково, было и соседнее Семенково: двенадцать дворов, около сотни крепостных. Зато оно имело хороший барский дом со службами, большой сад с «плодовитыми деревьями», по определению современных документов. Сюда не могло не тянуть прежде всего Василия Львовича Пушкина. Владелец Семенкова – «в бригадирском чине» Алексей Иванович Кокошкин – был родственником сенатора Федора Федоровича Кокошкина, завзятого театрала, способного актера-любителя, да еще и режиссера, выступавшего вместе с Василием Львовичем. Ф.Ф. Кокошкину Москва будет обязана устройством казенной сцены – Большого и Малого театров, приглашением лучших актеров тех лет и самого М.С. Щепкина. В захаровские края сенатор приезжал вместе с первой своей женой Марией Ивановной, урожденной Архаровой, к ее родителям. Архаровым принадлежали поместья нынешние Горки-10, Иславское и Горышкино. Как раз в 1606 году Ф.Ф. Кокошкин впервые выступил на литературном поприще с комедией «Перегородка», переведенной им с французского. Сын же хозяина Иван Алексеевич Кокошкин уже пользовался славой «забавного» драматурга. Его изданная в 1790 году в Петербурге комедия «Поход под шведа» с успехом шла на петербургской сцене и часто повторялась в Эрмитаже, забавляя Екатерину изображением трусости изнеженных гвардейцев. В том же году Иван Кокошкин опубликовал «Стансы: Екатерина II».
История Семенкова нашла интереснейшее продолжение и во второй половине XIX века. Его владелицей становится первая русская женщина-химик Юлия Всеволодовна Лермонтова, дочь начальника Московского кадетского корпуса. Попытка поступить в Петровскую сельскохозяйственную академию не увенчалась для Юлии Всеволодовны успехом. О ее неудаче узнает математик Софья Васильевна Ковалевская и вступает с ней в переписку. Переписка перешла в тесную дружбу. В 1869 году супруги Ковалевские вместе с Юлией Всеволодовной уезжают за границу, где в 1874 году обе получают ученые степени, Лермонтова – доктора химических наук. По возвращении в Россию она работает в лабораториях A.M. Бутлерова в Петербурге и В.В. Марковникова в Москве.
Однако попытки продолжения научных занятий в России оказываются для обеих подруг безрезультатными. В одном из писем С.В. Ковалевская пишет: «…обращались к министру, но министр решительно отказал и даже одному моему знакомому… выразил так, что и я, и дочка моя успеем состариться прежде, чем женщин будут допускать к университету. Каково?» Весной 1881 года Ковалевская уезжает из России, Лермонтова прекращает занятия химией и наглухо закрывается в своем Семенкове. Здесь она начинает заниматься разведением высокопродуктивных пород крупного рогатого скота и рыбы, используя в своем рыбхозяйстве, в частности, опыт, имевшийся еще в Древней Руси. До сих пор в Семенкове существуют так называемые «Лермонтовские пруды». Октябрьские события расстроили хозяйство Лермонтовой, попыток помощи со стороны А.В. Луначарского было недостаточно. Имение стало «бывшим», а в 1919 году не стало и его давней владелицы.
Ближайшими друзьями владельцев Семенкова Кокошкиных были, помимо Василия Львовича Пушкина, Жуковский, Батюшков, один из основателей литературного общества «Арзамас» Д.В. Дашков. Талантливый актер-любитель, Ф.Ф. Кокошкин «игрывал» и с очень способным актером по душевному влечению князем С.Ф. Голицыным.
Кстати сказать, у Голицыных в округе были немалые владения. Княгиня Варвара Васильевна, родная племянница Г.А. Потемкина-Таврического, была редкой хозяйкой, сама, и притом очень успешно, вела дела в своих поместьях. А это и нынешнее Богачево, называвшееся на рубеже XVIII–XIX веков деревней Ешманкой, с четырнадцатью дворами и неизменной сотней крестьян, и, на первый взгляд, совсем скромное Аляухово с семью крестьянскими дворами при шестидесяти крепостных. Зато по другую сторону речки Нахабни стоял рядом двухэтажный господский дом со службами, и бок о бок с ним «куренной заводик о трех кубах». Бабы местные занимались прядением льна и ткачеством.
К Голицыным охотно приезжали литераторы – в Москве, в своем дворце на Никитском бульваре, Варвара имела литературный салон, где впервые выступил с чтением своих од К.Ф. Рылеев, постоянно бывал И.А. Крылов. Те же порядки сохранялись и в аляуховском поместье. Недаром «златовласой Пленирой» назвал хозяйку Державин.
Литературные чтения были знакомы и соседнему поместью в Матвейкове-Сергиевском, принадлежавшем Варваре Андреевне Обресковой. Вдова известного русского дипломата, оставившего к тому же интереснейшую переписку с автором «Недоросля» Д.И. Фонвизиным, Обрескова была племянницей супруги знаменитого князя Я.П. Шаховского. От дяди и тетки она получила в наследство московский «Соловьиный дом» (на углу Арбатской площади и Никитского бульвара) и записки князя – интереснейшие мемуары, отличавшиеся редкой объективностью и точностью в изложении исторических фактов и человеческих характеристик. Известно, что в Матвейкове устраивались чтения мемуаров.
Садово-триумфальная пл. (ресторан «София»).
Немало памяток должно было сохраниться и от самого Обрескова, прожившего очень бурную жизнь. Алексей Михайлович окончил в 1740 году Сухопутный шляхетный корпус, но начал настоящую служебную карьеру, только попав в составе посольства А.И. Румянцева в Константинополь. В 1751–1753 годах он оставался там в качестве поверенного в делах, а последующие пятнадцать лет – в должности резидента. С началом русско-турецкой войны Обресков был заключен в Семибашенный замок, где провел в темнице три года. В дальнейшем ему довелось принимать участие в Фокшанском и Будапештском конгрессах.
К числу местных литературных гнезд относится и село Сидоровское, которое в приданое за княжной Натальей Ивановной Щербатовой перешло к ее мужу, однофамильцу и дальнему родственнику, князю Михаилу Михайловичу Щербатову. Талантливый историк, он получил в свое время указание от Екатерины II разобрать материалы Кабинета Петра I, что давало возможность работать в богатейших и недоступных для исследователей Патриаршьей и Типографской библиотеках.
Воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, М.М. Щербатов начинает писать собственную «Историю» в 15 томах (до низложения Василия Шуйского). Одновременно он издает такие исторические памятники, как «Царственная книга», «Царственный летописец», «Летопись о многих мятежах» и «Историю Свейской (Шведской) войны» с собственноручными пометками Петра I.
В начале XIX века обитателей Захарова, как и их соседей, вряд ли меньше занимала громкая история унаследовавшего поместье князя Александра Федоровича Щербатова. После недолгого расположения Павла I, которое позволило ему в течение двух лет получить чины генерал-майора, генерал-адъютанта и орден Иоанна Иерусалимского, но главное – вопреки воле собственной матери жениться на красавице княжне Варваре Петровне Оболенской (только личное вмешательство императора позволило восстановить мир в семье), – последовала опала. Князю пришлось большую часть времени проводить в своем поместье. В дальнейшем он приобрел известность тем, что сформировал в годы Отечественной войны два конных полка по 1200 человек каждый. В Сидоровском бывал у любимой сестры и будущий декабрист Евгений Петрович Оболенский.
Но особенно сказались павловские годы на истории Скоротова, которое вместе с селом Введенским принадлежало в начале XIX века действительной тайной советнице, как ее называли документы, Екатерине Николаевне Лопухиной, пользовавшейся в Москве скандальной славой. Когда Пушкин начнет интересоваться былой придворной жизнью, дворцовыми тайнами, Лопухина станет одной из его героинь.
Все началось с супруга Лопухиной, Петра Васильевича, петербургского обер-полицмейстера, сумевшего заслужить расположение императрицы Екатерины. В результате следует назначение губернатором в Тверь, затем в Москву и генерал-губернатором в Ярославль. Лопухин имел поддержку в лице всесильного павловского «брадобрея» Кутайсова и открытого врага в лице Аракчеева, которого он с удивительной ловкостью сумел переиграть.
С помощью Аракчеева по доносу Лопухина Кутайсов был приговорен к ссылке в Сибирь. Но тот же Лопухин на коленях вымолил у императора прощение врагу. В результате Павел был доволен – ему не хотелось расставаться с Кутайсовым, но и Кутайсов постарался отблагодарить неожиданного благодетеля. Именно он порекомендовал императору дочь Лопухина Екатерину на роль фаворитки.
Отец был в восторге от открывшихся перед ним возможностей. Как напишет о нем поэт и писатель И.И. Долгоруков, «эгоист по характеру и чувствам, равнодушный к родине, престолу и ближнему, он и добро и зло делал только по встрече, без умысла и намерения, кроме себя, ничего не любит, кроме своего удовольствия, ничем не дорожит, но покупает оное всеми средствами…»
А.И. Тургенев также резко рисует портрет его супруги, которая, по слухам, еще до замужества пользовалась симпатией одного из самых влиятельных екатерининских вельмож графа А.А. Безбородко: «Вместе со своей благоговейной набожностью она служила богине любви; у нее, по пословице, был муж наружу и пять в сундуке; постоянно, всегда готовый к услугам, был Федор Петрович Уваров, подполковник Екатеринославского гусарского полка. Он получал от нее по 100 рублей ассигнациями в месяц, да кроме того, она ему нанимала карету с четырьмя лошадьми за 35 рублей в месяц ассигнациями».
Переговоры о переезде Лопухиных в Петербург Кутайсов вел именно с ней. В результате будущая фаворитка получила чин камер-фрейлины, сама Лопухина-старшая назначена статс-дамой, отец семейства – генерал-прокурором. Лопухина заручилась и обещанием о переводе в Петербург Уварова. Когда это последнее условие не было выполнено, она инсценировала попытку самоубийства, чем вынудила императора уступить и не только перевести Уварова в столицу, но еще и дать ему Аннинскую ленту.
А.И. Тургенев рассказывает, как отъезд Лопухиных на берега Невы поднял на ноги всю Москву: «…к ним возили со всех сторон чудотворные иконы: Тверскую, Всех Скорбящих, Утоления печали, Взыскания погибших; да, прости Господи, всех не перечтешь; служили напутственные молебны, святили воду, окропляли Анну Петровну, заставляли ее ложиться на пол и через нее переносили святые иконы». И все эти события с хозяевами Скоротова происходили всего за пару лет до приобретения Захарова. Павла уже не было в живых, Анна Петровна превратилась в экс-фаворитку, а ее мачеха пыталась сохранить в своих владениях порядки большого Двора.
В период самых радужных надежд на будущее отец фаворитки П.В. Лопухин с супругой строят в Введенском великолепный усадебный ансамбль по проекту архитектора Николая Александровича Львова. Львов писал своему заказчику: «Введенское ваше таково, что я замерз было на возвышении, где вы дом строить назначаете, от удовольствия, смотря на окрестности… Каково же должно быть летом. Приложа, как говорят, руки к делу, место сие выйдет, мало есть ли сказать, лучшее в Подмосковных. Натура в нем все свое дело сделала, но оставила еще и для художества урок изрядный». Шел 1797 год. Ансамбль был задуман из главного дома и двух образующих парадный двор флигелей, соединенных с ним открытыми колоннадами. Наружные углы флигелей скошены и украшены колонными портиками.
Широкий зеленый парк, распланированный тем же Н.А. Львовым, спускается к Нахабно.
Скорее всего, Львовым спроектирована и усадебная Введенская церковь, построенная в 1812 году. Первоначально она имела отдельно стоящую колокольню, нижний ярус которой был окружен белокаменной колоннадой тосканского ордера, а ярус звона завершен высоким шпилем. Но как церковь в дальнейшем была соединена с колокольней крытой трапезной, так существенным переделкам подвергся и весь ансамбль. В 1912 году деревянный главный дом разобрали и заменили кирпичным, имитирующим старые формы. В 1928 году были надстроены кирпичные крылья, а галереи превращены в двухъярусные переходы.
На рубеже XIX–XX веков усадьба принадлежала предпринимателю и заводчику В.М. Якунчикову. В 1890-х годах здесь подолгу жила его дочь – художница М.В. Якунчикова. Тогда же в гости к хозяевам приезжали В.Э. Борисов-Мусатов, И.И. Левитан, бывали П.И. Чайковский А.П. Чехов, Сергей Глаголь (Голоушев).
Трудно себе представить, чтобы не были знакомы родители поэта с владелицей сельца Петелино, Преображенское тож, Акулиной Матвеевной Нестеровой, прямой родственницей и Гончаровых, и Грибоедова. Брат ее, надворный советник Александр Матвеевич, имел дом в приходе церкви Богоявления в Елохове. Две его дочери Александра и Варвара часто гостили у тетки. Обе они запечатлены на портретах кисти художника Михаила Шибанова, автора портрета Екатерины II, написанного во время знаменитого путешествия в Тавриду.
Варвара умерла, не дожив до тридцати лет, «девицею», и погребена в московском Донском монастыре. Александра скончалась незадолго до свадьбы поэта и была похоронена в Спасо-Андроньевском монастыре. Тетка обычно разъезжала по гостям в сопровождении племянниц. Владения ее рядом с Захаровым были «средней руки»: одиннадцать дворов с семьюдесятью пятью крестьянами и деревянный барский дом.
Но одной из самых интересных и общительных соседок была Екатерина Александровна Архарова. 10 сентября 1831 года сестра поэта напишет мужу: «Александр приехал ко мне вчера, в среду, из Царского; весел, как медный грош, забавлял меня остротами, уморительно передразнивал Архарову, Ноденов, причем не забыл представить и „дражайшего“ (отца – Н.М.)».
Не считавшаяся родовитой, но древняя семья Архаровых связывала свое начало с неким выходцем из Литвы, последовавшим на переломе XIV–XV веков в Россию вместе с князьями Патрикеевыми, потомками Гедемина. Служившие затем в дворянах, Архаровы ни служебными успехами, ни богатством не отличались. Два сына, теперь уже каширского дворянина Петра Ивановича Архарова – Николай и Иван – к тому же не получили и настоящего образования. Николай Петрович начал службу шестнадцати лет в Преображенском полку и счастливо сумел обратить на себя внимание графа Григория Орлова, присланного в 1771 году в Москву на эпидемию «моровой язвы». По докладу императрице Николай Архаров сразу получил чин полковника и назначение московским обер-полицмейстером.
Доверие Екатерины II деятельному администратору так велико, что императрица поручает ему участвовать вместе с Алексеем Орловым-Чесменским в похищении так называемой княжны Таракановой, в дальнейшем же – в деле о Пугачевском бунте. Ловкость и служебная изворотливость Николая Архарова входят в поговорку. О его умении раскрывать самые сложные и запутанные преступления узнают в Европе. Знаменитый парижский полицмейстер времен Людовика XV Сартин пишет московскому коллеге: «…уведомясь о некоторых его действиях, не может довольно надивиться ему».
Иван Петрович – лишь бледная тень старшего брата. Только благодаря его поддержке он, скромный армейский подполковник, производится Павлом I в генералы от инфантерии, получает Александровскую ленту, тысячу душ крепостных и назначение командиром московского восьмибатальонного гарнизона, то есть военным губернатором старой столицы. И хотя остается он в этой должности всего около года, зато оставляет заметный след в истории Москвы. Набранные им полицейские драгуны были такими головорезами и так плохо ладили с законом, что в московском быту утвердилось понятие «архаровцев».
За быстрым возвышением братьев последовало такое же быстрое их падение. Оба они отправляются в 1797 году на «ссыльное жительство» в Рассказово – богатейшее поместье Николая Петровича на Тамбовщине. Братья были очень дружны и даже в ссылке сумели не расставаться. В 1800 году они вместе получают «прощение» и разрешение поселиться в Москве, но только как частные лица. Теперь дом Ивана Петровича (ныне Дом ученых на Пречистенке) становится одним из самых гостеприимных и хлебосольных в старой столице. В нем бывает в полном смысле слова вся Москва. «Стол накрыт для званых и незваных», по выражению Грибоедова.
И.А. Пыляев приводит два особенно любимых в Москве анекдота о Иване Архарове. «Встретив на старости лет товарища юности, много десятков лет им не виданного, он, всплеснув руками, покачал головой и воскликнул невольно: „Скажи мне, друг любезный, – так ли я тебе гадок, как ты мне?“
Второй анекдот связан со слабостью Архарова к французскому языку, которого он никогда толком не знал. «Приезжает к нему однажды старый приятель с двумя взрослыми сыновьями, для образования коих денег не щадил. „Я, – говорит, – Иван Петрович, к тебе с просьбой: проэкзаменуй-ка моих парней во французском языке. Ты ведь дока…“ Иван Петрович подумал, что молодых людей кстати спросить об их удовольствиях, и попытался перевести на французский язык фразу: „Милостивые господа, как вы развлекаетесь?“ Однако языковые тонкости были ему недоступны: сказанное им имело совсем иной смысл: „Милостивые господа, хоть вы предупреждены…“
Юноши, по словам Пыляева, остолбенели. Отец стал их бранить за то, что они ничего не знают, даже такой безделицы, что он обманут и деньги его пропали, но Иван Петрович утешил его заявлением, что сам виноват, обратившись к молодым людям с вопросом, еще слишком мудреным для их лет».
Но настоящей любимицей Москвы была супруга Ивана Петровича Екатерина Александровна, урожденная Римская-Корсакова, о которой с такой сердечностью отзывается Н.М. Карамзин. Высокая, стройная, до глубокой старости сохранявшая следы былой красоты и яркий цвет лица, она поздно вышла замуж за овдовевшего Архарова, без малого под сорок лет родила двух дочерей и очень заботилась об устройстве их судьбы. Софья становится графиней Соллогуб за несколько месяцев до Отечественной войны 1812 года.
Деревенька была небольшой и на первый взгляд ничем не приметной – Щедрино с его двенадцатью дворами, незадолго до появления в Захарове Пушкиных перешедшее от княгини Марьи Аврамовны Черкасской к брату ее Василию Абрамовичу Лопухину. Гвардии поручик Василий Аврамович Лопухин оказался владельцем сотни с лишним крепостных. Его появление в округе не могло остаться незамеченным, тем более для дяди и отца поэта: постоянным гостем хозяина стал его кузен – модный поэт Авраам Лопухин.
Авраам Лопухин выпускает несколько заинтересовавших читателей переводов вроде «Письма к двум девицам». Его имя постоянно присутствует на страницах литературного приложения к «Московским ведомостям» – «Чтения для вкуса, разума и чувствований», в котором сотрудничали А. Мерзляков, П. Петров, Н.Муравьев, Ю. Нелединский-Мелецкий, А. Лабзин, П. Гагарин. Здесь публикуются лопухинские «Изображение потопа», «Жизнь Заилова», «Десерт Сократов», популярный «Мадригал Петру Великому», «Африканская повесть „Селико“, „Абенаки“, пример чувствительных индейцев». И все это за недолгий период 1791–1793 годов.
Это первое литературное приложение к «Московским ведомостям» сменяется гораздо более популярным и притом выходившим два раза в неделю «Приятным и полезным препровождением времени» под редакцией В.С. Подшивалова и П.А. Сохацкого. Журнал собирает таких авторов, как А. Воейков, И. Дмитриев, В. Измайлов, И. Крылов, А. Мерзляков, Василий Львович Пушкин. Для современников особенный интерес представляло появление многочисленных женщин-писательниц вроде княгини А. Шаликовой, княгини А. Щербатовой, княгини Н.Оболенской. Лопухинская песня «Нет мне нужды, что природа…», «Мечтающий» соседствуют со строками Пушкина-старшего «Любовь, что в сердце…», «Тоска по милой», «К Хлое», «Письмо к И.И. Дмитриеву».
Лопухина приглашает к сотрудничеству Н.М. Карамзин, начавший издавать в Москве в течение 1796–1799 годов тома своих «Аонид, или Собрания разных новых стихотворений». Здесь появляется повторявшееся в салонах лопухинское «Весеннее утро». А рядом печатались сочинения Державина, Дмитриева, Хераскова, Капниста, Кострова и самого Карамзина.
Но не только литературные интересы привлекали современников к владельцу Щедрина; слишком значительна была роль его прямых родственников в русской истории.
Василий Львович Пушкин посмеивался, что «от матушки Москвы не укроешься – она все вызнает». Его собственные письма, в частности к П.А. Вяземскому, лучшее тому доказательство. Не было такой семейной подробности или жизненного обстоятельства, которые бы тотчас не становились достоянием стоустой молвы.
Достаточно сказать, что дед Василия Аврамовича был родным братом несчастной царицы Евдокии Лопухиной, незадачливой первой супруги Петра I. В недолгий и относительно счастливый период их брака царская чета любила приезжать в подаренное отцу царицы московское Ясенево. Когда Евдокия Федоровна оказалась в монастыре, Ясенево перешло к ее единственному брату, который терять своего былого влияния не захотел, а было оно среди старого боярства немалым. Как сообщалось Петру в подметном письме 1708 года, его царских указов бояре «так не слушают, как Абрама Лопухина, а в него веруют и боятся его. Он всем завладел: кого велит обвинить – того обвинят; кого велит оправить – того оправят; кого велит от службы отставить – отставят, и кого захочет послать – того пошлют». Как никто знал Лопухин настроения своего племянника – царевича Алексея, собирал вокруг себя наиболее ярых его сторонников. Это он подсказал царевичу идею бегства за рубеж, никому не выдал, где Алексей скрывался. Со временем на следствии всплыли его слова: «Дай, Господи, хотя б после смерти государевой она (Евдокия Федоровна – Н.М.) царицей была и с сыном вместе».
Возвращение царевича в Россию стало настоящим ударом для Лопухина. В начавшемся следствии он один из главных обвиняемых. Следствие велось с редкой даже по тем временам жестокостью, под бесконечными специально разрешенными Синодом пытками. Приговор Лопухину последовал 19 ноября 1718 года: «…за то, что он, Авраам, по злонамерению желал смерти его царскому величеству», что радовался побегу царевича, а «также имел тайную подозрительную корреспонденцию с сестрою своею, бывшею царицею, и с царевной Марьей Алексеевной, рассуждая противно власти монаршеской и делам его величества, и за другие его вины, которые всенародно публикованы манифестом, казнить смертию, а движимое и недвижимое имение его все взять на государя».
Казнь состоялась в декабре того же года «у Троицы», при въезде во Дворянскую слободу. Отрубленная голова А.Ф. Лопухина на железном шесте была водружена у Съестного рынка Сергиева посада. Тело пролежало на месте казни до конца марта.
Оставшиеся после казненного два его сына – Авраам (иначе называвшийся, подобно своему деду, другим именем – Федора) и Василий – были восстановлены в правах владения конфискованными поместьями только после появления на престоле их двоюродного племянника, сына царевича Алексея – Петра II.
Авраам-Федор женился на дочери прославленного маршала петровских лет Б.П. Шереметева – Вере Борисовне. Тем самым их сын Василий Аврамович приходился родным племянником Наталье Борисовне Шереметевой, вышедшей замуж за экс-фаворита Петра II – князя Ивана Алексеевича Долгорукова, – разделившей с ним страшную сибирскую ссылку и пережившей наступившую через десять лет ссылки казнь мужа. Двоюродному брату В.А. Лопухина и единственному здоровому сыну несчастной княжеской четы князю Михаилу Ивановичу Долгорукову принадлежало соседнее с Щедрином Новоивановское.
И снова появлялись литературные интересы все того же круга Василия Львовича Пушкина. Сын и наследник М.И. Долгорукова, князь Иван Михайлович был достаточно известным поэтом. Все в том же «Приятном и полезном препровождении времени» появляются его стихи «В последнем вкусе человек», «Параша», в «Аонидах» – «Глафире». И.М. Долгоруков печатается и в сменившем этот журнал издании «Иппокрена, или Утехи любословия», выходившем в Москве в течение 1799–1801 годов, в который переходят А. Воейков, Г. Державин и куда отдают свои сочинения В. Жуковский, А. Аргамаков, П. Кайсаров.
Никто из исследователей не сомневается в том, что окружение Захарова породило интерес Пушкина к Смутному времени и образам эпохи Бориса Годунова. Но так же живо он мог здесь почувствовать и дыхание петровского времени. Наряду с Лопухиными оно воплощалось и в других не менее колоритных именах.
Еще одно село – Яскино, сегодня вошедшее в черту города Одинцово. Его получает в качестве приданого своей жены младший сын казненного Авраама Федоровича Лопухина – Василий Абрамович, один из заслуженных русских военачальников. В свое время он был выпущен из Кадетского корпуса прапорщиком, в годы правления Анны Иоанновны сражался под командованием Миниха, в частности с турками. При Елизавете Петровне в чине генерал-майора воевал со шведами. Семилетнюю войну провел в армии Апраксина, в битве при Гросс-Егерсдорфе командовал левым крылом, получил три пули, от которых и скончался. Через несколько лет его тело было перевезено в Андреевский московский монастырь, родовую усыпальницу Лопухиных начиная с родителей царицы Евдокии Федоровны.
Но совершенно особый интерес представляет рано скончавшаяся супруга генерала – Екатерина Павловна, урожденная Ягужинская. Внучка органиста лютеранской церкви в Москве, дочь сановника петровских времен, она в детстве пережила тяжелую семейную трагедию. Вновь открытые архивные материалы рассказывают о том, как П.И. Ягужинский пытался избавиться от ее матери, дочери почт-директора Федора Аша. Сначала Анна Федоровна была удалена в монастырь под предлогом душевного расстройства. С согласия Петра I Синод оформил развод супругов в 1722 году с условием содержания Анны Федоровны за счет бывшего мужа. Ягужинский спустя полгода женился на богатейшей невесте – Анне Гавриловне Головкиной. Сразу после смерти Петра I он стал добиваться отправки Анны Федоровны в один из северных монастырей. И тогда ее защитником выступил член Синода, хранитель тайны завещания Петра Феодосий Яновский. Он добился, чтобы все расходы и заботы были по-прежнему делом Ягужинского. Пересуды о Ягужинских и нравах петровского двора долго сохранялись в московском обществе.
Материалы Синода и так называемого «Дела Маркела Родышевского» в архиве Тайной канцелярии позволяют уточнить распространенную ошибку о том, что разведенная супруга Ягужинского носила фамилию Хитрово. Другую ошибку позволяют исправить земельные ведомости, связанные с деревней Подушкино. Речь идет о родных жены Василия Аврамовича Лопухина – княжны Александры Петровны Гагариной. Благодаря ее брату Гавриилу Петровичу, женатому на сестре писателя А.Ф. Воейкова, круг друзей Воейкова бывал у них в доме, как и они сами в Подушкине. Хотя многие авторы называют жену Гаврилы Петровича урожденной княжной Щербатовой, земельные документы опровергают эту версию, как, впрочем, и… надгробная надпись на ее могиле в Новоспасском монастыре Москвы.
Воейковы связаны с Подушкиным со второй половины 1760-х годов. Они ставят здесь каменную церковь Рождества Христова. Одноэтажный деревянный барский дом имел регулярный парк и хороший плодовый сад. Поместье располагало мельницей «о двух поставах» на речке Семынке. Числилось в нем больше полутораста крепостных.
В Подушкино приезжает Прасковья Федоровна Гагарина, урожденная Воейкова, а также будущий писатель Александр Федорович Воейков, сначала учившийся в московском университетском благородном пансионе, кстати сказать, вместе с В.А. Жуковским. В захаровские годы Пушкиных он приобретает известность как литератор: в 1806 году в «Вестнике Европы» выходит его нашумевшее «Послание к Сперанскому об истинном благоденстве». В 1809 году выходит его перевод труда Вольтера «История царствования Людовика XIV и Людовика XV», спустя два года – «Образцовые сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей». В 1815 году он становится мужем племянницы Жуковского, Александры Андреевны Протасовой, и принесет много зла и ей самой, и особенно Жуковскому.
Кажется, трудно найти хоть одного в «шумной толпе соседей» Захарова, который бы не имел отношения к литературе. С родным домом жены в известной мере связана литературная деятельность Гаврилы Петровича Гагарина, сенатора (с 1786), члена Государственного совета, директора Заемного и Вспомогательного банка, министра коммерции во времена Александра I. Он умеет сочетать ловкость чиновника и царедворца с религиозным фанатизмом и… редкой фривольностью. Если в энциклопедических словарях с его именем связываются вышедшие в Москве в 1809 году такие сочинения, как «Акафист апостолу и евангелисту Иоанну», «Акафист с службою и житием Дмитрия Ростовского» или «Служба преподобному Феодосию Тотемскому», то библиографические справочники указывают и вышедшие в Петербурге в 1811 году «Эротические стихотворения», и изданные там же двумя годами позже «Забавы уединения моего в селе Богословском».
Своеобразную широту взглядов заимствовал у родителей и единственный сын Гагариных – Павел Гаврилович. Боевой офицер Суворовской армии, он соглашается прикрыть своим именем связь Павла I с Анной Петровной Лопухиной. Несмотря на предельную покладистость супруга, Павел испытывал к нему приступы бешеной ревности, от последствий которой чету молодых Гагариных спасла только скорая кончина императора. Гагарин немедленно получил назначение к одному из европейских дворов в качестве посланника. Но семейная жизнь его оказалась недолгой. В 1605 году экс-фаворитки не стало, а законный супруг поместил на ее надгробии в Александро-Невской лавре благодарственную надпись, называя жену своей «благодетельницей». В тяжелейшем душевном состоянии он заканчивает свою книгу «Тринадцать дней, или Финляндия» – описание путешествия в свите Александра I из Петербурга в Або. Изданная в Москве в 1809 году, а затем на французском языке в Петербурге, это была одна из книг, которые, по выражению Н.И. Новикова, «весьма похвалялись современниками».
И небольшая бытовая подробность. П.Г. Гагарин после смерти своей близкой к императору супруги почти тридцать лет вдовел, опустился, перестал за собой следить. Но уже в преклонных летах он неожиданно женился на балерине казенной сцены М.И. Спиридоновой.
В Москве «считались родством», не обходили стороной родных и уж непременно навещали и опекали тех, у кого не складывалась личная жизнь. Такими неустроенными в жизни оказались «девицы» Спиридовы, как их называли документы тех лет, дочери прославленного адмирала Спиридова Дарья и Александра. О них заботился родной брат Матвей Григорьевич. Поручик в 1772 году, через 7 лет он уже был камергером. Так же быстро стал членом Военной коллегии и сенатором. Но настоящую славу ему приносит не военная и придворная служба, а занятия генеалогией.
Став мужем дочери известного историка М.М. Щербатова, Спиридов при его помощи начинает составлять генеалогию русского дворянства и становится едва ли не первым по времени профессиональным специалистом в этой области. Он издает «Родословный российский словарь» (1793–1794), «Краткий опыт исторических известий о российском дворянстве, извлеченный из степенных, чиновных и других разных российско-исторических книг» (1804) и «Сокращенное описание служб благородных российских дворян – расположенных по родам их» (1810).
Село Козино, где жили сестры, было настоящим семейным гнездом Спиридовых. Козино явно выделялось среди соседних деревень множеством жителей – за ним числилось 583 человека при сорока дворах. Впрочем, собственно поместье богатством не блистало. В селе находилась деревянная церковь Николая Чудотворца. Господский дом – деревянный, одноэтажный со службами – соседствовал с фабрикой, производившей скатерти, салфетки и русский канифас. Крестьяне подрабатывали рубкой леса. Со смертью теток им наследовал племянник от брата Алексея Григорьевича, адмирала, служившего архангельским военным губернатором и главным командиром над Ревельским портом, – камер-юнкер Алексей Алексеевич Спиридов. Другой племянник, владелец Козина, оказался декабристом первого разряда.
Большинство из шумной толпы соседей можно увидеть собственными глазами: их портреты написаны лучшими русскими портретистами второй половины XVIII – начала XIX века. Они встают на полотнах Федора Рокотова и Владимира Боровиковского. Тем любопытнее, что Рокотов со своими родными был ближайшим соседом обитателей Захарова: Рокотовым принадлежала деревенька Аниково с ее девятью дворами и сотней крепостных. Формально его владельцами были воспитанные живописцем его племянники – поручик артиллерии Иван Большой и подпоручик Иван Меньшой Никитичи. Художник приобрел для них эту недвижимость – сами они никакими средствами не располагали, – а в дальнейшем именно они станут его единственными наследниками. Старший достигнет чина артиллерии майора, младший – штабс-капитана.
Одна из наиболее стойких, связанных с замечательным портретистом легенд утверждала его происхождение из крепостных. Такая версия представлялась наиболее удобной в советские годы. В действительности документы позволяют сделать вывод, что Рокотов был безусловно свободнорожденным – иначе он не мог бы подписать устав московского Английского клуба, основателем которого был. Более того – несомненна его связь с семьей Репниных, причем связь родственная. В репнинской семье существовала своеобразная традиция опеки многочисленных побочных детей. У Аникиты Ивановича Репнина это многочисленные сыновья, для которых он добивается фамилии Репнинских и дворянства. У двоюродного брата Петра Ивановича Репнина, фельдмаршала Н.З. Репнина, это знаменитый Адам Чарторыжский. К числу таких родственников относится и И.Н. Пнин.
Судя по его связям, Рокотов мог заниматься в Сухопутном шляхетном корпусе, мог быть выпущен из него в военную службу, иметь военный чин (в отдельных документах он назван «капитаном»). Прожив в Москве долгие годы, не нуждаясь в средствах, Рокотов тем не менее только в начале 1780-х годов покупает участок на углу Старой Басманной и Токмакова переулка, в приходе церкви Никиты Мученика. Он обращается в Управу благочиния с просьбой разрешить ему возведение сразу шести (и каких!) построек. В их число вошли двухэтажный каменный дом, большой жилой деревянный флигель размером в плане 224 кв. метра, вытянутые вдоль переулка конюшня, сарай и две хозяйственные постройки.
Невольно напрашивается вопрос об источнике материальных возможностей художника. Заработать необходимую сумму портретами, за которые художник брал по 50 рублей, не представлялось возможным.
Тем более что Рокотову приходилось постоянно содержать в эти годы больше десяти человек, имея в виду дворовых и многочисленных учеников. По существовавшим правилам ученичество тогда не оплачивалось. Мастер полностью содержал своих питомцев, расплачивавшихся с учителем только работой. Рокотов должен был располагать определенным капиталом, который появляется у него со смертью П.И. Репнина, в 1778 году. Завещание вступило в силу в 1787 году, когда Рокотов и приобретает свой первый московский участок земли за 2600 рублей, а затем и второй, который ему приглянулся для строительства усадьбы, – за 1400 рублей.
И еще одна нить, протянувшаяся от художника к дому Репниных. В 1793 году, прожив в новой своей едва отстроенной усадьбе всего семь лет, Рокотов продает ее. По времени решение художника совпадает с гонениями, которым подвергся Н.В. Репнин в связи с делом Н.И. Новикова. Герой Мячина попадает в опалу. На те же месяцы репнинских гонений приходится и продажа рокотовской усадьбы. Художник приобретает скромное владение на Воронцовской улице, а оставшуюся часть средств тратит на покупку сельца близ Захарова. Иным способом он, по всей вероятности, не мог обеспечить будущее своих лишавшихся всякого высокого покровительства племянников. Среда пушкинского детства в Подмосковье – сколько еще предстоит о ней узнать и как может она сама пополнить наше представление о культурной жизни старой столицы.
Театр – Пушкин должен был познакомиться с ним еще в детстве. В первую очередь – дома. Знаменитая актриса А.М. Колосова, то ссорившаяся, то мирившаяся с поэтом, раздраженная его эпиграммами в свой адрес, напишет о Сергее Львовиче: «В одну из моих с ним встреч он рассказывал мне о своем участии в любительских спектаклях в Москве. Он отличался во французских пьесах, а Федор Федорович Кокошкин (по его словам) был его несчастным соперником в русских». Другой современник свидетельствует, что никто удачнее его в Москве «не умел устроить любительский спектакль, и никто не исполнял своей роли с таким успехом, как он». Во всяком случае, в доме Пушкиных чтение и декламация не умолкали едва ли не все время, пока хозяин был дома. Театр был «воздухом Москвы тех лет», и Вяземский, отличавшийся декламацией в салоне Василия Львовича, – его особенно привлекали монологи и сцены из трагедий Расина и Вольтера, – рассказывал, к восторгу слушателей, как однажды буквально ворвался в квартиру к гастролировавшей тогда в Москве и обожаемой им «девице Жорж и, к великому своему разочарованию, застал ее, потрясающую Федору и Семирамиду, держащей в руке не классический мельпоменовский кинжал, а простой большой кухонный нож, которым скоблит она кухонный стол». В доме Пушкиных не могли не обсуждать того поединка между двумя трагическими актрисами – француженкой Жорж и россиянкой Семеновой, который разделил московских театралов на два враждующих лагеря.
Не зная обстоятельств первоначального обучения поэта, ни даже с уверенностью имен его воспитателей и педагогов, можно тем не менее констатировать его широчайшую образованность и в области литературы, и в области театра. По словам Я.К. Грота, лично знакомого со многими товарищами Пушкина по лицею, «Пушкин, вступая в лицей двенадцати лет от роду, по своим занятиям и связям уже был литератором с девятилетнего возраста он зачитывался в библиотеке отца французскими поэтами и лично познакомился с известнейшими русскими писателями – Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским». Скорее всего, ему все же удалось побывать и в профессиональном театре. Детство Пушкина – это время становления императорской казенной сцены в Москве. В 1806 году здесь начались спектакли казенной сцены, образовавшейся из артистов сгоревшего театра Мадокса и крепостных актеров, купленных у А.Е. Столыпина и князя М.П. Волконского. Первое представление состоялось в театре Пашкова на Моховой (ныне церковь Татьяны). Отзвуки этого репертуара будут давать о себе знать в творчестве поэта. Это балет «Дон Жуан» Стелято. С 1801 года в Москве шла «Волшебная флейта» Моцарта, с 1806-го – его же «Дон Жуан», с 1810-го – «Похищение из сераля». Тогда же должно было возникнуть материализовавшееся через годы в маленькой трагедии противостояние Моцарта и Сальери.
В 1806 году в двух шедших в Москве трагедиях Княжнина – «Дидона» и «Титово милосердие» – использовались музыкально-вокальные номера Сальери. В 1809 году была поставлена его опера «Училище ревнивых».
«Русалка» – еще одно из детских впечатлений. Начиная с 1806 года опера Н.С. Краснопольского «Днепровская русалка» не сходит с московской сцены, имея оглушительный успех. Во всех московских гостиных распевали отдельные мотивы из нее, особенно арии «Приди в чертог ко мне златой…» Пушкин вспоминает о ней в «Евгении Онегине»: «Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут». Строки из II главы:
Взойдет ли он, тотчас беседа Заводит слово стороной О скуке жизни холостой; Зовут соседа к самовару, А Дуня разливает чай, Ей шепчут: «Дуня, примечай!» Потом приносят и гитару: И запищит она (бог мой!): Приди в чертог ко мне златой!..Как установлено исследователями, Пушкин в работе над своей «Русалкой» исходил из известной ему русской редакции этой оперы Генслера.
В московские долицейские годы Пушкин должен был столкнуться и с постановкой шекспировского «Отелло» в прозаическом переводе Вельяминова и знаменитым трагиком Яковлевым в заглавной роли, о котором поэт будет писать как о «диком, но пламенном» исполнителе. «Ромео и Джульетта» была представлена одноименной оперой Стейнбельта. Шиллера можно было узнать по постановкам «Разбойников» в сокращенном переводе Иванова и «Коварства и любви» в переводе Смирнова. Что же говорить о вольтеровских пьесах, особенно любимых отцом и дядей. 31 декабря 1808 года поэт мог видеть «Магомета». 18 сентября 1811 «Альвиру, или Американцев» ему уже увидеть не удалось, но несомненно о подготовке ее он знал.
А так любимый Пушкиным сам Мольер, в недостаточном знании которого он упрекал Гоголя! Здесь и «Мещанин во дворянстве» (1808), и «Скопиновы обманы» («Проделки Скапена» – 1809), и «Ханжаиев, или Лицемер» (1810).
Действовал театр в дома Пашкова, но был выстроен и превосходный, окруженный колоннадой театр на месте нынешнего памятника Гоголю на Арбатской площади. «Сражение» Жорж и Семеновой разыгрывалось именно на его подмостках. Но увидеть это поражавшее воображение москвичей здание поэту больше не пришлось: театр сгорел в пожар 1812 года.
После Огородной слободы достоверные сведения о местопребывании Пушкиных исследователям пока выявить не удалось. Можно предполагать, что очередная семейная ссора разделила семью зимой 1808 года, когда имя Сергея Львовича фигурирует в доме на Поварской без семьи, но с четырнадцатью дворовыми. Но, с другой стороны, почти невозможно представить себе «Прекрасную креолку» вдали от жизни высшего света, в деревенской глуши, которой она тяготилась нисколько не меньше мужа.
Дальше возникают предположения о лефортовских адресах. Пушкины безусловно переехали в тот район, но куда именно, остается неизвестным. Есть много позднейших сведений, что семья устроилась «подле самого Яузского моста, т. е. не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме» или же «где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом», имя владельца которого забылось. Попытки связать эти дома с графами Бутурлиными, родственниками «Прекрасной креолки», бесполезны. Другое дело, что Пушкины постоянно бывали в графском доме, библиотеке, в великолепном саду. И это гувернер Бутурлиных, некий ученый француз Жилле, якобы предугадывал талант и славу поэта: «Дай Бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет!» Реми Жилле в дальнейшем во время Отечественной войны 1812 года командовал одним из калмыцких отрядов и умер в 1840 году в чине статского советника.
Июнь 1811 года становится переломным в жизни Пушкина. Его собирают в лицей, куда сопровождать племянника направляется Василий Львович, и без того ездивший в столицу на Неве почти каждый год навещать своих приятелей. Для отца поэта такое путешествие, скорее всего, было слишком обременительным в материальном отношении. Все, чем могут наградить мальчика в путь родные, – сто рублей, которые в складчину дают ему тетушка Анна Львовна и сестра бабушки Ольги Васильевны Пушкиной-Чичериной, Варвара Васильевна. Но, как напишет со временем с горечью Пушкин в письме Вяземскому: «Дядя Василий Львович по благорасположению своему ко мне и ко всей моей семье во время путешествия из Москвы в С.-Петербург взял у меня взаймы сто рублей», так и не вернув их племяннику. Как иронически заметил поэт, с процентами эта сумма успела вырасти до двухсот рублей, но только в мечтах.
Во второй половине июля 1811 года путешественники выехали из Москвы по Тверской дороге. Им предстояло провести четыре-пять дней в пути. Никто не знал, что Пушкин расставался с Москвой на пятнадцать лет.
Отвергнутый жених
Кто бы мог подумать: возвращение в родную Москву после пятнадцатилетнего отсутствия, после южной и псковской ссылок – и мысль о женитьбе. Немедленной. Без рассуждений. Без проблеска, по собственному признанию, здравого смысла. Позади такое множество увлечений, ответных и безответных. Вспыхнувших и все еще не остывших чувств. А тут письмо новому приятелю Василию Петровичу Зубкову о его свояченице: «Я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, в третий сватаюсь». Софья Федоровна Пушкина, дальняя родственница поэта, действительно была одной из первых красавиц старой столицы, отличалась живым умом, образованностью и знала истинную цену таланта поэта, так что пушкиноведы вряд ли обоснованно стараются не обращать внимания на это первое московское «увлечение».
8 сентября 1826 года фельдъегерь привозит, согласно воле императора, Пушкина в Москву, в Кремль, в канцелярию дежурного генерала. Разговор с императором, а он происходил в Николаевском дворце, должен был предшествовать встрече поэта с знакомыми и родными. Только после разговора с монархом и отныне венценосным цензором всего его творчества поэт получает возможность заехать в гостиницу на Тверской, которая располагалась в бывшем дворце князя Гагарина, оставить вещи и направиться к дядюшке Василию Львовичу на Старую Басманную. Слух о приезде ссыльного поэта мгновенно распространяется по Москве, о ней узнает на балу С.А. Соболевский и успевает застать друга за ужином у Василия Львовича. Именно к нему и предпочтет переехать поэт – в холостяцкую квартиру на Собачьей площадке.
Объяснение с Софьей Федоровной, скорее всего, происходит у Василия Петровича Зубкова, снимавшего квартиру в доме Соковниных у Никитских ворот (Малая Никитская, 12). Воспитанник Муравьевского училища колонновожатых, Зубков еще в 1819 году вышел в отставку и перешел на гражданскую службу. К приезду Пушкина он советник и товарищ председателя Московской палаты уголовного суда, но главное для поэта – Зубков до 1825 года принадлежал к кружку, близкому к декабристам, за что поплатился, хотя и недолгим, заключением в Петропавловской крепости, и был близок с И.И. Пущиным, устроителем объединившего их «Практического союза», иначе – «Общества Семисторонней, или Семиугольной, звезды». В него входили, помимо И.И. Пущина, А.П. Бакунин, Б.К. Данзас, Б.П. Оболенский и др.)
Предложение не было принято, но и не было отвергнуто. Софья Федоровна ставит Пушкину условие – явиться перед ней в начале зимы. И этот приказ заставляет Пушкина пуститься в путь на Псковщину, который оказывается для него неудачным. Его возок опрокинулся в пути, и поэту пришлось какое-то время приходить в себя в Пскове. 1 декабря он пишет с дороги Зубкову: «Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей, – но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает, содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы, жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно, – вот что наводит иногда на меня тягостные раздумья. Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером – судьбу существа такого нежного, такого прекрасного». К этому можно было бы прибавить и полную материальную неустроенность поэта, но о ней Пушкин просто не думал.
Дочь Воронежского губернатора Федора Алексеевича Пушкина, Софья Федоровна вместе с сестрой Анной Федоровной сразу после ранней смерти матери перешли под опеку Екатерины Владимировны Апраксиной. Покровительница заботилась об их замужестве. Старшая Анна уже в 1823 году была выдана за Зубкова, младшая Софья еще ждала своей судьбы. Современница, всегда и всем интересовавшаяся Елизавета Петровна Янькова, в своих «Рассказах бабушки» писала: «Я знавала… двух молодых девушек – Софью Федоровну и Анну Федоровну (Пушкиных); обе они воспитывались у Екатерины Владимировны Апраксиной, и она выдавала их замуж. Первая была стройна и высока ростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, и была очень умная и милая девушка; она вышла потом за Валериана Александровича Панина и имела трех сыновей и дочь. Меньшая, Анна Федоровна, маленькая и субтильная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, преживая и превеселая, и хотя не имела ни той поступи, ни такой осанки, как ее сестра Софья, но личиком была, кажется, еще милее. Она была за Василием Петровичем Зубковым; у них было две или три дочери и сын».
Впечатление, произведенное на Пушкина, было очень сильным.
Свидетельствами постоянных посещений Пушкиным Зубковых становятся несколько рукописей и зарисовки поэта. Здесь два пушкинских автопортрета, портрет четы Вяземских, Пестеля, Рылеева, Юшневского, Давыдова, шаржи на Веневитинова и бывшего царскосельского лицеиста В.П. Пальчикова. Поэта явно задевает посвященное Софье Федоровне стихотворение его одесского знакомца поэта Федора Туманского:
Она черкешенка собою, Горит агат в ее очах, И кудри черные волною На белых лоснятся плечах. Любезна в ласковых приветах, Она пленяет простотой, И живостью в своих ответах. И милой резвой остротой. В чертах лица ее восточных Нет красоты – видна душа Сквозь пламень взоров непорочных. Она, как радость, хороша.Современники утверждали, что между поэтами возникал иногда род поэтического соревнования. Во всяком случае, подобные примеры сохранились. Ответ Пушкина в альбоме Зубкова допускает подобную возможность. Пушкин пишет о «своей» Софье Федоровне:
Нет, не черкешенка она; Но в долы Грузии от века Такая дева не сошла С высот угрюмого Казбека. Нет, не агат в глазах у ней, Но все сокровища Востока Не стоят сладостных лучей Ее полуденного ока.Пушкин даже не заметил, как осторожно, но упрямо противостояли близкие его чувству. 1 ноября все того же 1826 года он оставляет у Зубкова строки, которые тот должен передать Софье Федоровне. Самому это сделать по условиям света не представлялось возможным:
Зачем безвременную скуку Зловещей думою питать И неизбежную разлуку В уныньи рабском ожидать? И так уж близок день страданья! Один, в тиши пустых полей, Ты будешь звать воспоминанья Потерянных тобою дней: Тогда изгнаньем и могилой, Несчастный, будешь ты готов Купить хоть слово девы милой, Хоть легкий шум ее шагов.Да, строки были написаны много раньше, но все равно Зубков не счел возможным передать их адресату: Софье Федоровне не пришлось их прочесть. А между тем имя Софьи Федоровны мелькает во многих письмах этих месяцев. С княгиней Верой Федоровной поэт поделится, что «С.П. – мой добрый ангел». Князю Вяземскому сообщает, что решил не ездить в Петербург, тем более не задерживаться в Михайловском: «Она велела!» Соболевского поэт просит переслать письмо Зубкову «без задержания малейшего. Твои догадки – гадки, виды мои гладки».
Но назначенный срок его возвращения в старую столицу оказался всего лишь пустой шуткой. По возвращении поэт узнает, что Софья Федоровна не изменила своему более давнему поклоннику и дала слово Валерьяну Александровичу Панину. Поездки к Зубковым прекратились. Оставалось пережить шутки Москвы над незадачливым женихом.
Которая из двух?
Исследователи почти сразу отказались ото всяких сомнений. Конечно, старшая. Конечно, Екатерина Николаевна Ушакова. Это к ней оказался неравнодушным поэт почти сразу после своего первого неудавшегося сватовства. Оно не наделало в Москве особого шума: все разыгралось в достаточно узком кругу лиц, не заинтересованных в огласке, а сам Пушкин слишком серьезно отнесся к своему чувству, примеряя возможные перемены в своей жизни к благополучию и счастью невесты.
Софья Пушкина замужем. Пушкин продолжает ездить по балам и домам. Знакомых множество, но среди них почти сразу занимают едва ли не первенствующее место Ушаковы. Ушаковы с «Пресни», как их называли знакомые.
Отец семейства – помещик средней руки Калязинского уезда Тверской губернии. По службе – всего лишь чиновник Комиссии для строения, занимавшейся отстройкой Москвы после пожара 1812 года. Дом Ушаковых достаточно далек от центра и привычных районов столицы – на Средней Пресне, за знаменитыми Пресненскими прудами, где обычно бывали гулянья и москвичи ездили любоваться красотой закатов. Зато обстановка дома была удивительной. Книги, ноты, разговоры о литературе. Главное – две красавицы дочери, образованные, знакомые с литературой, остроумные и располагавшие к себе естественностью и простотой общения.
Увидев на балу Екатерину Николаевну, первый раз поговорив с ней, Пушкин начинает откровенно искать ее общества. Современницы отмечают, что только присутствие на балу Ушаковой-старшей способно его оживить. Если Екатерины Николаевны нет, он ждет ее, молча отсиживаясь в углу и не скрывая своей досады и нетерпения. По несколько раз в день он способен мчаться на Пресню, где, впрочем, бывала вся музыкальная Москва, завсегдатаями были и Петр Андреевич Вяземский, и князь П.И. Шаликов, и Н.Д. Иванчин-Писарев. Поэт каждый раз попадал в обстановку не просто дружелюбия – прямого обожания и восторгов. Его талант, исключительность ни у кого не вызывали сомнения. Здесь «он царствовал», по выражению одной из современниц.
Догадки о предстоящей женитьбе поэта быстро переросли в уверенность. Современница записывает: «Вчерась мы обедали у Уш. (Ушаковых), а сегодня ожидаем их к себе; чем чаще я с ними вижусь, тем больше они мне нравятся! Меньшая очень, очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее, то есть, сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва, а глас народа – глас Божий. Еще не видавши их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что на балах, на гуляньях говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании ее нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его!..»
Для друзей дома не секрет, что альбомы обеих барышень исписаны рукой поэта. Это Екатерине Николаевне он пишет:
Когда я слышу голос твой И речи резвые, живые, — Я очарован, я горю И содрогаюсь пред тобою, И сердца пылкого мечтою «Аминь, аминь, рассыпься!» – говорю.Простое увлечение? Легкий флирт? Но в их среде это было возможно только с замужней дамой. Постоянное общение с девушкой означало только стремление к браку, иначе вред, наносимый репутации барышни, мог оказаться непоправимым. Пушкин это знает, как знает и то, что хочет создать семью. Предложение? Он делает его – и все остальное остается загадкой. Что заставляет увлеченную поэтом Екатерину Николаевну медлить с ответом? Во всяком случае, не противодействие родителей – их уважение к поэту слишком велико, чтобы пускаться в меркантильные расчеты. Да и обиход их среды не требует таких затрат, как у Софьи Федоровны Пушкиной. Их можно назвать дворянской интеллигенцией, обеспеченной, но и не претендующей на великосветский образ жизни. Ответ, скорее всего, заключен в стихах, которые поэт посвящает предполагаемой невесте перед отъездом в Петербург:
В отдалении от вас С вами буду неразлучен, Томных уст и томных глаз Буду памятью размучен; Изнывая в тишине, Не хочу я быть утешен, — Вы ж вздохнете ль обо мне, Если буду я повешен?Двадцать четвертого апреля 1827 года Пушкин обращается к шефу жандармов Бенкендорфу за разрешением приехать в Петербург «по семейным обстоятельствам». Этими обстоятельствами могло быть, скорее всего, выяснение материального положения поэта. Пушкин ищет какой-то определенности. Затруднения подобного рода несомненно затруднялись и страстью к игре, которая манит Пушкина возможностью приобретения сразу и большого богатства. Разрешение на выезд в Петербург Николай I ему дает, а Бенкендорф получает в то же время сообщение жандармского генерала Волкова, что поэт «не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой и променял музу на муху, которая теперь из всех игр в большой моде».
Девятнадцатого мая, в день отъезда, Соболевский устраивает поэту проводы на своей даче в Петровском парке. Среди собравшихся был и Адам Мицкевич. Но Пушкин сильно запоздал. Он появился уже в сумерках, невеселый, рассеянный, и, еле закончив ужин, приказал подавать дорожную коляску. Мыслями он был далеко от друзей. Впереди была разлука с Москвой на целых полтора года.
Двадцать шестого мая Елизавета Николаевна напишет брату Ивану Николаевичу: «По приезде я нашла в Екатерине большую перемену; она ни о чем другом не говорит, как только о Пушкине и о его прославленных сочинениях. Она знает их все наизусть. Прямо совсем одурела; не знаю, откуда эта перемена». Младшая сестра кривила душой: о причине перемены она знала. И чуть-чуть ревновала. Самую малость. Переписки не было. Да в ней, вероятно, и не было сердечной необходимости. Существовали причины, по которым Пушкин задерживался в столице на Неве. Через год пребывания на берегах Невы начнется его увлечение Анной Алексеевной Олениной. И снова с единственной целью – брака.
«Ты» и «вы»
Кто знает, насколько глубоким было уязвленное чувство поэта после неудачного сватовства к Софье Пушкиной. Было понятным: только не стать предметом насмешек, только уйти от неизбежных приятельских подтруниваний, тем более соболезнований. Выход представлялся единственным, и Пушкин им воспользовался: отъезд в Петербург. Какие бы слухи ни дошли до северной столицы, они все равно теряли свою остроту и даже убедительность.
В начале 1828 года поэт на берегах Невы и – в доме Олениных. Среди многих других. И сразу же поразившее его знакомство. Дочь Олениных он видел в доме ее родителей совсем девочкой, которая могла как-то запомниться или не запомниться вообще – поэт не слишком расположен к детям. Но здесь перед ним предстала красавица, дань очарованию которой отдавали самые модные портретисты: Соколов, Гагарин, Гау, Гампельн, Кипренский. Ей посвящают свои стихи Иван Андреевич Крылов и Козлов. Она начитанна, образованна, остроумна и, впервые увидев приехавшего в Петербург Пушкина, отзовется, что перед ней предстал «самый интересный человек своего времени».
Так ли прав Вяземский, когда пишет жене в начале мая: «С девицею Олениной я танцевал попурри и хвалил ее кокетство… Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен». Что же в таком случае значили написанные в его рукописях слова «Анетта Пушкина», портретные зарисовки на рукописи «Полтавы»?
В ответ на стихи князя Вяземского появляются «Ее глаза»:
Она мила – скажу меж нами — Придворных витязей гроза, И можно с южными звездами Сравнить, особенно стихами, Ее черкесские глаза. Она владеет ими смело, Они горят огня живей; Но сам признайся, то ли дело Глаза Олениной моей! Какой задумчивый в них гений, И сколько детской простоты, И сколько томных выражений, И сколько неги и мечты!.. Потупит их с улыбкой Леля — В них скромных граций торжество; Поднимет – ангел Рафаэля Так созерцает божество.Эти строки написаны в первые дни мая. Около девятого появляются новые:
Увы! Язык любви болтливой, Язык и темный и простой, Своею прозой нерадивой Тебе докучен, ангел мой. Но сладок уху милой девы Честолюбивый Аполлон, Ей милы мерные напевы, Ей сладок рифмы гордый звон.23 мая помечены блистательные строки «Ты и вы»:
Пустое вы сердечным ты Она, обмолвясь, заменила И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, Свести очей с нее нет силы; И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю!Достаточно Олениным сменить свой Зимний дом на Фонтанке на летнее обиталище – мызу Приютино в семнадцати верстах от Петербурга, как Пушкин оказывается и там. 12 июня при совершенно особых обстоятельствах рождаются строки: «Не пой, красавица, при мне». Мелодию этой песни А.С. Грибоедов привез с Кавказа и показал М.И. Глинке, у которого брала уроки прекрасная Анна Алексеевна. В обработке «Анетта Пушкина» напела ее поэту, а Пушкин через день привез написанные для нее строки. Дальше появляются «Предчувствие», «Город пышный, город бедный…», «Вы избалованы природой…» и посвящение Олениной «Полтавы».
Доказательств серьезности увлечения поэта было слишком достаточно, но Анна Алексеевна, хотя и могла решиться на прогулки с поэтом вопреки воле не благоволившей к нему матери, сама не испытывала к нему никакого серьезного чувства. Она обсуждает возможность матримониальной перспективы не с кем-нибудь – с Иваном Андреевичем Крыловым, сказав ему: «Уверена, что вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или Пушкина». «Боже избави», – сказал он. Так выглядит дневниковая запись красавицы. Понимал ли это поэт? Скорее всего нет, потому что в августе обратился к матери Анны Алексеевны с предложением и получил категорический отказ. Со временем Оленина признается своему племяннику, что «не была настолько влюблена в Пушкина, чтобы идти наперекор семье». Для семьи же поэт был вертопрахом, без положения в обществе и денег. К тому же имя Пушкина в это время связывается с «Гаврилиадой» – вещью совершенно недопустимой для глубоко религиозной Олениной-матери.
Второе сватовство оказалось таким же неудачным, как и первое, хотя… Софья Федоровна, по-видимому, никогда не вспоминала поэта, да и Пушкин не искал встреч с нею. Другое дело – Анна Алексеевна. До конца жизни поэта она не выходит замуж, а обиженный Пушкины будет раз за разом вспоминать нанесенную ему рану. 12 мая 1830-го он без приглашения появляется в доме Олениных с группой лиц «в домино и масках», а в 1833 под ранее вписанным в альбом Анны Алексеевны текстом «Я вас любил, любовь еще, быть может…» делает достаточно обидную приписку: «в далеком прошлом».
И некоторые подробности всех этих обстоятельств. В «Онегине» строка: «Тут был отец её пролаз Нулек на ножках» – имелся в виду почти карликовый рост президента императорской Академии художеств и его незаурядные службистские способности – была исключена из окончательного варианта. О «маскарадном визите» сохранилась дневниковая запись графини Дарьи Фикельмон, внучки Михаила Илларионовича Кутузова: «Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь – маменька, Катрин, г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин и Фриц. Мы побывали у английской посольши, у Лудольфов и у Олениных. Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам». Январь 1830 года. И все же по-прежнему оставалось непонятным, почему красавица Анна Алексеевна никому не отдала руки и сердца.
Так складываются обстоятельства, что как раз в период матримониальных проектов поэта решается на замужество его единственная сестра Ольга Сергеевна. Как бы ни были привязаны к ней родители, положение Ольги Сергеевны в семье было сложным и тяжелым. Выбор в качестве супруга Николая Ивановича Павлищева меньше всего подсказывался сердцем. Это была единственная и едва ли не последняя реальная возможность вырваться из-под гнетущей родительской опеки, даром что жених был на пять лет моложе невесты и обучался в Благородном пансионе при Царскосельском лицее вместе с ее младшим братом до сентября 1817 года. Его интерес к литературе не отличался глубиной, а служба – какими бы то ни было значительными заслугами. Чиновник Департамента народного просвещения, он стал впоследствии управляющим канцелярией генерал-интенданта Царства Польского.
Не испытывая к Павлищеву никакой симпатии, Пушкин тем не менее выступает в поддержку сестры, поскольку замужество ее складывалось совсем не просто. Единственный сын Павлищевых Лев Николаевич рассказывает об этих обстоятельствах: «Формальное предложение отца моего, Павлищева, встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны Пушкиной решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича и Жуковского. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и – Бог весть почему – расплакался, а Надежда Осиповна распорядилась весьма решительно: она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало: когда две недели спустя Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона отец сделал с нею тура два. Об этом доложили Надежде Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумалась толкнуть свою тридцатилетнюю дочь. Мать моя упала в обморок. Чаша переполнилась. Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник, 24 января 1828 года, а на следующий день, 25 числа, в среду, в час пополуночи, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома; у ворот ее ждал мой отец, они сели в сани, помчались в церковь святой Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей – друзей жениха. После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за братом своим Александром Сергеевичем, жившим особо в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и после трехчасовых разговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем послал за моим отцом. Новобрачные упали в ноги родителей и получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре: „Ты мне испортила моего Онегина: он должен был увезти Татьяну, а теперь… этого не сделает“.
Но история с Ушаковыми была еще далека до завершения. Шестого декабря 1828 года Пушкин наконец-то оказывается в Москве. Останавливается в гостинице. Читает свою «Полтаву». Постоянно бывает у Ушаковых. Исследователи относят к 1830 году историю с ответом поэта на потерянное письмо Екатерины Николаевны:
Я вас узнал, о мой оракул, Не по узорной пестроте Сих неподписанных каракул, Но по веселой остроте, Но по приветствиям лукавым, Но по насмешливости злой И по упрекам… столь неправым, И этой прелести живой. С тоской невольной, с восхищеньем Я перечитываю вас И восклицаю с нетерпеньем: Пора в Москву! В Москву сейчас! Здесь город чопорный, унылый, Здесь речи – лед, сердца – гранит; Здесь нет ни ветрености милой, Ни муз, ни Пресни, ни харит.Письма Екатерины Николаевны к брату говорят о другом. В середине мая 1830 года она уже не сомневается, что отношения с поэтом никогда не восстановятся: «Скажу про себя, что я глупею, старею и дурнею, что еще годика четыре, и я сделаюсь спелое дополнение старым московским невестам, т. е. надеваю круглый чепчик, замасленный шлафор, разодранные башмаки и которые бы немного сваливались с пяток, нюхаю табак, браню и ругаю всех и каждого, хожу по богомольям, не пропускаю ни обедню, ни вечерню, от монахов и попов в восхищении, играю в вист или бостон по четверти, разговору более не имею, как о крестинах, о свадьбах и похоронах, бью каждый день по щекам девок, в праздничные дни румянюсь и сурмлюсь, по вечерам читаю Четьи-Минеи или Жития святых отцов, делаю 34 манера гран-пасьянс, переношу вести из дома в дом…» Литературным даром Ушакова-старшая несомненно обладала. Но ясно одно, что письмо, вызвавшее стихотворный ответ Пушкина, явно должно было быть написано раньше, скорее всего, перед первым приездом. На этот раз для Екатерины Николаевны роковой оказалась встреча поэта с младшей ее сестрой.
В этот месяц, проведенный в Москве (всего месяц!), Пушкин находится в смятенных чувствах. Вяземский замечает в письме А.И. Тургеневу: «Он что-то во все время был не совсем по себе, не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, но он не был в ударе. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том и в другом месте я видел его редко, но видел и с теми и с другими, и все не узнавал прежнего Пушкина».
В отличие от серьезной и словно замкнувшейся в себе Екатерины Николаевны, Елизавета Ушакова веселее, общительнее, кокетливее и… равнодушнее к поэту. Его увлечение льстит ее самолюбию – не больше. Между тем поэт не расстается с ее альбомом. Из двух ее альбомов от первого сохранились отдельные листы с автографами поэта, зато во втором из ста пятидесяти страниц сто заполнены рисунками и записями поэта. Он подписывает один портретный набросок Елизаветы Николаевны, сделанный 5 октября, в надписи около другого: «Елизавета Миколавна в день Ангела Д. Жуана». И именно здесь Пушкин составляет свой «Донжуанский список» – перечень имен женщин, которыми в своей жизни увлекался. Странная фантазия, но несомненно долженствовавшая произвести впечатление на владелицу альбома, которая, поэт это понимал, не поддавалась его мужским чарам. Об этом знали все окружающие, почему когда в 1830 году Елизавета Николаевна выйдет замуж за С.Д. Киселева, супруг не будет испытывать ревности к свидетельствам увлечения поэта и не потребует их уничтожения. Зато именно так поступит супруг Екатерины Николаевны, которая решится выйти замуж только после смерти поэта.
Вы избалованы природой! Она пристрастна к вам была, И наша вечная хвала Вам кажется докучной одой. Вы сами знаете давно, Что вас любить немудрено, Что нежным взором вы Армида, Что легким станом вы Сильфида, Что ваши алые уста, Как гармоническая роза… И наши рифмы, наша проза Пред вами – шум и суета. Но красоты воспоминанье Нам сердце трогает тайком — И строк небрежных начертанье Вношу смиренно в ваш альбом. Авось на память поневоле Придет вам тот, кто вас певал В те дни, как Пресненское поле Еще забор не заграждал.И снова разговоры в Москве о визитах к сестрам Ушаковым. Снова предположения, на этот раз по поводу младшей сестры, как бы со временем поэт ни пытался объяснить (впрочем, по словам Россет-Смирновой) желанием 2–3 раза в день проехать мимо дома Гончаровых на Большой Никитской. Смысл таких проездов, когда существовали общие знакомые, балы, праздники, Дворянское собрание, был слишком сомнительным. Но есть и еще одно обстоятельство, заставляющее задуматься над отношениями поэта с «Сильфидой»…
Брак Елизаветы Николаевны был довольно неожиданным. Жених и невеста знали друг друга достаточно давно, притом возрастная разница между ними даже в те годы представлялась существенной: семнадцать лет – срок не малый. А если еще прибавить к этому слова Пушкина, что, по словам старшей сестры, «они счастливы до гадости», то радость невесты представляется несколько преувеличенной. Впрочем, Сергей Дмитриевич Киселев – полковник лейб-гвардии Егерского полка. В прошлом. Но по гражданской службе в год смерти поэта он занимает должность московского вице-губернатора. У новобрачных приходят на свет один за другим сразу после свадьбы два сына, из которых младший, Николай Сергеевич, приобретет со временем известность как собиратель и издатель материалов по русской истории XVIII – начала XIX века. Сорока лет Елизавета Николаевна потеряет мужа. Это могло быть и простым совпадением, но Елизавета Николаевна приобретает дом почти точно напротив первой после венчания квартиры Пушкина на Арбате и именно в его стенах садится писать свои воспоминания.
Это – один из старинных московских домов (ул. Ст. Арбат, 42), который видел из окон своей квартиры Пушкин. Была это когда-то стрелецкая земля, и только в середине XVIII века домовладение от военных перешло камергеру Михаилу Алексеевичу Алексееву. Среди его часто сменявшихся владельцев были Полонские, княгиня С.А. Волконская, А.В. Шереметев, А.Ф. Кокошкин, капитанша Елена Петровна Хвощинская. Непосредственно перед Елизаветой Николаевной домом владела жена коллежского секретаря Анна Александровна Небольсина. Но даже перейдя от наследников Киселевой (она скончалась, как и ее сестра, в 1872 году) к купчихе Клавдии Усачевой, а в 1935 году под школьный детский дом 1-й ступени, в котором размещались 2 группы из 45 учащихся, дом пушкинских времен еще сохранял свой внутренний вид. Его фасад и интерьеры поддавались восстановлению. Дом был полностью перестроен с санкции начальника Московского Управления по охране памятников истории и культуры, а ныне заведующего кафедрой по тому же профилю в вузе А.А. Савиным. Строение пушкинских лет превратилось в грузинский ресторан «Мизиури».
Остается добавить, что Пушкин продолжал навещать чету Киселевых и в Москве и в Петербурге. В мае 1833 года Киселев пишет Елизавете Николаевне: «Под моими окошками на Фонтанке проходят беспрерывно барки и разного рода лодки, народ копошится, как муравьи, и между ими я заметил Пушкина (при сем имени вижу, как вспыхнула Катя). Я закричал, он обрадовался, удивился и просидел у меня часа два. Много поговорили и о нем и об старинке, вспомнили кой-что и окончили тем, что я зван в семейственный круг, где на днях буду обедать; мне велено поторопиться избранием дня, ибо барыня обещает на днях же другого орангутанга произвесть на свет…»
А вот Елизавета Николаевна оборвала свои воспоминания на 1826 годе, ни словом не обмолвившись о Пушкине.
В сиреневом палисаднике
То, что дом обречен, понимали все. Одни с нескрываемым удовольствием, другие с искренним отчаянием. Очередной план «благоустройства» центра Москвы предполагал, казалось бы, разумную вещь – полный ремонт Центрального рынка на Цветном бульваре. Нараставшая с годами грязь, хаотическое нагромождение непонятных строений требовали вмешательства строителей, а прочно сложившаяся рыночная мафия – вмешательства милиции. Но, как обычно, под маркой доброго дела начался захват окружающих территорий, и одной из первых оказалась церковная земля исчезнувшей церкви Спаса на Песках и на ней – простенький деревянный домик с антресолью, давно поставленный на охрану как памятник федерального значения. Да и как могло быть иначе, когда в этом «Щепкинском гнезде» было средоточие московской культурной жизни на протяжении без малого двадцати лет.
Дом М.С. Щепкина в Большом Спасском (сейчас Большой Каретный) переулке, № 16.
«Все, что вы находите во мне достойным какой-либо оценки, – говорил великий русский актер, – принадлежит, собственно, не мне, – все это принадлежит Москве, то есть тому избранному высокообразованному обществу, умеющему глубоко понимать искусство, которым Москва всегда была богата… В этом кругу было все: и литераторы, и поэты, и преподаватели Московского университета, тридцать лет я находился в этом кругу». Из них семнадцать в собственном доме и по Большому Спасскому переулку (одно время – улица Ермоловой, ныне – Большой Каретный переулок), 16.
Домик когда-то в глубине буйно заросшего лопухами двора. В тяжелых черно-лиловых гроздьях сирень. Пара ступенек скрипучего крыльца. Прихожая без прислуги (спасибо, что стряпуху удавалось держать!). Широко распахнутые в залу двери. Стол на несколько десятков человек. Приветливые любопытные лица.
Все в щепкинском доме было просто. Обеды – щи и черная каша с куском отварной говядины. На разносолы хозяина не хватало, да здесь никто и не стремился к ним. Престарелые актеры, жившие на щепкинских хлебах. Находившие временный приют и стол артисты, искавшие работы, ангажемента. Множество родственников, которым Щепкин никогда не отказывал в поддержке. Множество собственных детей. А рядом в числе гостей – Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, С.Т. Аксаков, Т.Н. Грановский, А.В. Кольцов. Великолепный рассказчик, Михайла Семенович подсказывает Герцену сюжет «Сороки-воровки», В.А. Сологубу – «Собачки», Гоголю – ряд эпизодов из «Мертвых душ» и «Старосветских помещиков». И это не говоря о Пушкине, который подарил актеру тетрадь для его будущих записок и даже вписал собственной рукой первые строчки.
М.С. Щепкин.
Вот только не знал поэт, какой несбыточной мечтой для актера были необходимые для этих записок свободные минуты. Нужда подкарауливала Щепкина каждый день.
Надо было вытягивать буквально весь репертуар Малого театра: зрители специально шли «на Щепкина». Им любовались. Его хвалили. Он сам бросался с помощью к каждому, кто в ней нуждался. Был сослан в Спасское-Лутовиново после слов о гибели Гоголя Иван Сергеевич Тургенев, значит, в Спасском должен был оказаться Михайла Семенович. Отрешили от России А.И. Герцена, Щепкин не остановился перед тратами и недовольством начальства – помчался в Лондон, чтобы пожать руку, поддержать.
Малый театр.
А между тем в семье постоянно тлел конфликт между супругами. «Турчанка из Анапы», супруга актера, не разделяла широких жестов мужа и требовала денег прежде всего на вполне взрослых детей, готова была представлять мужа извергом, калечащим их жизнь. Деньги, постоянно требовались деньги – не на себя, на детей. Между тем старшие дочери Фекла и Александра станут актрисами, причем Александра выйдет замуж за режиссера Малого театра, Николай станет профессором Московского университета, издателем и общественным деятелем, Петр – юристом, товарищем председателя Московского окружного суда, Дмитрий – магистром Московского университета, историком искусств, Александр – помощником управляющего Московской конторой уделов, председателем Казенной палаты. Можно сказать, усилиями матери, не допускавшей ни минуты отдыха для отца. С шестидесяти лет над Щепкиным, «солнцем русской сцены», будет ежегодно возникать угроза увольнения, и каждое лето, когда остальные актеры казенной сцены могли позволить себе отдых, Михайла Семенович отправлялся в далекие и неудобные гастроли, с которых возвращался окончательно вымотанным и разбитым. В 75 лет он так и умер во время гастролей, еле добравшись до места назначения. И – ему не найдется места около могил недавно умершей жены и родных: они будут лежать на Даниловом кладбище, Михайлу Семеновича отвезут на Пятницкое, где могила его вскоре исчезнет.
Но сначала ему придется расстаться с тем, чем он больше всего дорожил, – с домом в Большом Спасском переулке. Он сообщит об этом так же всю жизнь нуждавшемуся Гоголю: «Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остается за уплатою за годовую квартиру 1500 р.: вот все мое состояние». Шел май 1847 года. При этом дом был продан со всей обстановкой: на «съемной» квартире в Воротниковском переулке она бы просто не уместилась. В значительной своей части эта мебель просуществовала в доме до 1972 года. Кто-то ею пользовался, кому-то она служила кладовочками, складом ненужных вещей. Большой гардероб красного дерева. Большой такого же дерева буфет. Шкафы для женского платья…
Дом был срочно отселен под предлогом необходимости капитального ремонта. Где-то и кому-то предъявлялись уже выполненные расчеты и чертежи. Непосредственно дом находился на балансе Всероссийского театрального общества, и кому, как не его председателю, народному артисту СССР, любимому чтецу Сталина и к тому же директору Малого театра М.И. Цареву, было позаботиться об актерском гнезде. Но – глава «Дома Щепкина» отмахнулся от памятника на задворках Центрального рынка: нашел расходы неоправданными. Московское городское отделение ВООПИК, как обычно, припоздало. Ответственным за все себя чувствовал единственный очень пожилой жилец, стучавшийся во все ведомственные двери, звонивший по всем телефонам. Все кончилось так, как и было задумано: отселенный, лишенный воды, канализации, но не электроэнергии, дом загорелся, и хотя пожар был быстро потушен, его снесли под предлогом «приведения в порядок района к первомайским праздникам». Спасла ли бы его памятная таблица: «Здесь бывал А.С. Пушкин», обедал, шутил, слушал рассказы хозяина?
«Пушкин, который меня любил, – напишет Щепкин, – приезжая в Москву, почти всегда останавливался у Нащокина, и я, как человек Нащокину знакомый, редкий день не бывал у него». И Пушкин в письме жене из Москвы в Петербург: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть „Ревизора“. Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда имела поползновение). С моей стороны я то же ему советую: не надобно, чтоб „Ревизор“ упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге».
Автору довелось близко знать внучку великого актера – Марфу Вячеславовну Щепкину, редкого специалиста по истории книги (и единственной написать ее газетный некролог), и работать с талантливой актрисой и редкой души человеком Александрой Александровной Щепкиной, последней из рода, работавшей на подмостках Малого театра, и обе говорили, как хранилась в семье легенда о доме, который прадед называл «истинным храмом великих умов и талантов», имея в виду своих многочисленных гостей. О том, как пели в сиреневых кустах по весне соловьи, взлаивал время от времени без видимой причины огромный лохматый пес, которого на ночь сажали на цепь, «чтоб не бегал по дамам», и как кучера приезжавших на своих экипажах гостей пускали лошадей полакомиться дворовой травой, а прадед нет-нет да и спускался с крыльца, чтобы дать каждой лошади припасенные в карманах необъятного полукуртки-полухалата кусочки хлеба с серой солью.
На смерть поэта
Дом был самый обыкновенный. Грузноватый, мрачный, с однообразными рядами глубоко запавших окон. Обычный доходный дом конца XIX века. Молодые липки протянувшегося посередине улицы бульвара казались рядом с ним какими-то очень неуверенными и робкими, весенняя зелень травы не такой яркой.
День подходил к концу, спешить было некуда, и в медлительно разливающихся сумерках ленинградской ночи взгляд бездумно следил за загоравшимися огнями: одно окно, другое, два сразу, и вдруг…
Под самый потолок, без единого просвета, стена в картинах, больших и маленьких, в рамах и без рам. Живопись в квартирах можно встретить разную, но это были портреты, и даже с расстояния второго этажа не возникало сомнения: русские, XVIII – самого начала XIX века. Где там бороться с искушением!
Подъезд, широкая лестница, и только когда за тяжелой исцарапанной дверью, разукрашенной бесчисленными фамилиями, раздались торопливые шаги, в голове судорожно мелькнула мысль: с чего начать? Но дверь, натужно охая, уже приоткрылась. Впереди чернел бесконечный коридор, сундуки, допотопные баулы, чемоданы, посеревшие от времени портьеры, телефон на стене – и звучный голос: «Вы к кому?» Этого-то как раз я и не знала, но первая попытка объясниться оказалась удачной – передо мной стоял хозяин комнаты с картинами.
Непривычным здесь было все. После душного коридора предвоенной коммунальной квартиры комната с потолком в кессонах густо почерневшего дуба, огромные растворы окон и картины – на всех стенах, от потолка до нагроможденной почти без проходов мебели: диваны, столики, креслица, ширмы, даже раствор камина, куда пыталась скрыться пара длинноногих застенчивых котов.
«Ах, вы историк искусства? Очень приятно. Я сам актер, так что в некотором роде коллеги. Простите, а вы представляете себе, где находитесь?» Кроме подсмотренного окна, я ничего не знала. «В доме и кабинете Вейнера, того самого, из “Старых годов”».
Вейнер? Для искусствоведа всякие пояснения излишни. «Старые годы» – это, пожалуй, лучший из издававшихся в России непосредственно перед революцией журналов по искусству. Неполных десять лет, в течение которых он выходил, составили своеобразный этап в развитии нашего искусствознания. Искусство самых разнообразных эпох и профилей: русское, древнерусское, западное, восточное, живопись, скульптура, фарфор, миниатюры, ковры, фрески – и при этом великолепные иллюстрации и обязательная архивная основа. «Старые годы» давно стали той энциклопедией, без которой не обойтись ни одному историку искусства. И значит, здесь, в этом бывшем кабинете, он делался! Конечно интересно. Но профессиональные, не лишенные налета сентиментальности эмоции не могли противостоять впечатлению от картин. Сколько же их здесь было!
«Должен вам сказать, интересуют меня исключительно портреты. Главное, чтобы знать – с кого. Художник – это, конечно, очень хорошо, но вот имя изображенного и вовсе, знаете ли, увлекательно». В ход пошли папки с вырезками из газет, старинных журналов, гравюры, открытки – иконография людей разных и всяких. Но глаза не могли оторваться от стен.
Среди полотен, разных по художественным достоинствам, эпохам, мастерству – от старых и новых копий, почти лубков, до настоящей, как говорят профессионалы, классной живописи, – два сразу приковывали к себе взгляд. На обоих – молодые мужчины в небольших, густо пудренных париках, бархатных камзолах, пестрых атласных жилетах с кружевными жабо и черными бантами галстуков по моде 60-х годов XVIII столетия. Изображения, близкие друг другу и совершенно разные.
Мой хозяин был в полном восторге. Эти два? Да это целая история, и еще какая увлекательная!
Любитель летних путешествий по самым тихим уголкам среднерусской полосы, оказался он как-то неподалеку от Великих Лук и в одном доме увидел эти два холста. Может, сама живопись и не слишком привлекла бы его, но вот надписи на картинах и рассказ старушек владелиц лишили человека сна. Портреты не продавались – старушки были потомками одного из изображенных на них лиц, и только после очень долгих и сложных дипломатических переговоров ленинградский актер стал обладателем полотен. И теперь его переполняла гордость за правильно сделанный выбор: мой интерес служил лишним и неоспоримым тому доказательством.
Юноша, почти подросток, в неожиданно порывистом повороте худощавой фигурки, с пристальным и чуть недоуменным взглядом черных глаз под высоким разлетом бровей. «Креницын Савва Иванович, похороненный в селе Мишино Московской губернии», – гласила надпись на обороте холста.
И другой портрет – плотная, коренастая фигура, уверенная посадка головы, лицо очень бледное, вытянутое, с крупными грубоватыми чертами, открытый, доброжелательный взгляд. Возраст, даже скорее характер, был совсем иным. Но вот на обороте именно этого холста стояло: «Портрет друга моего Андрея Ивановича Васильева писал живописец Мина Колокольников, сей знак памяти сохраняет у себя Савва Креницын в 1760 году».
Мина Колокольников – в это просто не хватало смелости поверить. Рядом с ним романтическая дружба Саввы Креницына и Андрея Васильева, необычная история их портретов, все подробности, которыми торопился поделиться хозяин, – все отходило на задний план.
Каждому, кто хоть немного интересовался русским искусством, знакомо имя Алексея Петровича Антропова. Крупные румяные лица, похожие на вишни живые глаза, яркое сочетание цветов в точно и «вкусно» написанном платье, характеры прямые, открытые, веселые, часто задорные – таким изображается на антроповских портретах человек середины XVIII века. Был Антропов учеником Андрея Матвеева, служил живописцем в Канцелярии от строений, расписывал по ее заказу Андреевский собор в Киеве, а позже перешел главным художником в Синод. Трудно сказать, что в большей степени повлияло на решение живописца уйти из Канцелярии. Может, долгие нелады с начальством, может, материальная необеспеченность, может, желание большей независимости. Как бы там ни было, в полной мере надежды Антропова не оправдались. На его пути постоянно оказывался все тот же соперник – Мина Колокольников.
Уже одного этого достаточно, чтобы обратить внимание на художника. Ржевский крестьянин, он был учеником самого Ивана Никитина. Мина Колокольников был вообще достаточно популярным мастером. Приехав из Москвы, он числился в Петербурге «вольным живописцем», и, значит, хватало ему заказов, чтобы не связывать себя с определенным учреждением. Тем не менее его постоянно вызывали на различные живописные работы во дворцах. Руководил он выполнением плафонов в Большом Царскосельском дворце, сотнями писал образа для всех придворных церквей, имел учеников, собственных и специально присылавшихся из Канцелярии от строений, брал заказы на портреты. Обо всем этом давно рассказали архивные документы. Вот только не была еще известна историкам ни одна работа Колокольникова. Ни одна – передо мной была первая!
И, глядя на портрет «друга моего Андрея Ивановича Васильева», сберегавшийся черноглазым Саввой Креницыным, становилось понятным, как нелегко давалось Антропову соперничество с «вольным» петербургским живописцем. Был Колокольников художником мастеровитым, добросовестным, способным и на точное определение характера своей модели, и на звучное цветовое решение, разве что, может быть, менее темпераментным, более сдержанным. Теперь предстояла работа, долгая, кропотливая, чтобы подготовить портрет к научной публикации, и как же могли здесь пригодиться хотя бы самые краткие, самые скупые сведения об изображенном лице! Но в многолетних столкновениях с разнообразнейшими материалами по русскому XVIII веку имена Андрея Васильева и Саввы Креницына мне определенно не встречались. Зато все более настойчивой становилась другого рода ассоциация.
Портрет Саввы Креницына казался странно знакомым – живостью позы, почти детским выражением лица, напряженного и чуть недоуменного, цветовыми сочетаниями, мягкостью скользящих, ласковых мазков. На память невольно приходили портреты, и прежде всего детские портреты, не столько забытого, сколько всегда пропускаемого историками художника Кирилла Ивановича Головачевского. А ведь это целая история, местами очень обыкновенная, местами трагическая.
Мальчик, привезенный с Украины в столицу, чтобы петь в придворном хоре, – в XVIII веке, и особенно при Елизавете Петровне, юных певцов вообще разыскивали только в тех краях. Без семьи и родных, все детство – как в казарме. Кирилл пел, пока юношей «не спал с голосу». Теперь надо было самому заботиться о своей дальнейшей судьбе, хотя придворное ведомство и не отказывало в содействии бывшим певчим. Вместе с Антоном Лосенко он выразил желание учиться живописи и был направлен к пользовавшемуся большой известностью Ивану Аргунову – специальных художественных училищ в России еще не существовало.
Несколькими годами позже торжественно открывается Академия трех знатнейших художеств в Петербурге. Головачевский становится ее учеником и почти сразу преподавателем. Бывший певчий оказывается не только мастеровитым художником, способным учить молодежь, но и культурнейшим человеком. В его руках постепенно сосредоточивается руководство огромными художественными собраниями Академии, ее библиотекой, казной. Он назначается инспектором – наблюдает за воспитанием будущих художников и одновременно ведет один из наиболее ответственных специальных классов живописи – портретный.
Удар оказался тем более тяжелым, что его никак нельзя было ожидать. После десяти лет безукоризненной службы Головачевский лишается одновременно всех своих должностей и увольняется из Академии. Единственный повод, выдвинутый администрацией, – незнание художником иностранных языков. «Одним словом, человек, не имевши начальных оснований для воспитания юношества и не пользующийся чтением иностранных книг, до того касающихся, не может быть способен к столь трудной и весьма нужнейшей для Академии должности». На месте Головачевского оказался заезжий француз и без определенной специальности, и без знания на этот раз… русского языка.
Но случилось невероятное. Входившие в совет Академии художеств художники не согласились с мнением администрации. Они отстояли Головачевского именно как воспитателя, умного, доброго, отзывчивого, одним из первых среди русских педагогов задумывавшегося над теорией воспитания молодежи.
Конечно, Головачевский остался и художником, не отказывался от отдельных заказов, только откуда было брать на них время? И когда в 1823 году его не стало, правление Академии, отмечая шестидесятипятилетнюю службу художника, вынуждено было признать, что он «оставил после себя не более 15 рублей наличных денег, так что нечем было даже его похоронить». Признательность Академии выразилась просто – выдана была «на приличное его званию погребение тысяча рублей».
Такова канва его жизни, а работы… Их мало, очень мало. Два чудесных портрета детей Матюшкиных в Третьяковской галерее – шестилетний малыш в мундирчике и девочка постарше, наряженная в «взрослое» модное платье тех лет. Оба чуть застывшие от непривычности позы, одежды и вместе с тем такие непосредственные в своей детскости – редкий для портретиста дар. Были они написаны в Москве в 1763 году и несут обстоятельнейшую подпись художника. Кстати, и это тоже существенно, размер их точно совпадает с размером портрета Креницына. Обычно каждый художник придерживался своего излюбленного размера, особенно в определенный период творчества. А здесь разница во времени составляет от силы два-три года.
То, что портрет Креницына не имел авторской подписи, само по себе не могло поставить под сомнение авторство Головачевского. Среди сохранившихся работ художника есть и подписные и неподписные – в XVIII веке этому вообще не придавалось большого значения. Портреты такого прославленного мастера, как Рокотов, почти все лишены подписи автора. Значит, работать предстояло над обоими портретами.
Не зная даже приблизительно, где жили оба друга, какого рода деятельностью могли заниматься, с какими людьми общались, с достаточной уверенностью можно было определить одно – их принадлежность к дворянству. Тем более что и нынешний владелец портретов вспоминал об имении Саввы Креницына, где тот якобы и похоронен.
Конечно, существовали общие списки дворянства, но как искать по ним безо всяких дополнительных указаний и уточнений Андрея Ивановича Васильева – имя, такое распространенное, собственно «никакое». Лучше обстояло дело с Саввой Креницыным – сочетание имени и фамилии было достаточно редким, если не единственным в своем роде. Но опять-таки списки дворянства не имели вида некой энциклопедии. Существовали родословные книги, охватывавшие наиболее родовитые семьи, – к ним Креницын не принадлежал, существовали списки по губерниям. Указание на губернию было просто необходимо.
Мой новый знакомый не только со слов бывших владелиц портрета утверждал, что Савва Креницын похоронен в селе Мишине Московской губернии. Он сам побывал в этом селе, расположенном неподалеку от Великих Лук, и даже видел надгробную плиту. Правда, Великие Луки ни по какому территориальному признаку и делению никогда не относились к Московской губернии. В XVIII веке их включили в Псковское наместничество, вскоре превратившееся в губернию. И хотя ни на одной из карт Псковщины, которые удалось просмотреть за те отдаленные годы, села Мишина не значилось, начинать, по-видимому, следовало с псковского дворянства.
«Список дворянству Псковского наместничества… в декабре месяце 1777 год», «Дела Псковской провинциальной канцелярии», «Псковский некрополь», многие другие местные издания – да, Креницыны здесь были. Богатые помещики, одни из самых богатых, владельцы нескольких имений. Из них особенно славилось богатством и удобствами Цевлово, расположенное в живописных окрестностях озера Дубец. Хозяином его и был Савва Иванович Креницын. Отличался он восторженным романтическим характером, много читал, свидетельством чему стала собранная им великолепная по тем временам библиотека, увлекался музыкой и имел не только собственный оркестр из крепостных музыкантов – среди богатых помещиков это редкостью не было, – но даже специально посылал крепостного капельмейстера обучаться за границу. Слишком независимый в суждениях, непокладистый в отношении начальства, Креницын избегал Петербурга, предпочитая ему деревню и, в крайнем случае, Москву. Здесь среди его добрых знакомых был Дмитрий Матюшкин, чьих детей в 1763 году писал Головачевский. Друзья легко могли порекомендовать друг другу понравившегося художника. Но для биографии Головачевского было важно то, что живописец уже в эти ранние годы пользовался популярностью и, будучи на службе связан с Петербургом, приезжал работать в Москву. По-видимому, именно в Москве и написан портрет Саввы Креницына.
Но по мере того как медленно собирались эти скупые сведения, разбросанные во времени, из разных источников, в различной связи, внимание невольно начинало фиксироваться на том не слишком обычном обстоятельстве, что все это происходило в непосредственной близости от Михайловского и Тригорского, иначе – пушкинских мест. Да и среди имен местного дворянства в конце XVIII века все чаще мелькает имя Ганнибалов, а за рубежом нового столетия – и Пушкиных. Тоже псковские помещики, тоже владельцы местных имений, больших или меньших, богатых или разоренных. Но в таком случае на помощь могло прийти пушкиноведение. Известно, что эта обширная и всесторонне разработанная часть литературоведения интересовалась всеми, кто так или иначе, раньше или позже сталкивался или попросту оказывался рядом с великим поэтом. Путь окольный, но казавшийся многообещающим.
…В могучем развороте Невы у стрелки Биржи все делится на свет и тень. Первый же луч блеклого ленинградского солнца заливает Университетскую набережную, начинает крошиться в окнах Кунсткамеры, крупными пятнами рассыпается во дворе Двенадцати коллегий – университета. Но за поворотом к Тучкову мосту – острый порыв ветра, глухая тень, пустота. До Пушкинского Дома – название, сохранившееся за Институтом русской литературы, – десяток шагов, и их надо пройти в тугих волнах ветра, зябкого летом, леденящего зимой. Холодок остается и в доме – в чугунных плитах вестибюля, в чинном порядке старинной мебели, тусклом поблескивании бронзы, красном дереве, кажется, помнящих Пушкина шкафов.
1824 год. Ссылка в Михайловское. После юга, оживленной, переполненной друзьями Одессы она особенно тяжела поэту. «Небо у нас сивое, а луна точно репа», – пишет он с безысходной тоской В.Ф. Вяземской. Близких друзей вокруг нет, да и нет желания их искать. «Соседей около меня мало, – замечает Пушкин спустя полгода по приезде, – я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко. Совершенный Онегин».
Но, как и у Онегина, над образом которого как раз в это время работает поэт, молодость брала свое. Не было рядом Ленского, зато множество захолустных и приезжавших из столицы помещиков, которым еще предстояло войти в его произведения. За выдуманными Карликовыми, Фляновыми, Петушковыми, танцевавшими на балу у Лариных, стояли Философовы, Рокотовы, Креницыны – живые, увиденные поэтом люди. И никаким отшельником Пушкин не стал. Письма его к матери пестрят остроумными рассказами о поездках к соседям, о местных развлечениях, о приятельских отношениях поэта со своими сверстниками. И далеко не так чужда литературных и интеллектуальных интересов была эта еще недавно совершенно незнакомая поэту среда. В Михайловском он находит настоящих, по-человечески близких ему друзей – П.А. Осипову, А.П. Керн, Е.Н. Вульф-Вревскую. Небезразличны оказались для него и другие семьи, между ними известный своим широким гостеприимством дом Креницыных.
Существовало и еще одно обстоятельство, сближавшее сосланного и находившегося под неусыпным полицейским надзором Пушкина именно с Креницыными. Один из внуков Саввы Ивановича, почти ровесник и тезка поэта, Александр, разжалованный в солдаты за крамольные и неугодные правительству стихи, тоже находился в ссылке, отбывая ее на службе в армейском полку. Пушкин мог встречаться только с его братьями и самим владельцем имения Цевлово – Николаем Саввичем, сыном черноглазого нетерпеливого юноши с портрета Головачевского. Фамилия Креницыных и дальше мелькает в семейном архиве Пушкиных. То родители поэта заезжают к ним, иногда гостят даже по нескольку дней, а то отец Пушкина пишет его сестре: «Кстати вообрази, Ольга, стены гостеприимного Тригорского огласились песней Земфиры из „Цыган“ Сашки: „Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня“!! Песню поют и у Осиповой, и у Креницыных, а музыку сочинил сам Вениамин Петрович (Ганнибал)».
Больше к этому пушкиноведы не добавляли ничего. Но почему? Может, контакты Пушкина с Креницыными тогда же кончились и не показались исследователям существенными? Что же, можно бы согласиться и с этим, если бы не одна неожиданная, многими годами позже всплывшая подробность, на которую удалось натолкнуться.
Оказывается, Пушкин представил в цензуру первую часть своей «Истории Пугачева» завернутой в исписанный лист бумаги. Собственно, исписанным он не был – просто имел несколько коротких случайных пометок. Поэт не придал им никакого значения, зато гневу Николая I, пожелавшего лично ознакомиться с пушкинским трудом, не было границ. «Что такое?» – размашисто и зло написал он рядом с именами приезжавших навещать поэта лиц. Этими лицами были Александр и Петр Креницыны.
Случайная встреча, случайное совпадение или… Нет, положительно так быстро ставить точку на Креницыных не представлялось возможным. Надо было искать, снова и снова искать. Уже не ради героя портрета Головачевского, а ради той новой и такой увлекательной ниточки, которая тянулась от портрета к жизни Пушкина. Пока трудно сказать, какие могли существовать связи между Пушкиным и Александром Креницыным, одновременно отбывавшими ссылку по политическим причинами и, как оказывается, одинаково связанными с кругами декабристов. Писал же Пушкин после событий на Сенатской площади: «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков». Вряд ли найдется историк, который бы при таких данных и перспективах решался отказаться от дальнейшего поиска.
«История Пугачева», переименованная по личному указанию Николая I в «Историю Пугачевского бунта», – это 1833 год. 10 февраля 1837 года Пушкина не стало. И одним из первых приходит в квартиру на Мойке, чтобы проститься с убитым поэтом, Александр Креницын.
Спустя несколько дней глубокой ночью он провожает в последний путь тело поэта, которое царским распоряжением тайком, без последних почестей и провожатых, спешно вывозится из Петербурга на Псковщину, в село Михайловское, чтобы быть погребенным в Святогорском монастыре. А дальше – дальше начиналась самая интересная глава «Пушкин и Александр Креницын».
С Креницыным получалась удивительная история. Современники, причем современники литераторы, не скупились на самые теплые отзывы о его таланте, а вот в печати имя Креницына почти не встречается. После немногих и явно случайных стихотворений, попавших в журналы 1820-х годов, никаких следов его публичных выступлений найти не удалось. При этом в частной переписке упорно повторяются намеки на то, что креницынские стихи ходили обычно в списках и «не могли увидеть свет».
Среди потока литературных откликов на гибель Пушкина одни были опубликованы, другие оставались в рукописях и забылись. Судьбу последних разделили стихи, в свое время волновавшие читателей едва ли не так же сильно, как великолепные лермонтовские строки, но сочтенные цензурой еще более опасными и именно потому остававшиеся ненапечатанными. Даже спустя без малого тридцать лет, в 1865 году, журнал «Отечественные записки» не смог добиться разрешения опубликовать их полностью: слишком прямым, точным и беспощадным представлялось заключенное в них обвинение. Автором этих стихов на смерть поэта был Александр Креницын:
…О! Сколько сладостных надежд, И дум заветных, и видений На радость сильных и невежд Ты в гроб унес, могучий гений!За этим стояло многое: надежды декабристов, их несбывшиеся мечты и новые, неугасавшие планы о будущем России. Креницын хорошо понимал смысл происшедшего. Не светская ссора и пустая дуэль, а политическое убийство того, кто был давней и опасной помехой николаевскому режиму. Какие бы рамки цензуры, сыска, наказаний ни ограничивали поэта, мертвый, он становился несравнимо безопасней живого. Его гибели ждали, ее готовили, ей только радовались.
Лермонтов пишет о столкновении поэта с высшим светом, о непонимании окружающих и о том игралище страстей, в которое он оказался вовлеченным. Такова внешняя сторона событий, их видимость. Друга декабристов Александра Креницына она обмануть не могла. И едва ли не в первый раз в поэтических строках, посвященных пушкинской гибели, он открыто и прямо называет то, к чему стремилась вся группа передовых общественных и культурных деятелей России, которую представлял и с которой был связан Пушкин, – уничтожение крепостного права:
Рабы! Его святую тень Не возмущайте укоризной: Он вам готовил светлый день. Он жил свободой и отчизной… Высоких мыслей властелин, Мицкевичу в полете равен. И как поэт, и гражданин Он был равно велик и славен…Сравнение с Мицкевичем в 30-х годах XIX столетия было равносильно признанию за творчеством художника самого высокого революционного накала, духа вдохновенной и самоотверженной борьбы со всем тем, что представлял собой николаевский режим, его оковы и весь гнет русского царизма. Недавнее пребывание Мицкевича в России, его дружба с декабристами Бестужевым и Рылеевым, близость с Вяземским, Погодиным, Шевыревым, Пушкиным, восторженно преклонявшимся перед его произведениями, – все было на памяти современников и тем более Креницына. Несколькими годами раньше, откликаясь на восторги Мицкевича перед Байроном, Баратынский писал: «Поклонник униженный, восстань, восстань и помни – сам ты бог». Для Александра Креницына высокая гражданская роль Мицкевича и Пушкина была одинаковой:
Во мраке ссылки был он тверд, На лоне счастья благороден, С временщиком и смел и горд, С владыкой честен и свободен… И нет его! В могиле он, Уж нет народного кумира… Поэта непробуден сон, Замолкла пламенная лира!Эти строки говорили еще и о другом. Креницын достаточно хорошо и подробно знал обстоятельства жизни Пушкина и его поведение в каждом отдельном случае. И под «временщиком», и под «владыкой» он видел конкретных людей, за столкновениями с ними – конкретные события, пережитые поэтом, «кумиром народным». Слова, которыми Креницын определяет Дантеса, повсюду повторяются современниками, становятся крылатыми, хотя редко кто задумывается над именем автора:
И кто ж убийца твой? Пришлец, Барона пажик развращенный, Порока жалкий первенец, Француз продажный и презренный.Судьба стихов Креницына – какой же бесконечно сложной и горькой она была да и осталась вплоть до наших дней! Впрочем, формально дань памяти поэта отдали еще в XIX веке. Даже в энциклопедии Брокгауза и Ефрона ему нашлось десять строк. Поэт, еще на школьной скамье писавший эпиграммы (!). В 1820 году «за оскорбление действием корпусного гувернера» разжалован в солдаты. Через три года произведен в прапорщики, но «несмотря на все старания, мог получить отставку лишь в 1828 году». Смерть Пушкина вызвала сильное и искреннее стихотворение Креницына, напечатанное лишь в 1865 году.
Немного, зато сколько же здесь многозначительных недомолвок! Что это за «оскорбление действием», вызвавшее столь суровое наказание? Почему Креницын прилагал все старания уйти из армии и почему так долго не получал этой возможности? Наконец, оговорка о времени публикации стихов о Пушкине – и в заключение никакой оценки творчества. Полуправда сквозила между строк энциклопедической заметки.
И снова поиски, снова блуждания по архивным делам, по изданиям прошлого столетия, воспоминаниям современников, прямых потомков поэта, чтобы из отдельных подробностей можно было сложить жизнь Александра Николаевича Креницына.
Родной внук Саввы Ивановича, он был всего лишь на два года моложе Пушкина. Подобно великому поэту, начал учиться в Царскосельском лицее, но события Отечественной войны 1812 года так поразили воображение мальчика, что он оказался в Пажеском корпусе, учебном заведении, готовившем офицеров. Здесь он начинает писать стихи, они пользуются успехом, расходятся по рукам. Увлечение поэзией сближает Креницына с учившимся в том же корпусе Я.И. Норовым, автором нашумевшей свободолюбивой трагедии «Персей», которой зачитывались в начале 1820-х годов, и будущим поэтом Евгением Баратынским. Дружба с Баратынским проходит через всю жизнь обоих, словно повторяя романтическую дружбу Саввы Креницына с так и оставшимся неизвестным Андреем Васильевым. Трогательно и верно хранит Александр Креницын ее памятки, постоянно возвращаясь к ней мыслями. Такой же сердечностью отвечает ему Баратынский.
Узнал ли друга ты? – Болезни и печали Его состарили во цвете юных лет; Уж много слабостей, тебе знакомых, нет, Уж многие мечты ему чужими стали! Рассудок тверже и верней, Поступки, разговор скромнее, Он осторожней стал, быть может, стал умнее, Но верно счастием теперь сто крат бедней. Не подражай ему! Иди своей тропою! Живи для радости, для дружбы, для любви! Цветок нашел – скорей сорви! Цветы прелестны лишь весною!Мог ли Креницын последовать такому совету? Вряд ли. Баратынский за свое свободомыслие поплатился исключением из корпуса, хотя предлог для этого был найден иной. Он начинает службу солдатом в глуши Финляндии. Креницына ждала та же судьба. Его широко разошедшиеся стихи «Панский бульвар», остроумно и зло высмеивавшие высокопоставленных лиц, принесли молодому стихотворцу много неприятностей. Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения начальства. Появилась возможность свести счеты со слишком независимым и вольнодумным юношей. Ему припомнили и все его прежние стихи, и дружбу с Баратынским, и якобы неуважительное обращение с преподавателями. Именно это последнее и послужило формальным предлогом для исключения Креницына из корпуса с разжалованием в солдаты и отправкой в отдаленный армейский полк.
Но то, что должно было сломить молодого поэта, в конечном счете оказалось для него немалой удачей. Отличавшийся либеральными взглядами, не чуждый литературных увлечений ротный командир и встреченные здесь Креницыным братья Муравьевы помогли ему сделать следующие шаги в поэзии. Именно к этим годам и относятся те немногочисленные публикации, которые удалось разыскать в «Сыне отечества», «Славянине» и «Русском инвалиде». На своеобразное и очень искреннее дарование Креницына живо откликается А.А. Бестужев, многие другие, но до публикации произведений дело чаще всего не доходит. Каждый раз на пути оказывается цензура, которую не устраивали произведения поэта. Репутация крамольного литератора все более прочно укреплялась за Креницыным, а почти каждое новое стихотворение ее подтверждало. Складывается своеобразная традиция: стихи Креницына расходятся в рукописях, переписываются, заучиваются наизусть.
Глубоко переживший восстание декабристов, отозвавшийся на него новыми, совершенно недопустимыми с точки зрения цензуры стихами, Креницын действительно не может вырваться из армии, которая рассматривается начальством как форма его заключения. Как только такая возможность появилась, Креницын не замедлил ею воспользоваться. В 1828 году он выходит в отставку и поселяется в крохотном сельце Миганеве тогдашнего Великолуцкого уезда. Как раз здесь и находилась могила его деда. Мишнево – Мишино – неточность, которая помешала найти к тому же действительно слишком маленькое сельцо на старых картах Псковской губернии.
В Мишневе не было ни богатства, ни размаха, ни даже самых простых удобств других псковских поместий семьи Креницыных. Трудно теперь точно сказать, что определило выбор поэта, но несомненно здесь сыграли роль и его личные вкусы, привычка к простоте, тяга к уединению и желание создать наиболее удобные условия для литературной деятельности. Правда, Креницын с этого времени не делает попыток печатать свои произведения. Все они остаются в его столе, читаются только друзьями, которым одним и было доступно Мишнево. «Мишневский затворник», как не без горечи называл себя Креницын, очень редко выезжает в столицу. К моменту этих выездов и относятся его встречи с Пушкиным. В Мишнево свозит Креницын семейную библиотеку, семейную коллекцию портретов и картин – причина, почему полотна Мины Колокольникова и Головачевского оказались именно здесь, в таком, казалось бы, не подходящем для портретной галереи месте.
Годы добровольного уединения не меняют внутренне Креницына. Он провожает в последний путь обожаемого им Пушкина, но и находит в себе достаточно душевных сил, чтобы тремя годами позже предпринять куда более далекое путешествие в Париж – присутствовать при встрече перевозившегося туда праха Наполеона. И это снова своеобразный жест политического протеста. В условиях возрождения французской монархии Бурбонов, последовавшей за ней Парижской коммуны Наполеон в представлении Креницына, как и многих людей его поколения, опять превращался в консула республики, противостоящего империи, и, во всяком случае, врага русского царизма. По возвращении из Парижа Креницын прожил еще долгих 25 лет, не расставаясь со своим любимым Мишневом. Здесь он и скончался в августе 1865 года, забытый как поэт читателями и все еще памятный цензуре, которая даже в некрологе не позволила привести полный текст его стихотворения, написанного на смерть Пушкина. …Вялый ветер сквозь острый запах бензина, горьковатой городской пыли изредка доносит привкус осыпающихся под московским июльским солнцем роз. Безлюдно в садике, поднявшемся на высоком белокаменном цоколе над одной из старинных улиц Москвы. Пусто в прохладных залах выходящего в него особняка, ставшего пушкинским музеем. Лето. Картины, гравюры, иллюстрации, книги, бытовые предметы – очень случайные: чей-то рабочий столик, чье-то бюро, чей-то чернильный прибор, а то и вовсе вышивка. По-своему это даже интересно, как мимоходом заглянуть в чужое, случайно не зашторенное окно.
Но только большая правда о пушкинской эпохе заключена не в бытовых мелочах, а в судьбе и творчестве таких, как Александр Креницын, которому пока еще не нашлось места в пушкинском музее. Пройдут годы, и – почем знать! – у входа в тихий особняк появятся слова, которыми от лица литераторов декабристского круга почтил память Пушкина Креницын:
И как поэт, и гражданин Он был равно велик и славен!«Край пустынный, белый и открытый…»
О схеме его жизни исследователи – со времени появления первых биографических эссе и вплоть до наших дней – не спорили. Детство и начало поэтического пути – Литва, вдохновившая первые сборники стихов, «Гражину», начало (законченных, впрочем, много позже) «Дзадов». Конец – Франция, поэтическая и политическая слава и нелепая гибель от холеры в Константинополе, куда привела надежда сразиться за свободу – наконец-то! – с оружием в руках. А между – русская ссылка. Пять лет мечты и борьбы за собственное освобождение. Слов нет, за пять лет могло случиться немало и плохого и хорошего, но суть не менялась: ссылка. Неволя. Насилие над личностью, творчеством, каждым поступком. Никакая дружба не могла здесь быть долгой, ни одно движение сердца – глубоким… Так ли?
24 октября 1824 года… Первый день ссыльного Мицкевича в Петербурге – первый день после страшного наводнения. Разнесенные по бревнышку жалкие лачуги. Сорванные кровли. Всплывшая утварь. Погибающие животные. Вереницы погребальных дрог. И гробы. Гробы, вымытые водой из кладбищенской земли. Будущий пушкинский «Медный всадник» возникнет во многом под впечатлением рассказов польского поэта.
Апокалипсис примиряющий. То, что представлялось могучей и безжалостной державой, оборачивалось тем людским горем, перед которым не бывает границ – национальных, религиозных… И почти сразу – встреча с тем, кто непонятным для петербуржцев образом предсказал день и час разгула стихии: с Юзефом Олешкевичем. Талантливым живописцем, рисовальщиком, бравшим первые уроки искусства в Вильно и закончившим их в мастерской прославленного Давида в Париже. Это Олешкевич открывает для поэта «северную Венецию», «околдовывает его» петербургской красотой, вводит в петербургские салоны. И знакомит с Пестелем, Бестужевым-Марлинским, Рылеевым. Ссыльный гимназический учитель предстает их доверенным другом, ими оцененным поэтом.
Чистые пруды.
Россия находилась в преддверии событий на Сенатской площади. Ждала минуты для решительного шага. Мицкевич относился к числу тех, кто свой шаг уже сделал – и еще полностью не расплатился за него. После семи месяцев заключения в волглой камере-келье одного из виленских монастырей ему предстояло дождаться определения места и срока будущей ссылки. Он был уже героем и мог стать мучеником.
Русскую ссылку Мицкевича предваряют строки Евгения Баратынского:
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный, Я нахожу у Байроновых ног, Я говорю: «Поклонник униженный, Восстань, восстань и помни — Сам ты Бог.Пройдут считаные годы. Не станет Пушкина – известие, потрясшее польского поэта. Среди посвященных этому горю стихов окажутся и такие, за которые имя автора, доброго пушкинского знакомца поэта Александра Креницына, III Отделение предпишет вычеркнуть из российской словесности:
Рабы! Его святую тень Не возмущайте укоризной: Он вам готовил светлый день, Он жил свободой и отчизной… Высоких мыслей властелин, Мицкевичу в полете равен, И как поэт, и гражданин Он был равно велик и славен…Масштаб чувств и действий гимназического учителя, или, как он сам себя называл, «безвестного пришельца», оставался для России образцовым.
Детство в крохотном сельце под Новогрудком, на самой границе Минской губернии. Со своими четырьмя с половиной тысячами жителей Новогрудок казался почти огромным городом, особенно если прибавить к сотне жилых домов развалины древнего замка, еще более древнюю православную Борисоглебскую церковь и вечные споры об основателе: Владимир Святой, креститель Руси, или Ярослав Мудрый? Для отца, с великим трудом зарабатывавшего на пропитание шести детей, ведшего полукрестьянский, полугородской образ жизни, единственной надеждой на будущее сыновей оставалось их образование, которое он мечтал, но так и не успел им дать. Мицкевич осиротел пятнадцати лет, и только случай позволил ему оказаться в Виленском университете – причем лишь после того, как им было подписано обязательство по окончании курса стать школьным учителем.
Ни редкие успехи в занятиях, ни первые стихи не могли этого будущего изменить. Мицкевич получил назначение на службу в Ковно. В чем-то это было удачей. Слишком хорошо помнилось, с каким трудом удалось когда-то собрать матери последние гроши на поездку в университет и как год за годом по той же причине приходилось отказываться от каникул в родном доме. Но четыре года в глухом провинциальном городке… Без друзей… Без литературной среды… Без политических собрании и споров… После окончания наполеоновской кампании, тем более после потери Польшей целостности и независимости особенно невыносимы были условия, предлагаемые самодержавием.
Слывший «железной рукой» будущий граф Новосильцев именем наместника Царства Польского выискивал участников студенческих обществ. Мицкевич уже вышел из университетских стен, но спасло его не это, а упорное молчание товарищей. Они слишком высоко ценили его как поэта и личность: его имени не назвал никто. Всю вину постарался взять на себя друг Мицкевича – Томаш Зан.
Выход был найден: срочная отправка подозрительного учителя в Петербург за назначением «по народному образованию в отдаленные местности».
После тихих сонных литовских городков впечатление от северной столицы было ошеломляющим: «Край пустынный, белый и открытый…» Ощущение его фантастических размеров, а в нем – заброшенности и трагизма каждой отдельной человеческой судьбы Мицкевич сохранит до конца своей жизни. О Петре Первом как символе самодержавия:
Во глубь песков зыбучих, в топи блат, Вогнать сто тысяч кольев приказал он, Потом сто тысяч тел людских втоптал он; Потом, на кольях и телах солдат Грунт заложив, иное поколенье Запряг в телеги, в тачки, в корабли, Чтобы с пучин морских, со всей земли, Свозить и тес, и бревна, и каменья…Когда во время одного из застолий будет поднят тост «Смерть царю!», Мицкевич откажется к нему присоединиться, сочтя эти слова пустым бахвальством. Откуда поэту было знать, что от событий на Сенатской площади их отделяют считаные месяцы?
Три месяца в Петербурге – и хлопотами новых друзей Мицкевич избегает принудительного назначения места ссылки. Наоборот, им удается выполнить достаточно неожиданное желание поэта оказаться на юге, в Одессе.
Его ждут здесь, и ждут нетерпеливо – слухи о новом и редком таланте доходят сюда на редкость быстро. К тому же, как будет вспоминать со временем П.Вяземский, «все в Мицкевиче возбуждало и привлекало сочувствие к нему. Он был очень умен, благовоспитан, одушевителен в разговорах, обхождения утонченно-вежливого. Он был везде у места – и в кабинете ученого и писателя, и в салоне умной женщины, и за веселым приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу дарования его, верили пока на слово и понаслышке, только весьма немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича-поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича-человека». Стоит вспомнить, что сам Вяземский владел разговорным польским и свободно писал на этом языке.
В своеобразной свите знаменитой красавицы Каролины Собаньской Мицкевичу удается совершить поездку по Крыму, что послужит рождению цикла «Крымских сонетов». Крым становится, по выражению современников, поэтической страной Мицкевича, миром, через природу которого он выражает свои чувства, настроения, весь романтический строй жизнеощущения. Здесь же открывается у поэта и удивительный дар поэтической импровизации.
Трудно пока с полной достоверностью сказать, прямые ли факты или интуиция подсказали Мицкевичу осторожность с Собаньской, бывшей в довольно странном положении. Давно разойдясь с мужем, она почти открыто была подругой генерал-лейтенанта графа И. Витта, организатора тайной слежки за декабристами и Пушкиным на юге. Знала или не знала она о неблаговидной роли графа? Мицкевич все равно поторопился отойти от нее и уехать – на этот раз на север и снова благодаря дружеской поддержке новых знакомых – в Москву.
К счастью, именно в Москву: шел декабрь 1825 года. Начавшееся следствие и последующие приговоры по делу декабристов потрясли поэта:
Где вы теперь? Посылаю позор и проклятья Народам, предавшим пророков своих избиенью… Рылеев, которого братски я принял в объятья, Жестокою казнью казнен по цареву веленью, Бестужев, который, как друг, мне протягивал руку, Тот воин, которому жребий поэта дарован, В сибирский рудник, обреченный на долгую муку, С поляками вместе он сослан и к тачке прикован.В Москву Мицкевич приезжает, чтобы достичь вершины своей славы. Он становится завсегдатаем и украшением лучших литературных салонов старой столицы. Тесная дружба возникает у него с Василием Львовичем Пушкиным и с Вяземским. Его блистательные импровизации звучат у Зинаиды Волконской, у Елагиных, Римских-Корсаковых, Шевырева. В середине октября 1826 года он знакомится с Пушкиным, который, по свидетельству современников, «оказывал ему величайшее уважение». А 10 ноября в жизни Мицкевича происходит событие, которое могло изменить всю его судьбу. Могло бы.
В помянутых литературных салонах всеобщее внимание признанных поэтов привлекают талант, красота и редкое остроумие девятнадцатилетней Каролины Яниш, дочери профессора Московского университета. Увлечение Мицкевича юной поэтессой переходит в глубокое чувство, и в памятный для обоих ноябрьский вечер он делает Каролине предложение. Моя Малярка (художница) – будет называть девушку поэт: она и в самом деле хорошо рисовала. «Малярка» войдет в его стихи и письма.
Против неожиданного возможного зятя восстает профессор Яниш – прежде всего потому, что на подобный брак не дает согласия очень богатый брат профессора, от которого во многом зависело благосостояние семьи и с которым сопрягались надежды на завидное наследство. Брак же без их согласия грозит Мицкевичу ссылкой.
В конце 1827 года отчаявшийся Мицкевич получает возможность уехать в Петербург. У него остается единственный выход – отъезд из России, если друзьям удастся достать ему заграничный паспорт. Друзья уверены: удастся.
«Наш прославленный Мицкевич» – его теперь не называют иначе. Его петербургская жизнь – сплошной калейдоскоп встреч. По одному только апрелю-маю 1828 года можно судить, как тесно Мицкевич сходится с Пушкиным, не говоря о множестве иных знакомых.
30 апреля Мицкевич у Пушкина в гостинице Демута «долго и с жаром говорил о любви, которая некогда должна связать народы между собою». 11 мая они вместе в гостях у А.А. Перовского, 12 мая – у поэта-крестьянина из крепостных Федора Слепушкина, которому Пушкин помог только что избавиться от крепостной зависимости. 16 мая у Лавалей Мицкевич слушает чтение Пушкиным «Бориса Годунова». Спустя четыре дня оба поэта направляются к Олениным в Приютино, а 25 мая едут в Кронштадт. 26-го Пушкин конечно же присутствует на обеде, который дает Мицкевич для московских и петербургских литераторов в ресторане «Вокзал» в Екатерингофе.
Получив заграничный паспорт – что само по себе было чудом в отношении политического ссыльного, – Мицкевич неожиданно для всех, явно рискуя, едет в Москву. Предлог – проститься с друзьями. Главная причина – желание увидеть еще раз Каролину, оставить ей строки:
Когда пролетных птиц несутся вереницы От зимних бурь и вьюг и стонут в тишине, Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы Знакомым им путем к желанной стороне, Но, слыша голос их печальный, вспомни друга! Едва надежда вновь блеснет моей судьбе, На крыльях радости примчусь я быстро с юга Опять на север, вновь к тебе!15 мая 1829 года на набережной Невы друзья прощаются с отплывающим поэтом: «Он стоял на палубе парохода и махал провожающим платком. Заходящее солнце озаряло его стройную фигуру, закутанную в плащ, казавшийся медно-красным». Впереди были свобода, шумная поэтическая слава, дружба. И любовь.
Через много лет Каролина Яниш станет знаменитой поэтессой Каролиной Павловой, едва ли не первой переводчицей поэзии Мицкевича на французский язык. И – автором написанных в 1842 году строк:
Не таковы расстались мы с тобою! Расстались мы – ты помнишь ли, поэт? А счастья дар предложен был судьбою; Да, может быть, а может быть – и нет.Итак, вопрос: русская ссылка – или 31 год в России, первая и едва ли не лучшая половина жизни великого поэта?
Загадки «Горя от ума», или Грибоедовская Москва
Москва… этот дом родимый, в котором я вечно как на станции!!! Приеду, переночую, исчезну!!!
А.С. ГрибоедовЗагадка начиналась с дома. Обычного московского особняка первой четверти XIX века. В два этажа. С мезонином. Под номером 117-м на предреволюционной Новинской-Садовой, когда его владельцем был потомственный почетный гражданин, глава большого Торгового дома его имени, мануфактурщик Сергей Васильевич Усков, под № 17 на нынешнем Новинском бульваре. На углу Большого Девятинского переулка, напротив здания посольства Соединенных Штатов. Дому не повезло. Неизвестно, каким он был до пожара 1812 года, когда в нем какое-то время постоянно жил Грибоедов. В дальнейшем драматург побывал в родном городе всего три раза – в 1818, 1823 и 1828 годах – и избегая останавливаться под обновленным кровом. Причиной он не делился ни с кем. А потом, в советские годы, дом был просто снесен: с немалыми усилиями историкам литературы удалось добиться его восстановления. Мало того. Существовал вариант развернуть новодел по линии Новинского бульвара. Так представлялось выгоднее для перспективы Садового кольца.
А.С. Грибоедов.
Когда все же было решено приблизиться к исторической истине, никто не стал пытаться создать в нем музей драматурга и его Москвы. Отстроенную площадь передали в аренду учреждению, и только единственный раз в его стенах повеяло грибоедовским временем – на съемках телесериала «В поисках Софьи» (режиссер С.С. Семенов, по сценарию и при участии Нины Молевой). В зале под звуки грибоедовского второго вальса закружились юные пары – учащиеся Государственного Хореографического училища.
Новинский бульвар, дом 17.
А ведь «грибоедовский» дом никто не обошел вниманием. Другое дело – разнобой в сведениях о драматурге, и никаких попыток установить, когда, пусть и много раз перестроенное, гнездо писателя стало родовым.
Доска красного гранита. Бронзовый барельеф. Надпись: «А.С. Грибоедов» – без дат и пояснений: родился, жил, хотя бы работал. Главным оказалось имя скульптора. Того самого, который ввел в советский обиход гигантские монументы двух вождей. От зала в Большом Кремлевском дворце до начала печально знаменитого гулаговского канала Москва—Волга. Подробности о Грибоедове можно скорее найти в путеводителях.
1914. «По Москве». – «Дом Ускова, в котором провел свои детские и юношеские годы А.С. Грибоедов».
1952. П.В. Сытин. Из истории московских улиц. – «У майорши Н.Ф. Грибоедовой в 1795 году родился сын… который провел здесь свое детство».
1959. Б.С. Земенков. Памятные места Москвы. – «Детство и юность его прошли в доме его матери… (перестроен)».
1964. И. Мячин. Москва. «Провел свои детские и юношеские годы. В 1812 году дом сгорел, но потом был восстановлен. Впоследствии писатель бывал здесь много раз».
1973. Русские писатели в Москве. Составитель Л.П. Быковцева. Научные консультанты доктор филологических наук У.А. Гуральник, старший библиограф Научной библиотеки МГУ В.В. Сорокин. – «Родился в Москве… в старинном особняке, в семье матери своей Настасьи Федоровны Грибоедовой прошли безмятежные детские годы… Родители рано расстались… (Мать) жить в деревне не пожелала. Мужа определила управлять имениями, а сама с детьми, сыном и дочерью, Марией, поселилась в своей городской усадьбе в Новинском».
1984. От Кремля до Садовых. – «Здание полностью отреставрировано… Письменных сведений о том, что Грибоедов родился в этом доме, нет. Документальная запись о его рождении не обнаружена».
Между тем документы существовали всегда. Со времен Ивана Грозного в Москве нельзя было купить, продать, уступить или передать в наследство недвижимость, не зарегистрировав соответствующего акта. Так было и в случае с «грибоедовским» домом.
5 июля 1799 года в своем домовладении на углу Девятинского переулка и нынешнего Новинского бульвара умерла вдовой прокурора Анна Алексеевна Волынская, приходившаяся родной теткой Алексею Федоровичу Грибоедову и его сестрам, а главное – не имевшая собственных детей. Завещание Волынской принесло поначалу Грибоедовым полное разочарование. Упомянут был в нем один Алексей Федорович, получавший единственно «святые образы» тетки. Все остальное имущество – «подмосковное село Мартемьяново и в Пресненской части Москвы благоприобретенный дом со всем строением, садом, мебелью и в нем имуществом» завещалось родне по мужу. В селе Мартемьянове нынешнего Нарофоминского района, неподалеку от станции Апрелевка, покойная только что закончила строительство Троицкой церкви, выдержанной в стиле раннего классицизма. Храм не отличался богатством – одноглавый двусветный четверик, перекрытый высоким сомкнутым сводом с примыкающей к нему трапезной. Лепной декор появился здесь во второй половине XIX века.
Неизвестно, на каком основании, но Алексею Федоровичу удается опротестовать в суде волю покойной и получить, между прочим, пресненский дом. Как обычно бывало при сложной и не слишком очевидной системе доказательств своих прав, А.Ф. Грибоедов поспешил перепродать дом своей родной сестре – такие внутрисемейные сделки были явлением более чем обычным. Акт купли-продажи был подписан октябрем 1801 года.
Иными словами, семейное гнездо возникло тогда, когда детство Грибоедова-драматурга уже подходило к концу. В 1803 году он поступает в Благородный пансион при Московском университете, а в 1806-м и в самый университет.
Литературоведы и краеведы в один голос говорят о богатой жизни Грибоедовых в Москве, о вечерах, балах, об авторитете и злом языке Настасьи Федоровны, к которой прислушивался весь город. Это она не пожелала жить в деревне и устроилась в городе, распорядившись мужу управлять поместьями и не появляться в ее доме в столице. И снова документы опровергают все эти легенды.
И все-таки первым было слово. Сегодня всеми забытое. Старомодное. С неповторимым оттенком душевного расположения, привязанности, почти любования. Поздравляя артистку Любочку Дюрову с замужеством – она стала женой известного драматурга актера-комика Петра Каратыгина, – Грибоедов скажет: «Какая бы вы были славная Софья!» Славная?
Но ведь ни у кого из современников она не вызвала и тени симпатии. Ее осуждали так резко, что многие разделяли вывод литератора графа Хвостова: она недостойна вообще быть выведена на сцене. Или сам Грибоедов – разве нашел он для нее хоть каплю снисхождения, понимания?
«Ты находишь главную погрешность в плане – мне же кажется он прост и ясен по цели и исполнению: девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы у нас, грешных, ум был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека), и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим: его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко выше прочих; сначала он весел, и это порок: „Шутить, и век шутить, как вас на это станет!“ Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки не язвительны, покуда его не взбесить, но все-таки: „Не человек – змея!“ А после, когда вмешивается личность – „наших затронули!“ – предается анафеме: „Унизить рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!“ Не терпит подлости: „Ах! боже мой, он карбонарий!“. Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом нелюбовь к нему той девушки, ради которой он единственно явился в Москву, ему совершенно объясняется. Он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего Сахара Медовича. Что же может быть полнее этого?»
Пожалуй, ничего, если говорить о жизненной ситуации. Но здесь речь вообще шла о сюжетной завязке. Любой школьный учебник утверждает: в жизни автора не было никакой подобной любовной истории. Софью пришлось выдумать ради построения пьесы. Характер значения не имел – главным оставалось подыграть Чацкому и его монологам. Среди всех действующих лиц Софья оказалась единственной подходящей кандидатурой. О всех остальных Грибоедов не скрывал: портреты и только портреты стояли за каждым из них. Но тогда тем более откуда появилась «славная»? Сдержанный, подчас откровенно язвительный в общении с незнакомыми, Грибоедов оставался неизменно сердечным и непосредственным с друзьями, и только в переписке с ними он может сказать о славном житье на первой его петербургской квартире у Александра Одоевского. О славном самом Саше Одоевском, к которому так прикипел сердцем. Память сердца – как он умел ее хранить.
Дом М.П. Погодина на Девичьем поле.
Шесть лет без Петербурга… Его и ждали и не ждали – слишком неожиданно сменил он старую столицу на берега Невы. Каждый из друзей предлагал, попросту требовал, чтобы беглый москвич остановился именно у него. Князь Александр Шаховской, Николай Греч, Андрей Жандр, даже муж двоюродной сестры Иван Паскевич – Грибоедов без колебаний предпочел Одоевского. Двухэтажный дом на Торговой со своим удивительным бытом и своими легендами. Еще недавно им владел корабельный мастер Иван Амосов, которого сменила в качестве хозяйки бывшая любовница Шереметева, принесшая богатое приданое и карьеру некоему коллежскому асессору В.В. Погодину. Происхождение жениных капиталов коллежского асессора не смущало – свою ставку он сделал на Аракчеева, у которого выслуживался как мог, пока не обнаружил случайно на столе покровителя записку с собственной характеристикой: «Глуп, подл и ленив». Растерянность и обида оказались так велики, что Погодин не преминул оповестить о записке весь Петербург – повод для множества насмешек и анекдотов. Но это всего лишь дополнение к «Горю от ума».
Летом 1824 года дом на Торговой превращается в настоящий литературный клуб. Здесь собираются все, кто хочет переписать комедию под диктовку. Военная молодежь, отправляясь в отпуска, развозила пьесу по всей России. И это одновременно с авторскими чтениями «Горя». Из письма Грибоедова Степану Бегичеву: «Читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину, дай счесть: 8 чтений. Нет, обчелся, двенадцать… Грому, шуму, восхищенью, любопытству конца нет».
Дом на Торговой – это страшное наводнение, описанное в «Медном всаднике» со слов очевидцев и непосредственно пережитое Грибоедовым. По его словам, в мгновенье ока из-под пола рванулись потоки воды и затопили комнаты. Пришлось спасаться у соседей на втором этаже. А на Торговой, «где за час пролегала оживленная проезжая улица, катились ярые волны, с ревом и пеной». Четырьмя годами позже он будет вспоминать об этом дне в письме Александру Одоевскому, сосланному на Нерчинские рудники: «Ты, верно, все тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельно и в Коломне, в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и меня спасти…»
Были встречи, переживания, и были надежды. Прежде всего на цензурное разрешение «Горя»: «Жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем посоловели, сержусь и восстанавливаю старое, так что кажется, работе конца не будет…» А пока, в преддверии большой сцены, работа с воспитанниками Театральной школы. Это они предложили в полной тайне от начальства поставить «Горе». Грибоедов сам взялся за режиссуру, на одну из репетиций привез Кюхельбекера и Бестужева-Марлинского, радовался отдельным исполнителям. Софью готовила Любочка Дюрова. Накануне премьеры спектакль по доносу был запрещен.
Теперь, в последние недели последнего пребывания в Петербурге, все прошлое и будущее виделось с поразительной ясностью и безнадежностью. 14 марта 1828 года чиновник Коллегии иностранных дел Александр Грибоедов привез в Петербург известие о заключении Туркманчайского мира. 25 апреля назначенный министром-резидентом в Тегеран видный дипломат Грибоедов вынужден был сменить привычные Демутовы номера на отдельную, пусть и очень скромно меблированную квартиру: количество желавших завязать с ним знакомство чиновников росло не по дням, а по часам. Оставалось жаловаться Полевому: «Чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить: у нас нет ничего общего». Спартанская обстановка свидетельствовала не столько о вкусах хозяина, сколько о его стесненных материальных средствах. Ни движимого ни недвижимого имущества он не имел, позволяя себе единственную роскошь – великолепный концертный рояль. Об отъезде старался не думать: «Там моя могила. Чувствую, что не увижу более России…» Поздравление Любочки Дюровой было и прощанием с надеждой увидеть «Горе» на сцене.
Павел Мочалов – первый Чацкий.
Автор разминулся со своей комедией всего на два года. Грибоедова не стало в 1829 году, в 1831-м состоялась первая постановка «Горя», хотя и в сильно искаженном виде, в Москве на казенной сцене. Первым исполнителем Чацкого становится Павел Мочалов, Софьи – Мария Дмитриевна Львова-Синецкая. Мария Дмитриевна уже не молода, во всяком случае, намного старше своей героини. На профессиональную сцену она приходит из любительского театра. Когда-то она вместе с только что выпущенным из лицея Пушкиным играла в «Воздушных замках» Хмельницкого, которые ставились в доме Олениных. Свои первые уроки мастерства актриса брала у князя Шаховского в Петербурге и не устояла перед приглашением создававшего московский казенный театр Кокошкина войти в его труппу. Ее объединяли с завсегдатаями «чердачка» Шаховского литературные интересы, и в Москве успех первых выступлений Львовой-Синецкой мешается с живым интересом москвичей к ее литературному салону, в котором можно встретить и профессоров Московского университета, и известных музыкантов, и представителей высшего света. Для первого же бенефиса актрисы Грибоедов пишет в 1824 году водевиль «Кто брат? Кто сестра?», где обе роли с блеском исполняет бенефициантка. Неулыбчивая, почти суровая, не выносившая закулисных историй и сплетен, Мария Дмитриевна многое знает о жизни того же Грибоедова, еще больше имеет оснований догадываться. Ее Софья внешне очень напоминает сгоревшую от чахотки Любочку Дюрову, и актриса не скрывает желания добиться такого сходства: «Оно будет вернее…» Смелый взгляд, стремительная походка, живость реплик и – глубоко скрытая, все еще не пережитая, все еще ранящая любовь к Чацкому. Львову-Синецкую обвинят в неправильном прочтении образа, актриса усмехнется и ничего не изменит в рисунке роли.
Положим, ни Мария Дмитриевна, ни Любочка не похожи на современных им актрис. Львова-Синецкая из одной с Пушкиным среды, Любовь Осиповна – внучка французского эмигранта, во время французской революции переселившегося по политическим мотивам в Польшу. Театральная школа открывала перед ней и ее братом Николаем Дюром лучший из возможных жизненных путей – материальными средствами семья не обладала, а врожденная культура много давала для сцены. Николай обладал хорошим баритоном, был выпущен певцом, но вскоре перешел на драматическую сцену, где пользовался особенным успехом в ролях повес и волокит. Первый исполнитель роли Хлестакова на петербургской сцене, он решительно не понравился Гоголю, хотя через поколение другие исполнители пошли именно по его пути. О Любочке также отзывались, что она была на сцене настоящей столичной барышней, очаровательной без кокетства, непосредственной без пошлости, независимой без заносчивости. Но ведь повторяя внешний рисунок ее роли, Львова-Синецкая могла, как и она, иметь в виду живой прототип. Прототип, который должен был существовать, судя хотя бы по удивительно личной интонации в трактовке сюжета «Горя» Грибоедовым.
Решения Львовой-Синецкой никто впоследствии из актрис повторять не стал. Образ Софьи стал проще и однозначней. Но существовала другая традиция, которая сохраняется до наших дней: декорация последнего акта «Горя» – сени фамусовского дома. Расходящаяся двумя маршами лестница на второй этаж. Колонны, скрывшие двери в швейцарскую и комнату Молчалина. Стеклянный тамбур – от московских холодов. Художник постановки Малого театра 1861 года точно повторил сени «Дома Фамусова» – того самого нарядного особняка, который еще недавно украшал Пушкинскую площадь, уступив место тротуару у нового здания «Известий». И для тех, кто настаивал на бессмысленном сносе, и для тех, кто отчаянно ему сопротивлялся, название не подлежало сомнению – именно «Дом Фамусова». Но раз Фамусова, то, значит, и Софьи. Так не здесь ли крылась разгадка? Вот только все, что касается обстоятельств жизни Грибоедова, окутано плотным туманом непроверенных легенд.
Хозяина особняка на площади Тверских ворот, как называлась при Грибоедове Пушкинская площадь, писатель просто не знал, во всяком случае, если знал, то не настолько, чтобы сделать главным героем «Горя от ума». Дом свой он построил в 1803 году и переехал туда со всем своим многочисленным семейством. Александр Яковлевич Римский-Корсаков происходил из очень древней, занимавшей достойное положение, но не отличавшейся службистским рвением семьи. Камергер, он был женат на Марье Ивановне Наумовой, дочери урожденной княжны Варвары Алексеевны Голицыной. У супругов имелись высокие связи, имелось и немалое состояние. Дом у Тверских ворот сразу становится одним из самых гостеприимных и хлебосольных в Москве. Балы, ужины, обеды, праздничные затеи следовали один за другим. Марию Ивановну так и звали в Москве «великой выдумщицей» на всяческие затеи. Да вряд ли она могла быть иной, имея на руках пятерых дочерей-невест, не говоря о троих сыновьях-гусарах. Сыновья отличались блестящей храбростью, барышни Римские-Корсаковы – редкой красотой. Миновать их дом никто из московской молодежи просто не мог. Между тем деньги уходили, по выражению хозяйки дома, как вода в песок. Приходилось выкручиваться, входить в долги. После окончания строительства московского дома волей-неволей пришлось расстаться с наследственным наумовским гнездом – Демьяновом вблизи Клина: Мария Ивановна продала его в 1807 году А.А. Полторацкой. Назидание Фамусова Чацкому: «Имением своим не управляй оплошно» в полной мере относилось к Римским-Корсаковым. Единственной поддержкой служили родственники, почти как в «Евгении Онегине», вовремя умиравшие и оставлявшие нужные завещания.
«Дом Фамусова» – дом А. Я. Римского-Корсакова на площади Тверских ворот (сейчас – Пушкинская площадь).
И все же судьба не баловала Римских-Корсаковых. Служивший с 1803 года в кавалергардах, красавец и богатырь, первенец родителей Павел погибает при Бородине. К отчаянью отца и матери, тела его так и не удалось найти. Недолгая жизнь отведена красавице Варваре, невесте флигель-адъютанта А.А. Ржевского, погибшего в битве под Фридляндом. Пережить любимого она не смогла. Сразу после войны 1812 года уходит из жизни Александр Яковлевич, и хлопотунья Мария Ивановна уже сама с немалыми трудностями выдает засидевшуюся в девках, почти тридцатилетнюю дочь Софью за московского обер-полицмейстера А.А. Волкова. Гордости такой брак семье не приносил, но ничего другого у матери не получилось. А между тем балы и праздники в корсаковском доме шли своей неумолимой чередой, и восторженные московские рифмоплеты продолжали писать:
Мазурка
Скорей сюда все поспешайте, Кто хороводом здесь ведет, Хвалы ей дань вы отдавайте: Её в красе кто превзойдет? Но не уступит ей другая Искусством, ловкостью, красой, И сердце, душу восхищая, Блестит – как солнышко весной. Но трудно третьей поравняться, Шептать все стали про себя; Но вот и ты; и нам бояться Не нужно, право, за тебя. Еще четвертая явилась И стала с прежними равна; Но слава прежних не затмилась: Четыре – словно как одна.Рядом с «Мазуркой» были «Экосез» и «Полька» – «Куплеты, петые в маскараде М.И. Римской-Корсаковой 1820 года Генваря 14 дня». Кроме Софьи Волковой, поэты восхищались Натальей и совсем юными Екатериной, будущей музой композитора А.А. Алябьева, и Александрой, будущей женой князя Александра Николаевича Вяземского, которой Пушкин посвятил строки «Евгения Онегина»: «У ночи много звезд прелестных,/Красавиц много на Москве…» Ее портрет остался в незаконченном пушкинском «Романе на Кавказских водах»: «Девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами». Поэт спрашивал о семье Римских-Корсаковых в письмах из Кишинева, сразу по возвращении из ссылки в Михайловском стал у них постоянно бывать. В конце 1828 года П.А. Вяземский писал жене: «Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и цыган». На первый взгляд, неожиданное сочетание, в действительности объединившее те московские места, где Пушкин не скучал. И еще одни куплеты из числа «маскерадных» о доме у Тверских ворот:
Здесь веселье соединяет Резвость, юность, красоту; Старость хладная вкушает Прежних лет своих мечту. Для хозяйки столько милой Нет препятствий, нет труда; Пусть ворчит старик унылой, Веселиться не беда. Ряд красот, младых, прелестных, Оживляет все сердца. После подвигов чудесных Воин ждет любви венца.Последний куплет имеет особый подтекст. Несколькими неделями раньше одна из сестер Римских-Корсаковых – Наталья Александровна – стала женой Федора Владимировича Акинфова, живой легенды едва отшумевшей Отечественной войны. И, кстати, это первая родственная ниточка, связавшая дом на площади Тверских ворот с Грибоедовым: Федор Владимирович был его кузеном по матери.
Офицер лейб-гвардии гусарского полка, он получает от командования приказ любой ценой задержать вступление частей Мюрата в Москву и с горсткой храбрецов выполняет приказ. В результате русская армия спокойно оставляет старую столицу, успев забрать и все вооружение, и всех раненых. Георгий с золотой саблей увенчал подвиг Федора Акинфова, с 1817 года ставшего командиром Переяславского конно-егерского полка. Потом была русско-турецкая война, принесшая Акинфову звание генерал-майора. В 1833–1836 годах он становится по выборам предводителем дворянства Владимирской губернии, с 1839-го – почетным опекуном Опекунского совета. Акинфовская честность стояла выше всяких подозрений. Представить себе такого Скалозуба, женившегося на Софье, – событие, которое предрекала поэтесса Евдокия Растопчина в своем «Возвращении Чацкого»?
А ведь имя Акинфовых – легенда и для Москвы, и для всей нашей армии. Уроженец, а впоследствии и владелец нынешнего московского района – села Алтуфьево, Юрий Николаевич Акинфов стал первым Георгиевским кавалером. Первый русский офицер, награжденный этим установленным в 1769 году орденом воинской славы, Ю.Н. Акинфов состоял при адмирале Синявине-Спиридове, был героем Чесмы, и его имя запечатлено на мраморных досках, покрывших стены Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.
Второй кузен Грибоедова – Николай Владимирович, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, отличился в трех тяжелейших сражениях Отечественной войны, 14 июля 1814 года был ранен под Какувачином, при местечке Каповиче, перестал владеть левой рукой и, не будучи в состоянии продолжать военную службу, занялся организацией помощи раненым солдатам. На свои средства он оборудует несколько коек для солдат в палатах московской Первой Градской больницы, которые становятся известными под названием «акинфовских», с особым содержанием и уходом.
Семья Акинфовых очень близка с Грибоедовыми. Именно к ней обращается со всеми своими значительными затруднениями мать писателя. И не пример ли кузенов послужил причиной решения Грибоедова оставить в 1812 году успешно начатые научные занятия по окончании Московского университета и записаться в военную службу?
Остался в Алтуфьеве и памятник, которого не могли обойти ни Настасья Федоровна, ни сам Грибоедов, – церковь воздвижения креста Господня, сооруженная в середине XVIII века. Сравнительно скромная по размерам, она выдает влияние одного из самых популярных московских зодчих Карла Ивановича Бланка. Куб со скругленными углами и выступами на каждом из четырех фасадов увенчан небольшим четырехгранником, у которого тоже скошены углы. И все же храм по-своему наряден за счет разделки фасадов рустикой – имитацией кадров так называемого «дикого камня».
Современники утверждают, что из четырех своих сестер дядюшка Алексей Федорович держал в собственном доме портреты только трех. Вместе с «боярыней Елизаветой Федоровной» Акинфовой это были Анна Федоровна, вышедшая замуж за одного из представителей семьи Разумовских, и Александра Федоровна, супруга командира Литовского полка, в котором проходила военную службу штаб-ротмистр Надежда Александровна Дурова. Им принадлежало сельцо Захарово, вблизи Больших Вязем, впоследствии перешедшее к Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Пушкина. Мать Грибоедова Настасья Федоровна подобной честью не пользовалась. Брат не жаловал ее за тяжелый нрав, некрасивость и страсть к наживе. Расчетливость оборачивалась у Настасьи Федоровны откровенной скупостью, прожектерство убытками. В родовой Хмелите, куда она часто наезжала к брату, нелюбимая сестра скорее выглядела приживалкой, которой тяготились, хотя и не могли открыто отправить восвояси.
Проходит девять лет, и новая ниточка протягивается из «Дома Фамусова» к Грибоедову: младший из братьев Римских-Корсаковых Сергей Александрович женился на кузине писателя. Его супругой становится дочь дядюшки Алексея Федоровича. И снова ничто не способствует разгадке. «Горе от ума» уже написано, но главное – этические нормы тех лет не допускали переноса в литературное произведение имени реального человека, да еще в той сомнительной софьиной ситуации, которая одинаково смущала литераторов всех толков. Самый туманный намек на живую девушку навсегда бы покрыл ее несмываемым позором. Грибоедов меньше, чем кто-либо другой, мог себе нечто подобное разрешить – он, никогда не называвший женских имен в связи со своими мимолетными увлечениями, тем более сильными чувствами. Донжуанский список для него попросту немыслим.
Молодая пара остается в родительском доме. Сергей Александрович одинаково не хочет расставаться ни со старшим братом, ни с матерью, и «Дом Фамусова» продолжает жить старой жизнью. По-прежнему собираются в нем все дети, по-прежнему придумывает все новые и новые развлечения для Москвы стареющая Мария Ивановна. Без малого восьмидесяти лет она сама участвует в затеянном ею в 1846 году маскараде, а годом позже и в «ярмарке», красочно описанной журналом «Северная пчела». Любимица Москвы уходит из жизни в один год со старшим сыном и – Гоголем, которого, впрочем, у себя не принимала и ценить не научилась. Фамильное гнездо переходит в руки Сергея Александровича, но очень ненадолго. Поддерживать былой его быт им не по характеру да и не по карману. Через считаные годы в проданный «Дом Фамусова» переезжает Строгановское училище технического рисования. Но в старом особняке хватает места для всех учебных классов, и именно в это время появляется декорация последнего акта «Горя от ума» в постановке Малого театра. Думал ли художник об отголосках имени Грибоедова – главный машинист московской казенной сцены, как его тогда называли, Федор Вальц был в курсе всех литературных разговоров и новостей – или просто увлекся красивым интерьером?
Свой долгий век младшие Римские-Корсаковы прожили в Москве, но уже в других домах. Вырастили дочь, выданную замуж за Устинова. Вырастили сына Николая, ставшего одним из действующих лиц «Войны и мира», – Л.Н. Толстой вывел его под именем Егорушки Корсунского. Сергея Александровича Римского-Корсакова не стало в 1884 году, грибоедовской кузины двумя годами позже в возрасте восьмидесяти с лишним лет. И все же «Горе от ума» их коснулось. Есть достаточно основательное предположение считать, что те самые «Лева и Боренька, отличные ребята», о которых говорит Репетилов, это Григорий и Сергей Александровичи. Григория с его громким рыкающим голосом, независимой повадкой, крутым нравом в Москве называли львом. Сергей был известен только под уменьшительным именем: Сереженька – Боренька. В воспоминаниях современников сохранился эпизод, когда в день высылки в Сибирь несправедливо осужденного Александра Алябьева Москва собралась в Большом театре, и тенор Бантышев неожиданно для дирекции исполнил написанное композитором «Прощание с соловьем»:
Не от лютыя зимы, Соловей, несешься ты, Не веселый край сманил, Но злой рок тебя сгубил. Твоя воля отнята, Крепко клетка заперта, Ах, прости, наш соловей, Голосистый соловей…«Говорят, – писал Н.И. Лорер, – что многим женщинам и знакомым ссылаемых (декабристов. – Н.М.) сделалось дурно, и весь театр рыдал. Из кресел вышли также два человека, со слезами на глазах, на свободе они горячо обнялись и скрылись. Это были два брата (Римские-Корсаковы. – Н.М.), из наших, но счастливо избегнувшие общей участи…»
Но легенда о доме оказалась на редкость упрямой. Его называли фамусовским и во время пребывания здесь Строгановского училища, и вплоть до 1917 года, когда в его стенах размещалась Седьмая московская мужская гимназия памяти императора Александра III. Славилась эта достаточно дорогая гимназия отличной постановкой преподавания гуманитарных наук, и в частности истории. Недаром почетным ее попечителем был такой известный и серьезный историк, как Леонид Михайлович Савелов. Камергер, заведующий Московским отделением Архива императорского Двора, он создал и возглавлял Историко-родословное общество, состоял председателем Общества потомков участников войны 1812 года и одним из руководителей активно действующей в Москве комиссии по устройству Музея 1812 года. Не обойти молчанием и того обстоятельства, что был Л.М. Савелов прямым потомком предпоследнего русского патриарха – ратника и дарственного деятеля Иоакима Савелова, руководившего православной церковью в годы правления царевны Софьи и принявшего сторону маленького Петра.
В дружном хоре недоброжелателей Софьи Фамусовой Пушкин не составлял исключения, хотя и заключалась в его отзыве известная неясность. Он так и писал: «Софья написана неясно: То ли б… то ли московская кузина». В первом он разделял точку зрения того же Хвостова, Катенина, А.И. Тургенева, а во втором… Означала ли московская кузина нарицательное понятие – начитавшуюся романтических повестей в духе Татьяны Лариной барышню, или служила указанием на гораздо более конкретные обстоятельства? В конце концов, Пушкин не бежал подобных намеков. К тому же московских кузин у Грибоедова было две. И если не подходила к версии комедии первая, то, может быть, могла подойти вторая?
Богатая и знатная древняя московская семья – хрестоматийное определение Грибоедовых тоже нуждалось в уточнениях. Грибоедовские чтения 1986 года, изданные тремя годами позже в виде сборника научных материалов к биографии писателя, первым его предком по материнской линии называют всего лишь Федора Иоакимовича Грибоедова, наиболее ранние сведения о службе которого восходят к 1632 году. Между тем первая перепись Москвы 1620 года называет его отца – «государынина сына боярского Акима Грибоедова», имевшего «у Покровских ворот, идучи в город, на леве» большой двор в длину тридцати, и в ширину двенадцати сажен. Под государыней подразумевалась мать еще неженатого Михаила Федоровича – великая старица Марфа.
Его сын Федор, писавшийся в документах чаще всего Якимовичем, располагал позже другим двором – «от Устретенской сотни, по Покровке», рядом со двором стрелецкого полуголовы Ивана Федорова сына Грибоедова, в 1671 году. В качестве подьячего Приказа Казанского дворца он посылается в 1638 году «для золотой руды». В 1646 году продолжает числиться там же как старый подьячий с поместным окладом в 300 четвертей и денежным в 30 рублей, находясь на службе в Белгороде. В июле 1648 года его назначают дьяком в приказ боярина князя Никиты Ивановича Одоевского по составлению «Уложения». В январе – октябре 1659 года Федор Грибоедов ездит с князем А.Н. Трубецким в Запорожье на выборы атамана и участвует в заключении с запорожцами договора. С января 1661 года он переводится в Приказ полковых дел, а с мая 1664 до 1670 года в Разрядный приказ. Здесь он составляет по царскому указу «Запись степеней и греней цагретвенных», выводившую Романовых из одного корня с Рюриковичами. Первые 17 глав его труда представляли сокращенное изложение «Степенной книги» XVI века, дополненное изложением царствования Федора Иоанновича и последующих царственных правителей вплоть до 1667 года. Числился Федор Якимович Грибоедов в 1670–1673 годах дьяком Приказа Казанского дворца.
С именем дьяка Федора Грибоедова связано еще одно совершенно необычное событие. В 1857 году в селе Рогожа Осташковского уезда под церковью было раскрыто его погребение с женой Евдокией и дочерью Стефанидой, точнее «нетленное тело», одетое в серый камзол, которое участниками заседания Тверской Археологической комиссии было определено как принадлежащее «именно Ф.А. Грибоедову, а не кому иному» и предано земле. Материалы о последующих потомках того же рода были изучены М.И. Семевским на основании семейного архива Хмелиты и опубликованы годом раньше в «Москвитянине». М.И. Семевский называет Михаила Ефимовича Грибоедова, награжденного Михаилом Романовым, а в конце XVII столетия Тимофея Ивановича, который в 1704 году был воеводой в Дорогобуже, в 1713-м назван майором и назначен комендантом в Вязьму – город, связь с которым будет сохраняться вплоть до отца писателя.
1718 год положил конец успешной карьере Тимофея Ивановича. Поставленная им по договору с Адмиралтейством пенька оказалась плохой. В данную ему отсрочку для возвращения в казну полученных денег Грибоедов не уложился, в результате чего все принадлежавшие ему деревни были реквизированы, а сам он умер «от досады». В связи с этими событиями представляется трудно объяснимой та «роскошная жизнь», которую якобы будет вести в Хмелите его сын Алексей Тимофеевич, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, скончавшийся в 1747 году, и там же похороненный в 1780-х годах внук бригадир Федор Алексеевич. К каким бы средствам ни прибегали Грибоедовы, добиться восстановления былого состояния, тем более положения при дворе, они не смогли. И если единственный сын бригадира мог достаточно широко жить в семейном смоленском гнезде, собственного дома в Москве он не имел, а главное – его сестрам досталось очень скромное приданое. Никакого значительного состояния не принесли Алексею Федоровичу и два его брака, другое дело – знатность и связи.
Первая супруга дядюшки – княжна Александра Сергеевна Одоевская. Сведениям о ней исследователи не придавали значения – слишком короткой оказалась ее семейная жизнь. Судя по данным Донского монастыря, где Александра Сергеевна похоронена, она вышла замуж 3 апреля 1790 года и скончалась 28 июля 1791 года, оставив дочь Елизавету. И это через старшую свою кузину у Грибоедова завязываются связи с его любимым другом, будущим декабристом Александром Ивановичем Одоевским и литератором, поэтом, последним в этом княжеском роду Владимиром Федоровичем. Оба они приходились двоюродными братьями Елизавете Алексеевне. С Владимиром Одоевским и кузину Елизавету, и самого Грибоедова роднило к тому же увлечение музыкой. Елизавета Алексеевна Грибоедова, по утверждению современников, была выдающейся виолончелисткой. Ее выступления в доме отца собирали всю музыкальную Москву.
Все родственные связи Александры Сергеевны Одоевской, которые унаследует ее дочь, – яркие страницы русской истории. Бабка княжны по отцу Прасковья Ивановна Толстая представляет прямую линию Льва Толстого. Она внучка того самого графа Петра Андреевича, который сумел обманом вернуть в Россию царевича Алексея и кончил свои дни в жестокой ссылке в Соловках с лишением титула.
Дядя Александры Сергеевны – Николай женат на внучке А.Д. Меншикова, представительнице последней грузинской царствующей семьи княжне Елизавете Александровне Грузинской, племянница которой Анна Егоровна Толстая даст последний приют Н.В. Гоголю. Это в ее особняке на Никитском бульваре Москвы Гоголь проведет последние четыре года своей жизни.
Через тетку Наталью, ставшую женой графа Александра Федоровича Апраксина, княжна породнится с семьей, из которой вышла царица Марфа Матвеевна, вторая жена старшего брата Петра I – Федора Алексеевича. Тетке Наталье принадлежал в Петербурге известный участок так называемого Апраксина двора, одного из торговых центров столицы на Неве.
Но едва ли не самой большой знаменитостью был муж тетки Варвары – князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой, племянник П.А. Румянцева-Задунайского и Хераскова, прямой родственник жены просветителя Н.И. Новикова – Анны Егоровны Римской-Корсаковой, жены президента Академии художеств графа А.С. Строганова и самого Ивана Ивановича Бецкого, в котором народная молва хотела видеть родного отца Екатерины II. Дочь Трубецких Екатерина Дмитриевна, двоюродная сестра Елизаветы Грибоедовой, была родной бабкой Л.Н. Толстого. Как говорил Чацкий, «и с помощью сестриц со всей Европой породнятся». Так или иначе это был круг людей, которых доводилось либо встречать в дядюшкином доме, либо по крайней мере достаточно хорошо знать.
Вторая жена появляется в доме дядюшки, когда Елизавете всего пять лет. Анастасия Семеновна Нарышкина на десять лет моложе своей предшественницы и далеко уступает ей по родственным связям. Ее дед не пошел дальше должности новгородского генерал-губернатора и был женат на представительнице обедневшего княжеского рода Сонцовых-Засекиных. Правда, все три их сына оказываются в литературном окружении Екатерины II, они участвуют в сочинении ее трудов, занимаются переводами из «Энциклопедии», выступают с собственными сочинениями. Сыграла свою роль и близость Алексея Васильевича к графу Григорию Орлову, генерал-адъютантом которого он был. Кстати сказать, и Алексей и отец А.С. Грибоедовой Семен упоминаются Н.И. Новиковым в Словаре российских литераторов. Семена Васильевича Грибоедов еще застает в живых – он умер в 1807 году.
Второй брак Алексея Федоровича сложился далеко не слишком удачно. Первенец супругов Федор родился на следующий год после свадьбы, 10 октября 1797 года, но умер, не достигнув и трех лет, 18 июня 1800 года. Его погодок Семен прожил с 28 марта 1798 по 7 декабря 1801-го. Единственная оставшаяся в живых дочь Софья родилась в 1806 году. Сама же Анастасия Семеновна намного пережила супруга и ушла из жизни в 1860 году. Судя по тому, что Грибоедов никогда не упоминал ее имени, отношения с семьей дядюшки были непростыми. Симпатии Грибоедова были на стороне старшей кузины, с которой он поддерживал дружбу и после ее брака с Иваном Паскевичем-Эриванским. И неизбежный вопрос – которая же из двух сестер, даже чисто теоретически, могла иметь сходство с дочерью Фамусова? Наконец, как быть с Фамусовым-дядюшкой, который после военной службы не пошел на службу гражданскую, всякую карьеру глубоко презирал да еще бесконечно возился с кредиторами, не умея навести порядка в денежных делах.
Роскошная вольготная жизнь богатейшего московского барина, каким предстает хрестоматийный дядюшка, в действительности представляет настоящий ад. Хранящееся в ИРЛИ «Дело о взыскании кредиторами денег» с Алексея Федоровича Грибоедова содержит имена семи кредиторов, которые вынуждены были искать управы на злостного неплательщика у властей. Судя по их свидетельствам. А.Ф. Грибоедов одалживал деньги год за годом – в 1810, 1811, 1812 и последующих годах, а затем скрывался, Алексея Федоровича специально разыскивали, с него брали подписку о невыезде до уплаты долга. И только с великим трудом собрав часть необходимых средств, он может выехать из поместья, причем предпочитает Москве Петербург. Материальные мытарства продолжаются для него до самой смерти, наступившей в 1833 году. Неудивительно, что наследовавшая Хмелиту кузина Елизавета Алексеевна графиня Паскевич-Эриванская, носившая еще и титул княгини Варшавской, нашла усадьбу в запущенном состоянии. Такой же увидел Хмелиту в начале пятидесятых годов М.И. Семевский. Даже простым ремонтом здесь не занимался никто. Единственный сын и наследник княгини князь Федор Иванович Варшавский князь Паскевич-Эриванский предпочел сразу же передарить Хмелиту своим замужним сестрам – княгиням Волконской и Лобановой-Ростовской, а те, в свою очередь, продать поместье сычевскому I гильдии купцу Сипягину. Наследников не остановили ни семейные родовые могилы, в том числе второго сына Паскевичей – Михаила, ни внесенные в церковь фамильные ценности. Это было откровенным бегством от непомерных затрат. Сын последнего владельца поместья напишет в 1894 году: «Дом был в ужасном состоянии, никто не жил в нем уже много лет. Все было запущено, северный флигель снесен, верхний этаж южного разрушен. В зале на полу сушилось зерно, из скважин паркета росла рожь…»
А что вообще документально известно о ранних годах и самом происхождении писателя? Нет документов о рождении и крещении. О месте рождения. О годе рождения матери, о факте брака родителей, о происхождении, рождении, месте и обстоятельствах смерти отца. Среди многочисленных и одинаково необоснованных вариантов, выдвигавшихся исследователями, существует даже рождение писателя до брака родителей, от матери-девицы. И как своеобразная почва для сомнений – полное безразличие Грибоедова к собственному происхождению, к истории семьи, к предкам. Ничего подобного пушкинской «Моей родословной» он писать не пытался, а отдельными показаниями вносил совершенно безнадежную сумятицу в атмосферу окутывавших его легенд.
Казалось бы, как можно оспаривать дату на надгробном камне? Вдова долго и обстоятельно переписывается с матерью мужа и его сестрой, прежде чем написать год рождения – 1795. Ближайший друг Грибоедова Степан Бегичев в 1834 году возражает против приведенной в Словаре Плюшара биографической статьи, где назван 1793 год. В биографической записке, написанной двадцать лет спустя, он снова повторяет: Грибоедов родился в 1795 году. О том же свидетельствуют исповедные книги московской церкви Девяти мучеников, в приходе которой находился семейный грибоедовский дом: в 1805 году Грибоедову 10 лет, в 1807 – двенадцать, в 1810 – пятнадцать. Наконец, 1795 год стоит и в первом по времени из известных исследователям формулярных списков писателя.
Правда, в «Списке о службе и достоинстве штаб и обер-офицеров Иркутского полка», который подавался ежегодно 1 января и 1 июля, Грибоедов оказывается на год старше. В обоих рапортах за 1814 год он числится двадцатилетним, в январе 1815-го проставлен 21 год, а в паспорте, который Грибоедов получает при выходе с военной службы в 1816 году, ему 22 года. Очень многие биографы XIX века остановятся именно на этой дате. Зато сам Грибоедов, сняв военный мундир и поступив в Персидскую миссию, неожиданно увеличивает свой возраст на целых пять лет. В 1818 году он заявляет, что ему 28 лет, в 1819 – двадцать девять, в 1820 – тридцать, а перед смертью – тридцать девять. На следствии о принадлежности к тайным обществам после событий на Сенатской площади утверждает, что родился в 1790 году. Правда – где же она была?
На этот раз началом всему послужили поиски Н.П. Розанова. Небольшая заметка в десятом номере «Русской старины» за 1874 год, что за период 1790–1796 годов в метрических книгах московских церквей найти записи о рождении и крещении А.С. Грибоедова не удалось. Всех московских церквей! И первый сигнал опасности – подобным утверждением никогда не воспользуется ученый архивист: слишком сложны пути формирования и судьбы архивных фондов. Тем более приходских – переживших или не переживших пожар 1812 года. Церкви в гораздо большей степени пострадали от мародеров, чем от огня. Восстанавливая храмы, консистория составляла переписные листы потерь, в которые почти всегда входили частично или полностью утраченные архивы. Этому посвящались специальные труды вроде «Исторических сведений о московских церквях, выбранные из протоколов, хранящихся в Московской Духовной консистории» иеромонаха Даниила.
У розановской методики свои особенности. Питомец московской семинарии, дьякон Николай Розанов ученым-архивистом не был, зато мог пользоваться недоступными для непосвященных материалами московской консистории. Отсюда две основные его работы – по истории Московского епархиального управления, затем монографии московских церквей и, как исключение, заметки об обстоятельствах рождения Лермонтова и Грибоедова. Он спешит с выводами, не исчерпав возможного круга материалов, за каждой написанной буквой готов видеть факт, не нуждающийся в дополнительной проверке и доказательствах. И первый пример – основание для предположения о «незаконном» рождении Грибоедова.
Розанов указывает, что «записей о браке родителей А.С. Грибоедова в метрических книгах московских церквей не оказалось», но разве не могло венчание состояться вне Москвы? Единственной существенной розановской находкой было упоминание в исповедных росписях церкви Николы на Песках за 1790 год имени девицы Н.Ф. Грибоедовой, проживавшей в доме родителей и имевшей от роду 22 года. И снова поспешный вывод: раз в течение 1790–1796 годов в московских церквях нет свидетельства о рождении А.С. Грибоедова, значит, оно приходилось на время девичества его матери. Но что дает основание предполагать, что родился Грибоедов именно в Москве? Впрочем, сначала слово документам.
В течение 1790 года Настасья Федоровна Грибоедова живет в родительском доме на Арбате, в приходе Николы на Песках, иначе – в нынешнем Большом Николопесковском переулке (улица Вахтангова). Само по себе выражение родительский дом заставляет считать, что жила Настасья Федоровна с матерью, так как ее отец считается погребенным в Хмелите в 1780-х годах. Выйдя замуж за своего однофамильца, она снимает квартиру в соседнем приходе – Спаса Преображения на Песках, то есть на нынешней Спасопесковской площади, в метрической книге этой церкви за 1792 год есть запись: «В доме Федора Михайловича Вельяминова, что стояща его отставного секунд-майора Сергей Ивановича Грибоедова, родилась дочь Мария, крещена июля 4 дня, восприемником был бригадир Николай Яковлевич Тиньков, восприемница была надворного советника Ивана Никифоровича Грибоедова жена – Прасковья Васильевна». Тем самым, крестными родителями сестры Грибоедова стали муж ее родной тетки по матери – Елизаветы Федоровны Тиньковой, и бабка по отцу. Отсюда вывод, что поженились родители Грибоедова не позже осени 1791 года, причем Мария Сергеевна всегда считалась старшей сестрой Александра Сергеевича.
Средств на собственный дом у молодой четы не было, так что Грибоедовы постоянно меняли квартиры, как примерно в те же годы и родители Пушкина. По крайней мере, в конце 1794 года они оказываются на Остоженке, в приходе церкви Успения, где в метрической книге остается запись: «Генваря 123 в доме девицы Прасковьи Ивановны Шушириной у живущего в ее доме секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова родился сын Павел, крещен сего месяца 18 дня. Восприемником был генерал-майор Николай Яковлевич Тиньков». Казалось бы, этот документ полностью исключает рождение Александра Сергеевича именно в 1795 году. Но запись сама по себе вызывает слишком много сомнений. Здесь и отсутствие обязательного во всех случаях имени восприемницы – согласно семейным преданиям, ею стала, как и для Марии Сергеевны, родная бабка. Здесь и возможная ошибка в имени, если не двойное имя, что также не было редкостью в эти годы. Скорее всего, крещение происходило дома, к тому же второпях: девица Шуширина под предлогом перестройки своих владений поспешила избавиться от неустраивавших ее почему-то квартирантов.
Но если метрическая запись церкви Успения на Остоженке подлежит дальнейшему анализу, гораздо более существенен для определения возраста Грибоедова другой документ. 19 июня 1799 года во Владимирской палате Гражданского суда рассматривалось прошение Александра Грибоедова, «малолетнего сына секунд-майора Сергея Грибоедова», в котором говорилось: «…бабка моя родная, надворная советница Прасковья Васильевна Грибоедова, продала мне крепостное недвижимое свое имение, доставшееся ей в наследство после покойного родителя ее капитана Василия Григорьевича Кочугова, состоящее во Владимирской губернии Покровской округе в сельце Сушневе из усадебной, гуменной, полевой, пашенной и непашенной земли с лесами и сенными покосами, с принадлежащими к оному сельцу отхожими пустошьями и пашенными угодьями… Вместо малолетнего Александра Сергеевича сына Грибоедова, за неумением его грамоте и писать, по просьбе его, коллежский советник Михаил Степанов сын Бенедиктов руку приложил». Родившись в 1790 году и имея от роду девять лет, Грибоедов безусловно умел и читать и писать – таковы условия времени. Неграмотность же его свидетельствует о том, что ему в 1799 году было около четырех лет. Кстати, впервые в своей жизни автор «Горя от ума» становился помещиком, владельцем недвижимости, которая оценивалась всего-навсего в тысячу рублей.
Общее детство, общие воспоминания, о которых пишет А.А. Жандр, – их не могло быть у Грибоедова ни с одной из московских кузин. Елизавета старше его на пять лет – слишком большая разница для детских лет. Тем более нечего говорить о Софье Алексеевне, которая моложе на целых одиннадцать. Жандр имел в виду кого-то другого. Мимо одного имени исследователи почему-то прошли. Варенька Лачинова – рядом с ней проходят ранние годы Грибоедова.
Настасья Федоровна Грибоедова не москвичка по родственным связям и привязанностям. Вместе с мужем они много времени проводят на Владимирщине. Здесь живет ее самая близкая подруга Наталья Федоровна Грибоедова, ставшая женой отставного поручика Семена Михайловича Лачинова. Их дочь Настасья Федоровна забирает к себе в Москву, как только обзаводится собственным домом. В свою очередь, Грибоедов, оказавшись в 1812 году с полком во Владимире, отправляется в лачиновскую усадьбу – сельцо Сущево, где долгое время как память о его пребывании сохранялась так называемая Грибоедовская беседка – пригодный для жизни небольшой рубленый домик. Здесь существовал настоящий культ писателя. Сын Вареньки, вышедшей замуж за некоего Смирнова, Д.А. Смирнов станет первым биографом Грибоедова. Его правнучка Е.М. Суздальцева сохранит семейные предания о жизни Александра Сергеевича в Сущеве.
Время, предшествовавшее вступлению в армию, оказалось далеко не благополучным для Грибоедова. В свои семнадцать лет он переживает сильную подавленность, не находит душевного равновесия. В Сущево его приводит надежда на большее спокойствие и домашнее тепло, которых в родном доме всегда не хватало. И в самом деле, по воспоминаниям Е.М. Суздальцевой, «когда больной Грибоедов приехал в Сущево, кто-то из дворовых людей привел к нему деревенскую знахарку Пухову, которая взялась его вылечить. Она лечила его настоями и травами, добрым взглядом и добрым словом. Грибоедов, кроме сильной простуды, страдал еще нервной бессонницей, и эта удивительной доброты женщина проводила с ним в разговорах целые ночи. Уезжая из Сущева, Александр Грибоедов хотел с ней расплатиться, но она ответила, что брать деньги за лечение – грех. Если она их возьмет, то ее лечение ему не поможет».
Нет, ни первой любви, ни простой мимолетной увлеченности со стороны Грибоедова здесь не было. Но симпатией, почти родственной расположенностью он несомненно дарил скромную Вареньку. И не отношением ли к ней согреты слова Чацкого:
В семнадцать лет вы расцвели прелестно, Неподражаемо, и это вам известно, и потому скромны, Не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ… Без думы, полноте смущаться.И этот любопытствующий вопрос совсем непохож на те поиски разгадки чувства Софьи, которые так мучительны для влюбленного. «Два отношения – словно две разных женщины», – заметит блестяще игравший главного героя «Горя» Александр Иванович Южин. Разница невольно бросалась в глаза каждому актеру: такой оттенок необходимо оправдать, но как после страстного вступительного монолога, да еще в снисходительно-покровительственном тоне, вообще невозможном в общении Чацкого с Софьей.
Для Чацкого важны не только сомнения в ответном чувстве Софьи. Их роман, если бы он и сложился, может иметь единственное завершение – брак. Брак, который, кстати сказать, исключает всякое увлечение двоюродными сестрами – по канонам православной церкви он просто невозможен. Брак, который предполагает согласие родителей и непременную материальную основу. Если бы речь шла о Вареньке Лачиновой, все выглядело бы просто. Дружившие между собой родители, одинаковое, хоть и очень незначительное состояние. Настасья Федоровна могла втайне надеяться на лучшую партию для сына, но общая среда вполне достаточное основание для согласия. Иное дело – Фамусов.
Чацкий осторожно справляется о возможном сватовстве и сам понимает неизбежность отказа. Для отца Софьи все просто:
Вот, например: у нас уж исстари ведется, Что по отцу и сыну честь; Будь плохонький, да если наберется Душ тысячки две родовых, Тот и жених.Итак, дело не только в состоянии Грибоедовых, но и в семейных отношениях. Прежде всего, безликий и безгласный отец, который безоговорочно и безропотно подчинялся деспотизму избалованной, по-видимому, богатством матери. Вот только документы рисуют совсем иную картину.
Отцовская ветвь Грибоедовых не уступает материнской по древности, да и по служебным заслугам. «Дело Владимирского дворянского депутатского собрания по внесению в дворянскую родословную книгу Владимирской губернии рода Грибоедовых», начатое в 1792 году, претендует на внесение семьи писателя в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии. Иначе говоря, речь идет о получении дворянства до 1685 года, хотя документально подтвердить этого факта Грибоедовы не могли. Прямые предки писателя в XVII столетии: Семен Лукьянович – Леонтий Семенович – отставной капрал Никифор Леонтьевич – надворный советник Иван Никифорович – отец писателя секунд-майор Сергей Иванович, имевший единственного старшего брата Никифора Ивановича (1759–1806) и сестру Катерину Ивановну, вышедшую замуж за помещика Ефима Ивановича Палицына.
Послужной список деда Грибоедова достаточно велик. Иван Никифорович родился в 1721 году и шестнадцати лет поступил солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк. Через пять лет он был произведен в капралы и доблестно участвовал в битвах со шведами при взятии Гельсингфорса и Фридрихсгама. В 1747 году он получает чин фурьера, на следующий год – каптенармуса и еще годом позже – сержанта. В сентябре 1755 года он выпускается капитаном в армейский Сибирский гренадерский полк, а в 1758 году уходит в отставку с производством в следующий чин – секунд-майора. Тем не менее от службы Иван Никифорович не отказывается. В год отставки он определяется к Подушному двору в Переславль-Залесский и почти сразу переводится в Арзамас. Но, по-видимому, самым важным стало для Ивана Никифоровича назначение в родной Владимир «воеводским товарищем с награждением чином коллежского советника». Когда в 1779 году будет открыта Владимирская губерния, именно он станет председателем губернского магистрата. И это при том, что никакого особенного состояния у И.Н. Грибоедова не было. В 1780 году принадлежало ему всего-навсего во Владимирской губернии в Покровской округе сельцо Федорково, Митрофаниха тож, и во Владимирской округе в сельце Сущево и деревне Назарово в общей сложности «восемьдесят восемь душ мужеска пола». С теми же небогатыми владениями он выходит на следующий год в отставку, получив в награду за беспорочную службу чин надворного советника.
Помимо владимирских поместий, располагал Иван Никифорович и собственным домом в Москве, в приходе Николы в Хамовниках, и характерно, что имущества своего между сыновьями не делил.
Служба старшего сына И.Н. Грибоедова – Никифора Ивановича – явно не сложилась. Начал он ее в 1773 году в конной гвардии, но уже через семь лет вышел в отставку, причем владимирское дворянство избрало его заседателем Владимирского уездного суда. С этими обязанностями Никифор Иванович справлялся всего четыре года, поспешил выйти в отставку, причем был произведен в титулярные советники.
Отец драматурга родился в 1761 году и четырнадцати лет вступил в военную службу кадетом Смоленского драгунского полка и вскоре был «из оного взят в штат к его сиятельству господину генералу-поручику и разных орденов кавалеру князю Юрию Никитичу Трубецкому, где находился при нем в Крыму капитаном в Кинбурнском драгунском полку». Десятилетняя военная служба, о которой сам Сергей Иванович говорил, что «в походах был, в штрафах не бывал», закончилась отставкой по болезни с присвоением очередного воинского чина – секунд-майора – 16 октября 1785 года. За отсутствием собственного имения Сергей Иванович селится у отца в Федорково. Последовавшая женитьба на Настасье Федоровне была выгодной партией для С.И. Грибоедова, поскольку невеста после скончавшегося в 1786 году отца имела в разных губерниях «192 души мужеска пола» и еще 208 душ получила от матери в приданое. Эти средства позволяют ей купить после свадьбы, в 1794 году, сельцо Тимирево, Введенское тож, за 9000 рублей.
Однако очень скоро с трудом сложившееся семейное состояние уходит, как вода в песок. К 1798 году за Настасьей Федоровной числится не более 60 душ крепостных – результат ее не слишком удачных спекулятивных предприятий. Сергей Иванович не был повинен в потерях, хотя в прошлом за ним и установилась слава карточного игрока. Известно, что осенью 1782 года временно освобожденный от военной службы Сергей Иванович приезжает во Владимир и попадает в компанию местных игроков и «мотов», как называли их современные документы. Все вместе они обыгрывают на 14 тысяч рублей несовершеннолетнего дворянина Николая Артамоновича Волкова. Это было полное разорение Волкова, если бы в дело не вступился его опекун прокурор Сушков. В результате поступившей к генерал-губернатору Владимирской и Костромской губерний Р.Л. Воронцову жалобы игроки вынуждены были полностью вернуть пострадавшему свой выигрыш. Некий современник оставил воспоминания о том, что Сергей Иванович не расставался с картами и в 1800 году. Но все дело в том, что Настасья Федоровна вела свои дела и содержала имущество независимо от мужа. После смерти Сергея Ивановича выяснилось, что на его имении был ряд долгов, в том числе собственной жене в размере 50 тысяч рублей. В общем же родители жили достаточно дружно и, во всяком случае, не расставались. В 1796 году в связи с дворянскими выборами на Владимирщине Сергей Иванович, отговариваясь болезнями, пишет о себе, что лет ему тридцать пять и что он женат на дворянке, дочери статского советника Федора Алексеевича Грибоедова – Настасье Федоровне, имеет детей малолетних, сына Александра и дочь Марью, которые и находятся при нем.
Конец 1790-х годов оказался для супругов Грибоедовых на редкость счастливым. 7 февраля 1799 года Сергей Иванович приобретает в Судогодском уезде у помещицы Ф.Н. Барановой сельцо Моругино на имя дочери Марии Сергеевны, а в июле родители для нее же приобретают за 400 рублей семерых дворовых, полученных от ее бабки Прасковьи Васильевны, и восемнадцать крепостных из сельца Сущево. Тем же летом оформляется приобретение сельца Сушнево за тысячу рублей на имя сына Александра. Покупки стали возможны ввиду болезни деда Ивана Никифоровича, который, скорее всего, решил выделить часть капитала необеспеченным своим внукам. Последовавшая в 1801 году кончина Ивана Никифоровича принесла Сергею Ивановичу «по разделу с родительницею и братом» имение в селе Федоркове – 73 души и часть сельца Сущево. И снова супруги Грибоедовы остаются верны себе. Сергей Иванович через считаные месяцы продает свою часть Сущева Наталье Федоровне Лачиновой, матери Вареньки. Настасья же Федоровна откупает у майора Зверева часть имения в Федоркове, где второй частью сельца владел Сергей Иванович. Последующие хлопоты оказываются связанными с приобретением дома в Москве.
Первые шаги в этом отношении предпринимает Сергей Иванович. Отказавшись от выборных должностей из-за мнимой или действительной болезни в 1799 году, даже не приехав на выборы, он тем не менее в конце января 1800 года добивается пропуска для приезда в Москву. Причиной становятся надежды на очередное наследство. От «прокурорши Волвенской».
Достичь даже временного благополучия Грибоедовым не удается. Материальные затруднения побуждают Настасью Федоровну с мужем пытаться справиться с ними за счет собственности сына. В июле 1809 года четырнадцатилетний «кандидат императорского Московского университета Александр Сергеев сын Грибоедов» продает сельцо Сушнево и деревеньку Ючмерь полковнику К.М. Поливанову, продает в Москве, и в качестве свидетеля выступает его отец. В Москве, как и на Владимирщине, супруги жили вместе. Записавшись в Московский гусарский полк 26 июля 1812 года, Грибоедов вместе с полком попадает в начале сентября во Владимир и здесь заболевает. Последующий год он проводит во Владимире в доме родителей. Грибоедовы жили в доме соборного священника Матвея Ястребова на Девической (позднее – Красномилицейской) улице. И они отчаянно боролись за то, чтобы противостоять материальным невзгодам. Отдавая своих крепостных в ополчение, они не предоставляют им положенной амуниции, уступают в другие полки, самое жестокое – продают на вывоз. В 1813 году, например, были проданы в Вологду генералу Цорну из деревни Федорково, Митрофаниха тож, дворовые Григорий Филиппов 35 лет и Степан Андреев 41 года с двенадцатилетним сыном. Совершенно так же поставлял своих крестьян в ополчение для других помещиков и Алексей Федорович Грибоедов, живший в то время во Владимире.
Московский пожар, уничтоживший пресненский дом, наносит очень тяжелый удар семье. К тому же в 1814 году не стало Сергея Ивановича, и дело о наследстве раскрывает полную картину грибоедовских материальных невзгод. Сергей Иванович оставил жене и детям сельцо Митрофаниху с 95 душами мужского пола и деревню Моругино с 49 душами. Но на эту недвижимость ложились непомерные долги «на 58 тысяч, как партикулярных разным лицам, так и казенных, а именно ей, Настасье, по распискам, взятым у нее на сохранение, – 50 тысяч рублей, да по заемным письмам: статскому советнику Николаю Яковлевичу Тинькову – тысяча пятьсот рублей, Настасье Федоровне Басаргиной – тысяча, московскому купцу Василию Федорову – пятьсот и московскому опекунскому совету под залог оного имения – пять тысяч триста».
Выход, который находит Настасья Федоровна, полностью освобождает ее от долгов, сына же – от всякого наследства. Как свидетельствовал документ, «они – Настасья и Александр – вышеописанных долгов, равно и следуемого имения, принять не желают и определяют все оставшееся имение девице Марье Грибоедовой в вечное и потомственное владение и обязуются как за себя, так и за наследников своих о возврате того имения Марью впредь никогда не просить, с тем, однако ж, чтоб и все оставшиеся долги платить ей, Марье, не привлекая их ни под каким предлогом». Мать и дочь находились в это время в пресненском доме, Александр Сергеевич в Петербурге, откуда он приехать не захотел. Его доверенным лицом выступает Иван Михайлович Левашов: «Доверенность писана и засвидетельствована в Санкт-Петербургской палате гражданского суда июня 30 минувшего (1815) года, которой он, корнет Александр Грибоедов, на добровольном имении покойного родителя его вышереченного секунд-майора Сергея Грибоедова, разделе с родительницею его, уполномочивает его, Левашова». С чем бы это ни было связано, но в последующие свои приезды в Москву останавливаться в пресненском вновь отстроенном доме Грибоедов уже не хотел.
Он не принимает участия и в последующих делах матери, которая не останавливается в своих земельных спекуляциях. После оформления отказа от наследства, но и долгов, покойного мужа Настасья Федоровна начинает заниматься вновь приобретенным имением в Костромской губернии. Она в четыре раза увеличивает оброк, чем вызывает бурное возмущение крестьян. Правда, в назначенном разбирательстве дворяне принимают ее сторону, но Александр I, до которого доходит дело о крестьянском бунте, отдает имение Настасьи Федоровны под опеку шести помещиков, впрочем, согласившихся с требованиями владелицы. Отказ крестьян платить оброк приводит к тому, что по просьбе Настасьи Федоровны в ее имение присылается команда сначала из ста девяноста, а затем и трехсот человек. На помощь Грибоедовой приходит подполковник Илья Огарев, женатый на ее племяннице. Он грозится не просто прибегнуть к насилию, но вообще разрушить крестьянские избы. В конце концов, в руках крестьян появляется оружие, и единственным выходом для администрации становится перемена владелицы имения. Настасью Федоровну принуждают отказаться от своего приобретения и перепродать имение княжне Долгоруковой, которая находит со своими крепостными общий язык. И это еще одна из причин, заставляющая Грибоедова избегать материнского дома.
Среда, в которую попадает Грибоедов в Московском университете, не принимает, не может принять жизненных принципов Настасьи Федоровны. Но в ранние годы эти принципы не проявляются так явственно. Среди самых близких Грибоедову товарищей по занятиям братья Чаадаевы, Иван Якушкин и конечно же объединявший их всех князь Иван Дмитриевич Щербатов. Ни возраст, ни совместно проведенные годы не сокращают расстояния, которое существовало между ним и Грибоедовым. Они обращаются друг к другу на «вы», со всеми обязательными оборотами принятого этикета. Именно Ивану Щербатову адресована самая ранняя из сохранившихся записок писателя, более того – самый ранний из сохранившихся его текстов, единственный из довоенных лет, написанный, кстати сказать, по-французски:
«Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня обяжете, согласившись на мое приглашение так же, как Ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и т. д., г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный Вам Александр Грибоедов».
В письме есть подробность, позволяющая достаточно точно его датировать. Магистр философии Захарий Буринский, друг гувернера Грибоедова И.Б. Петрозилиуса, скончался в июне 1808 года, в том самом месяце, когда Грибоедов был возведен в кандидатское достоинство. Где-то непосредственно перед этим событием и состоялся званый ужин.
Узкий круг «Собрания князя Щербатова», в который входил Грибоедов, постоянно собирался в щербатовском доме, тем более что рано осиротевшие братья Чаадаевы находились под опекой старого князя Дмитрия Михайловича Щербатова, родного брата их матери. Сын знаменитого историка, автора труда «О повреждении нравов в России» Михаила Михайловича Щербатова, князь Дмитрий отличался консервативностью взглядов. Споры с молодежью вспыхивают здесь постоянно, и не их ли отзвук угадывается в разговоре Чацкого с Фамусовым? У князя есть сестра, старая дева Анна Михайловна, которая чуть не каждый день «тащится» к нему с Покровки, как графиня Хлестова, и так же окружена моськами и приживалками. Есть даже письмоводитель, знаменитый своей услужливостью, предупредительностью, умением угодить, который успешно «служит по архивам» под начальством князя. Незамешанный в действительности ни в каких сомнительных историях, он в дальнейшем высоко поднимается по служебной лестнице и становится известным в Москве лицом. Есть у князя и две дочери: добрейшая романтическая Елизавета Дмитриевна, которой решается посвятить одно из своих посланий З. Буринский, и Наталья Дмитриевна, но о княжне Наталье разговор особый. Бесстрашная наездница, волевая, властная, остроумная, интересовавшаяся политикой нисколько не меньше брата, она одинаково хороша и недоступна. Московские слухи утверждали, что это из-за нее кузен Петр Чаадаев отказался от семьи и личной жизни. В нее безнадежно влюблен Иван Якушкин. Перед ней благоговеет Кюхельбекер. Черты всех трех поклонников княжны Натальи вошли в образ Чацкого. В Чацком нетрудно угадать и самого Грибоедова, а что, если Грибоедов во всем разделил вкусы и увлечения друзей? Так могло быть, но было ли так в действительности?
Переписка… Но Грибоедов никогда не называл женских имен, разве Истомину и Телешову, не скрывавшим своих мимолетных увлечений. Но и в отношении них неизменная почтительная восхищенность:
О, кто она? Любовь, Харита Иль Пери, для страны иной Эдем покинула родной, Тончайшим облаком повита? И вдруг, как ветер, ее полет Звездой рассыплется, мгновенно Блеснет, исчезнет, воздух вьет Стопою свыше окрыленной…Женщина? Нет, конечно, актриса. 8 декабря 1824 года давно знавший балерину по сцене Грибоедов увидит Телешову в инсценировке поэмы «Руслан и Людмила». 4 января, вопреки всем своим обычаям и едва ли не единственный раз напишет Степану Бегичеву: «В три, четыре вечера Телешова меня с ума свела, и тем легче, что в первый раз и сама свыклась с тем чувством, от которого я в грешной моей жизни чернее угля выгорел». И в январском же номере «Сына Отечества» восторженные строки стихов увидят свет – раньше так близкого к ним описания танца Истоминой в I главе «Евгения Онегина».
«Собрания» Ивана Щербатова прерываются вместе с его отъездом в марте 1811 года в Петербург для поступления в Семеновский полк. Волей-неволей посещения дома Щербатовых становились более редкими. Запись в Московский гусарский полк и вовсе положит им конец. Но до поступления в армию Грибоедова было лето 1812 года, когда он вместе с друзьями по университету часто навещает нового знакомого – барона Штейна. Знаменитого Штейна, объявленного Наполеоном врагом французской империи и вынужденного эмигрировать в Россию, потому что начал объединять немецкий народ для сопротивления войскам императора. И тот же Штейн утверждал необходимость уничтожения – и притом немедленного – крепостного права. Его проповедь не могла не увлечь московской молодежи. Почти каждый день Грибоедов спешит на Большую Ордынку, где поселился барон. В один из таких счастливых дней, возвращаясь от Штейна, он признается бывшим с ним приятелям, что собрался писать комедию и читает несколько сцен из нее. Это был первый набросок «Горя от ума». Первый и не дошедший до нас. В те годы продолжения не последовало.
Что было в нем? Обличительные монологи Чацкого. Горькие переживания первой и в чем-то обманутой любви. Прямое сходство с отношениями Мечина и Софьи (тоже Софьи!) в «Вечере на бивуаке» Александра Бестужева-Марлинского: «Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, грыз себе губы и, боясь, чтобы чувства не вырвались речью, решился уехать. Не помню, где скакал я по полям и болотам, под проливным дождем, – в полночь воротился я домой без шляпы, без памяти». Армия стала освобождением – и от трудных переживаний, и от комедии. Писать ее, казалось, больше не было нужды.
В конце концов, армейская карьера удачной не была. Так складываются обстоятельства. Да Грибоедов и не ищет здесь славы. С конца 1814 года он числится в отпуску, в декабре 1815-го подает прошение об отставке: корнетом он вступает на военную службу – корнетом и увольняется. Где-то в течение этого года он должен был оказаться в Москве, но задержаться здесь не захотел. В марте 1816 года отставка принята, и Грибоедов поселяется в Петербурге, «на Екатерининском канале, у Харламова моста, угольный дом Валька». Дом этот иначе назывался в столице на Неве попуганным. Еще в екатерининские времена тирольцы Вальхи держали в нем торговлю птицами – от обученных канареек до попугаев.
Грибоедов в восторге от новой обстановки. «Квартира у меня славная, как приедешь, прямо у меня остановись, на Екатерининском канале… Приезжай, приезжай скорее. В воскресенье с Истоминой и Шереметевым еду в Шустерклуб; кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился. – Сколько здесь портеру, и как дешево» – это строки из письма Степану Бегичеву, который и в самом деле поселился у Грибоедова. Увлечению петербургской жизнью слишком скоро приходит конец. Близкий друг Грибоедова кавалергард Василий Шереметев погиб из-за Истоминой на дуэли с графом Завадовским. За так называемую «четверную дуэль» писателю пришлось поплатиться ссылкой на Кавказ, а трагический исход «молодечества» ляжет темной тенью на всю остальную его жизнь: до конца своих дней он не сможет забыть «бедного Васю».
Вынужденная встреча с Москвой, через которую лежал путь в ссылку, ни радости, ни облегчения не приносит. Недоразумения в родном доме. Неудачные встречи с знакомыми. И без того недолгий отпуск Грибоедов сокращает до нескольких дней: «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!» Искренне удивлявшее старых приятелей новое отношение к старой столице, где все перестает нравиться, все раздражает и вызывает негодование: «Москвы я не люблю». Едва ли не последним становится визит к Щербатовым. Ивана Дмитриевича в Москве нет. Старый князь с еще большим запалом предается поучениям. Княжна Наталья – сразу после отъезда Грибоедова она примет неожиданное для родных решение выйти замуж за князя Федора Петровича Шаховского, старого знакомца Грибоедова, которого раньше просто не замечала.
Грибоедов уезжает на Кавказ в последних числах августа 1818 года и оказывается в старой столице только в конце марта 1823-го. Родительскому дому он предпочитает дом только что женившегося Степана Бегичева на Мясницкой. С Бегичевыми уезжает на лето в их поместье Екатерининское, с ними же в конце сентября возвращается в Москву. Он оживлен, радостен, охотно и много общается с друзьями. Вечерами у Бегичевых много музицирует, аккомпанирует А.Н. Верстовскому, исполнявшему только что написанный романс «Черная шаль» на слова Пушкина. Подсказывает композитору мысль поставить «Черную шаль» на сцене «в картинном положении». Постановка состоялась 10 января 1824 года в Москве и принесла исполнителю, знаменитому тенору П.А. Булахову, огромный успех.
Театр в эти месяцы – второй дом Грибоедова. Он бывает чуть не на всех спектаклях и, уж во всяком случае, на всех премьерах. Одно из таких посещений театра вместе с композитором А. Алябьевым становится московской легендой.
«Когда в антракте Грибоедов и Алябьев вышли в коридор, к ним подошел полицмейстер Ровинский в сопровождении квартального. Последовало объяснение. Полицмейстер обратился к Грибоедову:
– Как ваша фамилия?
– А вам на что?
– Мне нужно это знать.
– Я Грибоедов.
– Кузьмин, запиши, – сказал полицмейстер квартальному. Тогда Грибоедов обратился к полицмейстеру:
– Ну, а ваша как фамилия?
– Это что за вопрос?
– Я хочу знать, кто вы такой.
– Я полицмейстер Ровинский.
– Алябьев, запиши, – сказал Грибоедов своему приятелю». Дело было в том, что Грибоедов и Алябьев, как всегда, шумно вели себя в зрительном зале, освистывая одних исполнителей и нарочито громко аплодируя другим.
Но жизнь у Бегичевых была прежде всего работой над «Горем от ума». С Кавказа Грибоедов привез два первых полностью законченных действия. Представившийся отпуск – это возможность обновить московские впечатления, по-новому взглянуть на московскую жизнь. Степан Бегичев первый, кому Грибоедов прочтет написанные акты, и – дальше начинается непонятное. Бегичев, восторженно влюбленный в Грибоедова, безоговорочно принимавший каждое его произведение или суждение, на этот раз делает какие-то замечания, из-за которых писатель заново пишет первый акт. Впрочем, не совсем так. Тщательный анализ оставшегося черновика рукописи позволяет установить, судя по вклеенным новым листам, что переделке подверглись 2, 3 и отчасти 4 явления, а главное – диалог Софьи и Чацкого. И самое удивительное – Грибоедов полностью переделывает характер Софьи. Исчезает независимая, своенравная, достойная собеседница и противница Чацкого, появляется просто московская барышня, мелочная, капризная, почти злобная. Исчезает привычный для обоих легкий остроумный разговор.
Софья: Вот вас бы с тетушкою свесть, Чтоб всех знакомых перечесть. Чацкий: А тетушка? Все девушкой, Минервой? Все фрейлиной Екатерины Первой? Воспитанниц и мосек полон дом? С ней доктор Фациус? Он вам не рассказал? Его прилипчивой болезнью я пугал, Что будто бы Смоленск опустошает, Мы в Вязьме съехались, вот он и рассуждает, Хотелось бы в Бреслау, да вряд ли попадет, Когда на полпути умрет, Сюда назад давай бог ноги. Софья: Смеялись мы, хоть мнимую чуму Другой дорогою объехать бы ему. Чацкий: Как будто есть у немца две дороги!Каждое литературное произведение имеет, как правило, несколько вариантов. У «Идиота» Достоевского их девять, у «Ревизора» – пять, у «Войны и мира» – четыре, у «Горя от ума» – формально три, и раз за разом в них меняется, точнее – теряет портретные черты, образ Софьи. Так, в первом из них Лиза обращается с вопросом к Софье:
Теперь другой вам больше мил, А помнится, он непротивен был.Речь идет о Чацком, и Софья отвечает стремительно, не задумываясь, как о чем-то давно внутренне передуманном и решенном:
Не потому ли, что так славно Зло говорить умеет обо всех? А мне забавно? Делить со всяким можно смех. Спроси его, привязан он к чему, Окроме шутки, вздора? Всех в прихоть жертвует уму, Что встреча с ним у нас, то ссора.Споры с княжной Натальей памятны многим современникам. Она не исповедовала чужих мнений, на все имела свое суждение. Из текста исчезает ее рассказ о любви к верховой езде, ее слова, что выбору отца она предпочтет монастырь. Но главное – Грибоедов отказывается от первоначального варианта последнего действия: разоблачение Молчалина, неожиданное появление Чацкого и —
Софья: Какая низость! Подстеречь! Подкрасться и потом, конечно, обесславить. Что? Этим думали меня к себе привлечь? И страхом, ужасом вас полюбить заставить? Отчетом я себе обязана самой. Однако вам поступок мой Чем кажется так зол и так коварен? Не лицемерила и права я кругом!Не Чацкий разоблачает интрижку бог весть в кого влюбившейся московской барышни, но Софья отвергает его, открыто утверждая свое право на свободный выбор сердца, на чувство собственного достоинства, на гордость. С ней можно спорить, ее нельзя не уважать. И вот этот-то необычный характер хочет скрыть и переделать Грибоедов.
Что ж, автор достиг своей цели. Если прототипы всех действующих лиц были названы современниками еще до того, как комедия увидела свет рампы, разговор о Софье носил самый общий характер. Некие «московские кузины» представлялись лицами скорее нарицательными, но уж никак не реальными. Литературоведы и вовсе пришли к выводу, что любовная интрига понадобилась Грибоедову только для того, чтобы развить сюжет пьесы, сделать его интересным для зрителя.
Касались ли замечания Бегичева литературных качеств рукописи? Безусловно нет – подобной ответственности непритязательный и скромный Степан Николаевич никогда на себя не брал. Могло случиться иное: известия о последних московских событиях. Княжна Наталья неожиданно выходит замуж за Федора Петровича Шаховского, с которым вместе Грибоедов состоял в «Ложе Соединенных друзей», куда входили и П.Я. Чаадаев, и П.И. Пестель, и С.Г. Волконский, и С.П. Трубецкой, и М.И. Муравьев-Апостол. При всей пестроте состава ложи ее членов объединяла идея борьбы с фанатизмом и национальной ненавистью, проповедь естественной религии и триединый идеал, одинаково возвышенный и неопределенный: солнце, знание, мудрость.
Но уже в 1820 году князь Шаховской вместе с братом княжны Иваном Щербатовым попадает под следствие и суд по делу о так называемом бунте Семеновского полка. Первой среди москвичек она принимает на себя удар политических репрессий. Любая тень увлечения, флирта, пусть даже оставшейся в прошлом первой любви в отношении нее недопустима. Грибоедов должен пересмотреть свои чувства относительно новых обстоятельств и, не колеблясь, это делает. Другое дело – жизнь сердца. За годичное пребывание в Москве он единственный раз выбирается с визитом к княгине Шаховской – весной 1824 года, и не из ее ли дома опрометью мчится на станцию дилижансов, чтобы навсегда уехать в Петербург?
Он снова окажется на Кавказе в 1825 году, незадолго до событий на Сенатской площади, которые переломают судьбы многих его друзей, чудом обойдут его собственную и трагически скажутся на жизни былой княжны Щербатовой. Федор Петрович Шаховской по делу о декабристах получит новый приговор – ссылку в Туруханский край. Наталья Дмитриевна последует за ним. Так поступят многие жены, но ни одной не придется ухаживать за неизлечимо больным: единственный из осужденных, Федор Шаховской сойдет через три года с ума. Ему не дадут даже в таком состоянии разрешения на возвращение на родину. Наталья Дмитриевна будет до конца ухаживать за ним с двумя сыновьями на руках и лишь после смерти мужа получит возможность приехать в Москву. Она откажется от дома Шаховских и выберет для жизни старый дом отца. Все еще красивая, почти суровая женщина откажется и от общества – в Москве будут ходить слухи о принятом княгиней обете молчания. И после долгой, очень долгой жизни княгиня Наталья Дмитриевна Шаховская пожелает лечь в землю не с Шаховскими – рядом с могилой отца, на московском Ваганьковском кладбище. Та, которой обязано своим рождением «Горе от ума» и от которой в окончательном варианте комедии осталась разве что легкая, едва уловимая тень, отдельные, по недосмотру пропущенные автором слова.
Кажется, все. Хотя – хотя эта история имела свое неожиданное и совершенно необычное продолжение. В 1890-х годах Антон Павлович Чехов стал владельцем Мелихова. Среди множества новых знакомств одно было ему явно симпатичным – живший в соседнем Рождествене—Васькине молодой князь Сергей Иванович Шаховской. Князь – частый гость Мелихова, а когда появляется на свет княжна Наталья Сергеевна, ее крестным отцом становится Чехов. Имя новорожденная получает в честь прабабки – Натальи Дмитриевны Шаховской-Щербатовой, Чехов интересуется жизнью молодой семьи, спрашивает о Шаховских в письмах из Ялты, старается не терять из виду, но слишком скоро сам уходит из жизни.
Но гораздо более колоритная фигура – родной брат Сергея, второй внук Софьи из «Горя от ума», князь Дмитрий Иванович Шаховской. Он был известным земским деятелем. Состоял бессменным членом ЦК партии кадетов. В 1906 году стал членом Государственной думы и секретарем фракции кадетов. За подпись, поставленную под так называемым «Выборгским воззванием», отбыл тюремное заключение. В 1917 году вошел в состав первого коалиционного правительства. Эмигрировать князь Дмитрий Иванович не захотел и стал одним из учредителей контрреволюционной организации «Союз возрождения». Тем не менее судьба обошлась с ним достаточно снисходительно. Немедленного наказания он не понес, некоторое время даже занимался литературной деятельностью, но позже следы его в России исчезли.
Необязательная историческая справка? Может быть, если бы не воплощение тех черт характера княжны Натальи, которые так неумолимо сказались на судьбах едва ли не самых интересных людей ее времени, тем более на процессе создания «Горя от ума». А «выгоревшее дочерна» сердце Грибоедова – сколько в нем было от неразделенной или не до конца понятой любви, а сколько от чувства долга, порядочности, понимания смысла бытия человека среди людей, которые сделали таким единственным образ Александра Андреевича Чацкого?
И последние страницы жизни писателя.
В марте 1828 года Грибоедов возвращается с Кавказа и привозит такой необходимый России мирный договор с Персией, подписанный в Туркманчае. Его условия были продиктованы русским дипломатом.
Восторгу Николая I не было границ. Он не скупился на выражения своего благоволения Грибоедову, осыпал наградами. Но вместо простой благодарности монарху Грибоедов осмеливается обратиться к нему с просьбой об облегчении участи своих друзей-декабристов. Он не говорит, что мог оказаться вместе с ними на Сенатской площади, он выступает в роли заступника государственных преступников.
Понимал ли он, что предрешает свою судьбу? Монаршья милость сменилась решением о его назначении – вопреки воле Грибоедова – полномочным министром России в ту же Персию.
Грибоедов слишком хорошо знал местную обстановку и настроения, тем более после ненавистного персам мира. Это был смертный приговор.
Может быть, в нем еще жила надежда переломить судьбу, когда в конце того же года, приехав в Тифлис, он соглашается на свадьбу с юной красавицей, дочерью поэта Ниной Чавчавадзе. Ее брак исчислялся днями. 30 января наступившего 1829 года посол России был растерзан толпой в Тегеране.
Пройдет время, и юная вдова – она никогда больше не выйдет замуж, не сделает попыток устроить свою личную жизнь – приедет в Москву, чтобы обойти всех близких покойному мужу людей. Их список она получила от покойного.
Жена А.С. Грибоедова Нина Чавчавадзе.
Имен окажется немало. Но среди них не будет одного – княгини Натальи Дмитриевны Шаховской и самого дома Щербатовых. Встреча и знакомство двух женщин не должны были состояться.
«Расстрельный храм»
Да, грибоедовский дом потерял свое историческое значение. Зато совсем рядом, на склоне, обращенном к Горбатому мосту, в Большом Девятинском переулке сохранился памятник, действительно помнящий Грибоедова, – это так называемый «Расстрельный храм». Через дорогу от городка американских дипломатов. В виду «Белого дома». Освященный в память Девяти Мучеников Кизических. Святые Артем, Филимон, Феодот, Руф, Антипатр, Феостих, Магн, Фавмасий и Феогнид пострадали за христианскую веру во времена императора Константина Великого, в IV веке, в городе Кизике на берегу Дарданелл. В Москву частицы их мощей были доставлены в годы Петра I, в то время, когда на ее площадях разыгрывались страшные сцены стрелецких казней. Первоначально деревянный, храм был заложен по обету последнего древнего патриарха Кира Адриана и закончен в 1698 году, когда только что вернувшийся из Великого посольства, своей первой заграничной поездки, молодой царь посетил больного Адриана вместе с товарищем своих детских игр имеретинским царевичем Александром Арчиловичем и его сестрой, царевной «Милетинской» Дарьей. В нынешнем своем виде храм был возведен во времена императрицы Анны Иоанновны. Колокольня пристроена в 1844 году. В советские годы церковь перешла в ведение ЧК OГПУ и использовалась как место приведения в исполнение приговоров к высшей мере наказания – расстрелов. Женщин…
История здешних мест известна со времен, предшествовавших Куликовской битве. Во второй половине XIV века вырос на склоне спускающегося к Москве-реке холма новый – Новинский – Введенский монастырь, ставший с учреждением при Борисе Годунове патриаршества домовым патриаршьим, с большой слободой и приписанными к нему землями, тянувшимися по реке Пресне до Ходынского поля. Памятью о пресненских запрудах тех лет остался нынешний пруд в Зоопарке.
В 1680-х годах часто сопровождал патриарха Иоакима в Новинский монастырь архимандрит Чудова монастыря Адриан, поставленный в 1686 году митрополитом Казанским и Свияжским. Приезд Адриана в Казань совпал с началом тяжелейшей эпидемии. Тридцатью тремя годами раньше такое же «моровое поветрие» опустошило город, унеся сорок восемь тысяч жизней. Митрополит дал обет в случае окончания «горячки» основать монастырь Девяти Мучеников Кизических, помогавших, по народным поверьям, при такого рода болезнях, как и всякой другой телесной немощи.
Эпидемия неожиданно прекратилась. Адриан выстроил под Казанью Кизическую обитель, для которой даже сумел приобрести частицы мощей святых. Но сделал он это, уже став – в августе 1690 года – патриархом. В 1693 году он заказывает царскому жалованному иконописцу Петру Семенову Золотому, ученику живописца Ивана Безмина и замечательного иконописца Симона Ушакова, образ Девяти Мучеников. Кстати, одна из работ Петра Золотого – Богоматерь Боголюбская – хранится в Третьяковской галерее.
В 1694 году Кир Адриан заказывает написать церковную службу Девяти Мученикам выдающемуся церковному писателю, автору 12-томных Четьих-Миней Димитрию Туптало – святому Димитрию Ростовскому. А когда в 1696 году сам Кир Адриан оказывается на пороге смерти, пораженный параличом, он дает обет поставить в Москве церковь Девяти Мучеником, выбирая для нее место рядом со своим любимым Новинским монастырем.
Но пережить события стрелецкого бунта недомогавшему Адриану не было дано. Патриарха не стало в 1700 году. Одновременно Петр I отменил институт патриаршества, заменив его Синодом, но сохранил знаменитых патриаршьих певчих, которых слушал в Девятинской церкви. Они будут в полном составе перевезены в Петербург, и Петр до конца своих дней будет разучивать с ними духовные концерты.
«Наперсник царя» – этот досадливый отзыв одного из современников о Кире Адриане можно назвать и справедливым, и несправедливым. Мало кто из князей Православной Церкви пользовался таким уважением Петра, как последний патриарх. Петр часто виделся с ним, писал ему письма из походов, сообщая о всех одержанных победах, и – что кажется неожиданным – советовался об отдельных предпринимаемых реформах – в частности, в отношении переустройства образования.
Обычной формой ранних государственных документов было: «Божиею милостию великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, советовав со отцом своим, великого государя богомолцем, с великим господином, святейшим Кир Адрианом, архиепископом Московским и всея Росии и всех северных стран патриархом». Так строится, в частности, указ о введении в действие Соборного уложения февраля 1700 года.
Разделял ли Кир Адриан реформаторские планы Петра? Или просто понимал их неотвратимость? Среди современников ходили разговоры, что не случайно только после смерти патриарха Петр принял решение о перенесении столицы на берега Невы. Кир Адриан непременно бы убедил царя не оставлять отеческих гробов и народных святынь. Но вот во время последней болезни патриарха у постели больного Петр считает необходимым развернуть полный план перестройки обучения священнослужителей, твердо веря в поддержку больного. Время не терпит, и, организуя ряд учебных заведений в Москве, Петр не хочет ждать выздоровления патриарха, торопится. И получает благословение. В официальных документах появится «Изложение речи Петра I, сказанной при посещении больного патриарха Адриана, о необходимости просвещения для России, о целях и способах организации школ для борьбы с невежеством». Не воспроизводившееся в широкодоступной литературе, оно представляет тем больший интерес:
«Во имени Господни извещение
Изволил великий государь царь святейшему патриарху глаголати, быв у него октоврия месяца в 4 д. ради посещения в немощи его.
Что священники ставятся, грамоте мало умеют, иже бы их таинств научати и ставити в той чин. На сие надобно человека, и не единого, кому сие творити, и определити место, где быти тому.
Чтобы возымети промысл о разумлении к любви Божией и к знанию его христиан православных и зловерцов: татар, мордвы, и черемися, и иных, иже не знают творца Господа, и для того во обучение послати колико десять человек а Киев, в школы, которыя возмогли бы к сему прилежати.
И благодатию Божиею и зде есть школа, и тому бы делу порадеть мощно, но мало которыя учатся, что никто школы, как подобает, не назирает. А подобно к тому человек знатный в чине и во имени и в доволстве потреб ко утешению приятства учителей и учащыхся. И сего не обретается ни от каких людей. Быти тому како?
Евангелское учение и свет его, си есть, знание Божией человеком, паче всего в жизни сей надобно. И на школы бы всякия потребы люди благоразумно учася, происходили в церковную службу и в гражданскую воинствовати, знати строение и докторское врачевание.
Еще же мнози желают детей своих учити свободных наук и отдают зде иноземцом оныя, инии же и в домех своих держат, будто учителей, иноземцов же, которыя славянского нашего языка не знают право говорити. К сему еще иных вер, и при учении то малым детям и ереси своя знати показуют, отчею детем вред и церкви нашей святой может быть спона велия, а речи своей от неискусства повреждение.
А в нашей бы школе при знатном и искусном обучении всякого добра учинилися. И кто бы где в науке заправился в царскую школу, хотя бы кто побывать пришел, и он бы ползовался.
И сего смотрети же надобно и прирадеть тщателно зело. Но яко вера без дела, а дело без правыя веры мертво есть обоя, тако слово без промысла, а труд без чина и без потреб не успеет ползовати.
Еще же велия злоба от диавола и козни его на люди, еже бы наука благоразумная где-либо не возимела места, всячески бо препинания деет в той.
Господь же Бог во всем помощь да сотворит людем спасительну».
Поденные записи придворного обихода свидетельствуют, что Петр не посещал вообще патриарха и засиживался у него за беседой по многу часов. Так, 9 декабря 1695 года, перед Азовским походом, царь побывал у Кира Адриана «с начала 5 часа ночи до 8 часа; и по восстании и шествии Его Великого Государя, патриарх благословил его образом Богородицы Владимирския». 1 октября 1696 года, буквально в день возвращения из того же похода, «Великий Государь Петр Алексеевич изволил быть у патриарха и сидеть в Столовой полате с последнего часа дневных часов до другого часа ночи до последней четверти». Чтобы побаловать государя, патриарх распорядился купить в Яблочном ряду у торговца Ивана Васильева 50 яблок «самых добрых больших наливу за 4 рубля», а на прощание благословил царя образом Всемилостивого Спаса. 21 февраля 1697 года, в первое воскресенье Великого поста, Петр гостил у Кира Адриана «с первого часа ночи до третьего часа ночи» и «на отпуске» был благословлен образом Владимирской Богородицы 31 августа 1698 года, сразу по возвращении из Великого посольства, Петр просидел у патриарха «до 10 дневного часа» и был благословлен образом Успения Богородицы. На этот раз угощение было особенно торжественным, почему отпустили на него «вина секту полворонка, ренского полведра, 2 ведра меду вишневого, меду малинового ведерный оловеник (кувшин), пива мартовского трехведерный оловеник, меду светлого ведерный». Это было начало стрелецких казней.
В XVIII веке былой домовый патриарший храм становится приходским. Среди его прихожан оказывается обер-прокурор Сената Волынский, супруга которого приходилась двоюродной бабкой А.С. Грибоедову. От нее усадьба на углу Новинского бульвара и Девятинского переулка переходит к дяде Грибоедова – Алексею Федоровичу, владельцу смоленской Хмелиты. В свою очередь Алексей Федорович продает в 1801 году усадьбу своей сестре Настасье Федоровне, матери драматурга. Последующие одиннадцать лет своей жизни Грибоедов проводит в приходе Девяти Мучеников. Церковные книги – единственный источник документальных сведений о нем самом и его близких вплоть до Отечественной войны 1812 года. Это время его занятий в Благородном пансионе и университете. В приходской церкви семья служит молебен перед уходом Александра Сергеевича в ополчение. Когда со временем скончается его мать, ее отпоют в Девятинском храме и похоронят на ближайшем, Ваганьковском кладбище.
А в 1840—1850-х годах «потаенным» прихожанином того же храма станет автор знаменитого «Соловья» композитор А.А. Алябьев. В силу несправедливого приговора ему будет запрещено проживать в столице, и он станет скрываться в доме своей жены Екатерины Александровны, урожденной Римской-Корсаковой, по первому браку Офросимовой (Новинский бульвар, 7).
Храм был возвращен церкви в 1992 году. С 1994 года его настоятелем стал внук нашего знаменитого живописца Валентина Серова – отец Антоний Серов. Примечательно, что в Москве больше не было храмов Девяти Мучеников. Кроме домовой церкви графа Владимира Григорьевича Орлова, освященной в связи с эпидемией чумы 1771 года. В борьбе с ней принимал участие старший брат графа, любимец Екатерины II Григорий Григорьевич Орлов. Помещение храма сохранилось до наших дней в мезонине дома № 5 по Большой Никитской, который занимал исторический факультет, а затем издательство МГУ имени Ломоносова.
В тиши талызинского сада
«Провожая меня из своей квартиры, Гоголь, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: „Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас…“, – вспоминал П.В. Анненков свое посещение последней квартиры писателя.
Дом вошел в жизнь Гоголя нежданным и нежеланным. Решение вернуться в Россию, поселиться в Москве не связывалось со сколько-нибудь определенными планами. Любимая и привычная Щербатовская усадьба, казалось, отошла вместе с ее новым хозяином в прошлое – раздор с М.П. Погодиным не сулил возможности соединиться с ним вновь под одной крышей. Нечего было и мечтать о покойной лестнице на галерею второго этажа, о широких окнах, раскрывавшихся в зеленую гущу вековых лип, под которыми так беззаботно и радостно доводилось проводить с друзьями Николин день, о заваленных древними рукописями, книгами, оружием шкафах, заполнявших комнату вперемежку с диковинными домашними деревьями, древлехранилище хозяина служило кабинетом гостю.
Наверное, он поторопился с приездом. Москва в середине сентября была пуста. Предоставленный в его распоряжение дом С.П. Шевырева только ждал возвращения хозяев. Дегтярный переулок, 4 – первая московская квартира Н.В. Гоголя в тот последний приезд. Сегодня этого дома нет. Стены, видевшие всех профессоров Московского университета, актеров Малого театра во главе с «папашей Щепкиным», Евдокию Ростопчину, художника П.А. Федотова с его впервые представленным на суд зрителей «Сватовством майора», гостеприимно принявшие Гоголя в 1848-м, в 1986-м перестали существовать. Они были снесены за одну ночь ради удобства размещения башенного крана, необходимого для капитального ремонта соседнего жилого дома.
Нетерпеливое желание встретиться с друзьями (как-никак шесть лет пребывания за рубежом, заключительное паломничество по святым местам!), повидать А.М. Виельгорскую – ту, к которой все чаще начинают возвращаться мысли, – гонит Гоголя в Петербург. 12 сентября он приезжает в Москву и в тот же день пишет о задуманной поездке. Впрочем, 14 октября он снова в Москве. Давние друзья уже собрались на зимних квартирах. Многие из старых недоразумений забылись, и Гоголь снова оказывается у М.П. Погодина.
Это было частью старой усадьбы. Приходская церковь Саввы Освященного, протопоп которой когда-то следил, по поручению Петра I, за царевной-узницей Софьей. Благовест с монастырской колокольни, которую Софье так и не удалось возвести выше Ивана Великого – а как хотелось! Спустя два года после смерти Гоголя поселившийся в тех же местах И.И. Лажечников с восторгом будет писать: «Я живу совершенно как на даче. Передо мною Девичье поле, окаймленное хорошенькими домами, а за ними все Замоскворечье с Донским монастырем, Александровским дворцом, Нескучным, дачей графа Мамонова и Воробьевыми горами: кое-где выглядывают золотые главы Ивана Великого, Спасского монастыря, Симонова… В красные дни рои детей, как букеты цветов, разбросаны по зелени луга, кавалькады прекрасных амазонок скачут мимо…» Тем больший контраст представляла квартира, куда Гоголю в скором времени предстояло переселиться.
Отношения с М.П. Погодиным не сложились. В погодинском дневнике 1 ноября появляется знаменательная запись: «Думаю о Гоголе. Он все тот же. Я убедился. Только ряса подчас иная». На следующий день: «Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?» Обиженные интонации сменяются раздраженно-ироническими, 19 ноября Погодин записывает: «Гоголь служил всенощную, – неужели для восшествия на престол?» Неделей позже он обвиняет своего гостя в неудавшемся дне рождения, «гвоздем» которого должен был стать Гоголь. Конфликт обостряется, и единственным выходом из него становится разъезд. В качестве предлога Погодин выдвигает необходимость срочного – среди зимы! – ремонта большого дома. Гоголь не задумывается им воспользоваться, как и принять предложение поселиться у супругов Толстых.
Проведшая много лет за границей, графская чета еще не располагала московской квартирой. В ожидании приезда задержавшегося по делам мужа графиня устраивается в гостинице «Дрезден», на Тверской, напротив генерал-губернаторского дома, где Гоголь часто ее навещает. Появившийся в Москве на рубеже декабря Александр Петрович Толстой останавливает свой выбор на талызинской усадьбе вблизи Арбатских ворот. Хозяевам не приходилось тесниться ради гостя – дом выбирался с расчетом на его присутствие. Новоселье Толстых и Гоголя в начале того же декабря стало общим. Погодинский этап жизни в Москве на этот раз был завершен словами Погодина в письме М.А. Максимовичу: «Гоголь в Москве, жил у меня два месяца, а теперь переехал к графу А.П. Толстому, ибо я сам переезжаю во флигель… Он здоров, спокоен и пишет».
Доверие, проявленное Гоголем к Толстым, основывалось на добрых воспоминаниях. Дело было не только в давнем знакомстве – Гоголь пользовался услугами графини, в свое время подыскавшей ему на редкость удачную, с учетом всех его прихотей, квартиру в Париже, некоторое время он и вовсе жил у супругов. С неизменным уважением он отзывался о сестре графа, С.П. Апраксиной, в которой готов был видеть идеал рачительной великосветской хозяйки. Без ее содействия не обошлось при подыскании талызинского дома, где Софья Петровна станет почти ежедневно бывать.
Один из старейших московских боярских дворов, сохранившийся до наших дней в первоначальных параметрах и основных постройках (домовладения № 7 и 7-а по Никитскому бульвару), составлял в XVII веке собственность семьи Салтыковых. По существу двор был загородным, располагаясь за проходившими по Бульварному кольцу стенами Белого города, в непосредственной близости от Арбатских ворот. Ориентировался он на Мострюкову улицу (иначе – Мамстрюков переулок), сохранявшую в своем названии недобрую память о владевшем местными землями начальнике опричнины Мамстрюке-Кострюке, как его называли народные песни (ныне Мерзляковский переулок). Брат второй жены Ивана Грозного, царицы Марьи Темрюковны Черкасской, он своей жестокостью превосходил царя Ивана, но не избежал царского гнева и сложил свою голову на плахе.
Та часть Мострюковой улицы, в которой располагался салтыковский двор, с незапамятных времен входила в приход церкви Симеона Столпника что на Поварской (ныне – угол Нового Арбата). Симеон Столпник (правильное название церкви – Введенская) был сооружен в 1676 году по указу царя Федора Алексеевича «за Арбатскими вороты, на Дегтяреве огороде». Здесь впоследствии венчался с Прасковьей Ивановной Жемчуговой граф Николай Петрович Шереметев, С.Т. Аксаков со своей женой, нередко бывал Гоголь. Друзья писателя из аксаковского окружения настаивали, чтобы именно у Симеона Столпника состоялось его отпевание.
Основные салтыковские палаты – каменные, на сводчатых подвалах – располагались торцом к переулку. Многочисленное деревянное жилье, хозяйственные постройки, вплоть до коровника и конюшен, стояли по границам участка. Около въездных ворот со стороны Мострюковой улицы, на месте нынешнего памятника Гоголю работы Н.А. Андреева, находился обязательный для всех московских дворов колодец с журавлем, сохранявшийся и при жизни здесь писателя. Часть земли между строениями, тоже по старой московской традиции, занимали огород и плодовые деревья.
В годы правления Анны Иоанновны владельцем двора был дальний родственник императрицы Василий Федорович Салтыков, ставший сторонником цесаревны Елизаветы Петровны. В свои шестьдесят шесть лет, переодевшись в простое крестьянское платье, он на облучке ее кареты принял участие в аресте правительницы Анны Леопольдовны с семейством и дворцовом перевороте в пользу дочери Петра I.
С московским двором связаны судьбы его многочисленных детей, занявших видное положение при дворе. Дочь Мария, ставшая женой статс-секретаря Екатерины II А.В. Олсуфьева, вместе с мужем помогала императрице в ее литературных сочинениях. Дочь Анна, жена М.А. Гагарина, в 13 лет, сразу после переворота, была назначена фрейлиной, что не помешало ей в дальнейшем поплатиться косой «за дерзость» в отношении царицы. Фрейлиной стала и Екатерина Васильевна, вышедшая замуж за любимца Павла I генерал-лейтенанта П.И. Измайлова.
Особенно заметной стала судьба сына Сергея, которым увлеклась в бытность свою великой княгиней Екатерина II. «Прекрасный, как день», по ее собственному выражению, к тому же «обладавший прелестью обращения и мягкими манерами», С.В. Салтыков был удален по приказу Елизаветы Петровны на дипломатическую службу, сменив за долгие годы должности посланника в Швеции, Гамбурге, Париже, Дрездене.
Но московский двор после смерти отца наследовал старший его брат, Петр Васильевич, камергер, женатый на дальней родственнице А.С. Пушкина, княжне М.Ф. Солнцевой-Засекиной (ее матерью была М.Ф. Пушкина). Именно она оказывается последней владелицей усадьбы из семьи Салтыковых. К этому времени окружение былого «Дегтярева огорода» становится одним из самых аристократических кварталов старой столицы. Среди соседей «камергерши» дочь фельдмаршала А.А. Хитрово, князья Несвицкие, Урусовы, Хилковы, Мельгуновы, Толстые, К.Г. Разумовский.
Со смертью пережившей мужа М.Ф. Салтыковой родовое гнездо переходит к родственнику известного историка, специалиста по Москве XVII века И.Н. Болтина – Д.С. Болтину, который деятельно принимается за его перестройку. Он повторяет в общих чертах изменения, возникавшие во всех выходивших на распланированный в 1796 году Никитский бульвар усадьбах. Поныне существующая ограда и ворота делаются со стороны бульвара. Вместо многочисленных разбросанных служб строится одно объединившее их здание напротив главного дома, главный же дом достраивается до красной черты бульвара, то есть увеличивается как раз на будущую гоголевскую половину. В этом варианте он не имел со стороны двора аркады и покоящегося на ней балкона, тогда как хозяйственный корпус сразу строится с порталом. Все работы были осуществлены в 1807–1812 годах.
Пожар 1812 года захватил весь район Никитского бульвара. Третьего сентября 1812 года он начался на Арбате и на следующий день выжег бывшие салтыковские владения. Как и во многих других городских усадьбах, восстановление оказалось не по средствам старому владельцу. Ее хозяином стал А.И. Талызин. Именно с этим именем связана наибольшая путаница в атрибуции последней гоголевской квартиры.
Члены семьи московских служилых дворян, Талызины при Петре Великом были в числе первых русских моряков, получивших специальное образование в Голландии и Италии. Но одним морским делом обстоятельства не позволили им ограничиться. С начала 1760-х годов они принимают деятельное и существенно сказавшееся на их судьбах участие в дворцовых переворотах.
Адмирал И.Л. Талызин, пользовавшийся особой благосклонностью императрицы Елизаветы Петровны, принимает сторону ненавидимой ею Екатерины II. В момент переворота Екатерина доверяет Талызину захват Кронштадта, где мог теоретически найти себе надежное убежище находившийся в Ораниенбауме Петр III со своими сторонниками. Талызин является в крепость с собственноручной запиской Екатерины: «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадте, а что он прикажет, то исполнять». Появившийся здесь с некоторым опозданием Петр III был встречен им знаменитой фразой: «Поскольку у вас не хватило решительности задержать меня именем императора, я вас беру под стражу именем императрицы».
Воздвиженка, дом 5. Главное здание усадьбы Талызиных в Москве.
Вместе с дядей в перевороте участвовали три племянника адмирала – Александр, Петр и Иван. Услуга, оказанная Екатерине первым из них, выглядела, на первый взгляд, пустяковой: Александр Талызин предоставил императрице свой мундир, в котором она могла принять присягу на верность гвардейцев. Эта реликвия хранилась в выстроенном в Москве доме (ныне – Воздвиженка, 5, Государственный научно-исследовательский музей истории архитектуры имени А.В. Щусева), где А.Ф. Талызин поселился со своей женой, дочерью фельдмаршала С.С. Апраксина. Охлаждение Екатерины ко всей семье Талызиных произошло очень быстро, и в 1765 году, выйдя в отставку, адмирал, как и его племянники, поселился в Москве.
Один из трех братьев – Петр Талызин, дослужившийся до чина генерал-поручика, стал участником заговора против Павла I, но в последний момент изменил плану заговорщиков и поддержал Александра I в деле сохранения самодержавия. Его последовавшую через два месяца после убийства императора смерть современники объясняли местью былых товарищей по заговору. Существовал в разговорах и иной вариант – зазрившая совесть. Вместе с дядей в заговоре против Павла I принимал участие его племянник капитан лейб-гвардии Измайловского полка А.И. Талызин, который в 1816 году и приобрел салтыковский дом.
А.И. Талызин восстанавливает и здание служб, и главный дом, которые получают со стороны обращенных друг к другу дворовых фасадов одинаковые балконы на грузных каменных арках, что придает всей усадьбе вид единого архитектурного ансамбля.
Общепринятое утверждение, будто Толстые, гостем которых был Гоголь, сняли дом у Талызина, не соответствует действительности. Хотя по данным Биографического словаря Русского Исторического общества А.И. Талызин умер в 1849 году, надгробная надпись в Донском монастыре приводит иную дату – 31 августа 1847 года. Тем самым супруги Толстые, приехавшие в Москву в конце ноября (Анна Егоровна) – начале декабря (Александр Петрович) 1848 года, иметь с ним дела не могли. Переговоры велись с многочисленными и еще не осуществившими раздела наследства наследниками. Не будучи никогда женат, А.И. Талызин имел шестерых носивших его фамилию «воспитанников». Толстые нанимали дом и через некоторое время, убедившись в удобстве нового жилья, совершили купчую на него.
Эти обстоятельства определили то, что у Толстых не было ни времени, ни возможности заниматься меблировкой и устройством дома. Все было сохранено с талызинских времен. Гоголю достались две комнаты нижнего этажа с самостоятельным входом из сеней. Хозяева заняли верх: графиня – часть, находившуюся над гоголевской половиной и сообщавшуюся внутренней лестницей с комнатой горничной, граф – часть, обращенную к бывшей Мострюковой улице, также с внутренней лестницей, которая вела к дверям нижней гостиной. Вместо общей столовой использовалась зала с выходом на балкон, где Гоголю доводилось в погожие дни читать вслух хозяйке дома.
У гоголевской половины были свои удобства, прежде всего ее изолированность ото всего остального дома, но и свои достаточно существенные недостатки. Это низкие окна, выходившие на тротуар Никитского бульвара и к парадному подъезду, где прямо около них разворачивались экипажи, и главное – сырость, которая давала о себе знать во все времена года.
В первой комнате – приемной – два дивана под прямым углом друг к другу, два стола, заваленных новыми книгами, журналами, всем, что следовало, но еще не удавалось прочесть. Несколько стульев. Топившийся чуть не каждый день камин. Зеленый, во всю комнату, ковер. Здесь было удобно, плотно притворив двери в сени, мерить комнату из угла в угол, вслух повторяя написанные строки. Толстому не раз удавалось невольно подслушивать выразительное гоголевское чтение.
В кабинете – высокая конторка: Гоголь не изменил своей привычке набрасывать рукописи стоя. Книжный и платяной шкафы. Впрочем, вещи писателя, если не считать книг, спокойно умещались на дне одного тощего чемодана: две пары ношеного белья, единственный далеко не новый сюртук, носовые платки, пара сапог, шинель. У дивана – круглый стол, на котором Гоголь «перебеливал» – переписывал свои тексты. У кафельной печки за ширмами кровать. Нехитрый холостяцкий быт, без капризов, особенных привычек, без семейного тепла. За окнами, на берегу илистого ленивого ручья Чарторыя – он был забран в подземную трубу немногим больше ста лет назад – зеленая полоска молодого бульвара, куда Гоголь любил уходить в сумерках, бродя в одиночестве по главной аллее. В стороне густыми тенями располагались группы студентов Московского университета, приходивших хоть издали взглянуть на любимого писателя. Великого – в этом уже никто не сомневался!
В доме Гоголь мог спрашивать еду в свои комнаты, мог подниматься к хозяевам в светлую и пустую залу-столовую. При всей расположенности к гостю, А.Е. Толстая угнетала своей сонливостью – она засыпала везде и при всех, стоило ей присесть, паническим страхом перед сквозняками и болезнями – посуда под ее собственным присмотром перемывалась и перетиралась по семи раз. Иногда она, хорошая пианистка, садилась за рояль и играла, но одну духовную музыку. «Меньше, чем когда-либо прежде, я развлечен, – пишет Гоголь, – более, чем когда-либо, веду жизнь уединенную».
Впрочем, уединение талызинского дома не мешает Гоголю в 1849 году отметить традиционный Николин день все в том же погодинском саду. Непринужденного веселья не получилось – слишком изменились за прошедшие годы участники былых празднеств, но отношение к Гоголю по-прежнему остается восторженным. Почти ежедневно бывает он у живших по соседству Аксаковых. В кругу их семьи Гоголь обычно отмечает свой день рождения. В 1849 году это было на аксаковской квартире по Сивцеву Вражку, 30. «19 марта, – записывает С.Т. Аксаков, – я получил от него довольно веселую записку: „Любезный друг, Сергей Тимофеевич, имею сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков (брат поэта. – Н.М.) и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычатины“.
Гоголь сжег перед возвращением в Россию первый вариант второй части «Мертвых душ», но уверен, что в силах создать много лучший. Успех чтения новых глав – лишнее доказательство его правоты. Правда, предстоит сделать еще многое, и год спустя он признается в письме Анози, Анне Михайловне Виельгорской: «Избегаю встреч, чтобы не отрываться от работы». Но об отшельническом образе жизни нет и речи. Весной 1850 года он решается на невероятный при его душевной застенчивости шаг – делает предложение Анне Михайловне. Конечно, не сам. Конечно, не ей самой. Достаточно, что поручает одному из родственников Виельгорских узнать мнение ее родителей.
Для всех очевидна безнадежность подобной попытки. Внучка Бирона, графиня и человек без состояния, без доходов! Разве не сам он писал несколькими месяцами раньше: «За содержание свое и житие не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого»? Да и что значила литературная слава по сравнению со знатностью происхождения! За возмущенным отказом родителей последовал и отказ от ставшего ему родным дома Виельгорских, Гоголь уехал на полтора года на Украину.
Пятого июня 1851 года Гоголь снова в Москве и снова у Толстых. Острота душевной боли смягчилась. Он много навещает друзей. Тринадцатого октября смотрит на Казенной сцене «Ревизора», где роль Хлестакова впервые исполняет С.В. Шумский. Спустя неделю Щепкин приводит к нему на Никитский бульвар И.С. Тургенева, и молодой писатель поражен приветственной фразой знаменитого Гоголя: «Нам давно следовало быть знакомыми».
Тогда же Гоголь выражает желание прочесть труппе Малого театра «Ревизора», чтобы уточнить его трактовку. Пятого ноября в нижней гостиной талызинского дома состоялось знаменитое чтение. Среди слушателей – Щепкин с готовившимися к поступлению на сцену дочерьми, Шумский, Пров Садовский, литераторы И.С. Аксаков, Н.В. Берг, Тургенев. «Гоголь, – записывает Тургенев под непосредственным впечатлением состоявшегося чтения, – поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают».
Гоголь продолжает бывать у М.П. Погодина и слушает здесь чтение А.Н. Островским его комедии «Банкрот» («Свои люди – сочтемся»). Опоздав к началу, он простоял в дверях все время чтения и с большим теплом отозвался об авторе. Гоголевская записка с добрым напутствием была вложена Островским в медальон, который он хранил как самую дорогую ему реликвию. Гоголя можно встретить у поэтессы Е.П. Ростопчиной, особенно покровительствовавшей в эти годы художнику П.А. Федотову, в семье Васильчиковых на Большой Никитской, у которых ему еще в ранние годы довелось жить домашним учителем, у Н.В. Путяты в подмосковном Муранове, у С.П. Шевырева в Больших Вяземах, где он подсказывает Н.В. Бергу написать очерк о забытом сельце пушкинского детства Захарове, в Теплом Стане, принадлежавшем брату А.П. Толстого. Несколько раз гостит Гоголь в аксаковском Абрамцеве, где у него даже появляется своя комната в мезонине с окном во двор и привычной для писателя обстановкой – диван, кресла, стол. А в середине декабря 1851 года Гоголь весело уверяет Данилевского, что весной, самое позднее летом приедет к нему с законченными «Мертвыми душами».
Ничто не предвещало конца. День за днем Гоголь хлопочет о делах, беспокоится об изданиях. 31 января 1852 года занимается гранками. Спустя три дня договаривается с Аксаковыми о вечере с малороссийскими песнями. И только 4 февраля пожалуется Шевыреву на необычную слабость. Никто не придаст значения его словам, хотя слабость начнет стремительно усиливаться, и 10 февраля он уже с большим трудом сумеет в последний раз подняться на второй этаж талызинского дома. А.П. Толстой тем более не разделит его опасений, и в ночь с 11-го на 12 февраля Гоголь сожжет все свои рукописи. Все – главы «Мертвых душ» были только частью написанного. Даже самым близким друзьям было трудно поверить в серьезность совершившегося перелома.
Через десять дней Гоголя не стало. Когда болезнь писателя стала приобретать слишком серьезный оборот, А.П. Толстой распорядился перенести Гоголя из кабинета в полутемную комнату с окнами на черный двор, рядом с которой находилось черное деревянное крыльцо. Тем самым его пребывание в доме становилось менее заметным и можно было избежать собиравшейся у уличных окон толпы, пытавшейся узнать о здоровье больного. Только после кончины тело было перенесено в приемную, где скульптор Н.А. Рамазанов снимает посмертную маску и начинается обряд прощания. Дальше – спор между хозяином дома, друзьями-славянофилами и профессурой Московского университета, почетным профессором которого состоял Гоголь. А.П. Толстой желал оплатить обряд похорон по своему усмотрению, славянофилы требовали непременного установления тела в приходской церкви Симеона Столпника, профессура – организации всенародного прощания и похорон, в которых могла бы принять участие вся Москва.
Последняя точка зрения победила. На руках профессоров и студентов гроб проделывает путь из талызинского дома в Татьянинскую церковь университета. На два дня было приостановлено движение на Большой Никитской – так велик приток москвичей, пожелавших сказать последнее прости великому писателю. Отсюда же и снова на руках москвичей тело Гоголя отправляется в свой последний путь – из Московского университета на кладбище Данилова монастыря. Это было 25 февраля 1852 года.
Пройдет около восьмидесяти лет, и прах Гоголя снова будет потревожен. Решением Советского правительства его перенесут из Данилова монастыря в Новодевичий, а ровно через сто лет разлучат с памятником, который ему поставили друзья во главе с С.Т. Аксаковым. Привезенный из южных степей валун, на котором высился мраморный крест, заменит стандартная тумбочка с портретным бюстом и надписью: «Гоголю Советское правительство». Оказавшийся никому не нужным валун найдет себе применение на могиле другого писателя – Михаила Булгакова. Камень отдали бесплатно вдове драматурга, поскольку она не имела средств на то, чтобы заказать надгробный памятник автору «Мастера и Маргариты».
«Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова, – пишет Тургенев. – Человек, которым мы гордимся как одной из наших слав!.. Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил».
Первые четыре года после смерти Гоголя чета Толстых не предпринимает в доме никаких перемен, и только достаточно неожиданное возвращение графа Александра Петровича на действительную службу рождает планы обновления усадьбы. Сын генерал-адъютанта Павла I, А.П. Толстой, или Ерёма, по прозвищу современников, в отличие от отца не обладал административными талантами, тем более широтой интересов. Как генерал-губернатор Твери и Одессы, он служил главным образом поводом для анекдотов и с 1840 года находился в полной отставке. 1856 год приносит графу назначение обер-прокурором Синода. Графиня полна планов капитально отремонтировать хозяйственный корпус и главный дом с тем, чтобы в последнем переделать все деревянные крыльца на каменные. В 1861 году она ходатайствует об очередном разрешении – на пристройку к главному дому деревянного двухэтажного флигеля, а в 1870-м – о замене деревянного второго этажа над гоголевской половиной каменным.
Но проекты остаются только проектами. Сначала переезд в Петербург, а затем жизнь за границей делают невозможной их реализацию. В 1873 году А.Е. Толстая возвращается в Москву, чтобы похоронить в Донском монастыре прах скончавшегося в Женеве мужа и расстаться с талызинским домом. Владелицей усадьбы становится вдова брата бабушки М.Ю. Лермонтова – А.А. Столыпина, бывшего предводителя дворянства Саратовской губернии. М.А. Столыпиной наследует одна из ее дочерей – двоюродная тетка М.Ю. Лермонтова, Н.А. Шереметева. Именно она и осуществляет в 1888 году часть задуманных А.Е. Толстой перестроек.
Надстраивается в камне гоголевская половина. Перегородки в бывших комнатах писателя делаются капитальными, образуя четыре помещения для швейцара и прислуги. Сводчатые перекрытия подвала сменяются асфальтированным бетоном с выводными каналами. Но главное – переделываются на обоих этажах голландские печи с трубами, причем при верхних печах устраиваются вентиляционные камины. Иными словами, сохранившиеся до наших дней печи не имеют ничего общего с гоголевскими и не позволяют решить вопроса о камине, в котором погибла Вторая часть «Мертвых душ». То же относится и к заново набранным паркетным полам. С пристройкой в 1901 году трехэтажного доходного дома по Никитскому бульвару (ныне встроен в дом Главсевморпути, № 9—11) кабинет Гоголя превращается в швейцарскую.
Никакого интереса к памяти писателя не проявляют и последние предреволюционные владельцы талызинского дома – камергер Двора, подольский уездный предводитель дворянства А.М. Катков и его жена, выполнявшая функции товарища председателя Комитета «Христианская помощь» Российского общества Красного Креста. Кстати, при Катковых в домовладении – усадьбе располагается принадлежавший им магазин «Русские вина», молочная лавка и частная лечебница внутренних и детских болезней С.И. Шварца. В 1909 году, одновременно с установлением на переименованном в Гоголевский Пречистенском бульваре памятника писателю, Катковы возводят на месте хозяйственного корпуса, помнившего Гоголя, еще один доходный дом (№ 7), спроектированный архитектором Д.М. Челищевым в псевдоклассическом стиле и соотнесенный по формам с главным усадебным домом. В самом же главном доме окончательно стираются следы гоголевской половины, и это несмотря на торжественное празднование юбилея писателя и установление на Арбатской площади нового памятника, – первоначальный монумент, один из лучших русских памятников работы скульптора Н.А. Андреева, был свезен во двор талызинского дома. После Октября вся усадьба отводится под жилье, и журнал «Огонек» восторгается тем, что в двух комнатах Гоголя нашли себе приют семь советских семей.
Только в 1966 году основной талызинский дом, восстановленный после устроенного в нем коммунального и учрежденческого жилья, был передан Городской библиотеке № 2. В 1975 году по настоянию общественности приемная и кабинет писателя, освобожденные от устроенного в них книгохранилища, открылись для показа, хотя и по сей день не имеют музейного статуса. Вопрос, нужна ли Москве старая усадьба, здесь неразрывно сплетается с куда более горьким вопросом: а нужна ли нам память о Гоголе?
Четвертая профессия
Как ни странны вам покажутся слова мои, – продолжал он, видя устремившееся на себя общее внимание, – но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их.
Гоголь. «Портрет»Был рисунок, о котором велись давние споры. И была мечта о живописи, не сумевшая привлечь внимания исследователей.
Рисунок «немой» сцены «Ревизора» в представлении большинства современников принадлежал Гоголю. Сомнения пришли к историкам: других набросков писателя – для сравнения – не существовало. Отсюда гораздо более вероятным становилось авторство П.А Каратыгина. Актер много и постоянно рисовал, близко знал Гоголя и разбирался в его постановочных замыслах. Известным доказательством в его пользу становился и гротесковый характер сцены: П.А. Каратыгина отличала острая ироничность единственная посылка оставалась забытой – искусствоведческий анализ. Каратыгинские наброски говорили о не лишенном способностей и наблюдательности дилетанте, «немая» сцена являла собой образец профессионального мастерства. Даже среди известных художников так могли рисовать далеко не многие.
Мечта родилась в лицейские годы. В пятнадцать лет ее можно принять за детское увлечение: «Дражайший папенька, Вы, я думаю, не допустите погибнуть столь себя прославившим рисункам». Речь идет о присылке сравнительно дорого стоивших рам со стеклами.
Гоголь работает в достаточно сложной и требующей определенных навыков технике пастели, и он слишком дорожит тем, чего удается достигнуть: «Хотел бы вам послать несколько картинок, рисованных на картонах и сухими колерами, но некоторые из них еще не докончены, а другие, боюсь, чтоб не потерялись дорогою, потому что рисовка их весьма нежна». Спустя тринадцать лет автор «Ревизора» будет сетовать в письме В.А. Жуковскому из Рима: «…Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен. Здесь в Риме около 15 человек наших художников, которые недавно высланы из Академии, из которых иные рисуют хуже моего; они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я был бы обеспечен: актеры получают по 1000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду».
Академия художеств. Санкт-Петербург.
Память о живописи, сцене – не пустые слова. П.В. Анненков, перечисляя те виды деятельности, к которым обращался Гоголь перед первым отъездом за границу, называет чиновничью, писательскую, актерскую и художническую. У Гоголя редкая беспристрастность в определении любых своих возможностей и безусловное отвращение к дилетантизму. В лицейские годы он делился с дядей мыслями о служении закону. Пусть лицеист меньше всего представлял себе, в каких формах это служение может воплощаться, но, в конце концов, с момента устройства в департамент он достаточно быстро начинает подниматься по ступенькам служебной лестницы. После первых оставшихся незамеченными, но и малозначительных публикаций «Вечера на хуторе близ Диканьки» приносят настоящий успех. Что касается «Ганса Кюхельгартена», то он с самого начала вызывал сомнения у автора, и самый суровый приговор Гоголь способен вынести себе сам. Характерная подробность. Из своих куда каких скромных средств он потратится на то, чтобы снять номер и в его печи, втайне ото всех, сжечь весь тираж поэмы, который принесет сюда вместе со слугой.
(Судьба дома – в той же гостинице «Неаполь» на Вознесенском проспекте Петербурга, в таком же скромнейшем номере жил в декабрьские дни 1825 года и был арестован П.Г. Каховский.)
Гоголя не разубеждает и его несостоявшаяся попытка поступить на казенную сцену. Одно дело – неприятие его манеры руководившим русской труппой А.И. Храповицким, другой – безусловная убежденность в том, что будущее за «натуральной школой». В то время как ищущий заработка «дворянин Николай Гоголь-Яновский», как он отрекомендовался князю Гагарину, непонятно просто и буднично читает самые трескучие монологи из классицистических трагедий, на московской сцене уже восходит звезда Михайлы Щепкина. И случайно присутствовавшие на прослушивании актеры, в том числе П.А. Каратыгин, запомнят несомненную оригинальность неудачливого соискателя. Гоголь не придет за ответом о результатах испытания – ему действительно решено было предложить, и то из милости, работу на выходах, – но не разуверится в собственных возможностях.
С живописью все складывается иначе. Первые же петербургские знакомства сближают Гоголя с кругом покровителей, преподавателей и пенсионеров Общества поощрения художеств. Возникшее незадолго до событий на Сенатской площади, Общество не имело сколько-нибудь проявленной политической программы, преследовало неопределенные художественно-благотворительные цели и вместе с тем за первые десять лет своего существования сумело стать антиподом официального искусства. Предоставление возможности работать в Италии вступившим в конфликт с Академией художеств Карлу Брюллову к Александру Иванову, неизменная поддержка, а во многих случаях и выкуп на волю крепостных художников, которым волей Николая I был закрыт доступ в Академию, забота о развитии жанровой живописи, а вместе с нею и школы А.Г. Венецианова и первой русской провинциальной школы А.В. Ступина в Арзамасе, материальная поддержка не находивших признания мастеров – все шло вразрез с установками императора в искусстве. Один из наиболее консервативных и близких ему академических профессоров баталист А.И. Зауервейд имел полное основание писать: «Общество для поощрения художников есть оппозиция Академии художеств или, может быть, только одному президенту, о чем я бы более узнать мог, если бы не знали, что як враг этих ложных Дмитриев, которые желают сделать подрыв Академии художеств, а себя всесильными».
Дорога к Обществу поощрения лежала для Гоголя и благодаря участию В.П. Кочубея, ближайшего соседа по Васильевке и владельца знаменитой Диканьки, в чей дом он получает доступ. И тем более через П.П. Свиньина, к которому сначала попадает по издательским делам. Публикация повести «Ночь накануне Ивана Купалы» оказалась во всех отношениях неудачной для автора – и по исказившей авторский стиль редактуре, и по придуманному издателем названию, и по отсутствию, наконец, имени Гоголя. Эта неудача, скорее всего, и побудила Николая Васильевича последовать совету П.П. Свиньина продолжить занятия живописью. Свидетельство фактов однозначно: непосредственно после знакомства со Свиньиным Гоголь начинает посещать академические классы.
Через несколько месяцев после выхода в феврале-марте книжки «Отечественных записок» с его рассказом Гоголь пишет матери: «В девять часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до 3 часов, в половине 4-го я обедаю, после обеда в пять часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить – тем более что здесь есть все средства совершенствоваться в ней, и все они кроме труда и старания ничего не требуют. По знакомству своему с художниками, и многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными, не говоря уж об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и общением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте. Об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них действительные и статские советники. В классе, который я посещаю три раза в неделю, просиживаю три часа…»
На первый взгляд, все выглядело простым и очевидным: появилось, а вернее, не исчезало желание – начать заниматься. Но на практике Академия была недоступна каждому желающему. До конца 1830 года, а письмо написано летом того же года, она знала лишь две категории учащихся – казенных и своекоштных, иначе говоря, оплачивающих стоимость своего обучения. Попасть в число последних также не представлялось простым: существовали численные ограничения. Известными возможностями в этом отношении обладало только Общество поощрения художеств, располагавшее известным числом мест, которое оно предоставляло своим подопечным. Без его содействия попасть в классы, тем более бесплатно, Гоголь не мог, и, скорее всего, это было содействие лично П.П. Свиньина, известного своим деятельным заступничеством за молодых художников. Правда, и здесь все ограничивалось одним рисовальным классом. О нем же говорило и приводимое Гоголем расписание – оно соответствовало работе натурного рисовального класса.
Положение принципиально меняется с введением реформы 19 декабря 1830 года. Отныне к казенным и своекоштным присоединяется новая категория учащихся – вольноприходящие, обладавшие правом бесплатного посещения всех академических классов. Соответственно они получали возможность «представлять на суд Академического Совета не только рисунки фигур с натуры, но и художественные произведения, как то: чертежи, эскизы, композиции и оконченные их работы», которые отмечались на экзаменах специально установленными медалями всех достоинств. Будучи награжден за программу золотой медалью, посторонний ученик даже мог быть оставлен по окончании основного курса в числе совершенствующихся, а затем быть посланным в пенсионерскую поездку. Если достичь подобных вершин удалось слишком немногим, то все же главное – реальная перспектива существовала.
Но при всем своем внешнем демократизме реформа создавала для будущих художников новые и зачастую непреодолимые трудности. Казенные и своекоштные, число которых строго регламентировалось, должны были обладать определенным образовательным цензом примерно в объеме уездного училища, а все учащиеся без исключения достаточно высокой профессиональной подготовкой. Когда Академия художеств вынуждена была отложить прием 1830 года на целых три года, это мотивировалось необходимостью, чтобы «родителя могли приготовить детей своих в познаниях, прибавлением и установлениям Академии предписанных», прежде всего в рисунке, Академический Совет прямо указывал, что «искусству рисования нигде в училищах не обучают надлежащим образом». Тем не менее Гоголь без затруднений получает билет в классы: его подготовка по рисунку и живописи не вызывала никаких претензий.
Лицейские письма говорили об увлечении изобразительным искусством, уважительно упоминали наставника – «моего профессора», как называл его лицеист-Гоголь, и тем не менее имя человека, сыгравшего немаловажную роль в жизни писателя, до сих пор не вошло в научный обиход. Капитон Степанович Павлов был непосредственно связан с Гоголем с мая 1821-го до июня 1828 года. Увлеченный способностями питомца, он не ограничивается классными занятиями, помогает ему бесплатными уроками и даже необходимыми материалами. Думая о тех денежных ограничениях, которые несла с собой смерть отца, Гоголь торопится опередить возможные возражения матери по поводу его занятий живописью: «Я говорил с профессором живописи о моем предприятии. Он берется на себя доставить некоторые вещи, как-то: кисти и часть красок, остальное могу подкупить здесь».
Капитон Павлов – это Академия художеств времен высокого расцвета. Он поступает в нее, как и многие в те годы, десяти лет и кончает курс двадцати четырех. Успехи по рисунку, за которые Павлов получает в 1812 году единственную академическую награду 2-ю серебряную медаль, позволяют ему при выборе художественной специальности попасть в наиболее высоко ценимый класс исторической живописи. Его преподаватели – В.К. Шебуев и А.Е. Егоров, благоговейное отношение к которым сохранит и Гоголь. Соученики – будущий автор проекта храма-памятника 1812 году на Воробьевых горах А.Л. Витберг, основоположник Московского художественного класса (преобразованного впоследствии в Московское училище живописи, ваяния и зодчества). Алексей Добровольский, старший брат «великого Карла» – Федор Брюллов, исторические живописцы Дмитрий Антонелли и Василий Сазонов. Под наблюдением В.К. Шебуева Капитон Павлов выполняет для третных экзаменов композиции «Иосиф, тоскующий сын в темнице» (1811) и «Поход под Казань Ивана Грозного. Грозный отдает найденную воду изнемогавшему от жажды воину». Жанровое начало – оно явно было ближе художнику, чем сложные и наделенные патетикой исторические сюжеты. Сегодня о художнике говорит едва ли не единственная хранящаяся в государственных музеях – в Псковской художественной галерее – картина «Игра в шашки». Отмеченная наблюдательностью, любовью к бытовым подробностям, но и известной скованностью действующих лиц.
Тем не менее Капитон Павлов делает заранее обреченные на неудачу попытки получения золотой медали вместе со всеми связанными с нею преимуществами. В 1812 году он пишет программу «Призыв Минина», годом позже – «Великодушие русских воинов, уступающих кашицу голодным французам». Медаль действительно оказывается для него недоступной, и Капитон Павлов выходит из Академии в 1815 году с аттестатом 2-й степени и шпагой. Спустя пять лет, убедившись в невозможности существовать на частные заказы и по-прежнему отдавая предпочтение скромным жанровым картинкам, он поступает учителем рисования во вновь открытый Нежинский лицей, где остается на всю жизнь. Не стало Капитона Павлова в 1842 году, когда ему едва исполнилось 50 лет.
Полученная у Павлова подготовка безусловно отвечала академическим требованиям. У Гоголя не возникает в этом отношении никаких трудностей. Более того – она позволяет ему понять достоинства былых учителей своего неожиданного наставника.
В письме матери от сентября 1830 года Гоголь вспоминает об открытой в Академии художеств трехгодичной выставке, заполнившей около тридцати огромных залов. Именно эта выставка положила конец тридцатилетней работе в Академии отца Александра Иванова, профессора живописи исторической Андрея Иванова. Лично взявшийся за перестройку искусства в духе выдвинутых им официальных формул, Николай I не простил художнику ни его убеждений, ни давних связей с исполненным радищевских настроений Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Эта связь лишила несколькими годами раньше Александра Иванова заграничной поездки за счет Академии, теперь она же перечеркнула судьбу отца. Гоголь переживает эту трагедию старого педагога вместе с окружавшими его художниками.
В том же году В.К. Шебуев предлагает в качестве темы для конкурсных ученических работ встречу Александра Македонского с Диогеном – торжество мудрости и чувства собственного достоинства над царской властью. Александр находит Диогена «лежащим на земле, греющегося противу солнца и, удивляясь тому, что муж, снискавший толикую славу, живет в крайней нищете, вопросил его, не имеет ли он в чем нужды? „В этом единственно, – ответствовал Диоген, – чтобы ты не закрывал мне солнца“. Тема, само собой разумеется, не была принята, оставшись тщательно погребенным в академических анналах частным выступлением Шебуева.
Впрочем, что мы знаем о характере этого профессора, формально не вызывавшего императорского неудовольствия? Мог же Шебуев отказать всесильному фавориту Аракчееву в своей картине, чтобы бесплатно передать ее в арзамасскую школу. «У меня просил граф Аракчеев, – заметит он руководителю школы А.В. Ступину, – но я не отдал ее: лучше пригодится тебе». И не случайно Николай I, под предлогом перевода на должность ректора, с 1832 года навсегда отстранит Шебуева от преподавания.
Будут ошибаться по поводу Шебуева потомки – мало ли фактов и обстоятельств ускользает от подчас недостаточно внимательных, подчас предубежденных глаз историков! – но трудно заподозрить в ошибке Гоголя. Между тем идеальный старец-художник в «Портрете» наделен именно шебуевскими чертами, почти дословно его высказываниями и даже единственной в своем роде особенностью – отвращением к заказным портретам, которыми ради хлеба насущного приходилось заниматься едва ли не всем живописцам.
Мелочи, разрозненные, на первый взгляд почти неприметные, но в сопоставлении с тем, что известно об отдельных преподававших в Академии художниках, они заставляют по-новому осмысливать гоголевские строки. В том же «Портрете» Гоголь перечисляет великих живописцев прошлого, и это не случайный набор обязательных имен. За ними стоят вкус и выбор А.Е. Егорова. Он мог интересоваться Рембрантом и признавать его достоинства, но подлинно великим для «русского Рафаэля», как называли его современники за высочайшее искусство рисунка, представляется только подлинный Рафаэль. А.Е. Егоров первым вводит культ его учителя – Перуджио. Именно Егоров привозит из пенсионерской поездки великолепные копии с Перуджио, захватывает своим увлечением учеников, и в результате появляется на страницах гоголевской повести «Перуджинова Бианха» – иначе Мадонну в среде учащихся Академии не называли.
В.К. Шебуев и А.Е. Егоров поочередно дежурят в натурном классе, где работает Гоголь. Кстати, они и только они подходят под понятие тех, «статских» и «действительных», о чьей скромности и снисходительности к нему с таким восторгом пишет матери Гоголь. Но небольшое уточнение. Та близость или, точнее, прямое знакомство, о котором говорится в письме, могли возникнуть только в среде питомцев Общества поощрения художеств, для которых общение с педагогом носило более короткий характер. В этой среде и в эти годы формируется замысел двух единственных связанных в творчестве Гоголя с художниками произведений – «Невского проспекта» и «Портрета». Первая повесть была связана преимущественно с пенсионерами Общества поощрения художеств – героями одной из ее страниц становятся братья Григорий и Ниханор Чернецовы. Вторая служит отражением несколько иной, в большей степени связанной с Академией художеств среды. Оценка В.Г. Белинским «Портрета» отличалась двойственностью: «Первой части повести невозможно читать без увлечения. Но вторая ее часть решительно ничего не стоит! В ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работают ум, а фантазия не принимала никакого участия». Тем не менее резкость отзыва «неистового Виссариона» не оттолкнула писателя от казавшегося неудачным детища. Когда в 1842 году П.А. Плетнев обращается к нему с просьбой написать для «Современника» статью, Гоголь с неожиданным упорством возвращается к раскритикованной повести: «Посылаю вам повесть мою „Портрет“. Она была напечатана в „Арабесках“; но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее. Вы увидите, что осталась одна только канва прежней повести, что все вышито по ней вновь». К канве относилась жизнь Черткова-Чарткова (в имени героя изменится всего лишь одна буква) до и после встречи с таинственным портретом и снова случай на аукционе как вторая ее часть. Новой была фигура рассказчика: блестящего офицера с романтическим именем Леон сменил известный в столице красавец-художник. По-новому проявились обстоятельства жизни его отца – теперь художника-самоучки, подробное описание работ, которые он выполнял, наконец, история с учеником, у которого старик в приступе зависти отнял заказ на картину, но и сам справиться с заказом не сумел. Но впервые раскрытые обстоятельства занятий Гоголя живописью, его связи в художественной среде дают основание соотнести, казалось бы, придуманные с назидательной целью ситуации с реальной действительностью.
«Однако, мсье Ноль… ах, как он пишет! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсье Ноля?» – восторженный дифирамб первой же появившейся на новой квартире Чарткова заказчицы. Имя не было придумано Гоголем – так называли в художнической среде английского сверхмодного портретиста Джорджа Дау. И собственно вся жизнь заезжей знаменитости могла бы с успехом послужить канвой повести.
Для Д. Дау существует единственная цель – успех, которого он готов добиваться всеми возможными способами. Сын скромного английского художника, он начинает как гравер, репродуцирующий наиболее известные произведения. Если Дау и не талантлив в этой области, он, во всяком случае, достаточно ловок, чтобы нравиться публике, и достаточно предусмотрителен, чтобы не ограничиваться этим трудоемким и не слишком высоко оплачиваемым видом искусства. В девятнадцать лет он пробует свои силы в исторической живописи, представляя на академических выставках очень разные полотна в духе классицизма или, наоборот, романтизма. Сюжеты из античной мифологии или древней истории всегда находили своих поклонников.
Однако двенадцать лет работы в этой области не дают ожидаемого результата. Художник становится постоянным участником тех же академических экспозиций, слишком постоянным, чтобы обращать на себя внимание. Переломным годом становится в жизни Д. Дау 1833-й – светские зрители очарованы его портретом актрисы Элизы О’Нил в виде коленопреклоненной Джульетты. Ему удается получить первые заказы от титулованных особ и удержать их расположение. Список его работ начинает пестреть самыми высокопоставленными именами: принцесса Шарлотта Августа Уэльская, принц Леопольд Саксен-Кобургский, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма, русская великая княгиня и супруга будущего Николая I Александра Федоровна. В ходе Венского конгресса Д. Дау пишет всех его участников и получает от Александра I приглашение приехать в Россию. Он воспользуется им в 1819 году, побывав предварительно в Веймаре.
Девять лет, прожитых в России, – это высший взлет известности художника. Он успевает написать около четырехсот портретов придворных и всю «Военную галерею 1812 года» в Зимнем дворце. Постоянное повторение композиций, приема изображения аксессуаров, однообразие живописи, никак не связанной с характером изображенной модели, условная гамма, нарочитость романтической приподнятости – кажется, ничто не способно уменьшить его славы и наплыва заказчиков. Известным диссонансом становится только история с Александром Поляковым, крепостным художником, отданным своим помещиком Корниловым Д. Дау в обучение. Вмешательство Общества поощрения художеств позволяет установить, на каких кабальных условиях работает в модной мастерской безвестный живописец, чью живопись оказывается невозможно отличить от оригиналов англичанина. Невозможным – потому что при сторублевом жаловании в год Александр Поляков обязан писать в день по портрету, на которых затем ставит свою подпись Д. Дау.
Скорее всего, подобное вмешательство было бы попросту немыслимым при Александре I – для императорских любимцев не существовало законов. Но на престоле другой император – Николай I, который не нуждается в фаворитах предыдущего правления. Не только не нуждается – ищет предлога от них освободиться. Д. Дау слишком известен при дворах Европы, чтобы с ним просто было расстаться. Третьего февраля 1828 года в Обществе поощрения художеств рассматривается копия А.В. Полякова с портрета Мордвинова кисти Д. Дау. Сходство настолько разительно, что принимается решение не только способствовать Полякову выйти из крепостного состояния, но и начать расследование дела Д. Дау. Седьмого марта Николай I дает согласие на выкуп художника и запрашивает точные сведения об учениках, а точнее – исполнителях в мастерской англичанина. К тому времени Общество поощрения принимает еще одно решение – предать гласности действия Д. Дау при содействии А.Г. Венецианова и Гейтмана.
Знал ли об этой неблаговидной истории Пушкин? Скорее всего, еще нет. Девятого мая он вместе с Д. Дау совершает поездку в Кронштадт и посвящает английскому художнику строки: «Зачем твой дивный карандаш/Рисует мой арапский профиль?» Портретный набросок, о котором идет в них речь, не сохранился. Новая встреча, скорее всего, не состоялась. Летом Д. Дау уехал из России на родину. Сказалась ли на этом отъезде история с Поляковым? Несомненно. К этому времени Общество поощрения художеств решает поместить освободившегося от крепостной зависимости художника вместе с остальными своими питомцами на специально для этой цели арендуемой квартире. В августе 1828 года А.В. Поляков уже фигурирует среди пенсионеров Общества.
Между тем, побывав в Лондоне и Берлине, Д. Дау предпримет попытку вернуться в Россию. Зимой он оказывается в Петербурге, но почти сразу уезжает в составе свиты Николая I в Варшаву, где пишет последнюю свою русскую работу – портрет старшего брата царя, великого князя Константина Павловича. Судьба «мсье Ноля» была предрешена. На родине он прожил недолго. Осенью того же 1829 года его не стало, и английская академия отметила могилу своего члена роскошным надгробием в лондонском соборе св. Павла. Недолгой была жизнь и А.В. Полякова. Он занимается в рисовальных классах Академии художеств одновременно с Гоголем, заслуживает особую похвалу за портреты с натуры, а в декабре 1833 года получает звание свободного художника. В членской лотерее Общества поощрения художеств в то же время разыгрывается его картина «Старик-нищий». Все это происходит на глазах у Гоголя. Но уже в январе 1835 года помощника Д. Дау не стало – он умер от тяжелой чахотки. Прозвище английского портретиста, ставшее фамилией одного из действующих лиц «Портрета», было наполнено для автора особым смыслом. В тексте же повести остается и вовсе открытое предостережение профессора Чарткову: «Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец… смотри, как раз попадешь на английский род».
Заимствуя из жизни образ «мсье Ноля», Гоголь обращается к окружающей его жизни и в отношении других подробностей повести. Таинственный образ ростовщика с восточным обликом встает в воспоминаниях П.А. Каратыгина. К нему неоднократно приходилось обращаться актерам, и при их незначительных заработках богатство одиноко жившего за крепчайшим забором отшельника представлялось особенно большим, почти неисчислимым. Ростовщик – одна из своеобразных достопримечательностей Коломны, которую так хорошо знал и по-своему любил Гоголь. Заимствованной из круживших вокруг него разговоров была и история старого художника, возревновавшего собственного ученика к славе и попытавшегося превзойти его в мастерстве. Сама по себе ситуация не представляла в истории искусства ничего исключительного, если бы не ссылка на новую богатую церковь, для которой выполнялся заказ. Воображение петербургских художников действительно занимала история алтарного образа вновь построенного Казанского собора. И хотя она имела место почти двадцатью годами раньше приезда Гоголя в Петербург, писатель не мог о ней не узнать. Речь шла о Степане Артемьевиче Бессонове, преподавателе рисования в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. С.А. Бессонов был не только в добрых отношениях со своим питомцем по пансиону М.И. Глинкой, но его сын, тоже художник, Михаил входил в кружки, которые посещал Гоголь. Один из них группировался вокруг Нестора Кукольника, другой – вокруг вернувшегося в 1836-м в Петербург Карла Брюллова. В свое время С.А. Бессонов действительно получил очень важный для него, как совсем молодого живописца, заказ на «Тайную вечерю» для Казанского собора, но, не успев взяться за работу, его лишился, а затем при достаточно странных обстоятельствах получил вновь. В конце концов, картина заняла свое место в соборе. Первого сентября 1811 года постановлением Совета Академии художеств ему было присуждено звание академика «по образу вечери тайныя, написанному им в главный алтарь новопостроенной церкви Казанския Богоматери», как гласил соответствующий протокол.
История С.А. Бессонова очень типична для художника рубежа XVIII–XIX веков. Сын петербургского мещанина, он оказывается в стенах Академии художеств шести лет и проходит весь полный курс обучения в ней. Его занятия отмечены первыми и вторыми серебряными медалями за работы на третных экзаменах – в то время непременное условие для получения программы на золотую медаль. Своей специальностью Бессонов выбирает историческую живопись, куда переходит вместе со своими однокашниками В.К. Шебуевым и А.Е. Егоровым. У всех троих общие учителя – Г.И. Угрюмов и И.А. Акимов – и общие темы композиций, над которыми они работают. В 1797 году вместе с А.Е. Егоровым С.А. Бессонов пишет программу «Ной по выходе из ковчега приносит жертву Богу», за которую получает 2-ю золотую медаль. Это приносит ему в декабре того же года аттестат 1-й степени со шпагой, но и никаких перспектив работы. В то время как А.Е. Егоров и В.К. Шебуев оставляются при Академии художеств и начинают в ней преподавать, причем Шебуев при тех же формально результатах – он получает 2-ю золотую медаль за программу «Смерть Ипполита», перед их товарищем возникает необходимость поисков заказов. Если даже в двадцатых годах наступавшего столетия руководство Академии вынуждено было признавать, что единственными видами работ, доставляющими более или менее верный заработок художнику, являются церковные росписи и портреты, то же правило было абсолютным для конца XVIII века.
Дальнейшие события показали, насколько по своему характеру скромный С.А. Бессонов не был способен найти себе применение на художественном рынке. Он отдает предпочтение работе в своеобразной артели с мастером, располагавшим надежным кругом заказчиков. Таким мастером оказывается Феодосий Иванович Яненко. На многие годы Бессонов становится его помощником. Но новое имя опять-таки возвращало к Гоголю. Именно Ф.И. Яненко пытался претендовать на исполнение «Тайной вечери» для Казанского собора и, в конце концов, лишился заказа. По всей вероятности, в поддержку товарища выступили его былые однокашники, и в частности В.К. Шебуев, действительно участвовавший в росписи собора. За эскиз для него «Взятие Богородицы на небо» В.К. Шебуев еще в 1807 году получил звание академика. Возникал вопрос, насколько далеко простиралось сходство легшей в основу повести истории с жизнью обоих художников.
«Отец мой был человек замечательный во многих отношениях, – говорит рассказчик в „Портрете“. – Это был художник, каких мало, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствования и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою: одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом „невежи“ и которые не охлаждаются от хулений и собственных неудач, получают только новые рвения и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежд».
Ф.И. Яненко и в самом деле представлял достаточно необычную фигуру в художественном мире Петербурга своего времени. Те биографические сведения, которые промелькнули в очень немногочисленных источниках, отличаются не только предельной скупостью, но и полной недокументированностью. Ф.И. Яненко называется в них воспитанником Академии художеств, и в частности Г.И. Козлова, что якобы позволило ему в короткий срок достичь звания академика.
В действительности остаются поныне неясными как происхождение художника, так и обстоятельства его обучения. Подписанные по-гречески ранние его работы и между ними «Автопортрет в шлеме и латах» 1792 года, хранящийся в Русском музее, позволяют предположить, что он был иностранцем, а входящий в его наследие портрет Евгения Булгариса – высказать предположение о национальности. Известный духовный писатель Евгений (Елевферий) Булгарис был болгарином, родившимся на острове Корфу. Работая впоследствии в Венеции и Константинополе, он выпустил многочисленные учебники для греческих училищ, доставившие ему имя «первого педагога возрожденной Греции». Деятельность Евгения обратила на себя внимание Екатерины II, которая сначала обратилась к Булгарису за переводом на греческий язык своего «Наказа», а затем охотно предоставила писателю и русское подданство. Булгарис переехал в Россию вместе со своим ближайшим окружением, к которому, по всей вероятности, относился Ф.И. Яненко.
Первоначальное увлечение новоприбывшей знаменитостью, как обычно, сменилось у Екатерины уже через четыре года полнейшим равнодушием. Но за эти четыре года пребывания в должности библиотекаря императрицы Булгарис начинает перевод на греческий язык «Энеиды» и «Георгик» Виргилия и издает «Догадки о критических обстоятельствах Оттоманской порты». В 1775 году он получает назначение архиепископом новоучрежденной Славянской и Херсонской епархий, но вскоре увольняется на покой. Портрет, написанный Ф.И. Яненко, относится именно к этому позднейшему времени и близок стилистически к автопортрету художника. Своими познаниями в живописи Ф.И. Яненко явно располагал до приезда в Россию. Свидетельство тому – отсутствие его имени в списках учащихся Академии художеств. Как известно, в XVIII веке наборы в нее производились раз в три года и поступавшим не должно было быть больше 5–6 лет. Первые девять лет занятий вообще носили общеобразовательный характер, посещать же классы временно или в старшем возрасте не представлялось возможным. Столь же маловероятно и ученичество у первого русского профессора живописи исторической, в прошлом крепостного художника Гаврилы Козлова. Против него говорит прежде всего самый характер живописи Ф.И. Яненко – широкой, звучной по цвету, романтически приподнятой. Отсюда вполне возможно то определение художника-самоучки, к которому прибегает в отношении своего отца рассказчик из повести.
Об иностранном происхождении Ф.И. Яненко свидетельствуют и те обстоятельства, при которых он получает академические звания. В то время как русским художникам предписывалось выполнение обязательных программ или представление значительных произведений, иностранным мастерам предоставлялись всевозможные льготы, особенно если на них не распространялось покровительство двора. Булгарис находился в отставке, но тем не менее к нему и его окружению проявлялось известное снисходительное внимание. В 1793 году Ф.И. Яненко избирается назначенным в академики за «Нагую фигуру», а спустя четыре года становится академиком «по работам, представляющим различные виды». О характере его пейзажной живописи можно судить по хранящимся в Музее Академии художеств «Путешественникам, застигнутым бурей». Скрупулезно выдерживавшая жанровые разграничения, Академия в данном случае не обратила внимания на разнохарактерность работ художника. Она действительно не имела для Ф.И. Яненко принципиального значения, поскольку основной областью применения своих сил он выбрал церковную живопись. Этим могут быть объяснены слова повести: «И внутреннее чувство и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам».
Совершенно справедлива в отношении Ф.И. Яненко и другая подробность: «Он работал за небольшую плату». Художник охотно брался за любую предлагавшуюся ему работу, в том числе и за портреты. Точнее – за копии портретов, так как для выполнения оригиналов надо было иметь имя. Сразу после окончания В.Л. Боровиковским двух небольших парных портретов супружеской четы А.А. и Д.П. Бутурлиных Ф.И. Яненко делает их копии на цинке маслом, находящиеся в Третьяковской галерее. В 1794 году он выполняет также некогда находившийся в галерее портрет царевича Павла Петровича. Определением Собрания Совета Академии художеств в октябре 1797 года ему достается заказ на копию для присутственных мест одного из членов царской семьи – великой княгини Анны Федоровны. Причем здесь Ф.И. Яненко заменяет достаточно известного и талантливого портретиста П.С. Дрождина.
Слова Гоголя: «Ему давали беспрестанно заказы в церковь – и работа у него не переводилась», – подтверждаются и многочисленными работами художника. В том же Казанском соборе Ф.И. Яненко удачно выполняет и поныне там находящиеся изображения в главном алтаре апостолов Фаддея, Луки, Павла, Фомы, Филиппа, Варфоломея, Филимона и Тимофея. В Александро-Невскую лавру в Петергофе он пишет портрет петербургского митрополита Амвросия, точнее – снова копию, потому что Амвросий Зертис-Каменский погиб в Москве во время чумного бунта 1771 года. Повышенная религиозность, во всяком случае, легко могла быть приписана художнику, как то и происходит в повести. Но то, что в «Портрете» имелся в виду конфликт между Ф.И. Яненко к А.С. Бессоновым, подтверждалось и фигурой самого рассказчика.
«Стройный молодой человек лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притяжаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших». Гоголевский литературный портрет совпадает с внешним обликом сына Ф.И. Яненко – Якова Феодосиевича, славившегося к тому же в художественных кругах столицы на Неве редким даром рассказчика. И небольшая подробность – в то время, когда Гоголь писал свою повесть, Яненко-младшему было как раз тридцать пять лет. Подобное совпадение могло с одинаковым успехом говорить о наблюдательности писателя, но и о прямом знакомстве с художником.
Добродушно-благожелательное отношение Я.Ф. Яненко к окружающим находилось в разительном контрасте с обстоятельствами его жизни. Ровесник Карла Брюллова, он одновременно с ним попадает в Академию художеств и бок о бок проходит весь многолетний курс обучения. Разница с повестью заключалась в том, что принят был Я.Ф. Яненко на казенный счет в год ранней смерти отца. Ни о какой семейной поддержке, материальной и моральной, ему не приходилось и мечтать. Уход в монастырь старого мастера в повести соответствовал его смерти в действительности.
Первые десять лет занятий проходят неотмеченные никакими наградами, и только в 1819 году Совет Академии отмечает удачно выполненную учеником 4-го возраста Я.Ф. Яненко копию с картины «Чадолюбие» А. Ван Дейка. Занятия в классе живописи исторической, куда он переходит, складываются таким образом, что при всей своей достаточно яркой одаренности Я.Ф. Яненко всегда оказывается вторым рядом с К.П. Брюлловым. Обычное соотношение экзаменационных номеров: 1 – Брюллов, 2 – Яненко, как в живописи, так и в композициях, которые приходилось представлять на каждый третий экзамен. Свою единственную 2-ю серебряную медаль за рисунок с натуры Яненко получает в 1820 году, а спустя год выпускается с не давшим никаких профессиональных или жизненных перспектив аттестатом 2-й степени.
Несмотря на конфликт с администрацией Академии, Карл Брюллов вместе с братом Александром уезжают в августе 1822 года в заграничную поездку на средства Общества поощрения художеств. Яненко ставит своей целью оказаться в Италии на собственный счет – задача тем более сложная, что ни церковной живописью, ни портретами он заниматься не собирался. Его выбор падает на школу реставратора А. Митрохина при императорском Эрмитаже, куда Яненко поступает еще до отъезда Брюлловых в Италию. Реставрация, как ему кажется, должна принести необходимые средства, но мелочный, кропотливый труд слишком противоречит его натуре живописца романтического направления. Раньше чем через год Яненко увольняется из школы, усовершенствовав единственно свое незаурядное мастерство копииста, которое и будет ему служить всю жизнь. Спустя три года Яненко получает звание назначенного в академии, а летом 1827 года на накопленные с величайшим трудом средства отправляется в Италию. Без поддержки Общества поощрения художеств не обходится и на этот раз. Художник просит о заказе на какую-нибудь копию. Общество предлагает ему выполнить рисунок с головы Иисуса Леонардо да Винчи в венской галерее Лихтенштейна или повторить небольшую картину по его собственному выбору в Риме. И в том и в другом случае цена определяется в 25 червонцев – 250 рублей.
По-видимому, Яненко рассчитывал не только на скопленную сумму, но и на возможность дополнительных приработков за границей, которые на деле представляются недостижимыми. Он вынужден вновь обратиться к Обществу поощрения художников с просьбой о прямой помощи. На заседании 23 апреля 1828 года одновременно принимается решение об отправке со следующего года «в чужие края» на четырехлетний срок с возможным дальнейшим продлением пенсионерства Александра Иванова и о посылке 100 рублей Яненко в Париж с тем, что, если он окажет достаточные успехи, будет получать небольшие суммы и впредь. Эта помощь помогает художнику добраться в конце концов до Рима, куда Общество поощрения художеств посылает ему в июне того же года еще 100 рублей.
Италия была – и Италии по-настоящему не было, если говорить о свободной работе, совершенствовании своего мастерства. Постоянная мысль о деньгах, грошовые подачки, о каждой из которых надо было униженно просить и каждую из которых предстояло отрабатывать. Получаемые копии или оригинальные работы пенсионеров Общество в дальнейшем разыгрывало на специальных художественных лотереях. Я.Ф. Яненко не завидует своим более талантливым и наверняка более удачливым товарищам, но, чтобы реализовать свои собственные способности, остро нуждается в тех условиях, которые им предоставлены. Пусть Карл Брюллов еще не достиг зенита славы, но им уже написаны «Итальянское утро» и «Итальянский полдень», а Академия может судить о его возможностях по выполненной им копии «Афинской школы» Рафаэля. Осенью 1829 года Александр Иванов напишет одному из своих товарищей: «Вам уже известно, с каким восторгом принята была моя картина: „Иосиф в темнице“. Тогда все согласны были, что она заслуживает более, чем золотую медаль первого достоинства, что я даже сделал более, нежели Карл Брюллов (хотя никогда бы я не хотел состязаться с сим Геркулесом…)». Яненко не пытается состязаться, он борется за каждую минуту, которую может посвятить оригинальным работам. Эти работы немногочисленны, тем не менее написанный в Риме портрет аббата Франческо Агостини, находившийся затем в русском собрании Е.Г. Швартца, свидетельствует о незаурядном даровании темпераментного и склонного к романтической экспрессивности живописца.
Длительным заграничное пребывание Яненко не могло быть. Зимой 1828/29 года он снова вернулся в Петербург и планирует немедленный отъезд в Китай с русской миссией. Как и всякий художник романтического толка, он нуждался в новых и ярких впечатлениях, но снова обманулся в своих ожиданиях теперь уже по семейным обстоятельствам. В своем отказе от участия в миссии Яненко пишет: «Жена – я имею с нею троих детей – начала предаваться тайной горести, приметно ее съедающей. Родственники страшат последствиями моей поездки, для всего семейства произойти долженствующими».
Сколько было в этих родственных предостережениях правды, а сколько эгоистических опасений, связанных с далекой и многолетней поездкой, сказать трудно. Во всяком случае, в мае 1830 года на заседании Общества поощрения художеств рассматривается просьба художника о посылке его все в ту же вымечтанную и такую недосягаемую Италию. Она как отклик на строки Гоголя в «Невском проспекте» о петербургских художниках: «Они часто питают в себе истинный талант, и, если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений». На заседании выясняется, что за время пребывания в Риме Яненко было предоставлено Обществом пособие в размере ста двадцати пяти рублей. В свою очередь художник предоставил Обществу оригинальную картину «Женщина (из Санино) с тамбурином» и копию с работы Гверчино «Се человек».
Очередная просьба Яненко отличалась предельной скромностью. За оплату проезда в Италию и годовое содержание в триста рублей он брался выполнить копию со «Святого Иеронима» Корреджо или «Взятие Богородицы на небо» Тициана. Отказ Общества был мотивирован самым унизительным для художника образом – «отсутствием свидетельств таланта». Собрание рекомендовало Яненко заняться выполнением программы на звание академика и лишь в случае получения звания обращаться в Общество. Еще одно не меньшее унижение живописцу приходится пережить двумя годами позже. Яненко получает звание академика живописи портретной, и это дает ему основание ходатайствовать о преподавательской работе в Академии художеств. Обстоятельства складываются, казалось бы, благоприятно. Временно уезжает в Варшаву руководитель портретного класса, былой наставник Яненко, А.Г. Варнек, и возникает необходимость наблюдения за учениками по специальности. Однако Яненко сталкивается с самым категорическим отказом руководства Академии, которая словно бы во всем игнорирует своего былого питомца. Именно в этот тяжелый для художника период Гоголь получает возможность познакомиться с ним не только в Обществе поощрения художеств, но и в кружке братьев Кукольников, на их «средах».
У былого однокашника Гоголя собираются писатель-переводчик Э.С. Губер, литератор и будущий редактор «Художественной газеты» А.Н. Струговщиков, писатель П.П. Каменский, женатый на дочери одного из наиболее активных деятелей Общества поощрения художеств Ф.П. Толстого, поэт В.Г. Бенедиктов, лирический тенор Андрей Лодий, взявший на сцене фамилию по имени своего близкого друга Н.В. Кукольника – Нестеров. Здесь же бывают Н.А. Дурова, М.А. Языков, А.В. Никитенко, О.И. Сенковский, Н.И. Греч, И.И. Панаев. С возвращением в Петербург к ним присоединяется и К.П. Брюллов. И едва ли не одна только «Литературная газета» найдет со временем добрые слова о творчестве Я.Ф. Яненко. Когда в 1840 году художник решится открыть в Петербурге «отдельную мастерскую вроде общей приемной для списывания портретов», редакция отзовется на его попытку словами: «Радуясь всякому средству сближения публики и художества, мы объявляем об этом с искренним удовольствием, тем более что портреты Я.Ф. Яненко скоростью исполнения, сходством и умеренностью цены, вероятно, не только оправдают общие ожидания, но и научат мало-помалу отличать изящные, выразительные портреты от того, что иногда носит это название». Своего товарища усиленно поддерживает и К.П. Брюллов, иногда даже набрасывающий в его портретах лица. Об одном из них Яненко с особенной гордостью писал заказчику, что лицо намечено «другом моим знаменитым и единственным профессором живописи Карлом Павловичем Брюлловым».
Удивительная особенность натуры Яненко – увиденная Гоголем «светлая беззаботность». Никто даже из числа самых близких друзей, а их у художника было множество, не имеет ни малейшего представления о его семейной трагедии, ни тем более о тщательно скрываемых им материальных затруднениях. Яненко кажется воплощением духовного спокойствия, расположенности к людям и доброжелательности. Ему все-таки удается вырваться в Италию с двулетним, пусть очень скупым, пенсионом Общества поощрения художеств и вернуться с копией тициановского «Взятия Богородицы на небо». В 1836 году копия выставляется в Академии художеств почти одновременно с триумфально встреченным «Последним днем Помпеи» К.П. Брюллова. Говорить о сравнении не приходилось. Любые достоинства работы Яненко остались незамеченными. Но и это не мешает ему близко сойтись со старым академическим товарищем.
Вместе с хозяином Яненко становится душой брюлловского кружка. В него входят многие из участников кукольниковских сред, но помимо них: Ф.П. Толстой, В.А. Соллогуб, В.Ф. Одоевский, Т.Г. Шевченко, В.Г. Белинский, поэт Д.Ю. Струйский (Трилунный) – из числа литераторов, конференц-секретарь Академии художеств и деятель Общества поощрения художеств В.И. Григорович, А.С. Даргомыжский, издатель альманаха «Утренняя заря» В.А. Владиславлев, директор императорских театров А.М. Гедеонов, доктор императорских театров и ближайший друг М.И. Глинки, к тому же известный шахматист Л.А. Гейденрейх, актер И.И. Сосницкий, художники А.Н. Рамазанов, которому доведется снимать посмертную маску с Гоголя, П.В. Басин, пейзажист Семен Щедрин, И.П. Витали, певец О.А. Петров, братья Каратыгины и, конечно, превосходный рисовальщик-карикатурист, а в будущем и известный издатель Е.А. Степанов. Это он задумывает альбом карикатур на Яненко и Булгарина, начинает делать карикатурные статуэтки, отливавшиеся из гипса и раскрашивающиеся. В их серию вошли изображения К.П. Брюллова, М.И. Глинки, И.К. Айвазовского, В.Г. Белинского.
Яненко становится в брюлловском кружке объектом постоянных дружеских подшучиваний. В то время как историки искусства могут только удивляться количеству выполненных им работ – в трудолюбии сын даже превосходил отца, – друзьям художник представляется добродушным лентяем, убегающим от любых серьезных занятий и усилий. Единственное увлечение, ради которого он, кажется, всегда готов побороть свою лень, – рассказы. Яненко обладает редким даром сообщить самому незначительному жизненному эпизоду увлекательность и интригующую таинственность. Трудно себе представить более удачного прототипа для красавца-художника, ведущего свое захватывающее повествование в аукционном зале. К тому же все его отношение к искусству как нельзя больше отвечало нравственным представлениям Гоголя: к 1842 году писатель должен был знать о художнике через всех объединявших их знакомых и друзей достаточно много.
С особенной теплотой относится к Яненко К.П. Брюллов. В записках М.И. Глинки есть строки: «Мой пенсионский товарищ генерал Астафьев пристроил Яненко с семейством в бане, принадлежащей к дому отца жены своей Пономарева… Я после чаю утром отправляюсь, бывало, к Яненке, там уже был К. Брюллов… Тогда сняли с меня маску». Речь шла о 1843 годе. Эти дружеские отношения сохраняются вплоть до отъезда Брюллова из России.
«Великий Карл» пишет своего друга в летах – один из наиболее романтичных брюлловских портретов – и очень дорожит полотном. Мокрицкий записывает о 27 апреля 1849 года: «Карл Павлович спал последнюю ночь в Петербурге очень мало, встал рано, последний раз еще просматривал портрет в латах, который вместе с головой Христа отдал Николаю Дмитриевичу Быкову за 300 рублей серебром». Больше товарищам увидеться не довелось, как не довелось увидеть своего героя и Гоголю. Все трое ушли из жизни в 1852 году.
Между тем с именем Яненко можно связать и разгадку «немой» сцены «Ревизора». В одном из разговоров с Н.А. Степановым Яненко, по свидетельству очевидца, шутливо заметит, что смог бы сравняться с карикатуристом в мастерстве, если бы обладал «живостью карандаша» автора комедии, которого сам Бог создал художником. Присутствовавшие не замедлили припомнить, как Гоголь отправлялся на этюды в Италию, хотя всегда тщательно скрывал свои работы. Гоголь не ошибался: занятия изобразительным искусством и по степени своей одаренности, и по академической подготовке он был вправе считать своей профессией. Четвертой профессией.
Актерская дача
Один еще денек, и здесь меня не будет; Навек расстануся с сей милою страной… Г.М. Кантакузин. 1824И все-таки всегда, решительно всегда это было бегство. Вопреки здравому смыслу. Вопреки здравому житейскому расчету. Подчас вопреки самому себе. Гоголь за границей… Не место отдыха, развлечений, новых впечатлений – скорее возможность собраться с мыслями, что-то додумать, решить, найти в себе новые силы, а ведь их никогда не было особенно много. Каждый раз вставал вопрос «зачем» и находил множество объяснений – по поводу, но без того единственного, который только и нужен был для вразумительного ответа. Год 1829-й. Так и оставшаяся неразгаданной первая любовь, потрясение, подобного которому он уже не испытает никогда: «…Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу… Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко-созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силой своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество… Но ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока…»
Бегство в тот год потребовало всех средств, которыми располагал не только сам Гоголь – на деле их просто не было, – но и его мать, всех трудно собранных грошей для уплаты в опеку за родную Васильевку. Он без колебаний отказался ради них от своей части имения, от своего единственного, пусть очень скудного источника материального благополучия. Лишь бы оказаться на пароходе, лишь бы спустя несколько дней вступить на чужую, иную землю! Вступить… и тут же пуститься в обратный путь. Дикие скалы Борнхольма, одинокие хижины на берегах Швеции, уютные улочки Травемунде, старина Любека – ничто не могло изменить его душевного состояния: «Часто я думаю о себе: зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?..» Искать выхода – сомнений не оставалось – предстояло в самом себе.
Год 1836-й. Причиной бегства становится «Ревизор». Неудача петербургской постановки, неудовлетворенность собственным решением и невидимое вмешательство императорской руки. На появившейся на осенней выставке Академии художеств картине Г.Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле» среди трех сотен деятелей литературы и искусства, вплоть до воспитанников императорского театрального училища и полного ареопага цензоров, Гоголю, именно как автору «Ревизора», места не нашлось. Такова была воля заказавшего полотно Николая I. И строки из письма М.С. Щепкину, тщетно звавшему приехать на московскую премьеру: «Не могу, мой добрый и почтенный земляк, никаким образом не могу быть у вас в Москве. Отъезд мой уже решен. Знаю, что вы все приняли бы меня с любовью: мое благодарное сердце чувствует это. Но не хочу и я тоже со своей стороны показаться вам скучным и не разделяющим вашего драгоценного для меня участия. Лучше я с гордостью понесу в душе своей эту просвещенную признательность старой столицы моей родины и сберегу ее, как святыню, в чужой земле… Я дорогою буду сильно обдумывать одну замышляемую мною пьесу. Зимою в Швейцарии буду писать ее, а весною причалю с нею прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать».
Слово свое Гоголь сдержал и не сдержал. Задуманная пьеса не получилась. Год пребывания за рубежом обернулся тремя годами. Зато сразу по возвращении в Россию писатель и в самом деле заторопился в Москву. Прежде всего в Москву.
Несмотря на конец сентября, многие знакомые еще жили за городом. Расположившись в доме М.П. Погодина на Девичьем поле, Гоголь направляется навестить Аксаковых, проводивших лето в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. Предупрежденные о его приезде, хозяева тем не менее никак не предполагали неожиданного появления писателя, да еще в сопровождении М.С. Щепкина, с которым Гоголь уже успел встретиться.
С.Т. Аксаков вспоминал: «На другой день Гоголь приехал к нам обедать вместе со Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое выражение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость, любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то не внешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее». Душевная близость со Щепкиным побудила Гоголя еще до Аксиньина навестить семью актера в Волынском, где они жили. Это была встреча со многими из артистов Малого театра, давно облюбовавшими для летнего отдыха живописные, хотя и сыроватые берега Сетуни. Они помнили великого трагика П.С. Мочалова, со временем к ним привязался и П.М. Садовский.
Приезд в Волынское был душевной потребностью. Любовь московских актеров грела и на чужбине, хотя, оказавшись в Москве, Гоголь по-прежнему не решался пойти на спектакль так дорого обошедшегося ему «Ревизора». Придумывал фантастические причины, называл немыслимые для труппы дни как почему-то единственно возможные для его прихода, пока Щепкин, поймав друга на слове, не организовал именно в этот, заранее обещанный, день спектакля. «Ревизор» был назначен на сцене переполненного в тот декабрьский вечер Большого театра: слишком много москвичей захотело присутствовать при первом знакомстве драматурга с его детищем. Только настоящего знакомства снова не состоялось. Овации и вызовы автора после второго действия так смутили Гоголя, что он тайком бежал из театра, к величайшей досаде и разочарованию друзей и восторженных зрителей.
«Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка или своевольной дерзостью изображения… Невольно стесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? Неужели величие и гениальность больше не посетят нас…» – писал Николай Васильевич в 1831 году.
«Кавказская антресоль», или Тургеневская Москва
Наверно, они оба сожалели о несостоявшейся близости – Мария Гавриловна Савина и Иван Сергеевич Тургенев. Актриса в блеске славы и знаменитый писатель. Увлечение было взаимным, немолодой возраст давал право на откровенное выражение чувств, но и закрывал всякую общую будущность. Каждый поезд, по выражению Марии Гавриловны, уже давно шел по своим рельсам, а свести на стрелке пути грозило только крушением.
Может быть, как раз поэтому разговоры в комнатах и аллеях Спасского-Лутовинова отличались для обоих откровенностью. Среди «маленьких признаний» Тургенева было и его отношение к Москве, к которой актриса оставалась равнодушной.
По словам писателя, он нигде не чувствовал себя так покойно и устроенно, нигде не просыпался по утрам с легким сердцем. А между тем обстоятельства каждый раз складывались не наилучшим образом. Все время приходилось куда-то спешить, заботиться разными делами, никак не удавалось «зацепиться» за древнюю столицу.
После Парижа, после сложившейся привычки к западноевропейскому образу жизни он признавался, что у него были две самых любимых комнаты, к которым он возвращался в тяжелые минуты мыслями. Обе московские, но только одна чужая, любезно предоставлявшаяся ему старым другом на московских бульварах, неподалеку от храма Христа Спасителя, другая же его собственная, в настоящем усадебном доме, с которой он расстался вскоре после кончины матушки.
Марии Гавриловне показалось, что он все еще испытывает сожаление об утрате. Во всяком случае, описание отличалось множеством подробностей – находилась его любимая комнатка на антресолях, была низкой, зато удивительно теплой, а под небольшим окошком был сад со старыми деревьями, то зеленевший яркой зеленью, то утопавший в пуховых сугробах. Разговор о комнатке зашел потому, что именно в ней собирались товарищи Марии Гавриловны по ремеслу – актеры Малого театра, которым он читал только что написанные пьесы, а они тут же разбирали их на голоса под восторженные восклицания, а подчас и взрывы хохота. Это было единственное, очень недолгое время, когда Иван Сергеевич увлекся драматургией и узнал бешеный успех на московской сцене.
Спрашивать, почему было не продолжить так удачно начатый опыт, Мария Гавриловна не стала. Затянувшаяся в бесконечность драма любовного треугольника с знаменитой певицей Полиной Виардо была слишком известна всей Европе. Тургенев не мог найти в себе силы положить ему конец ни тогда, ни теперь, несмотря на все чары неотразимой Савиной. Недаром он говорил о себе как о человеке «решенном». Теперь казалось – и, скорее всего, только казалось, – что если бы снова подняться в ту комнату на антресолях… Между тем ни его детство, ни юность не были согреты семейным теплом.
Родился Иван Сергеевич не в Москве – на Орловщине, в Спасском-Лутовинове. Родители не скрывали от детей всех сложностей своего насильственного брака. Собственно, он был решен немолодой, некрасивой, зато неожиданно разбогатевшей за счет наследства Варварой Петровной. Выбранного ею красавца-ремонтера вынудило согласиться полное безденежье. В этом случае существенная разница в возрасте роли уже не играла.
Варвара Петровна была достаточно образованна, обладала несомненными литературными способностями и склонностью к множеству причуд, среди которых было пользование молитвенниками исключительно на французском языке. По селу ее носили в застекленных – от заразы! – носилках, и она не отказывала себе в удовольствии назначать самые жестокие физические наказания и дворовым, и собственным детям. Говорить о настоящей сыновней привязанности в таких условиях не приходилось. Все симпатии даже ее любимца Ванечки всегда оставались на стороне отца.
Первая встреча Тургенева с Москвой – апрель-май 1822 года, проездом. Родители с двумя сыновьями (третий, «убогий», по выражению писателя, был оставлен в Спасском) и целым штатом прислуги вплоть до собственного врача ехали в путешествие по Европе. На старую столицу было отведено всего несколько дней, зато в Петербурге предстояло свидание с светлейшей княгиней Голенищевой-Кутузовой-Смоленской, урожденной Бибиковой, на котором сумел отличиться маленький Иван.
Тургенев писал впоследствии: «Мне было тогда шесть лет, не больше, и когда меня подвели к этой ветхой старухе, по головному убору, по всему виду своему напоминавшей икону, почерневшую от времени, я, вместо благоговейного почтения, с которым относились к старухе моя матушка и все окружающие, брякнул: „Ты совсем похожа на обезьяну“… Крепко досталось мне за эту выходку». Бибикова приходилась теткой матери, а дочери Михаила Илларионовича Кутузова были ее троюродными сестрами.
Кстати, среди бывших однополчан отца, которых им довелось посетить, был полковник кавалергардов Павел Петрович Ланской и служивший у него же младший брат – Петр Ланской, женившийся впоследствии на вдове А.С. Пушкина.
Родители прошли шестинедельный курс лечения на Богемских водах, побывали в Швейцарии, на берегах Боденского озера, где еще жила под арестом королева Гортензия, падчерица Наполеона и мать его сыновей. Степная Швейцария напомнила Варваре Петровне степной Ливенский край у них на Орловщине.
Тургенева-отца больше всего занимали поиски гувернера для сыновей, который бы владел системой Песталоцци, к которой он хотел добавить педагогические принципы нашего просветителя К.И. Новикова.
Идеи домашнего образования очень скоро доказывают свою несостоятельность, и семья принимает решение переехать жить в одну из столиц. Средства и родственные связи делали для Варвары Петровны, единолично распоряжавшейся хозяйством, возможным любое решение. Тем не менее выбор падает на Москву, где приобретается почти загородная усадьба Валуева вблизи Самотеки, на склоне обращенного к реке Неглинной холма (Б.Спасский переулок, 12/24). За рекой со стороны нынешних Троицких переулков располагался увеселительный сад родственника А.С. Пушкина, куда на устраиваемые с большой пышностью и выдумкой праздники стекалась вся Москва. Хотя главный усадебный дом был снесен в советские годы для строительства ныне существующего многоэтажного жилого дома, во дворе домовладения до последнего времени сохранялись характерные надворные постройки.
Из усадьбы на Самотеке братья Тургеневы направляются в считавшийся очень престижным пансион Вейденгаммера в Гагаринском переулке (№ 10 – не сохранился). Здесь проходят первые два года московской жизни, и в долгих поездках от Пречистенских ворот на Самотеку и обратно для Тургенева начинает складываться так любимый им образ Москвы – живописной, уютной, полной народа и садов.
Были ли это фантазии отца, считавшего себя знатоком педагогических систем и методик, или появились какие-то иные причины, но в 1829 году одиннадцатилетний Тургенев вместе с братом Николаем оказывается в следующем учебном заведении – пансионе Армянского института (Армянский переулок, 2), где им предстояло готовиться к поступлению в университет. В только что отстроенной и по праву считавшейся одной из красивейших усадеб Москвы пансион Краузе занимал боковой флигель.
Московский университет в XIX веке.
Но здесь разочарование отца наступило гораздо быстрее. Через несколько месяцев младшие Тургеневы переселяются в родительскую усадьбу на Самотеке. Наступают четыре года усиленных домашних занятий русским языком и словесностью, математикой, историей, географией, философией, французским языком, немецким, английским, латынью, рисованием. Дополнительной обязанностью мальчиков было вести подробный дневник. Но все же первыми собственно литературными опытами становятся для Тургенева письма, которые он с огромным удовольствием пишет брату отца в деревню. Часто повторяющиеся в них описания Москвы говорят не только о пробуждающемся литературном даре, но и о совершенно особенном отношении к Москве.
«Теперь в Москве с большей части улиц поднимается уж пыль, как проезжают. Река сошла, и пропасть человек собирается смотреть на Каменном мосту, как огромные льдины почти в половину реки летят, лезут, вдруг бух об аркаду и разрушаются с треском в малые льдины, другие через нее, третья, четвертая…» Спустя сто лет, уже в советские годы, зрелище ледохода на Москве-реке собирало толпы любопытных, а в прибрежных районах заранее плотно закрывались и тщательно смолились окна и люки подвалов и низких первых этажей.
В Замоскворечье на Пятницкой вода могла доходить до Климентовского переулка, а на Кремлевской набережной плескалась у стен Кремля.
В том же письме Тургенев добавляет: «После обеда пошли мы гулять. Москва разлилась ужасно: в 1810-м году была только ей подобна; льдины, бочки, бревна, крыши домов, горшки, ящики – все летит по реке, которая с ужасным ревом клубится, бушует, стенает, вертится, взвивается, кипит. Она даже потопила улицу со стороны Кремля, не говоря о стороне, которая потоплена». Автору этих строк тринадцать лет, и через год он подаст прошение о принятии его на словесное отделение Московского университета на собственный кошт.
Пятнадцать Тургеневу исполнится уже в стенах университета. Его подготовка к университетским занятиям была блестящей, новые занятия никакой трудности не представляли. Было время и настроенность впитывать по-новому раскрывавшуюся перед ним Москву. Каждый день повторяется путь от Самотеки до Моховой иногда по бульварам и Большой Никитской, реже через Неглинную – на Трубной площади всегда кипел торг – Театральную площадь и снова кишевший людьми и упряжками Охотный ряд. Все зависело от торговых дней и скопления народа. Так невольно оставались в памяти маленькие уютные особнячки с непременными колоннами, которые он так любил, сады и садики перед ними, почти сельский уклад жизни.
Но, казалось бы, устоявшийся домашний порядок неожиданно был нарушен почти невероятным событием. В свои пятьдесят три года Варвара Петровна забеременела и родила дочь… от домашнего врача семьи А.Я. Берса, отца будущей супруги Л.Н. Толстого. Оба писателя знали об этой почти родственной связи между ними и горько подтрунивали над ней.
В конце концов, скандал можно было попытаться замять, вот только Варвара Петровна не стала крыться ни со своими чувствами, ни со своей побочной дочерью. Она и не думает отказываться от девочки или где-то прятать ее. Младенец занимает почетное место в доме, и меру этого оскорбления отец Ивана Сергеевича уже выдержать не может. Семья рассыпается, Тургенев-старший находит способ оставить супругу. После успешного окончания первого курса Московского университета братья Тургеневы переводятся в университет Петербургский, и отец переезжает в столицу на Неве вместе с ними. Многочисленные друзья и родственники с нескрываемым любопытством наблюдают за развитием событий.
Драма оказывается короткой и очень болезненной для Ивана Сергеевича. Отец через год умирает. Мать, путешествовавшая по Европе, не считает нужным ради такого события возвращаться на родину. Сюжет «Первой любви» предстает в обратном отражении. От переезда в Москву Иван Сергеевич категорически отказывается. Он так и закончит Петербургский университет, а затем прослушает два курса в университете Берлина. Тоски по дому он не испытывал, забыть пережитое не сумел.
О так называемой «воспитаннице» Тургенев напишет со временем Полине Виардо: «Она не глупа, не зла, но бессодержательна и избалованна; манеры отвратительные: нечто вроде жеманной гризетки, ленивой и вульгарной». Мадемуазель Богданович-Лутовинову – имя, придуманное ей Варварой Петровной, – не связывало с братьями ничто.
Понимая роковое значение случившегося, Варвара Петровна прежде всего решает сменить московский дом. Ей по-прежнему нужно городское поместье, но выбирает его она теперь на другом конце Москвы, вблизи Москвы-реки и Крымской площади, на Остоженке (№ 37).
Владения на Остоженке и в самом деле представляли покойную и широко раскинувшуюся усадьбу. До 1812 года они принадлежали одному из любимцев Павла I – К.Ф. Кноррингу. Кнорринг состоял генерал-лейтенантом при императоре, начальником Кавказской дивизии и главным командиром войск в Грузии в момент ее присоединения к России. При нем дом имел два этажа и хороший, окруженный служебными постройками сад. Но общая судьба многих московских домовладельцев тех лет – генералу оказалось не под силу восстановить свое хозяйство после Отечественной войны 1812 года. Кнорринг умер в 1820 году, так и не отстроив особняка.
Новым владельцем становится некий титулярный советник Д.Федоров, поставивший на старом фундаменте одноэтажный деревянный дом с порталом. Отделку дома завершает сменивший Д. Федорова в 1880-х годах гиттенфервальтер 10-го класса, иначе – служащий по Горному ведомству, Н.В. Дошаковский. В 1833 году дом так и был описан: «Деревянный жилой корпус на каменном фундаменте, обшит тесом, покрыт железом». Представленный на чертеже вид фасада значительно отличается от дошедшего до наших дней и восстановленного во время последнего ремонта: вместе колоннады – портал с тремя полукруглыми арками, вместо простых боковых окон – тройные с тонко прорисованными резными медальонами, имитирующими, как то часто делалось в Москве, лепные барельефы. Скорее всего, именно в таком виде дом на Остоженке и перешел в руки тургеневской семьи.
Жизнь здесь была трудной, подчас невыносимой из-за крутого нрава матери. На Остоженке Тургенев наблюдает трагедию своей будущей Аси, побочной дочери дяди по отцу, выданной в конце концов замуж за крепостного повара. Здесь родится его собственная дочь от белошвейки – Пелагея-Полина, воспитывавшаяся впоследствии в семье Виардо. В тех же стенах происходит драматический разговор матери с двумя сыновьями.
Никаких средств к существованию из своего огромного состояния Варвара Петровна не согласилась им дать. Все только из ее рук и по ее приказу. А между тем бедствовала семья старшего сына Николая, осмелившегося жениться на компаньонке матери, перебивался на скудные литературные заработки младший – любимец Иван. Возмущенная попыткой Ивана Сергеевича просить за брата, В.П. Тургенева отказала сыновьям от дома и предпочла в нем умереть в одиночестве под звуки оркестра, игравшего, по ее приказу, в соседнем со спальней зале веселые польки.
А между тем она отчаянно – иначе не скажешь, – всеми силами своей страстной натуры любит младшего сына, и это во многом ей Тургенев обязан своим литературным даром. Письма матери к «ее Ивану» говорят сами за себя:
«Вот чем начинается день мой: я просыпаюсь в 8 часов, звоню. Протираю глаза чаем с ромом, надеваю несмятый чепец, кофточку и беру молитвенник, читаю кафизму из Псалтиря. И чай готов, наливает в спальне Дуняшка; Псалтирь оставляется – первая чашка пьется. Между второй – всегда берутся карты, и гадаю, и ежели выйдет дама пик… – боже избави, особенно на сердце. Подается другая чашка; я обуваюсь, одеваю утренний костюм, молюсь Богу и иду… Птицы уже меня дожидают, пищат…
Утро начинается. В гостиной отгорожен к одному окну кабинет, с зеленью, стол письменный стоит… Вот я беру Кантемира. Кантемиром называется деревянный порт-папье с ручкой. Итак, беру Кантемира, пишу вчерашнего дня журнал…
«Однако, пора одеваться», – говорит Дуняшка, не удивляясь, что барыня утирает слезы… Это – не редкость для них. Смех – это другое, это в диковинку. Пора… пора… прости, до часу. Вот и два часа. Я занималась в отцовском кабинете, называемом бариновым. Что я делала? – Вошла, позвонила. Вошел дежурный мальчик с красненькой ленточкой в петлице. – «Дворецкого!» – Вошел дворецкий и повар с провизией. Говядины на бульон и прочее. Побранила повара… Они вышли… Вошли мальчики. Кто что вчера делал? Митька, Васька Лобанов и Николашка Серебряков. Рисовали… Каллиграфию… Читали… Вышли. Лобанов орлик мой! и улыбается – он не может больше – не знаю – чего? – Прежде бранила, наконец не замечаю. – Работы…
Садовники печи топили, цветы поливали… Столяр стол чистил, девушки то… и то. А вот и расходы, расходы в деревне: говядина, рыба, свечи, мыло, краски и прочее и прочие вздоры. Вот и пуза Серебрякова, а наконец и вся туша – вздыхает и опять вздыхает… Вворачивает словечко против дядюшки… против управляющего… Я будто не замечаю, а на ус мотаю… Иное – правда, другое – вздор – из чего вывожу свои рассуждения.
Вот и половина 12-го, девочка с чаем, т. е. грамматике конец. Конец… Нет, на конец тут-то все дела и найдутся. И то… и то… А между тем голуби – стук-стук в окно… гуль. гуль… ворку… ворку… Егорка, новый лакей, губошлеп, несет корм и мешок; голуби летят на него и, наконец, на крыльцо; на балконе дерутся, сердятся, ссорятся, а звонок бьет 12 часов, дети идут завтракать. А я запираю баринов кабинет, иду одеваться.
Вот я оделась, вот я в гостиной, глаз на глаз с портретом моего второго сына… Он большой негодяй, ленится ко мне писать, а когда пишет – как будто только по обязанности… к матери. А я какая мать, я друг моим детям, вся их, вся для них… Особенно этот Иван, мой друг, мой советчик; он понимает меня более. А я знаю его, как знаю сама себя… Сердце у него предоброе… а страсти, страсти готовы им овладеть, и он поддается им, хотя бы когда захотел, умел бы лучше хладнокровного их покорить… Но! – ему это трудно, и он пустит руки, как утопающий на моих глазах почтальон: держал, держал сук, выбился из сил… а бегут его спасать… Еще бы минуту – он опустил руки, сказал «ва!» – и волны умчали его из глаз моих.
– Кушанье поставили, – говорит Антон все тем же голосом, который так всем известен. 3 часа. После обеда кофий на столе, Лиза или Анета разливают. И все уходят. Я иду в детскую, мое теплое гнездышко, читаю… до свеч. 6 часов. Дуняшка хлопочет уже о самоваре. Бабушка давно кряхтит опять в гостиной. Дверь заперта в спальню до 7 часов – хоть кряхти, хоть не кряхти. Общий чай – звонок. После чая дети танцуют, или музыка, старики в сборе, бальные дети танцуют или певчие…»
Но независимо от семейных осложнений и их развязки на протяжении целых десяти лет это московский дом Тургенева, куда возвращается он из всех петербургских и заграничных поездок. Каждое произведение 40-х – начала 50-х годов так или иначе связано с домом на Остоженке. Это «Андрей Колосов», «Переписка», поэма «Андрей», многие стихотворения, вдохновленные горьким и недолгим «премухинским романом», как назовет сам Тургенев свое чувство к сестре Михаила Бакунина – Татьяне: «Долгие, белые тучи плывут», «Осенний вечер… Небо ясно», «Заметила ли ты», «Гроза промчалась», «Когда с тобой расстался я».
Тургенев привязался к остоженскому дому. У него своя любимая комната на антресолях, низкая, очень теплая, с окнами в запущенный сад, от которого сохранился до наших дней вековой вяз. А после смерти матери осенью 1850 года здесь все словно оживает новой жизнью. Это время первых и успешных драматургических опытов Тургенева. Его почетный гость – «папаша Щепкин», которому была посвящена первая редакция «Нахлебника». Эту пьесу великий актер особенно хотел сыграть, но смог осуществить свое желание только спустя 12 лет. Сыграет Щепкин и тургеневского «Холостяка».
С совершенно исключительным успехом проходит в январе 1861 года на сцене Малого театра «Провинциалка». «Вот уж точно я ожидал чего угодно, но только не такого успеха, – напишет Тургенев П.Виардо. – Вообразите себе, меня вызывали с такими неистовыми криками, что я наконец убежал совершенно растерянный… шум продолжался добрую четверть часа и прекратился только тогда, когда Щепкин вышел и объявил, что меня нет в театре».
Из Малого театра Тургенев бежал к себе на Остоженку. Там же он подарит другому замечательному актеру – Прову Садовскому – посвященную ему драматическую сцену «Разговор на большой дороге». В доме на Остоженке был написан в своем окончательном варианте и замечательный тургеневский рассказ «Певцы», возникновению которого предшествовал любопытный эпизод.
Среди московских живописцев Тургеневу был особенно близок Кирилл Горбунов, недавний крепостной, хлопотами Гоголя начавший учиться у Карла Брюллова и усилиями многих литераторов выкупленный на свободу. Горбунов тесно связан с Белинским, и Тургенев скажет о посмертном портрете «Неистового Виссариона» кисти Горбунова: «Чем больше смотришь, тем больше похож». Но у Горбунова был и еще один известный только близким друзьям талант – исполнителя народных песен. Не меньшей популярностью в этом виде мастерства пользовался и другой художник – Лев Жемчужников, брат литераторов, создавших вместе с А.К. Толстым образ Козьмы Пруткова.
Тургеневу приходит мысль устроить соревнование обоих певцов. Встреча состоялась. Одним из судей выступает сам писатель, а победителем становится Кирилл Горбунов, черты которого сообщены в рассказе Якову Турке. Тургенев передал в «Певцах» и свое впечатление от пения художника: «В нем была неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская правдивая горячая душа звучала и дышала в нем и так хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. От звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль».
Московские связи Тургенева в эти годы исключительно широки. Среди гостей дома на Остоженке все Аксаковы, М.П. Погодин, И.Е. Забелин, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский. Отсюда направляется Иван Сергеевич знакомиться с живущим на Никитском бульваре Гоголем и слушает там авторское чтение «Ревизора». Тем не менее сравнительно скоро Тургенев расстается со своей «остоженской обителью». Одна из очередных владелиц дома жена генерал-майора А.П. Вознесенская в 1871 году вместе с переменой нескольких подгнивших венцов (дом оставался деревянным) переделывает внутреннее расположение комнат, прорубает новые окна и двери, штукатурит фасад.
В 1894 году тургеневский особняк уже составляет собственность известного московского врача И.П. Смирнова, а в 1895-м переходит в собственность Московского совета детских приютов. При этом двухэтажный флигель в глубине двора переоборудуется под слесарную на первом, столярную и токарную мастерские на втором этаже. В 1901 году по проекту архитектора Н. Какорина рядом с тургеневским домом строится четырехэтажное здание «для склада и публичной продажи предметов, пожертвованных Совету». В январе 1917-го вместо мастерских открывается механическая штамповальная фабрика. Тургеневский дом превращается в коммунальное жилье, на смену которому приходит производство спортивной одежды. Музей великого писателя? Нет, вопрос о его создании по-прежнему не стоит. И по старой причине: на Тургенева у города Москвы средств не может быть.
И необычная история, связанная с домом на Остоженке и получившая свое завершение в 2005 году.
Переезжая на Остоженку, Варвара Петровна прежде всего думала о своем любимце. Верила, что по окончании университетских занятий вернется в Москву, будет жить рядом с ней. Устраивала его комнату по вкусу и моде тех дней, когда все еще шла война на Кавказе. «На кавказский манер» мужские половины украшались кавказскими коврами, а на стенах непременно развешивалось оружие. Актеры Малого театра, собиравшиеся у Тургенева на читку его пьес, не могли не обратить внимание на такое несоответствие: вполне мирный и штатский хозяин, никогда не имевший ничего общего с армией, и воинственная обстановка, на которую он, впрочем, не обращал сам никакого внимания. «Папаша Щепкин» делился впечатлениями со своими домашними, актер Пров Садовский пересказывал товарищам по сцене, что один палас – «красный с черными крестами» – висел на стене, а второй – «зеленый пестренький» – лежал на широкой тахте. Эти воспоминания сохранились в обеих семьях: кто бы ни запомнил наизусть все, что было связано с удивительным писателем.
После продажи дома на Остоженке вся его обстановка была перевезена в Спасское. Обстановку большого дома в поместье Иван Сергеевич менять не захотел, новые вещи разместились по кладовым и флигелям. Одна из комнат флигеля превратилась в московскую «кавказскую антресоль», и это в ней наследница писателя разместила приехавшего в 1900 году в Спасское погостить их общего с писателем родственника, ливенского помещика Стефана Львовича Лаврова.
Никто не знал, насколько затянется визит, поскольку вызван он был семейным конфликтом: старшая дочь Лавровых по благословению отца, но вопреки воле матери, «уходом» – буквально сбежав из дому, обвенчалась с офицером, служившим в штабе Западных войск, и уехала в Варшаву. Мать не захотела простить ни мужа, ни дочь. Приезд в Спасское означал скорее всего окончательный распад семьи, которого Стефан Львович не сумел пережить. Через две недели его не стало. Дочь, находившуюся на последних неделях беременности, извещать не хотели – она сама увидела во сне и момент кончины отца, и всю обстановку комнаты, в которой прошли его последние минуты. По желанию покойного, он был похоронен в Спасском, а приехавшей дочери хозяйка поместья подарила оба кавказских паласа. С тех пор и вплоть до 2005 года они висели в ее семье в Варшаве, позже в Москве, пока правнучка Стефана Львовича не подарила их Литературному музею И.С. Тургенева в Орле. И удивительно вовремя. Потому что несколькими днями позже в ее доме появились дочери поэта Расула Гамзатова. Старшая – Патимат – специалист по коврам, младшая – директор Художественного музея Дагестана в Махачкале. Паласы интересовали их как старейшие из сохранившихся образцов дагестанского ковроткачества. Сестры тут же направились в Орел и подтвердили возраст паласов, определили с явной горечью: ковры должны были бы оказаться в их музее, но… С настоящим кавказским радушием сестры помогли орловскому музею в реставрации тургеневских вещей. Музей – это всегда и везде музей, вот только в Москву и родной дом на Остоженке паласы не вернутся. Никогда.
Город мой
Москва меня душила в объятьях своих бесконечных Садовых…
В.В. МаяковскийО доме можно было писать повести. Многоэтажный. Каменный. На углу Малой Бронной и Тверского бульвара. С трактиром внизу и дешевыми меблированными комнатами наверху. В трактире собиралась студенческая молодежь и не подавалось ничего «горячительного» – бесчисленные пары чая, баранки, вареная колбаса, немудрящие щи. В «меблирашках» одинаковые, захватанные по краям до черноты красные занавески и гардины, гнутые спинки венских диванов и стульев, никогда не закрывающиеся двери и сизые облака табачного дыма, переплывающие из одной комнаты в другую вместе со спорщиками, искавшими в запале новых союзников и оппонентов. В «Романовке», как называли и дом и трактир, все становились одной семьей, и охранное отделение сбивалось с ног, пытаясь уследить за всеми жильцами и всеми гостями. Много ли здесь, среди самых малоимущих студентов – из Московского училища живописи, ваяния, зодчества и московской Консерватории – случалось не подозрительных? И это в «Романовке» (Малая Бронная, 2) Маяковский решится читать перед слушателями свои первые стихи, станет учиться труднейшему и мужественному искусству публичных выступлений.
Немногим раньше, едва успевшей разрешиться зимой осенью, был Сретенский бульвар. Мерзлая ночь. Прочитанные Д. Бурлюку будто бы чужие стихотворные строки – и бурный ошеломительный отклик: «Во-первых, вы врете – это вы сами написали. Во-вторых, вы гениальный поэт». Преувеличение? Прозрение? О таких тонкостях не думалось. «Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета, – откликается Маяковский, – обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом». Вечера в Романовке подтверждали предсказание. Мария и Давид Бурлюки были одинаково захвачены стихами и самим образом поэта.
Панорама Москвы в начале XX века.
«Маяковский обычно сидел на диване, рядом с большим круглым столом. На столе – керосиновая лампа с резервуаром из желтого массивного стекла. Зеленый абажур бросал густые тени на стены, трепетом пламени фитиля освещены лишь потолок и светло-оранжевый пол. Два окна выходили на Малую Бронную. В этих синих как бы аквариумах плыли, вились крохотными рыбешками пушинки снега, виляя и прыгая…
Когда его просили читать, Маяковский вставал с неизменной светящейся папиросой в руке. Лицо юноши было освещено снизу. Глаза казались темно-фиолетовыми, волосы черно-синими. Юноша отходил на середину комнаты, выпрямлялся, лицо его оставалось спокойным; опускал руку с горящей папиросой вдоль своего высокого тела, другую – закладывал в карман бархатной блузы.
Не откидывая головы назад, пристально глядя в глаза, как бы видя перед собой будущую аудиторию, поэт начинал читать свои юные стихи, скандировать без поправок или остановок, без сомнений скромности и не изменяясь в лице…» Московский новый поэт.
С Москвой было связано все. Совсем недавно она начиналась в окне поезда. Огромная. Продымленная заводскими трубами. Просвеченная отблесками золотых куполов. В крикливой пестряди вывесок и витрин. Тем более непонятная после зеленой тишины Багдади и ленивого захолустья Кутаиси. Город и подросток, которого уводила из родных и привычных мест нужда. Недавняя смерть отца возложила заботу о матери и младших детях на сестру Людмилу. Володя из младших – ему тринадцать. Счастья решено было попытать в Москве. Шел 1906-й год.
С Курского вокзала заторопились на Николаевский (ныне – Ленинградский) – кров на первых порах давала знакомая семья, жившая на даче в Петровском-Разумовском. Петербургский почтовый поезд довез до Сельскохозяйственной академии. Оттуда на извозчике добирались на Выселки к Плотниковым. Так выходило дешевле, пока найдется подходящая городская квартира – экономить приходилось на всем.
Но утром следующего дня все равно была Москва – поездка с Людмилой и ошеломляющее впечатление надвинувшегося нового века. Громады каменных домов. Электричество. Медлительные кабины лифтов. Автомобили. Трамваи. Двухэтажные конки. Извозчики. Кинематографы. Заполонившие улицы густые толпы. Для него – дыхание колосса, равнодушного и бесконечно притягательного. Робости не было и в помине – единственное желание видеть собственными глазами и самому познавать. «Володю очень интересовала жизнь, – станет рассказывать мать, – Володя больше всего ходил по Тверской, Садовой и другим улицам и переулкам, изучая достопримечательности Москвы, а главное – людей и их жизнь в большом городе».
Нравился размах. Нравилось все новое. Особенно кинематограф, куда зайцем – за полным отсутствием денег – удавалось пробираться на несколько сеансов подряд: «Поэт должен быть в центре дел и событий…»
Квартира нашлась, конечно, в «Латинском квартале» Москвы – на Козихе. Причин тому было множество. Связи сестры Людмилы со студентами, которые преимущественно заселяли Козиху. Их настроения, дышавшие еще не пережитым 1905 годом. Надежда матери поддержать скудный семейный бюджет сдачей комнат с обедами, чем жило, с трудом сводя концы с концами, большинство квартирохозяек на Козихе. «Сняли квартиренку на Бронной, – отзовется Маяковский. – Комнаты дрянные. Студенты жили бедные». Дом Ельчинского, где на третьем этаже устроились Маяковские, стоял на углу Спиридоньевского и Козихинского переулков (Спиридоньевский пер., 12), всего в одном квартале от первой московской квартиры семьи Ульяновых (Б. Палашевский пер., 6, кв. 11), где Ленин навещал своих родных в течение лета 1898 года.
Бедные студенты, о которых напишет Маяковский, были социалистами, и это от них в квартиренке на Спиридоньевском подросток получит первые издания нелегальной литературы, сам будет просить для чтения «что-нибудь революционное». «В действительности он увидел вскоре много большевиков в своей комнатке, – станет вспоминать один из жильцов квартиры Маяковских, первый „большевик“, узнанный Володей, В.В. Канделаки. – Это были студенты Московского университета – товарищи и приезжие. Говорили, курили, спорили много и горячо. Тащили вороха нелегальщины. Иногда, спохватившись, оглядывались на неподвижно сидящего долговязого мальчугана. Я успокаивал: „Это сын хозяйки, Володя Маяковский, свой“. В горячке учебы и кружковщины мне было не до „ребенка“, каким я считал Володю». Между тем в пятнадцать лет «ребенок» знал «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса, знал «Две тактики социал-демократии в демократической революции» Ленина.
Занятия в 5-й московской гимназии, располагавшейся неподалеку (ул. Поварская, 3), его не могут увлечь. Окончив в течение первой московской зимы четвертый класс, он не собирается продолжать гимназических занятий. Слишком памятна взрывная обстановка кутаисских лет, где Володя учился с 1902 до 1906 года. Тогда были ученические сходки, были уличные демонстрации: «Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот, Кутаис тоже вооружается. По улицам только и слышны звуки „Марсельезы“. Словно в ответ на письмо брата Людмила Владимировна, приезжая на каникулы из Москвы, привозит листовки со стихотворными текстами: „Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось… Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове“. Володе исполнилось двенадцать лет.
Он успел стать взрослым, а теперь, на Козихе, засыпает вопросами старших собеседников: «Вы дрались в Москве во время революции 1905 года на баррикадах? В какой дружине? Действительно ли ваша дружина охраняла великого Горького?» Нетерпеливый интерес к рассказам И.И. Морчадзе тем более распространяется на улицы и дома, которые помнят эти события. В нескольких минутах ходьбы на Малой Бронной знаменитые дома Гирша, наполненные революционно настроенными студентами. Здесь жил С.И. Мицкевич, с которым, как с представителем московских марксистов, встречался Ленин в августе 1893 года в Нижнем Новгороде. В Мерзляковском переулке театр Гирша – в нем 21 ноября 1905 года состоялось I заседание Московского совета депутатов. В нем приняло участие сто семьдесят депутатов от восьмидесяти тысяч рабочих.
Революционная волна поднялась здесь много раньше боев на Пресне. В 1901 году московские студенты поддержали демонстрацией петербургских, подвергшихся арестам и избиениям полиции. Двести москвичей были арестованы и заперты в Манеже. И тогда впервые в поддержку студентов выступили рабочие Прозоровской, Даниловской, Цинделевской мануфактур. На следующий день, 25 февраля 1901 года, на Тверском бульваре начались вооруженные столкновения и выросла первая баррикада (ныне – памятник Первой баррикаде на Тверском бульваре). Семнадцатого сентября 1904 года по Малой Бронной проходит студенческая демонстрация протеста против избиения полицией на Ярославском вокзале мобилизованных на русско-японскую войну. Малая Бронная, 4 – дом Общества для пособия нуждающимся студентам, студенческая столовая, и здесь же в декабре помещался штаб студенческой дружины, защищавшей баррикаду у Романовки. Медицинский пункт участников уличных боев располагался в самой Романовке, в квартире зубного врача Данишевского.
Мало лет? Но какое это имеет значение, когда ему верят. И первая явка, которая будет ему сообщена, – у балюстрады так называемого Нового здания московского университета (ул. Б. Никитская, 1, ныне – вход в Коммунистическую аудиторию). Он не провалит ни одного поручения, справится со всеми заданиями. Никто не вспомнит о его пятнадцати годах, когда он вступит в 1908 году в партию: «Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам». На партийной конференции, проходившей, как обычно, в Сокольниках, в лесу, Маяковский был избран в состав Московского комитета партии.
Первый арест застал его в помещении нелегальной типографии МК РСДРП(б) (Зоологическая ул., 7): «Нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете». Последовавший арест и наказание оказались сравнительно мягкими благодаря юному возрасту подсудимого. Маяковский попадает сначала в Пресненскую полицейскую часть (Баррикадная ул., 4), затем в Сущевскую (Селезневская ул., 2). Однако до суда дело не доходит ввиду того, что арестованный был несовершеннолетним. Его выпускают на поруки старшей сестре, но под гласный надзор полиции. Семья к этому времени уже переехала на новую квартиру (4-я Тверская-Ямская ул., 28, кв. 52). Но приближалось лето, и Маяковские решают от докучливых глаз перебраться вообще за город, в уже знакомое и полюбившееся Петровское-Разумовское.
Он полюбил эту необычную и дальнюю дорогу – от памятника Пушкину на первой проложенной в Москве линии трамвая через Малую Дмитровку, Долгоруковскую, Новослободскую, мимо Бутырской тюрьмы к заставе, откуда начинал свой путь паровичок. Соломенная сторожка. В сосновом лесу терялись редкие дачи и, несмотря на постоянную слежку, удавалось незамеченным добраться до Нового шоссе. В охранном отделении первоначальные клички «Кленовый» и «Высокий» очень быстро сменились другой – «Скорый». На Новом шоссе исчезнувший со временем дом располагался между нынешними домами 18-м и 20-м. Памятью о нем осталась зеленая полоска сквера.
«Дача большая, двухэтажная, – вспоминала Людмила Владимировна, – с широкими балконами, большим тенистым садом и цветником. В первом этаже жили хозяева дачи. Они не любили нас, называли „революционной бандой“ и однажды сообщили в полицию, что у нас часто бывают собрания. В результате сделанного хозяевами доноса полиция, конная и пешая, оцепила дачу, закрыла все выходы и произвела ночью проверку всех живущих. Когда вошли в комнату Володи, он спал. У него ночевал товарищ и тоже спал. Полицейские удивленно спросили:
– Как, вас двое, и вы спите?
На что Володя ответил:
– А вам сколько надо? – повернулся на другой бок и заснул.
Таким образом, затея наших хозяев не удалась, но они не оставили нас в покое и подали на нас в суд, требуя выселения».
Дожидаться суда представлялось слишком большой неосторожностью – Маяковские вернулись в город на ставшую знакомой Долгоруковскую, где в доме Бутюгиной сняли квартиру № 38 (старый адрес – Долгоруковская, 47, современный – 33). И все же, несмотря на казавшиеся надежными предупредительные меры, избежать нового ареста Володе не удается. Второй арест наступает 18 января 1909 года. Маяковский снова в Сущевской части, где его продержат больше месяца и выпустят без предъявления обвинения. Вскоре вся семья Маяковских втягивается в подготовку побега группы политкаторжанок из женской Новинской тюрьмы. У них дома шьются платья для беглянок, смолится канат. В момент побега Володя подает условные сигналы с соседней колокольни (Большой Новинский переулок, вошедший в состав нынешнего Нового Арбата). Его матери один из организаторов побега передаст главную улику – ключ, который Маяковские утопят в пруду Петровского-Разумовского.
Побег удался и не удался. Женщинам удалось скрыться, зато на следующий же день были арестованы все участники их освобождения, в том числе Маяковский, находившийся у И.И. Морчадзе в доме Локтева на Первой Мещанской. В ответ на вопрос пристава о его имени и причине появления у хозяина квартиры Маяковский отвечает веселым каламбуром: «Я, Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо его разорвать на части», который вызывает взрыв общего хохота.
Юный арестант попадает 1 июля в Басманную часть, но вскоре «за буйное поведение» переводится в Мясницкую (Малый Трехсвятительский пер., 8). Мера не оказывает действия, и 18 августа Маяковский ввиду того, что «своим поведением возмущает политических заключенных к неповиновению», направляется в Бутырскую тюрьму, этот, по выражению современников, «университет революционного образования». Его заключают в одиночную камеру № 103, где он проведет почти полгода.
Полгода «одиночки» – не всем даже очень опытным революционерам пришлось испытать на себе подобное наказание. Каким же невыносимым представлялось оно юноше, которого и на этот раз только возраст – все еще несовершеннолетний – да еще недостаточно полный следственный материал спасают от суда и маячившего впереди сурового приговора. Девятого января 1910 года его освободят под гласный надзор полиции. И первое побуждение Маяковского – сейчас же, без промедления ощутить Москву, встретиться с ней. В воспоминаниях Николая Асеева есть строки: «Помню один его рассказ о том, как он, выйдя из тюрьмы, где просидел с лета до крутых морозов… побежал осматривать Москву. Денег на трамвай не было. Теплого пальто не было, было только одно огромное, непревзойденное и неукротимое желание снова увидеть и услышать город, жизнь, многолюдство, шум, звонки конки, свет фонарей. И вот в куцей куртке и налипших снегом безгалошных ботинках шестнадцатилетний Владимир Владимирович Маяковский совершает свою первую послетюремную прогулку по Москве, по кольцу Садовых». Семья к тому времени жила на Новой Божедомке (ул. Достоевского, 3), напротив Мариинской больницы, где родился и провел детство Ф.М. Достоевский.
Долгие недели в тюремной камере заставили над многим задуматься, многое для себя пересмотреть. Маяковский пробует писать стихи, но признает их совершенно неудачными. Он много рисует и останавливает свой выбор на живописи. Решение стать художником определялось не только внутренним влечением и способностями. Известное значение имели и условия занятий в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, со времени своего основания отличавшегося большим, чем в других учебных заведениях, либерализмом. Здесь не делалось никаких ограничений ни в отношении образовательного ценза, ни в отношении благонадежности. Полицейский надзор закрывал перед Маяковским двери Университета и других институтов.
Лето 1911 года уходит на подготовку к вступительным экзаменам по рисунку и живописи. Место работы – все тот же парк Петровской сельскохозяйственной академии, Соломенная сторожка. На даче, которую они будут снимать, Володя повесит на потолке большой, размеченный по дням кусок колбасы – суточный рацион, которого не следовало нарушать и который из-за молодого аппетита постоянно нарушался: колбаса исчезала с необъяснимой быстротой. В августе экзамен был выдержан. Маяковский стал учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества (Мясницкая, 21), куда ему приходилось добираться из 1-го Мариинского переулка (пер. Достоевского, 12): Самотечная площадь, Цветной бульвар с цирком Соломонского, Труба, Рождественский бульвар, Сретенский бульвар, Мясницкие ворота…
Его отличает от сверстников редкая внутренняя сосредоточенность и целеустремленность. Ему не представляется возможным совмещать с каким бы то ни было занятием подпольную работу, но для подпольной работы – он теперь приходит к этому выводу – у него недостаточный запас знаний. В своей автобиографии он расскажет о времени выхода из Бутырок: «Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, – так называемые великие… Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы?.. Я прервал партийную работу. Я сел учиться». В словах Маяковского предвидение посылки, с которой выступит А.Б. Луначарский в послереволюционные годы: «Если революция может дать искусству душу, то искусство может дать революции ее уста».
В первые же месяцы занятий в Училище имя Маяковского попадает на страницы газет. Скончался В.А. Серов, один из ведущих и любимейших преподавателей Училища. Маяковский выступает на его превратившихся в манифестацию похоронах. В газете «Русское слово» сообщалось: «Ученик Училища живописи Маяковский, указав на тяжелые потери, которые понесло русское искусство за последние пять лет в лице Мусатова, Врубеля и, наконец, Серова, высказался в том смысле, что лучшее чествование памяти покойного – следование его заветам». Смысл заветов Серова не раскрывался, но для каждого причастного к искусству человека он был ясен. Не получил признания М.А. Врубель, скончавшийся от тяжелой нервной болезни. Никак не ценился официальным искусством В.Э. Борисов-Мусатов. В открытой оппозиции к нему находился и Серов, демонстративно отказавшийся от звания члена императорской Академии художеств после событий «кровавого воскресенья», во главе которых выступил ее президент великий князь Владимир Александрович. И все три мастера для выражения своих убеждений искали новых изобразительных форм и средств.
Из новых знакомых он особенно тесно сходится с Верой и Львом Шехтелями, детьми известного и модного архитектора, и будущим известным художником Василием Чекрыгиным. Осенью 1912 года несколько раз ездит с ними в свой любимый старый парк Петровского-Разумовского и не без их воздействия пробует свои силы в стихосложении. Первое стихотворение – оно родилось, когда Маяковские жили на пресловутой московской Живодерке, носившей пышное название Владимиро-Долгоруковской улицы (ул. Красина, 12). Записи стихов на случайных листках и обрывках бумаги покрывают всю квартиру. Володя просит не убирать и уж во всяком случае не выбрасывать их. Стихия поэзии перехлестывает интерес к живописи. Из воспоминаний матери:
«Я сказала ему, что хорошо бы все же закончить художественное учебное заведение. Володя в шутливом тоне ответил мне: „Для рисования нужна мастерская, полотно, краски и прочее, а стихи можно писать в записную книжку, тетрадку, в любом месте. Я буду поэтом“. Я читала первые стихи и говорила: „Их печатать не будут“, на что Володя, уверенный в своей правоте, возразил: “Будут!”» Чтения на слушателях в Романовке поддерживали внутреннюю убежденность. Пусть аудитория была мала – она представлялась очень ответственной. Стены Романовки звучали именами, и какими!
В 1890-е годы живет здесь все время своей учебы русский композитор-симфонист В.С. Калинников, «Кольцов русской музыки», как назовут его современные критики. Острая нужда заставит его подрабатывать на жизнь в сырой и промозглой оркестровой яме соседнего, на углу Кисловского переулка и Большой Никитской, театра «Парадиз». Переезд в Ялту не сможет остановить начавшегося туберкулеза. В те немногие разы, когда средства позволят ему добираться до Москвы, он будет останавливаться в Романовке и здесь исполнит для навестившего его С.И. Танеева в 1895 году свою приобретшую мировую известность Первую симфонию.
В конце девяностых годов в Романовке возникает своеобразный музыкальный салон. У поселившегося в ее номерах музыкального деятеля С.Н. Кругликова охотно собирается вся труппа Русской Частной оперы С.И. Мамонтова. Часто бывает Н.А. Римский-Корсаков, художники Константин Коровин и М.А. Врубель со своей женой, певицей Забелой-Врубель, которую Римский-Корсаков считал непревзойденной исполнительницей своих произведений. Любит петь у Кругликова Ф.И. Шаляпин. В непринужденной обстановке скромной кругликовской квартиры происходили и репетиции опер мамонтовского театра.
Рядом, в той же самой Романовке, точнее – в пристроенном вдоль Малой Бронной театральном помещении для концертов и спектаклей (ныне – Театр на Малой Бронной), иначе – в Романовской зале, рождался Художественный театр. До появления собственного здания в нынешнем проезде МХАТа, молодой театр использовал Романовскую залу для репетиции. Второго сентября 1900 года здесь на репетиции «Снегурочки» А.Н. Островского побывал А.М. Горький. Писатель рассказывал об этом запомнившемся дне: «Я был на репетиции без костюмов и декораций, но ушел из Романовской залы очарованный и обрадованный до слез. Как играют Москвин, Качалов, Ольга Леонардовна (Книппер-Чехова), Савицкая! Все хороши, один другого лучше… Художественный театр – это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве». Образ Горького – «великого Горького», как его называет в юности Маяковский, – продолжал жить в Романовке. Образ буревестника – огромной и легкой, стремительной черной птицы, каким впервые увидел писателя В.И. Качалов на лестнице Романовки. О ней услышал Маяковский и в первую свою московскую зиму, расспрашивая участников баррикадных боев. Баррикаду, перегородившую Малую Бронную около нее, удалось взять царским войскам 14 декабря 1905 года только после артиллерийского обстрела, повредившего и самый дом.
Все годы были разными, но среди них были и совершенно особенные, как год тринадцатый. Ранняя весна. Прогулки с Шехтелями по едва начавшему просыпаться после зимы лесу Петровского-Разумовского. Фотография троих друзей – Маяковского, Льва Шехтеля, Василия Чекрыгина, – сделанная Верой Шехтель. Разговоры об издании стихов. Всякие попытки переговоров с книгоиздателями оказались безуспешными: печатать непривычную поэзию никто не решался. Мысль о собственном издании литографским путем.
В доме Шехтелей (Большая Садовая ул., 4) Чекрыгин переписывает на светочувствительную бумагу тексты и вместе с обоими Шехтелями делает иллюстрации, иногда нравившиеся, чаще не нравившиеся поэту. На обложке появляется на черном фоне ярко-желтый бант – своего рода портретная черта Маяковского, вызывавшая неудержимое бешенство критики. Сам Маяковский рассказывал о его появлении: «Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор».
Необходимые для расплаты с литографом тридцать рублей были достаны Львом Шехтелем, и, подготовив к воспроизведению всю книгу, друзья все вместе отправились в небольшую литографическую мастерскую на Садовой-Каретной. Не обошлось без отказов со стороны хозяина и уговоров со стороны пришедших, тем не менее цель была достигнута – 3 мая появилась корректура.
«Когда была получена первая гранка – первый контрольный экземпляр, громадный Владимир Владимирович прыгал от радости на одной ноге, весь сиял от счастья, – писала В. Шехтель. – И все острил: „Входите в книжный магазин: „Дайте стихи Маяковского“. – „Стихов нет – были, да все вышли, все распроданы“. Это казалось настолько нереальным, необычайным, что в первую очередь он, а за ним и все мы хохотали невероятно. Эта его острота чем-то ему особенно понравилась, он повторял по нескольку раз в день: “Нет стихов Маяковского – были, да все вышли”“.
Весь тираж – триста экземпляров – был напечатан 17 мая и незамеченным не остался. Реакция читателей была различной, но всегда одинаково бурной – как в восторге, так и в неприятии. Не проходят мимо нового явления критики, и среди них – Корней Чуковский. Его встреча с Маяковским сама по себе сложилась достаточно необычно. Чуковский разыскал Маяковского в Литературно-художественном кружке на Большой Дмитровке, 15.
«…Я узнал, что Маяковский находится здесь, рядом с рестораном, в биллиардной. Кто-то сказал ему, что я хочу его видеть. Он вышел ко мне нахмуренный, с кием в руке и неприязненно спросил:
– Что вам надо?
Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью высказывать ему свое одобрение. Он слушал меня не дольше минуты и, наконец, к моему изумлению, сказал:
– Я занят… извините… меня ждут… А если вам хочется похвалить эту книгу, подите, пожалуйста, в тот угол… к тому крайнему столику… видите, там сидит старичок… в белом галстуке… подите и скажите ему все…
Это было сказано учтиво, но твердо.
– При чем же здесь какой-то старичок?
– Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт… А отец сомневается. Вот и скажите ему.
Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку… После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех людей, которым не покровительствуют.
Поговорив со старичком сколько надо (а старичок оказался прелестный), я поспешил уйти из ресторана. Маяковский догнал меня в вестибюле. Едва только мы вышли на улицу, он стал вполголоса декламировать отрывки стихов Саши Черного, а потом переведенные мною стихи Уолта Уитмена…
– Неплохой писатель, – сказал он. – Но вы переводите его чересчур бонбоньерочно. Надо бы корявее, жестче. И ритм у вас бальмонтовский, слишком певучий».
В том же мае Маяковский объявляет открытую войну бальмонтовскому направлению в поэзии. В Литературно-художественном кружке проходит доклад Бальмонта о совершенном им путешествии в Мексику. Снобистические восторги. Изумление посвященных. Множество таинственных непонятных слов. Немного зрителей. И неожиданный взрывной выход всклокоченного юноши в блузе с ярким галстуком: «Константин Дмитриевич! Позвольте приветствовать вас от имени ваших врагов!» Поэт П.Г. Антокольский, гимназистом оказавшийся на этом вечере, вспоминал: «Юноша говорил о том, что Бальмонт проглядел изменившуюся вокруг него русскую жизнь, проглядел рост большого города с его контрастами нужды и богатства, с его индустриальной мощью. И он снова цитировал Бальмонта:
Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня.А сегодня, дескать, на эту вершину взобралась реклама фабрики швейных машин.
Говорил он громко, по-ораторски, с великолепным самообладанием. Кончил объявлением войны Бальмонту и тому направлению поэзии, которому служит Бальмонт… По рядам, где-то сбоку и сзади, пронесся шелестящий, свистящий шепот:
– Кто?
– Кто это? Не знаете?
– Черт знает что! Какой-то футурист Маяковский… Молодецкое, веселое и острое в облике и словах Маяковского не могло не врезаться в память и воображение. Оно казалось мне достойным и осуждения и подражания, пугало и радовало одновременно. Во всяком случае, оно начисто смыло тусклые краски вечера».
Как ни продолжало по-прежнему манить Петровское-Разумовское, лето 1913 года проходит в Кунцеве, одном из самых модных и популярных среди москвичей дачных мест. Не хотелось расставаться с Шехтелями, тем более пренебрегать возможностью работать в сооруженной рядом с великолепной трехэтажной дачей их отца мастерской. Работать всем вместе и спорить о главном – средствах отражения современности. В мастерской на стене висела специальная тетрадь для записей, носившая название: «Мое сегодняшнее мнение о моей сегодняшней живописи». Споры продолжались и у Маяковских, снимавших комнаты невдалеке от железнодорожной станции в Почтовом проезде (2-я Московская ул., 5), Володя помещался в крохотной клетушке на втором этаже, спорщики размещались на веранде первого этажа или в саду у врытого в землю стола с деревянной скамьей. Купались в Москве-реке у Крылатского. Володя частенько переплывал на другой берег. Проводили часы под знаменитым кунцевским вековым дубом. Маяковский со временем напишет, что строка «гладьте сухих и черных кошек» из трагедии «Владимир Маяковский» пришла ему на ум именно там.
Кунцевский дуб дважды входит в историю литературы. Тем же летом впервые решается прочесть вслух свои стихи под его могучими ветвями Сергей Есенин. Тогда двум поэтам еще не суждено было встретиться.
Настоящее поэтическое лето – именно тогда Маяковский начинает себя сознавать как поэта. В сентябре он заканчивает трагедию в стихах – «Владимир Маяковский», носившую первоначально название «Восстание вещей». Девятнадцатого октября выступает на открытии футуристического кабаре «Розовый фонарь» в Мамоновском переулке. Торжественное открытие, привлекшее весь цвет московского общества, завершилось грандиозным скандалом. По словам газетного отчета, начавший читать свои стихи «Маяковский в дальнейшем выражался весьма определенно, – заявил, что плюет на публику». По словам Маяковского, «Розовый фонарь» закрыли после чтения мной «Через час отсюда». Московские нувориши не могли стерпеть прямого и открытого оскорбления в свой адрес, Маяковский не собирался скрывать своего отношения к ним. Сборник, который они издадут вместе с Алексеем Крученых благодаря материальной помощи композитора С. Долинского и летчика Г. Кузьмина, так и будет называться «Пощечина общественному вкусу».
Улица Большая Пресня, 36, квартира 24 – последняя московская квартира перед отъездом в Петроград. С ее адреса начинается стихотворение «Я и Наполеон», и себя Маяковский назовет поэтом с Большой Пресни:
Люди! Когда канонизируете имена Погибших, меня известней, — Помните: еще одного убила война — поэта с Большой Пресни.Начавшиеся в январе петроградские дни вскоре прервутся поездкой в старую столицу. С марта до середины мая 1915 года Маяковский будет в Москве гостем Д.Д. Бурлюка (Большой Гнездниковский пер., 10). Вскоре он закончит поэму «Облако в штанах» и в июне 1916 года прочтет ее в Большой аудитории Политехнического музея как пророчество наступающих перемен:
Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрезный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видел никто. Где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год.Чтение стало причиной очередного столкновения с полицией. По словам Льва Никулина, «в первом ряду сидел известный москвичам полицейский пристав Строев, на его мундире красовался университетский значок – редкостное украшение для полицейского чина. Наружность Строев имел обыкновенную, полицейскую, с лихо закрученными черными усами. Его посылали на открытия съездов, на собрания, где можно было ожидать политических выпадов против правительства, и на литературные публичные вечера. Так что присутствие именно этого пристава никого особенно не встревожило, но странно было, что он держал в руках книгу и, пока читал Маяковский, не отрывался от нее. И вдруг в середине чтения встал и сказал:
– Дальнейшее чтение не разрешается.
Оказывается, он следил по книге, чтобы Маяковский читал только разрешенное цензурой, когда же Владимир Владимирович попробовал прочитать запрещенные строки – тут проявил свою власть образованный пристав.
Поднялась буря, свистки, крики «вон!».
Тогда полицейский знаток литературы сказал, обращаясь не к публике, а к поэту:
– Попрошу очистить зал».
В 1917 году 26 марта Маяковский выступает в театре «Эрмитаж» (Каретный ряд, 3) на 1-м республиканском вечере искусств с отрывками из поэмы «Война и мир», 24 сентября в Большой аудитории Политехнического музея он читает доклад «Большевик искусства», стихи «Война и мир» и «Революция». Семнадцатого ноября звучит его призыв на большом собрании литераторов, художников и артистов: «Приветствовать новую власть и войти с ней в контакт». С декабря 1917-го до июня 1918-го Маяковский снова в Москве в меблированных комнатах «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке (Дмитровский пер., 9), где был написан «Приказ по армии искусств»:
Канителят стариков бригады Канитель одну и ту ж. Товарищи! На баррикады! — баррикады сердец и душ, Только тот коммунист истый, кто мосты к отступленью сжег. Довольно шагать, футуристы, — в будущее прыжок!Как остро он ощущал: жизнь изменилась – в своем смысле, ритме, неослабевающем накале напряжения будней. С начала марта 1919-го окончательно в Москве, «Комнатенка-лодочка» в Лубянском проезде (пр. Лубянский, 3, кв. 12) – рабочий кабинет до последнего дыхания. С октября девятнадцатого до марта 1922 года художественно-поэтическая мастерская РОСТА – Российского телеграфного агентства (Милютинский пер., 11): плакаты на все злободневные темы. Рисованные и подписанные. Всего было создано 1600, из них больше пятисот принадлежало ему как художнику, к восьмистам он сделал подписи. «Вспоминаю – отдыхов не было. Работали в огромной, нетопленой, сводящей морозом (впоследствии – выедающей дымом буржуйки) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено… особенно не заспишься», – Маяковский признавал только телеграфный стиль в описании биографии.
В развороте творческих замыслов ему едва хватает целой Москвы. Собственные слова: «1918 год – РСФСР не до искусства, А мне именно до него, 15 октября 1918 года. Окончил „Мистерию-буфф“, Читал. Говорят много». В июне 1921 года пьеса будет поставлена для делегатов III конгресса Коминтерна в помещении бывшего цирка Соломонского (Цветной бульвар, 13). Из воспоминаний современницы: «Спектакль шел в море разноцветных огней, заливавших арену то синей морской волной, то алым адским пламенем. Финальное действие развернулось в победное шествие нечистых и парад всех участников спектакля под гром „Интернационала“, подхваченного всей многоязыкой аудиторией… Маяковского долго вызывали. Наконец он вышел на середину арены с какой-то совершенно ему несвойственной неловкостью, сдернул кепку и поклонился представителям всего земного шара, о судьбе которого он только что рассказал».
Двадцать первого октября 1924 года Маяковский читает в Красном зале МК ВКП(б) (Б. Дмитровка, 15-а) поэму «Владимир Ильич Ленин». Он прочтет здесь же перед партийным активом в октябре 1927 года поэму «Хорошо», а 21 января 1930 года последняя часть поэмы о Ленине прозвучит в его исполнении на траурном вечере в Большом театре.
Бесконечные редакции, издательства требовали посещений, предлагали постоянно все новые и новые литературные заказы: газета «Комсомольская правда» (Малый Черкасский пер., 1), Госиздат (М. Никитинская, 6/2), газета «Известия» на Пушкинской площади:
Люблю Кузнецкий (простите грешного!), потом Петровку, потом Столешников; по ним в году раз сто или двести я хожу из «Известий» и в «Известия».И один из самых дорогих адресов – театр В.Э. Мейерхольда (ГОСТИМ) – (Тверская ул., 31, ныне – Концертный зал им. П.И. Чайковского, перестроенный из театрального помещения). Здесь пройдут премьеры в 1929 году «Клопа» и в 1930 году «Бани».
Работа сосредоточивалась в «Комнатенке-лодочке», жизнь, с конца апреля 1926 года, – в далеком, за Таганком, Гендриковом переулке (пер. Маяковского, 13/15, ныне – Государственная библиотека-музей В.В. Маяковского). Теодор Драйзер, Назым Хикмет, Луи Арагон, Диего Ривера, Мейерхольд, А.Б. Луначарский, И.Э. Бабель, С.М. Эйзенштейн – немногие из тех, кто бывал здесь.
Простое крылечко. Тесный тамбур. Узкая лестница на второй этаж. Две крохотных комнаты. Столовая с черным кожаным диваном, буфетом и раздвижным столом, окруженным обыкновенными стульями. Служивший спальней кабинет с письменным столом и широкой тахтой. Немного книг. Удобная лампа. Пишущая машинка. Слова Луначарского о впервые здесь прочитанной поэме «Хорошо»: «Это – октябрьская революция, отлитая в бронзу».





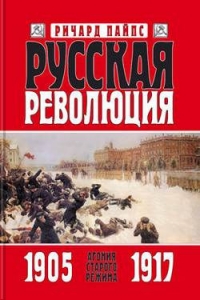


Комментарии к книге «Московские загадки», Нина Михайловна Молева
Всего 0 комментариев